Черновик исповеди. Черновик романа [Михаил Юрьевич Берг] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Михаил Берг Черновик исповеди Черновик романа
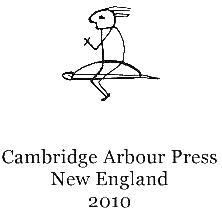 Во-первых, поменять местоимения. Не я, а он. Исповеди это не помеха. Читатель все равно вместо него подставляет себя, а за любым героем видит просвечивающего автора, возвращая я на исходную позицию.
И тогда самое трудно выговариваемое признание типа: я хочу разучиться писать, потому что разучился жить, звучит с рутинной банальностью: он решил бросить писать, так как ему все надоело. Не катит. Нет кайфа. Или — более лояльный вариант: он решил изменить свою писательскую манеру, поменять стиль, забыть свои любимые слова, ибо накопившийся за двадцать лет автоматизм лишает письмо (нет, Барт для него — слишком сухо), лишает письменную речь, пьющую белое молоко листа черными хаотическими буквами, внутренней дрожи, счастья узнавания себя и чего-то еще (на красоте не экономят), что (скажем) одновременно равно страху исчезновения и избавлению от него.
Но хотя за спиной, как бездна, война миров не в банальном уэллсовском смысле, а хотя бы в том, каким слово «катаклизм» наполнял несравненный Ортега, надо запретить себе (ему?) говорить о бездне, ибо время давно уже раздвоилось, расслоилось, распылилось. В реальном времени он здесь, и бездна за спиной. Однако, по существу, я уже там, поглощенный бездной с головой, и мне, скорее всего, не выйти из нее. Бездна поглотила его очень давно, до всяких катаклизмов, ― я вошел в нее с любопытством, как в ласковое марево волны, и по инерции долго еще топал дальше, когда волна прошла и осталась пустота, что незаметно втянула в себя все: привязанности, друзей, привычки. В том числе привычку писать, добывая символический (не рано ли, может — волшебный, газированный?) кислород самоутверждения в качестве единственной пищи для души. А остался один прием, голое умение делать то, что умеешь. И невозможность сделать так, чтобы жизнь потекла как раньше, когда хотелось жлекать ее быстрыми, жадными глотками прямо из горлышка — ибо жажда неутолима.
И вдруг жажда пропала. То есть можно пить, нельзя не пить, но жажды нет. Кайфа, повторим, нет. Можно трепаться, читать, писать, но с неизменным ощущением избыточности, механистичности. В силу инерции, но без чувства перспективы, которая вдруг исчезла, и вместе с ней пришел страх смерти.
Вдруг, как много лет назад, стал подсчитывать по ночам ― сколько ему осталось. Если ничего не случится ― лет двадцать, от силы ― двадцать пять, хотя какой-то демон внутри злорадно дышит: меньше, меньше. Тебе осталось совсем немного, почти ничего не осталось. Несколько капель на дне. Но почти такой же страх был и раньше, когда впереди (ну ладно, пусть скажет, как умеет — писатель все-таки) нетронутой целиной лежала целая, как неподрубленная простыня, жизнь или еще одно не менее банальное сравнение, пустой позвоночник судьбы, который, по замыслу того далекого времени, еще предстояло наполнить спинным мозгом, да еще так, чтобы эта змея (не слишком ли сложно?), пережив мою физическую смерть, нашла себе достойное место в какой-нибудь из музейных витрин. А я представлял себе бурое бесконечное пространство воды ― округлые ленивые волны, взгляд сверху, с облака, самолета ― это была жизнь без меня, когда я умру. Вот растет дерево, оно будет, я ― нет. Банально, банально, как смерть. Пусть оно будет сухим и корявым. Кто только хотя бы в воображении не выжимал соки из жизни, надеясь лишить ее привлекательности, думая, что это спасает… А это не спасает. Просто страшно было уйти, так ничего и не сделав. Значит, либо не сделал ничего. Либо сделанное не спасает. Последнее вернее.
Дополнительное измерение ужаса (если оно есть) заключается в том, что я все это описал. Он описал все, знал все. И не знал ничего, ибо разучился жить. Ему не для кого стало писать, потому что он писал только для себя, а теперь стал себе неинтересен. (Как эти писатели любят «писать для себя» и врут все, до единого, набивая себе цену.)
Но уметь много, уметь писать так, как не может, казалось бы, никто ― еще не гарантирует ни жажды того, что называется жизнью, ни жажды того, что называется творчеством. Пусть это никому не нужно, но если кровь бурлит, руки дрожат от нетерпения, ночью вскакиваешь, чтобы не забыть утром то, что проявилось из негатива сна, и — раз ты демиург, то — небесный гонец уже дотронулся перстами до твоего плеча, передавая сообщение, расшифровать которое невозможно… Кстати, у него были прекрасные отношения с Господом, я-то это знаю. А потом Он его покинул (лучше бы кинул, но это одно и тоже). Хотя все знал и раньше: добродушное высокомерие, тайную гордыню, снисходительную самоуверенность ― и одновременно то, что ты, брат, не любишь больше всего ― припадки уныния. Не припадки, а страсть спокойно, с доверчивой улыбкой херить жизнь. А в обмен на отсутствие лукавства ― то, что называется любовь. Несмотря на откровенный криминал высказываний типа: Ты мне не очень нравился в образе Христа. Трудная роль, трудный образ. Он вроде бы шел тебе больше других, но что-то не получалось. Если б ты был писателем, я бы сказал: чуть-чуть не канает. Крепкий автор, но не гений. Или гений, но такой, кого любить очень сложно. Я бы на твоем месте тоже менялся. Время идет, нужны новые слова. Это твоя проблема. Я могу умереть. Но другим труднее, чем мне. Ему было хорошо. Ему было плохо.
Кем не овладевала несбыточная мечта: научиться жить так, чтобы ни от кого не зависеть. Совершенно. Абсолютно. И долгое время казалось, что получается: не успевал дописать, как ночами накатывала фосфоресцирующая волна ― раздвигаешь тьму руками, и брызжут искры. Душа, как говорится, бредила бессонницей и набухала, как мочевой пузырь под утро. Бродили дрожжи, кончал одно, начинал другое; десять лет ― десять книг, может, больше, может, меньше. Но разве важно ― сколько, важно как. Я чувствовал, когда тебе не нравится. Ведь никто не прочел «Записок постороннего», и ты знаешь — почему.
А как он волновался вначале, когда только пробовал перо. Но в том-то и дело, что пробы не было. Вдруг ― услышал зов, отчетливый, как свист, так хозяин зовет собаку. И кинулся писать, будто исполнял задание длиной в двадцать лет. Порядочный срок. Мог быть и короче, другим выпадает меньше.
Что это была за жизнь! Одно слово — писательская. Он поселился с молодой женой и собакой в маленькой квартире в спальном районе, работал в центре, ездил на службу каждый день и каждый день писал. Казалось бы, когда? Утром прогулка с собакой, час до службы в переполненном автобусе, девять часов на службе, час обратно, домашние дела, жена. Но писал везде ― спрятав блокнот под кипой программистских распечаток; в библиотеке Михайловского замка, где размещалась его контора; в Публичке, куда заезжал после работы, чтобы читать, читать, читать, восполняя отсутствие гуманитарного образования. Он был жаден до работы, я хотел понравиться тебе и себе, больше, конечно, себе, хотя долгие годы это было одно и то же. Казалось, еще немного — и что-то произойдет. Что? Что-то.
Он завел собаку недели через две после свадьбы. Вечером жена вышла позвонить. Было не поздно, полдесятого, конец марта. Телефоны-автоматы стояли на углу. Он то ли писал, то ли читал, забылся, вдруг звонок в дверь. Открыл ― соседка с нижнего этажа, которую не сразу и узнал. Никаких предчувствий. Знаете, ― с простонародной стеснительностью и волнением, ― там вашу жену побили. Восьмой этаж, он летел, прыжками одолевая по маршу, но ты спас ее, я так и понял. За ней пошли сразу, как она вышла из автомата. Всего-то ― вторая парадная, метров тридцать-сорок. Идет ― за ней то ли шаги, то ли ветер шутит. Оборачиваться страшно, да и неловко. Вошла в парадную, быстро к лифту, шаги отчетливее. Нажала на кнопку. Слава Богу, что в лифт зайти не успела.
Это был садист, не насильник. Схватил за шиворот, кинул на пол, она пыталась ползти по лестнице, но он швырял ее обратно. Крик, дыхание перехватило. Лестница, площадка были залиты кровью, будто пролили ведро с краской. Живот спасла шуба, несколько зубов выбито, шрамы на голове остались на всю жизнь, но в густой гриве были неразличимы.
Я бы убил его, если б нашел. Но он как сквозь землю провалился. Ты не дал мне догнать эту суку. Не хотел, чтобы жизнь началась с убийства, ― ты знал, это могло случиться.
Русская литература в результате многовековой селекции вывела тип писателя не от мира сего, человека в очках, с хилыми плечами, покатой спиной, горящими глазами и лысым лбом Сократа. Я всегда стеснялся своей силы и роста, противоречащего облику хрестоматийного интеллигента, а пятый пункт, трудное дворовое детство, привычка перебарывать страх из-за боязни унижения, заставляли лезть на рожон даже тогда, когда стоило уступить.
Был забавный случай в Коктебеле. Утром он отправился на рынок покупать помидоры. В кошельке ― один четвертак с мелочью. Разбавленная синька неба, слоеный воздух с прожилками запахов свежей зелени, терпкой полыни. Пыльная дорога в гору. Он купил помидоры у одного чучмека. На одном подносе торговца ― помидоры, на другом ― персики. Чучмек шутил, давая сдачу, зачем-то сложил пополам пачку трехрублевок, потом, держа в своих руках, пересчитал. Смотри, дорогой: раз, два, три… восемь. Порядок? Да, восемь трехрублевок. Он не следил за ним. Ему всегда казалось, что тот, кто видит его, понимает, что его обманывать нельзя. Он сильней, он большой, он улыбается, доверяя любому именно потому, что уверен ― каждому видно: с ним шутить хуево. Взял, не считая, пачку трешек, смяв, положил в кошелек. Собираясь на пляж (читать и купаться в первой Сердоликовой бухте, а если хватит сил, то еще дальше, Карадагом, через перевал), жена сказала: кошелек не потерял, тебя не обсчитали? Меня не обсчитывают, на. Она с женской недоверчивостью открыла кошелек, начала считать: три, шесть, девять… а где еще две трешки? Как ― где? Взял, пересчитал ― Господи, он меня обманул. Спокойно, я прошу тебя ― будь спокоен, кричала вслед жена. Он шел, почти бежал. Было не жалко денег, Бог с ними, хотя лишних денег никогда не водилось, но ― обманул, унизил, глядя в глаза. Он отчетливо, как нарисованные, помнил два подноса, слева и справа от весов. И знал, что подойдет и без слов с двух сторон наденет эти подносы чучмеку на голову, размажет по харе помидоры и персики и многое еще успеет сделать, пока не оттащат. Рынок, вот и торговец. Чучмек увидел его метров за десять, все понял по глазам, радостно замахал руками: «Иды, иды сюда, дорогой, ты дэньги забыл. Иды, вот дэньги, вот!» А когда он молча забрал, уже в спину, лукаво улыбнулся: «Я же гаварил тэбэ, считай!»
Я не убил его, не нашел; жене наложили восемь швов, потом месяц вставляли зубы; и он решил завести собаку, чтобы охраняла жену тогда, когда его нет.
Эту собаку любили все его друзья, которые приходили к ним по нескольку раз в неделю, оставались ночевать, им стелили на полу (кроватей не хватало), они все спали в одной комнате, собака лежала в ногах. Ее слишком любили, она так и не стала злой, хотя была огромным черным ризеном ― якобы необычайно опасный, неукротимый зверь: у них она превратилась в ласкового теленка, после первого припадка лая облизывающего каждому гостю лицо, руки, шею; она вставала и клала огромные лапы на плечи, как мягкая черная тень.
Друзья были пробующими перо поэтами и писателями, просто приятели молодости, которым было интересно в диссидентском доме. Как приятно писать банальные вещи, прекрасно зная, что означаемое и означающее не совпадают, в минусе то, что как раз и должно остаться между строк. Банальное ― сеть со слишком большими ячейками, в них застревает только рыба крупная и старая, неповоротливая, но что может быть банальней молодости с ее подлинным интересом друг к другу, невозможностью наговориться, нехваткой времени и уверенностью, что впереди у всех (а если не у всех, то у меня-то точно) мерцает, переливаясь в свете волшебных юпитеров, прекрасное будущее?
Где вы теперь, друзья юности? Нет ни одного. Все растворились за магической зеркальной амальгамой, строго и точно отделившей жизнь с надеждой от жизни без нее. И какой бы ссорой ни оборачивался этот невидимый глазу переход, любой из вас придет, вернется на миг, только позови. Но ничего не будет, друг сядет на край стула, между нами будет пропасть разно прожитой жизни, в которой ― и это прежде всего ― не оказалось места для прекрасного будущего, вакансия занята другим. И о чем тогда говорить? Все в разной степени успешны, все заняты и озабочены собой, и иногда кажется, что вас не было и раньше, что вы ― воздушные шары, некогда надутые прекраснодушием и воображением, а теперь ― нет, не рваные гондоны, а шарики после праздника, что висят на ниточке сморщенные, жеваные и никому не нужные. И нет слов, языка, забыт пароль дружбы. Нам скучно друг с другом, потому что скучно с собой. И только смерть в состоянии собрать нас вместе на миг для своих рутинных и привычных ритуалов.
Ровно двадцать лет назад он написал первое слово, предназначенное для того, чтобы впоследствии быть прочитанным неведомым читателем. Не рассказ и не дневник, а нечто среднее, промежуточное по жанру. Умер его дед ― футболист, артиллерийский офицер, его ордена до сих пор валяются где-то в нижнем ящике шведского письменного стола вперемешку с кнопками, старыми письмами, почему-то велосипедной камерой и прочим, до чего руки никогда не доходят. Первая смерть близкого и любимого человека. Гроб деда с неровно прибитой красной тряпкой, торчащими щепками и блестящими шляпками гвоздей, а рядом какой-то странно будничный, обыденный разговор вокруг. Он нес своего деда в гробу, и ему хотелось, чтоб гроб был тяжелый, чтобы он вмял его в землю, подавил своей тяжестью, а гроб был оскорбительно легок. Как и те разговоры близких, которые, давая себе передышку, уже устали горевать и просто заполняли словами промежутки в церемониале, как чтец во время концерта успокаивает публику перед грядущим номером заезжего виртуоза. А он хотел сплошного, безразмерного горя, конца жизни, хотел занавеса, тяжелого и торжественного, словно театральный плюш. И был ошеломлен не столько смертью, сколько ее обыденностью.
Всю первую половину жизни он боялся смерти, объясняя это постыдное обстоятельство тем, что боится не успеть сделать то, что должен. Боялся пресной, разреженной жизни, вялотекущего времени, ему было хорошо, только когда он работал, а дальше с убывающей гаммой радости: писал, читал, говорил. Он не хотел жить, он хотел спастись от смерти, бесследного исчезновения по формуле Карла Моора ― бессмысленного существования, уверенный, что творчество спасает. А оно не спасает. Я должен был догадаться раньше, вспомнив то гулкое, как эхо в подворотне, чувство опустошения, которое, точно сырость, проникало во все поры души, только я кончал работу. Работа не спасает, Господи, не спасает ― она лишь местная анестезия.
Он отчетливо, с шелушащимися, как обгоревшая кожа, подробностями, помнил, как работал над своим третьим романом. Присутствие суфлера порой было настолько реальным, что рождало ощущение соавторства, школьной диктовки, нужно было только точнее расслышать слово. И вздох недовольства, если слово оказывалось неточным. По пальцам он мог пересчитать эпизоды, детали, отступления, даже отрывки фраз, которые дописывал сам, в инерции смутного движения от припадка удушья к роскошеству вдоха. Ты соблазнил меня этим романом. И ему показалось, что он научился жить. Нельзя ни на кого обижаться, показалось, расслышал он. Никто ни в чем не виноват, кроме тебя самого. Настоящая близость, когда хочется еще теснее, ближе. И ему стало сниться, что он наконец выговорил самые трудные слова молитвы. Ему захотелось унизить себя, свою гордыню, прийти в Лавру, поцеловать заплеванный пол, заплакать. Он, как радиоприемник, был настроен на одну волну, ведь Бог ― это очень просто, это и есть оки-токи, переговор с небесной радиостанцией, и разница только в рельефе местности: здесь надо ловить на телескопическую антенну, там ― на спутниковую, а где-то она в виде креста или полумесяца. Ему оставалось чуть-чуть. Один шаг. Совсем немного. Так хотелось смирения, покорности ― небу, судьбе, жизни. Он ждал только какого-то толчка, невидимого намека, случая, в конце концов, какого-нибудь повода. Не хотелось идти ради себя, казалось, будет лучше, если он будет просить не себе, а кому-то. Заболеет мать, жена ― он придет, чтобы раствориться, рассеяться, изойти в ничто. Он готов был отдать все, за исключением дара — повелителя слов, покровителя мысли. Он так гордился этим даром, и ничего не мог с этим поделать, хотя знал, что не лучше любого вора-цыгана или подлеца-коммуниста. Но, Господи, ведь это ты сделал меня ― нет, не просто рассудочным и всегда ставящим мысль впереди чувства, не только с восторгом принимающим процесс рождения мысли, которая, как шар возле лузы, поколебавшись, побившись почти незаметно о края, с легким тремоло обретала форму; но и радующимся тому, как мысль разъедает, разбирает на части чувство, человека, жизнь.
Он попал в Лавру года через три-четыре, может, пять. Из воцерковления ничего не вышло; он подошел близко, добрался почти до самого верха, но недотопал, недотянулся самую малость, а потом медленно, медленно, но уже неуклонно стал спускаться. Не падал, нет. Просто церковь ― не для всех, кто-то молится в лесу, кто-то идя по воздушному мосту между сейчас и тем, чего еще нет, и вот проступают робкие штрихи, очертания, пульсирует контур и… Скажем так, ему, очевидно, придется ограничиться тем, что он получал во время писания. У других и этого не было.
Он поднимался по эскалатору метро на площади А.Невского, думая о том, что другими называется не о чем, а на самом деле является чем-то похожим на слоеный пирог трясины; один неосторожный шаг ― провалился глубже, еще глубже, потом вроде выбрался на покрытую потрескавшейся корочкой поверхность, чтобы следующее движение ноги заставило все тело ухнуть по горло во что-то засасывающее и хлюпающее теперь навсегда. И неожиданно, подняв голову, увидел ее. Милое, неясно-торопливо очерченное лицо, стройная фигурка, какая-то призывная грация, будто в проеме дверей, которые со скрипом качнулись на ржавых петлях, увидел промельк полуодетой красавицы. Они встретились взглядами, и он как бы попугал ее, как делал иногда, желая обратить внимание: расширил глаза, словно отдавая должное ее прелести, скорчил понимающую гримасу, усмехнулся. Глупость ― она улыбнулась в ответ, и вдруг ему, чего уже не было давно, захотелось нырнуть в женскую глубину; какая-то истома и жалость к себе, к своему одиночеству легли на одну из нижних ступенек души, одновременно открывая вид на всю лестницу ― какая прелесть подняться по ней вот с этой незнакомой красавицей, а там, наверху, сказать ей: я хочу не тебя, а хочу с тобой говорить.
Это началось еще в юности, когда сперва появилась робкая надежда, очень скоро превратившаяся в уверенность, что ни одна особа женского пола не может ему отказать. Ни в чем, хотя, получив согласие, зная, что оно есть, он не всегда пользовался им, чаще теряя желание в пути. Достаточно усмирить, покорить, унизить, а потом уже выебать, так, напоследок, как дополнение.
Думается, все началось еще раньше, в детстве. Его мать, крикливая, нервная, вечно усталая, бурно, в непонятно откуда взявшихся южных традициях, ссорилась с отцом, требуя от него то, чего тот, непредставимо добрый и уныло мягкотелый, дать был не в состоянии ― омута страсти и полновесной удачи праздника для ее взволнованного ожиданиями сердца. А он, невольный свидетель, ощущал себя попавшим в грозу с громыханиями молний и электрическими дуговыми разрядами вокруг проводов, и хотелось, чтобы это кончилось — как угодно, пусть рухнет крыша, упадет дерево, но мужчина должен научиться прекращать бабий визг. Женщина ― глупа, она должна подчиняться для своего же блага. Ей надо уметь делать больно, а любить ее можно с оговорками, как чудесный и одновременно опасный поворот дороги, как быстрину реки ― осторожно.
Он с ужасом представлял себя участником литературно-любовной истории, где она, очаровательная стерва и пустая красавица, получает право помыкать им, как было, есть и будет, но с другими. Лучше не любить совсем. Или так, чтобы спину холодил сквознячок от щелки в неплотно прикрытой двери, сквозь которую можно всегда уйти без стука, возни с замками и без долгих объяснений.
И от страха унижения ― унижал сам. Если, конечно, позволяли. Но ему позволяли слишком много и слишком долго. Но, как сказала умнейшая среди них, женщины любят не красивых или умных, а тех, кто ими занимается. А обожают (добавим от себя) того, кто очень достоверно и много обещает и мало дает.
Та чаровница на эскалаторе вдруг остановила его, как останавливает воспоминание, которое нужно расшифровать, расположить на полочках памяти, чтобы взять его не целиком, а только ту, не дающую покоя минимальную часть, которая важнее всего. Важнее блаженства, в том числе и вечного (ввиду его абстрактности), и чувства, неверного, словно проточная вода, но существенного, как уравнение Флоренского: А=А.
Но не знакомиться же на улице, брезгливость равна пошлости с обратным знаком. Не в его правилах было идти за женщиной, куда легче было попробовать подозвать ее как (все, забыли о рефлексии, дальше сам) сокола звуком серебряного рожка. Ему чаще всего хватало взгляда, раз, другой, длиннее, глубже ― и она была наполовину его. Если не терял к ней интерес. Или не попадал на фригидную и высокомерную дуру, для которой тождественность самой себе дороже твердого обещания счастья, на самом деле неосуществимого, но от этого только более притягательного. Или не становился жертвой самообмана, столь свойственного самовлюбленным самцам, склонным видеть порой куда больше, нежели есть на самом деле. Но тут ― ему сразу ответили, посмотрели, оценили ― правда, как-то не так. Не с той степенью самоотдачи и привычного женского кокетства, когда чужое внимание так и тянет взобраться на пьедестал.
Он поднялся к ней ближе на несколько ступенек. Улыбнулся, что-то сказал, тут же ощутив влажную фальшивость своих слов; но отступать было уже поздно. Как посторонний, с удивлением отмечая собственную неловкость, как-то сформулировал, что ее внимание ему дорого, хотя чувство неуместности и смущения не оставляло. Кажется, не давалка, в ней было странно намешано то, что обычно размещается отдельно: какая-то легкость и одновременно отстраненность, преграда, отчетливый женский призыв и твердый отказ. Он нравился ей, было видно. Вы располагаете временем, спросил он, сам морщась от тривиальности собственных слов и при этом сочувственно улыбаясь. Нет, сказала она, нет, к сожалению. Тогда потом? Кошмар, перед вами, кажется, дурак. Нет, боюсь, нет. Почему? ― задал он пошлейший вопрос. Почему? — говорят, кладя руку на колено и сминая юбку; почему? ― затыкают рот поцелуем; почему? ― тискают грудь, уже что-то расстегивая.
Они вместе вышли из вестибюля метро и разговаривали, если ощущение, что вы втискиваете ногу в тесный ботинок, можно назвать разговором. Простите, я не могу больше идти с вами, у меня назначено свидание. Он был ошарашен, пытаясь не показать виду, он ничего не понимал ― так можно было обозначить это состояние, но оно было другим, неоднородность времени и собственного существования: одна часть говорит нелепость за нелепостью, а другая с прищуром наблюдает за происходящим, прикидывая, чем это может кончиться. Он видел ее неловкость, скованность; никакого свидания, никакого соперника, хотя что-то стояло между ними, он это ощущал. Простите, сказал он, останавливаясь и испытывая раздражение, последняя просьба: посмотри на меня внимательно. Она быстро, искоса взглянула, тут же отвернулась и торопливо пошла вперед, что-то доставая из сумочки.
Слева располагалась остановка, откуда автобусы отчаливали в родной Веселый поселок. Справа ― ворота Лавры.
Он посмотрел ей вслед: черная, узкая по щиколотку юбка без разреза, какая-то кофточка, на ходу, как военный выхватывает саблю из ножен, она достала платок из сумки и надела на голову.
Он по инерции свернул налево, стал ждать автобуса, огибаемый, поглощаемый толпой, и вдруг стало тоскливо. Что-то не так, что? Постоял, потоптался, а потом медленно, нога за ногу, пошел через гулкую арку, мост с деревянным настилом, мощеную мостовую, мимо низких стен некрополя, обгоняемый с двух сторон бабками-прихожанками, как случайно оказавшийся в окрестностях стадиона прохожий футбольными болельщиками. Тут его осенило: Боже мой, она же торопилась в церковь! Вот почему платочек, скромность, намеренная сумрачность наряда, какая-то странная, постная сдержанность. Но ведь как хороша, очаровательна, желанна! Бог ты мой, монашка ― не монашка, но постоянная прихожанка Лавры.
Конечно, он действовал по инерции. Зашел в собор с крестящимися старушками, шла душная, громкая служба, народу было полно. Он затаился, прислушался, постоял немного, огляделся и нашел ее сразу, в левом нефе. Она стояла рядом с подругой, толстоморденькой простушкой в белом с каймой платочке, и мальчиком; почему-то он сразу решил ― брат. Выбрал такой ракурс, чтобы видеть ее целиком, ей же, чтобы заметить его, непременно нужно было обернуться. Он знал, что она обернется, когда почувствует взгляд. А если не обернется, то, слава Богу, отправлюсь восвояси и никому о своей неудаче ни…
Она беспокойно, быстрым жестом поправила рукой платочек, убирая под него выбившуюся прядку, зачем-то посмотрела под ноги, еще раз поправила косынку и оглянулась на него. Он улыбнулся, извиняясь, почему-то ожидая возмущения. Юная прихожанка Лавры, очевидно, из простой верующей семьи, а тут такое кощунственное ухаживание. Больше не обернется, решил он, ощущая нарастающую неловкость; постою немного и уйду. Вести себя настолько непристойно в Божьем храме, да и ради чего, тоже мне… Сначала оглянулась подружка, перед этим смиренница ей что-то сказала, та бодро вскинула голову, задорно посмотрела; они зашушукались вполголоса, защебетали, обмениваясь впечатлениями. Затем осторожно стали оглядываться по очереди. Это его покоробило. Он ожидал другого, большей строгости, что ли. Строгости и стойкости. В нем боролись два чувства ― любопытства, так как интерьер ситуации подходил более к интрижке прошлых веков, когда вместе с просвиркой в руку суют записку. Другое: оловянный привкус неправильности, неточности своего поведения. Легкого кощунства. Раздевать женщину взглядом в церкви, во время службы… А что потом? Дождаться, пока она выйдет, прикинуться простофилей, который будет хихикать по поводу ее воцерковленности и очарования? Пошло. Эрос покидал его, как воздух проколотый мяч. Она оглянулась вновь, и тут он разозлился: где твоя гордость, милочка, неужели тебя так легко совратить? Но мне так легко не надо. Ох эти святоши. Ты мне уже неинтересна. И стал пробираться к выходу, хотя чувствовал, что она смотрит ему вслед. Думай о Боге и брате, монашка (при чем здесь брат, я не знал).
Уже потом он вспомнил, что судьба для его неудавшегося ухаживания подобрала как раз те подмостки, куда несколько лет назад с неуклонностью ночных путешествий воображение приводило его для покаяния. Именно в Лавре ему хотелось помолиться впервые. Не помолился, зато смутил женскую душу. Но ведь своя душа дороже, не так ли?
Он писал в это время странную прозу, сам не всегда понимая, что именно делает. Разложение жанра ― жизнеописание, литературные портреты, сдвиг исторических реалий, лирические или ложнолирические пассажи, псевдоавантюрная фабула. Зачем все это, он точно не знал, но стрелка компаса указывала путь, он работал вслепую ― не глазом, а ухом. Точнее, эхом. Он лавировал между сомнением и тайной радостью, природу которой не знал, но предчувствовал; вся жизнь была построена по принципу эха; и был свободен почти ото всего, за исключением ответа, отголоска, рожденного огромной, безразмерной ушной раковиной, контуры которой он и пытался проявить. И ощущал себя то на длинном, то на коротком поводке.
Его интересовало только одно ― чувство внутренней правоты: оно то появлялось, то исчезало, истаивало, как прозрачно-белесый каркас; вот по нему и надо равняться; но только удавалось оснастить его плотью, как мираж пропадал ― оставались пустые, нелепые слова, неуклюжие фразы, подступало не отчаянье, а какое-то противненькое бессилие, кошмарный припадок отвращения к себе, чреватый возможностью добраться в конце концов до настоящей пустоты. Но рано или поздно мираж появлялся вновь, все сразу менялось, одна работа переходила в другую, как ступеньки винтовой лестницы. Он поднимался по этим ступенькам внутри себя, вкручиваясь, как штопор, в дышащую и полную созвучий пустоту, каждой новой строкой формируя площадку для очередного шага. Я должен дойти до границ себя, чтобы стать собой, каким был задуман, реализуя твой замысел. Хотя сколько раз ступень рушилась под ногой, он проваливался в прежнее состояние, ощущая мучительную, с бегущими за шиворот мурашками-мандавошками, осечку, но затем опять вылавливал нужную интонацию, выводящую с заросшей тропки на торную дорогу.
Так продолжалось более десяти лет. Вся остальная жизнь ― как построенные без любви, наспех сколоченные домишки, что ютятся со всех сторон барского поместья ― строилась вокруг башни, где винтовая лестница, мерцающая тайна, небесный чертеж. В ней, этой внешней и, по сути дела, лишней жизни он тоже должен был избегать ошибок, ибо тогда лестница уперлась бы в стену и путь наверх был бы отрезан. Он панически боялся тупика, боялся, что все кончится и он останется один со своим ремеслом никому ненужным и потерпевшим крах банкротом, не оправдавшим радужных ожиданий. Я прекрасно знал, что прошлое не спасает: в жизни нет заслуг, есть лишь путь, наверх или вниз, к жизни или смерти.
Ему казалось, что он не так часто и ошибался в жизни, ибо боялся грешить, дабы не растратить впустую доверие, не остаться одному. Каждый новый текст (в традициях времени словечко «текст» было синонимом любой письменной речи от заунывной эпопеи до удалых частушек) являлся этапом, изменяющим жизнь: менялась вода в аквариуме, местные обитатели, друзья и знакомые, среда обитания и, как песок после отлива, обнажался новый слой чтения.
Критерием правильности жизни был стиль. За свою жизнь я встретил всего нескольких людей, обладавших прописанным до теней и полутонов стилем жизни, ценность которого умножалась тем обстоятельством, что надо было не просто жить, а выжить.
Стоит ли описывать жизни-кристаллы, то освещавшие себя и окружающих тускло, с мятным приглушенным отблеском, то вдруг как бы напрягаясь от внутреннего света, если все равно всех пожирала бездна. Не та, ставшая дежурным образом вечности державинская пропасть, от которой все равно никуда не уйти, даже не бездна времени, тягучего, безразличного, стирающего все детали, а бездна случая, который не был предусмотрен в предварительной аранжировке частной судьбы, с грехом пополам разбиравшей полунамеки и подмигивающие маячки будущего, обернувшегося совсем не таким, каким было обещано. Виноватых не было. Но он думал (был уверен, не сомневался и гордился этим), что сияние и стиль присущ породе именно его друзей-нонконформистов: оказалось, оно (он, они) есть функция времени. И производная от давлений. Как сырая деревяшка, зажимаемая в тисках, издает своеобразный писк, так эти, казалось, уникальные создания, словно светлячки, светились только в темноте и защищались особой, жизнетворческой интонацией, когда их сдавливали мучительно прекрасные обстоятельства. Но стоило только тискам разжаться, а темноте рассеяться, как их своеобразие и стиль стали меркнуть, тускнеть, исчезать, словно окраска глубоководных рыб, вытащенных из воды. Все, все как-то разом потускнели, поскучнели, потеряли друг к другу интерес. Оказывается, дружба не есть психофизическая особенность некоторых натур, а в большей степени реакция на состояние общества. В тесном, зажатом, холодном и ненормальном обществе дружба ― хороший способ выжить, ибо вместе легче, теплее, больше вероятность спастись. Дружба спасала, ибо друзья помогали друг другу остаться изгоями и одновременно не раствориться в общем мраке. Общение, заменяя все на свете, было говорящей газетой и периодическим журналом. А самое главное ― помогало отстоять свою нормальность в ненормальном мире. Но мрак растаял, и метрический стих тесных отношений превратился в необязательный верлибр пресно-теплых и вяло-натужных контактов. Законы социума (в том числе и законы противодействия ему) сильнее натуры и ― увы, увы! ― определяют ее.
Х. поступил умнее, точнее и дальновиднее многих ― он умер, когда еще можно было жить: бездна не открыла своего рта; и я помню, как он, переминаясь с ноги на ногу, с какой-то девичьей стеснительностью поднял руку, чтобы помахать ею, но тут же опустил, оставшись на краю платформы, ― убыстряющий ход поезда сдвинул перспективу назад и влево; поднятая рука с зажатой в ней нелепой вязаной шапочкой обозначила наконец восклицательный знак. И я отправился к проводнику уточнять расписание ― поезд опаздывал, а я торопился на суд.
В то время он жил с женой и дочкой, и порой по выходным (откладывая неприятное событие до последнего, перенося его, если находился хотя бы какой-нибудь благопристойный повод), когда все отговорки оказывались исчерпаны, они отправлялись на дачку тестя в Токсово. Обыкновенное болото, отданное под участки садоводам, где не водилось престижной публики, давно освоившей лучшую часть Карельского перешейка. Служащие, рабочие, инженеры, итээры: те, кому не хватало денег сразу купить готовый дом в месте получше и посуше. И те, которые искали не отдохновения от трудов, а, ощутив исчерпанность смысла жизни, пытались обрести паллиатив его в физической работе. Чахлый перелесок вдоль заросшего щетиной камыша озера раскроили под пятачки по шесть соток и отдали тем, кто мечтал о свободе от себя прежнего. Порыв начать жизнь сызнова, забыв о своей черновой биографии, которой здесь все были недовольны, привел к попыткам сдружиться, стать, собрав все силы, добрее. Первые годы, пока строительство и садоводчество только начинались, интеллигентные по образованию люди в ватниках, халатах, невообразимых хламидах и прорезиненных плащах собирались по вечерам у костров, сидели, разговаривали, угощали друг друга, слушали и при вспышках пламени, сквозь наворачивающиеся от дыма слезы на глазах, вглядывались в лица соседей. Это была репетиция будущего незрелого демократического переворота, в котором любые внешние формы тут же наполнялись прежним духом недовольства и обиды на судьбу, чьи резоны всегда одинаковы: делить, пока делится, утаивая от людей формулу счастья.
Несмотря на роковой характер всех последующих примет, думаю, это было типичное место. Рок стал косить людей налево и направо, как бы давая понять, что покой не для тех, кто живет двойной жизнью и надеется сбежать от себя, переменив среду обитания.
Первым погиб сосед справа, симпатичный здоровяк, приезжавший на пыльном мотоцикле с женой и дочерью, обвязанной шерстяной шалью, торчащей из-под мотоциклетного шлема. Чтобы собрать деньги на стройматериалы, он как-то нашел заработок на стороне и при непонятных обстоятельствах попал ночью под грузовик, который, переехав его, даже не остановился.
Другой сосед, бывший моряк, строил дом (с иллюминаторами, капитанским мостиком, кряжистый и диковинный, как корабль) на своей крови. Дабы обмануть судьбу, он стал донором, благо здоровье позволяло, а на полученные взамен крови деньги покупал старые доски и бревна, таща их на своем горбу от электрички. Жена не вынесла существования без праздников, с отрезанными от жизни выходными, и бросила его.
Развелись и соседи слева, предварительно украсив резными наличникам окна, а конек ― флюгером в виде петушка. Сосед через дом умер от рака пищевода, у соседей по диагонали дом сожгли, сгорел дом и у соседей напротив, которые перед этим развелись, для начала перекопав свой участок для будущего райского сада. На глазах складывались нестойкие пары, возникали адюльтеры, дети взрослели, женились, рожали детей, заводили собак, разбегались в разные стороны.
Его, появлявшегося здесь от случая к случаю, всегда встречали очередной историей, хотя и без этих историй ужасал привкус и стойкий запашок затхлой, убогой жизни ― здесь вкалывали от зари до зари, не читая книг, не отдыхая, скупо улыбаясь и как бы убегая от жизни, которая, однако, мстила им, настигая неумолимо.
Единственной семьей, которая жила светло, с вызывающим симпатию аппетитом, была одна молодая пара. Он ― крепкий русский парень, кровь с молоком, веселый, добродушный балагур, работал шофером, всем помогал, для общественных нужд привозил то гравий, то песок. Она ― симпатичная евреечка, инженер одного НИИ, выдавшего ей этот участок. Дети ― наказание или награда любой семьи ― были прелестны. Их было двое: рыжий мальчик, весь в отца, и черненькая красавица, маменькина дочка. Радостные, светлые, вежливые. Периодически на даче появлялась то его, то ее мать.
Парень оказался самородком. Не просто хрестоматийные золотые руки, а незаурядный талант с артистическим воображением. То, что строил он, разительно отличалось от трафаретных домов-коробок вокруг. Строил он замок и поместье. Трехэтажный дом с башнями, внутренними галереями, подвалом, каминами, гаражом. С удовольствием объяснял: здесь будет стоять бочка с вином ― по трубам вино будет поступать в дом; открыл кран ― льется. Здесь у меня будет конюшня, здесь баня с паровым отоплением. Участок потихоньку обносился земляным валом, рвом, почти крепостными стенами; над пристройкой, смотреть которую приезжали зеваки из других районов, развевался флаг, стояла маленькая пушечка, горел фонарь в виде купола, напоминающий шар Дома книги на Невском. Как он работал, было загляденьем, феерическим спектаклем, таких не в состоянии сломать ни советский, ни другой режим.
Однако то, что поднималось, росло над убогим садоводческим поселком, противоречило ему, как вертикаль горизонтали. Завидовали ему страшно, с остервенением, особенно когда стало понятно, что в среду малохольного коллектива затесался независимый индивидуалист. На него писали жалобы: мол, можно дом шесть на шесть, а у него ― посмотрите! Работает шофером, а где доски дюймовые, новые, лесом пахнущие берет ― разберитесь. Что это за поместье барское, разве по типовому проекту так можно? Чем ты, сволочь, лучше нас, итээров, шесть лет в институте проторчавших — думал каждый второй и старался ему напакостить.
Его доброжелательность и открытость вводили в заблуждение, думали, он ― безответный, он оказался жестким и крутым на расправу, как только у него вставали на дороге. Начались столкновения с ближайшими соседями; слово за слово ― одному завистнику он дал в харю, другого окунул головой в пожарный водоем.
Его жена ― тихая, скромная, аккуратная еврейская женщина ― строго управляла своим муженьком, немного стесняясь его простоты и открытости. Но жила с ним как за каменной стеной. Однажды, еще до дачной эпопеи, на их палатку, стоявшую в лесу, напала компания хулиганов из соседней деревни: подрезали постромки палатки и попытались забить кольями. Он вырвался наружу с гаечным ключом: кому-то пробил голову, кому-то перебил руку, а самому ретивому ― бедренную кость. Таких нельзя сломить, можно уничтожить. Настоящий крестьянин-кулак, из тех, на ком в былое время держалась земля. Единственная отрада в округе.
Рок настиг его неожиданно, поначалу незаметно, зацепил острым коготком, затем впился глубже, глубже ― и потащил в свое чрево. Жена поехала в командировку в Москву, в купе познакомились с обходительным мужчиной, что сидел на нижней полке и вслух, призывая окружающих к сотворчеству, отгадывал кроссворд. Его эрудиция покорила ее сердце, уставшее от однообразной простоты жизни, она увлеклась невольно, забылась; все, может быть, и осталось бы в тайне, но неверная жена, заразившись сама, на свое горе, заразила триппером мужа. Он припер ее к стене, она долго отнекивалась, а потом созналась. Так получилось, что я стал его доверенным лицом, а потом и свидетелем на суде, так что все знал, что называется, из первых рук.
Он искренне хотел простить: любил ее страшно, признавал ее превосходство, обожал детей, хотел жить. Но то ли жажда цельности, то ли страстность натуры оказались преградой, переступить которую он не сумел.
Несколько дней не спал, болело сердце, мучил и ее и себя, требуя в сотый раз рассказать, как все было в подробностях, а потом заявил, что жить с ней больше не может: не могу, понимаешь, не могу, сердце разрывается ― будем разводиться.
Одновременно у него еще больше обострились отношения с соседями по садоводству. На общем собрании несколько раз обсуждалось его антиобщественное поведение, и тут жена его подает заявление с просьбой переписать участок, выданный ей, на имя мужа. Никто не знал, что происходило на самом деле; передача участка мужу или жене считалась чистой формальностью, требовалось лишь согласие общего собрания. А общее собрание, почувствовав свою силу, заартачилось. Потребовали: ты сначала извинись (за какой-то очередной инцидент), а потом мы решим, как с тобой быть. Другой, менее цельный человек, быть может, и извинился бы, понимая, что попал в зависимость от коллектива завистников. Он, уверенный в своей правоте, плюнул, послал их по-русски и демонстративно ушел с собрания. После его ухода некоторые опомнились (или испугались), раздались трезвые голоса: мол, нечего цепляться к человеку, вон сколько для садоводства сделал: и гравий, и песок возил, и помогал, когда только просили, а то, что человек с характером, норовом ― не причина, чтобы пустую формальность превращать в издевательство.
Однако через три дня его арестовали.
Все дальнейшее существует в нескольких версиях, взаимно исключающих (а может, и дополняющих) друг друга, смотря кому верить. Версия арестованного была следующей. Лечась от триппера, жена, очевидно, не долечилась и, как говорится, бытовым путем ― мочалкой или как-то еще передала заболевание своей семилетней дочке.
Версия жены была мрачней: ее муж заразил их общую дочь половым путем. Девочка долго не признавалась, а потом в присутствии следователя и учительницы рассказала, как и что папа с ней делал.
Он уверял, что это злобная, мелкая, женская месть, что такое может привидеться только в страшном сне: зачем ему, здоровому мужику, какие-то извращения; девочка до самого последнего момента производила впечатление счастливого, веселого ребенка, отнюдь не похожего на запуганное создание, принуждаемое к противоестественным отношениям. Медицинская экспертиза показала, что девственная плева ненарушена, однако анализ выявил заражение; а на словах, плача, девочка как заговоренная повторяла, что папа с ней делал э т о. Ее слова являлись единственным доказательством; защита строилась на многих пунктах чисто фактических противоречий. Отец с дочерью к моменту ее заражения не виделись более месяца. В момент заражения или неделю спустя анализы обвиняемого были отрицательные, анализы матери ― положительные. И т. д. и т. п. Но семилетняя девочка, то ли подзуживаемая матерью, то ли имея в виду нечто другое, говорила то, что говорила. И это решило исход дела ― ее отца признали виновным и дали четыре года.
Я верил ему, потому что он мне нравился, потому что мне нравилась вся его семья; потому что в моих глазах он был куда более нормальным, нежели остальное окружение; потому что мне хотелось верить в чудо здоровой естественной жизни, должна же она быть хоть где-то! Ну, а верить обиженной, затравленной, доведенной до предела женщине последнее дело.
А логика матери? Пусть даже случилось самое ужасное, отец оказался извращенцем, растлил, заразил дочь. Как вести себя в этой ситуации? Наказать отца, бывшего мужа? Конечно, месть сладостна, но что дороже? Одно дело ― что-то с дочерью случилось, но время лечит, особенно если не акцентировать внимание, другое ― заставлять ее десятки раз при чужих людях повторять и повторять ужасное о себе и своем отце. В первом случае есть шанс сохранить душевное здоровье, во втором, если выбирать месть, такого шанса почти не оставалось. Женщина, мать, выбрала последнее ― ее можно было понять, труднее одобрить. Мальчик, старший сын, переехал от матери к бабке.
Далее события стали развиваться с той головокружительной быстротой, с которой рок торопится доделать начатое, если попавшие под его палящее дыхание упорствуют, продолжая край пропасти считать якобы случайно оказавшейся на дороге ямой. Пока муж сидел, жена, с чисто женским непониманием текучести времени и его резонов, решила продать дачу, чтоб тому было еще больнее. Формально дом принадлежал ей, хотя все до последнего гвоздя было, конечно, сделано его руками. А, зная его характер, то, что дом, участок являлись его детищем, продажа без его ведома дачи была порочным следствием упорства и обиды, которая никогда не доводит до добра. Поэтому никто из соседей, знавших всю подноготную, купить дом с участком даже по дешевке не захотел. Она стала привозить посторонних: те приезжали, смотрели, любовались, цокали языком ― недостроенный дом был замком для миллионера, а отдавался за гроши: цену с каждой неделей она все снижала и снижала. Наконец нашлись завидущие губошлепы, решившие за бесценок приобрести чужое. При первом же посещении им намекнули: не делайте этого, тут семейная драма, жена мстит мужу, продавая дом дешевле, чем стоит один материал; муж ― парень крутой, через пару лет выйдет из тюрьмы, он вам этого не простит. Вы покупаете пиджачок с кровью, по сути ― краденое, чужое, его продает вам тот, кто по совести не имеет на это права, ― одумайтесь, ваш поступок вам еще аукнется. Они не послушались, жадность слепа, как и злоба, ― их уговорили недоброжелатели нашего героя. Хотели отделаться от него раз и навсегда, надеялись, что тюрьма научит его уму-разуму, шелковый оттуда выйдет, попомнит еще, как здесь куражился.
Вышло по-другому. Его освободили через два года по амнистии. Человека было не узнать. Был веселый, молодой, сильный парень, стал угрюмый раненый зверь. «Что будешь делать?» ― «Отдадут дом, мстить не буду. Каждый и так получит свое. Пусть вернут то, что мне принадлежит». ― «Брось, у тебя руки золотые. Что ты тут нагородил на шести сотках, возьми участок побольше, сделаешь дом еще лучше». ― «В другом месте не хочу. Хочу мое, мою землю, мой дом, хочу вернуть свою жизнь». Уговоры даже тех, кто не оставлял его семью, пока он сидел, не помогли. Первой сгорела дача его главного врага, председателя правления; в последний момент в дымящейся одежде он вывалился из окна, так как двери оказались подпертыми снаружи чурками.
Спустя дня два, ночью, по округе проехала банда рокеров с фонарями и факелами в руках: они забросали стеклянными банками с дерьмом все окна в домах, где обитали его недоброжелатели, ― перебили стекла, собаку, бросившуюся защищать хозяйство, пристрелили из охотничьего ружья.
На следующей неделе запылала еще одна дача ― его соседки, которой он сам помогал строить: многие считали, что это сделали для отвода глаз. Мол, чтобы сказать, что это месть другой стороны, а на самом деле ― дураку ясно: поджог по договоренности. Дом был застрахован, его хозяйке, видно, была обещана помощь впоследствии.
Еще через пару дней в городе, у машины нового хозяина дачи нашего героя оказались перерезаны тормозные шланги, и тот чудом избежал катастрофы. А на дачных участках мотоциклисты появлялись почти каждую ночь: с ревом неслись сквозь кусты и грядки, орали, будили всю округу.
Все происходило по плану, им ― молокососам из соседней деревни ― сказали, кого поджигать, кого оберегать. Казалось, все рассчитано до сантиметра: на следующем этапе добровольные помощники должны были напичкать минами участки его врагов, если не поможет, вместо банок с дерьмом в окна полетят гранаты. Милицейское начальство появилось всего раз ― повертело, покачало головами и отчалило. Видно, вопрос алиби здесь тоже был продуман.
Спустя две недели, как последнее предупреждение, сгорел его собственный дом со всеми постройками ― садовые участки под Токсово напоминали сгоревшую деревню из «Иванова детства»: обугленные фундаменты и закопченые горла печных труб. А еще через пару дней его бывшую жену нашли повесившейся в ванной. Голой, вымытой, почему-то с крестиком на шее, не оставившей ни записки, ничего. Дверь ванной оказалась запертой на задвижку изнутри и ее пришлось взламывать.
Все остальное неинтересно. Испуганное правление садоводства, дружно собравшись, заставило нового хозяина сгоревшего участка согласиться на продажу его старому владельцу по цене земли. Прошло несколько лет, и на месте сгоревшего дома поднялся еще более роскошный ― опять с башнями, галереями, перилами, переходами, рвами, земляными валами, парниками, конюшней с лошадьми и козами и прочее, прочее, прочее. Сын и дочь опять жили с отцом, руки остались золотыми, терпение и трудолюбие отменные, воображение ― редкостное; но чудо не состоялось, никогда не появляясь дважды в одном и том же месте. Фатум улыбнулся ― простер длани, но не стоит зевать, второй дубль для счастья не предусмотрен.
…На даче тестя он бывал все реже и реже.
Насколько он себя помнил, у него всегда имелась склонность к достаточно грубой поляризации жизни, к определению ее верха и низа, как подлинного и фальшивого. И, как следствие, почти манихейская расправа с тем чудным, просторечиво будничным и неуловимым, что именуется обыденной жизнью и что с ужасающим постоянством выпадало у него в мутный осадок, который не собрать, не соскрести, не потрогать.
За исключением писания и того, что шло ему (писанию) в рост, любой промежуток хотелось сжать до минимума. Здесь, как в обледенелом тамбуре качающегося вагона, почти всегда было холодно, неуютно, одиноко, страшно ― промежуток казался пустой тратой времени, потому что живое присутствие ощущалось, лишь когда он писал, а только останавливался, как наступала, нарастала волна дребезжащей пустоты, никчемного и ненужного времяпровождения. Другие об этом могли и не догадываться, это их не касалось. Но сам-то он знал этот ужас одышки, невыносимого для прокуренных легких подъема, и, будь его воля, вычеркнул бы все эти промежутки, как ненужные подробности из рукописи. Но в том-то и дело, что ни корректура, ни правка не предусмотрены в небесной типографии, где каждый получает гранки, в которых нельзя изменить ни точки, ни запятой. Потому он писал, читал, говорил о том, что шло в дело. И использовал людей, которые почему-то тянулись к нему, заставляя их обсуждать то, что волновало именно его.
Хотя хищный интерес к другим диктовался, с одной стороны, исследовательским инстинктом ― было приятно потихоньку, осторожно, как расправляют лепестки малость увядшей розы, раскрывать чужую натуру. С другой стороны ― и, увы, увы, это почти что закон, ― друзья одновременно являлись и читателями, и собеседниками, необходимыми для того, чтобы заполнить вакуум жизни и играть самые разнообразные роли — хора, зала, рампы, создающей полный глубоких и зыбких теней контекст вокруг автора-демиурга.
Казалось бы, описанный выше человек должен вызывать неприязнь, раздражение, отчуждение ― ан нет, его любили, он имел репутацию радушного, общительного человека, легко завоевывающего симпатии; а то непостижимое доверие, что оказывали ему случайные собеседники, так часто приводило к исповеди и интимной откровенности, что он сам иногда (не придавая, правда, этому большого значения) полагал, что заблуждается на свой счет. Да, он умел слушать, раскачивая невидимый маятник разговора в такт, будто настраивал себя на волну собеседника, после чего порой следовал девятый вал саморазоблачения, припадок откровенности. Но стоит ли наговаривать на себя, все сводя к профессиональному интересу, который на самом деле появлялся, скорее всего, лишь потом, факультативно? Хотя он и испытывал наслаждение, если удавалось управлять чужой душой, но при этом, очевидно, что-то недопонимал в себе, ибо на него не обижались, а если и обижались, то легко прощали, видя, возможно, в нем ту меру бескорыстия, которого он сам в себе не замечал. Или не придавал значения. Или стеснялся.
Его всегда тянуло к каким-то демоническим мотивациям ― не поведению, которое было обычным, но к странному способу толкования причин и следствий. Да, люди льнут к тем, кто знает о них больше, чем они, испытывая священный трепет и надежду: вдруг толкование, объяснение имеет импульс чудесного исцеления, претворении, искупления. Раз кто-то растолковал, раскрыл все тайные пружины и при этом не осудил (хотя отсутствие осуждения вполне можно объяснить душевной ленью, если не просто охотничьим инстинктом, который противоположен суду по своей игровой природе), значит, этот кто-то обладает магической тайной властью. Нет, он не ошибался относительно себя ― на поверхности, открытой для обозрения, сновали обыкновенные, вполне человеческие желания и потребности, но в густеющей, как переваренная каша, глубине таился страх. Не будет ли его проступок наказан лишением дара — и боялся он только этого.
Распад жизни начался в середине восьмидесятых. Он написал огромный роман о литературной богеме, где в закамуфлированном виде вывел несколько десятков, если не сотен (точно не подсчитывал) своих литературных знакомых; благо судьба свела его с литераторами самых разных поколений и ориентаций, а терпимость и холодность, прикрытая добродушием, не возводили излишних преград. Основной прием, отработанный еще ранее, заключался в том, чтобы живого человека разложить на литературные составляющие ― биографический факт подавался почти без изменений, но организовывался литературным сюжетом (вместо лимфы и крови в образе пульсировала история литературы). В результате живой человек оказывался замкнутым в клетку окончательных выводов и приговоров и от этого терял свободу, помещенный в испанский сапожок условной литературной формы.
Он был смущен еще во время процедуры письма, вдохновенной, чудной, прелестной, как первое раздевание любимой женщины, но подернутой тонким слоем греха, кажется, не описанного даже Данте. Портреты оказывались весьма узнаваемыми, порой точными, описание внешне доброжелательное, но привкус нравственного преступления не оставлял его именно потому, что он вполне отдавал себе отчет в том, что делал. Перерезал артерии, вены, жилы, набивал внутренности литературными сюжетами, делая такое живое, хотя и постороннее существование ― чучелом, которое уже не могло меняться по своей воле.
Есть вещи, признаться в которых почти невозможно, зато перенесенные на бумагу они превращаются в скучные для читателя-филистера длинноты, обычно пропускаемые им мимо своего внимания, как привычная и давно надоевшая вывеска на доме напротив.
Это случалось и раньше. Только ему удавалось описать то, что его по-настоящему волновало, да еще так, чтобы описание совпало, соединилось со своим двойником, как источник описания, прототип становился скучным, мертвым и неинтересным для него. Так он убил свое детство, самые драгоценные воспоминания, вложив их без всяких процентов и надежды на приз в какие-то мелькающие, будто телеграфные столбы, полустанки, города, миражи; так случалось и с людьми. Все становилось мертвым, едва описание удавалось. И постепенно он стал ощущать себя создателем мумий. Если не получалось убить и мумифицировать с первого раза, он возвращался опять, возвращался до тех пор, пока не выкачивал все соки, впитываемые литературными образами, которые в свою очередь навсегда замещали собой то, что еще вчера жило, дышало, плакало, надеялось. Литературный убийца ― забавное для непонимающих признание.
Но он долгое время почти не трогал своих близких, оберегая их от опасности исчезнуть, а теперь, поддавшийся соблазну, который оказался сильнее его, как бы выжег вокруг себя плодородную почву, окружил непроходимой полосой мертвой земли, вынужденный пастись на пятачке, который уже ничего не мог родить. Люди, окружавшие его, потускнели, обмякли, обветшали, опустели, точно покинутые гнезда, и если раньше он был уверен, что ценил их прежде всего как объекты исследований (ну, наговаривай, наговаривай на себе, думаешь это поможет?), то теперь понял, что именно он имел, что потерял. Дырявая посуда: лей не лей, дно будет сухим. О, я заплатил за это ― ты оставил меня.
Я не сразу понял, что произошло: воображение работало, сил казалось больше чем раньше, а жизнь тем временем уже вытекала из меня, как воздух их колеса при микроскопическом проколе. Жизнь спускала незаметно, оседая на каждой яме. Хотя это было незаметно не только ему, но долгое время и другим.
Она стала одним из последних приобретений, одной из тех, кто попал в равнодушно (можно прочесть и — добродушно) расставленные сети, ― мимолетная любовница, не понравившаяся как женщина при всей ее откровенно южной, душной красоте. Но зато какой задушевный собеседник, какая конфидентка, настоящий интимный друг.
И ее протестующий возглас был единственным диссонансом в хоре равнодушных похвал: «Эта книга плоха, такое нельзя писать, она убьет тебя», ― сказав ему то, что он если и не знал, то подозревал, но подозревал так же округло и нестрашно, как мы подозреваем непреложность факта своей будущей смерти. Велика печаль ― когда-нибудь. Страшно только тогда, когда не вовремя, как сказал один умный человек, ― а ему было все равно, он был готов, он уже написал все, что мог, и был согласен исчезнуть, раствориться за любым поворотом необязательных обстоятельств, как нетрудно проснуться в пиковой фазе сна, создающей иллюзию конца ночи.
Она была красавица еврейка, походила на его мать, ее слезы вызывали в нем восторг и озноб охотника. Она погубила, подорвала их отношения (как ненароком пускают петлю на новом чулке), сама не зная, что делает (да и он поначалу не знал), попросив буквально сразу, через месяц после знакомства, никогда не описывать ее. Сказала, конечно, ты можешь, но если опишешь ― это будет эпитафия на моем могильном камне. С ней случалась эта неуместная пафосность, симбиоз провинциального происхождения и подавленной пылкости натуры. Но его нельзя было задеть сильнее, чем запретить описывать что-либо. Это то же самое, что показать собаке кусок вырезки, протянуть и сказать: «Фу!» Пусть он никогда и не собирался описывать именно ее, но знать, что запрет существует, что у воображения есть предел в виде невозможности воплотиться, невыносимо для того, кто не умеет думать, чувствовать, ощущать полутона и оттенки, не пиша.
Я не простил тебе этого, ты знаешь? Это единственное, что нельзя со мной делать. Я не человек, я ― писатель. Не мужчина, не друг, а кропотливый исследователь, посторонний наблюдатель, собиратель коллекций.
Он помнил пьяный разговор в машине с одним добрым приятелем, богачом, умницей и аристократом, которого он познакомил со своей прелестной приятельницей. Они возвращались из гостей, немного перебравшие для того, чтобы контролировать слова, и тот сказал: «Удивительное дело ― не только очаровательна, но и умна. Как она формулирует, ее папа не скульптор?» ― «Слишком, ― мрачно отозвался он с заднего сиденья, думая о другом, — слишком умна». — «Слишком не бывает, чаще обратное». ― «Для женщины ― да». «Не врите, вы же не ходок, вам не могут не нравиться тонкие, умные женщины. Или вам нужна ― баба?» ― «Мне нужна женщина, чтобы ее выебать, унизить и описать».
Она не дала себя описать ― и он возненавидел ее. Возненавидел ― неточное слово. Он просто унижал ее всухую, понимая и не понимая зачем, но зато все понимала она. Воплощенное понимание. Оно струилось из ее лучистых глаз, а когда говорила, задыхаясь, волнуясь и вдруг ― чеканная формула для почти неуловимого понятия, то всегда возникала пауза, которую тут же надо было заполнить чем-нибудь попроще: заземлить, приглушить, как хлопают по вздувшейся от ветра юбке. Но как она сладостно страдала! Как великолепно мучилась! Как тянулась к людям, надеясь отыскать облегчение, но никогда не находила его, так, временная анестезия. Не находила и не найдет. В миру, в монастыре, на небесах ― ты будешь страдать всегда. Потому что ты ― прорва. Порченая. И никуда не денешься от себя, убеги ты хоть на край света ― ты рождена для несчастья, как другие для того, чтобы избегать его, укорачиваться, увиливать, в то время как ты ― громоотвод, отстойник для греха. Я и сейчас вижу тебя, ты никуда не скроешься от моего взгляда ― ни в норе, ни в келье, ни в бардаке. Твоя судьба.
Она была одарена всем и ничем. Трудно представить, чего она не могла ― прельщать, покорять, уводить мужей из стойла, фотографировать, петь, рисовать, рассуждать ― все она умела лучше других. Но ― пока занималась этим мимоходом, с небрежностью скороговорки и рассеянностью любителя, а только начинала стараться ― все разваливалось. И мучилась от бесценно-бесцельной, бессмысленной жизни, мечтая о якоре, заземлении, иногда впадая в самообман: «Я хочу мужа, простого человека с большими руками, мужчину, почти любого, чтобы готовить ему борщ, хлопотать, накрывать на стол, а потом сидеть, подперев голову ладонью, и смотреть, как он ест». Ерунда, любой тебе не подходил. Тебе нужен был такой, какого нет, который бы понял тебя, простил, не осудил ― и сделал другой. Ты хотела избавиться от своей кармы, своей судьбы. Врешь, не уйдешь. Никуда, милочка, не денешься.
Она желала хоть какого-нибудь дела, за которым можно было переждать не бурю и шторм, а заунывный, разрывающий душу штиль, мерное следование дней. Он сказал, пиши прозу. Исповедь, монолог, дневник. Выговори себя. Начни так: «Я подмывалась для него каждый раз, когда шла в их дом». Она любила очередного, не принадлежащего ей человека, жила в чужом доме на положении служанки, приятельницы жены с глазами провинциальной ведьмы, спала на хрестоматийном сундучке, а за стеной вершилась мучительно обстоятельная супружеская любовь.
О, я держу себя в руках. Я не пишу о тебе ни слова из того рокового набора, который как неумелая контрапунктура, заставил бы скорчиться твою душу. А как будет дальше, не знаю. Ничего обещать не могу. Может, и напишу.
Но у нее не получилась проза, как не получалось ничего. В ней был дефект, порок, ущербность ― маленькая дырочка, в которую все вытекало. На расстоянии двух шагов она была очаровательна, каждый второй мужчина терял голову, желал ее, но шаг вперед ― и мужчина хмурился, сам не понимая, что происходит: какой-то холод, пустота, ощущение бездны, почти животный страх. Не для меня, думал он, вздыхая. Слишком хороша. И уходил. Она полагала, что опять не повезло, надо быть тише, не волноваться, меньше говорить, больше слушать. А была не способна дать счастье даже последнему забулдыге. Дурочки, дурнушки выходят замуж и становятся любимыми, потому что в них есть женское умение и способность подстилки, отречения, отказа от себя во имя другого. А кому нужна статуэтка, прекрасная, точеная, уникальная, да еще рассуждающая как Спиноза, ― ни в постель не уложить, ни белье не постирать. Обманка, внешне созданная для любви, по существу ― чтобы мучить себя и других. Емеля на печи. Ласковый, лучезарный и порочный ангел с дыркой между ног. Не женщина ― одно расстройство.
Он сошелся с ней, потому что перестало писаться. Поначалу как-то незаметно, не очень пугая, ибо и раньше случались эти задыхания в комбинации с приступами бессилия и неуверенности в себе, забывавшиеся, однако, едва начиналась первая поклевка. Но тут это как-то подзатянулось.
При желании отыскивалось множество объективных отговорок. Изменилось время, потребовав передышки, промежутка; шла волна с грязно-перламутровой пеной на гребне, стоило ли мараться, пытаясь плыть вровень с любителями массовых заплывов. Да и потом, сколько можно выхолащивать себя беспрерывно? Отдохнет моя матка, заживут швы, затянутся шрамы и разрывы, исподволь появится лужица на глубине высохшего колодца, а там… Чисто профессионально он понимал, что его стиль тоже, кажется, выдохся, израсходовал самую важную и плодотворную фазу первого выброса ― надо писать иначе, по-другому, нельзя повторять… Но он и не повторялся, записывая то, что нашептывал невидимый суфлер, но в том-то и дело, что теперь сам суфлер исчез, его будка стояла заколоченной, замолк, как сверчок за печкой, который еще только что, кажется, свиристел, шуршал, стрекотал и вдруг ― молчок. Мисюсь, ты где? За что ты меня покинул?
Но даже зная, за что ― с этим невозможно смириться, как не может успокоиться вампир, которому нужен свежак, горловая вена, дабы насытиться и перелить кровь в новое, сверкающее, неопределенное, непредставимое и бесформенное только поначалу, ибо в следующий миг оно уже забулькает, запульсирует, задвигается. И встанет, сука, как Лазарь из гроба.
Какое мне дело до литературы, профессионализма, натужных оваций или их отсутствия, если я не вижу жизни иначе чем в зеркале, которым является письменная речь.
Он не метался, а делал что мог. Жил как все, хотя, скептически морщась, все больше и больше стал допускать ошибок, разрешая появляться в своей жизни тому, что раньше казалось нелепым, как пустая трата времени. Разрешал себе ненужные интрижки, портил женщинам кровь, жалел жену, растил дочь, ссорился с друзьями, разочаровывался в том, что называется жизнью, хотя как можно назвать живым полуфабрикат, пригодный лишь для дальнейшей переработки, а огонь в печке потух.
Потому почти ничего не писал, кроме безделиц-статей, очерков, прочей ерунды ― отработанного пара своего предыдущего агрегатного состояния. Продать душу ради молодости — что может быть банальней предсмертных мечтаний старца? А ради того, что зовется неловким и неточным словом вдохновение, он продал все давным-давно, вот только знать бы — кому? Полагал — Богу, а если нет? Какому-то эмиссару, заезжему посланцу, столь похожему на того единственного героя, которого он с нешуточной настойчивостью все проявлял и проявлял из негатива пульсирующей тьмы. Для невнимательного и равнодушного взгляда ― эксцентричный, самовлюбленный, имморальный тип. При рассмотрении более пристальном появлялись тени, объем; почему имморальный ― отнюдь, ибо он, этот герой, обитался в тонком прозрачном мире по обе стороны не добра и зла (пусть упрощают те, кому от этого легче), а греха. Которой, одновременно, страшил и притягивал. Не грешить, нет, а рассматривать. И наслаждение было не в том, чтобы творить грех, ибо мучился от этого, как и все, а описывать и исследовать его. Отнюдь не выдуманный персонаж, а фокус (чуть-чуть подредактируем певца «незнакомки») нашего не железного, а железобетонного века, окуляр, сквозь который единственно и можно подглядеть реальность. Без оправдания и утверждения ― лишь для понимания.
Если очень нужно, он мог описать тысячу историй, занимательных происшествий, сотни людей с трещинкой в душе, но без той ослепительной вспышки света, которая, одновременно, преображает все вокруг и сладостно уязвляет душу. Но почему обязательно с трещинкой, а не цельных, — потому что эта пропасть, расщелина и есть единственная реальность. Жизнь требует одного, литература (Боже мой, какая литература, ну, хорошо, пусть будет литература) ― другого. Жизнь, слава Богу, консервативна, в ней, как в бане, все бесстыдно голы и беззащитны и хочется тепла. И, как в семье, ― любви, понимания и нормальных отношений. В литературе сквозь норму не увидеть ничего. Добропорядочная норма ― слепа, как крот на свету. И не замечает траченых молью одеяний прошлого века, в которые добрая литература переодевает своих героев, заполняя пустоты ни от чего не спасающим слэнгом и прочей междуоконной ватой.
В то время как настоящий герой ― волшебный окуляр (даже если он кажется ― или является ― мерзким, вызывающим тошноту типом). Они, эти герои, не появляются просто так, их призывает время. И без них нельзя, как в тумане без противотуманных фар.
Твой туман, твое время, твоя реальность. Что ты хочешь сказать посредством этих людей? Как жить, если ноги между жизнью и литературой разъезжаются все шире, дублируя, повторяя знакомую трещинку в душе. Всех ли ты оставил или меня наказал за грехи?
Я не отчаиваюсь, хоть убей. Я готов красочно описать конец, мучительную агонию, могу умереть, исчезнуть, раствориться, ― только бы жить и писать, зная, как диафрагма изогнется дугой и кто-то скажет: «Дальше, дальше, диктуй дальше…»
В одну из промозглых осенних ночей, промаявшись от бессонницы до тусклого рассвета, я вдруг ― то ли бес попутал, то ли действительно услышал зов ― вытащил из нижнего ящика стола старую, семь лет назад начатую прозу и, как сумасшедший, не видя, не слыша ничего в лихорадке ночного возбуждения, стал читать, что-то исправляя, дописывая, перекраивая…
И так как рукопись названия не имела, то просто пометил сверху:
Во-первых, поменять местоимения. Не я, а он. Исповеди это не помеха. Читатель все равно вместо него подставляет себя, а за любым героем видит просвечивающего автора, возвращая я на исходную позицию.
И тогда самое трудно выговариваемое признание типа: я хочу разучиться писать, потому что разучился жить, звучит с рутинной банальностью: он решил бросить писать, так как ему все надоело. Не катит. Нет кайфа. Или — более лояльный вариант: он решил изменить свою писательскую манеру, поменять стиль, забыть свои любимые слова, ибо накопившийся за двадцать лет автоматизм лишает письмо (нет, Барт для него — слишком сухо), лишает письменную речь, пьющую белое молоко листа черными хаотическими буквами, внутренней дрожи, счастья узнавания себя и чего-то еще (на красоте не экономят), что (скажем) одновременно равно страху исчезновения и избавлению от него.
Но хотя за спиной, как бездна, война миров не в банальном уэллсовском смысле, а хотя бы в том, каким слово «катаклизм» наполнял несравненный Ортега, надо запретить себе (ему?) говорить о бездне, ибо время давно уже раздвоилось, расслоилось, распылилось. В реальном времени он здесь, и бездна за спиной. Однако, по существу, я уже там, поглощенный бездной с головой, и мне, скорее всего, не выйти из нее. Бездна поглотила его очень давно, до всяких катаклизмов, ― я вошел в нее с любопытством, как в ласковое марево волны, и по инерции долго еще топал дальше, когда волна прошла и осталась пустота, что незаметно втянула в себя все: привязанности, друзей, привычки. В том числе привычку писать, добывая символический (не рано ли, может — волшебный, газированный?) кислород самоутверждения в качестве единственной пищи для души. А остался один прием, голое умение делать то, что умеешь. И невозможность сделать так, чтобы жизнь потекла как раньше, когда хотелось жлекать ее быстрыми, жадными глотками прямо из горлышка — ибо жажда неутолима.
И вдруг жажда пропала. То есть можно пить, нельзя не пить, но жажды нет. Кайфа, повторим, нет. Можно трепаться, читать, писать, но с неизменным ощущением избыточности, механистичности. В силу инерции, но без чувства перспективы, которая вдруг исчезла, и вместе с ней пришел страх смерти.
Вдруг, как много лет назад, стал подсчитывать по ночам ― сколько ему осталось. Если ничего не случится ― лет двадцать, от силы ― двадцать пять, хотя какой-то демон внутри злорадно дышит: меньше, меньше. Тебе осталось совсем немного, почти ничего не осталось. Несколько капель на дне. Но почти такой же страх был и раньше, когда впереди (ну ладно, пусть скажет, как умеет — писатель все-таки) нетронутой целиной лежала целая, как неподрубленная простыня, жизнь или еще одно не менее банальное сравнение, пустой позвоночник судьбы, который, по замыслу того далекого времени, еще предстояло наполнить спинным мозгом, да еще так, чтобы эта змея (не слишком ли сложно?), пережив мою физическую смерть, нашла себе достойное место в какой-нибудь из музейных витрин. А я представлял себе бурое бесконечное пространство воды ― округлые ленивые волны, взгляд сверху, с облака, самолета ― это была жизнь без меня, когда я умру. Вот растет дерево, оно будет, я ― нет. Банально, банально, как смерть. Пусть оно будет сухим и корявым. Кто только хотя бы в воображении не выжимал соки из жизни, надеясь лишить ее привлекательности, думая, что это спасает… А это не спасает. Просто страшно было уйти, так ничего и не сделав. Значит, либо не сделал ничего. Либо сделанное не спасает. Последнее вернее.
Дополнительное измерение ужаса (если оно есть) заключается в том, что я все это описал. Он описал все, знал все. И не знал ничего, ибо разучился жить. Ему не для кого стало писать, потому что он писал только для себя, а теперь стал себе неинтересен. (Как эти писатели любят «писать для себя» и врут все, до единого, набивая себе цену.)
Но уметь много, уметь писать так, как не может, казалось бы, никто ― еще не гарантирует ни жажды того, что называется жизнью, ни жажды того, что называется творчеством. Пусть это никому не нужно, но если кровь бурлит, руки дрожат от нетерпения, ночью вскакиваешь, чтобы не забыть утром то, что проявилось из негатива сна, и — раз ты демиург, то — небесный гонец уже дотронулся перстами до твоего плеча, передавая сообщение, расшифровать которое невозможно… Кстати, у него были прекрасные отношения с Господом, я-то это знаю. А потом Он его покинул (лучше бы кинул, но это одно и тоже). Хотя все знал и раньше: добродушное высокомерие, тайную гордыню, снисходительную самоуверенность ― и одновременно то, что ты, брат, не любишь больше всего ― припадки уныния. Не припадки, а страсть спокойно, с доверчивой улыбкой херить жизнь. А в обмен на отсутствие лукавства ― то, что называется любовь. Несмотря на откровенный криминал высказываний типа: Ты мне не очень нравился в образе Христа. Трудная роль, трудный образ. Он вроде бы шел тебе больше других, но что-то не получалось. Если б ты был писателем, я бы сказал: чуть-чуть не канает. Крепкий автор, но не гений. Или гений, но такой, кого любить очень сложно. Я бы на твоем месте тоже менялся. Время идет, нужны новые слова. Это твоя проблема. Я могу умереть. Но другим труднее, чем мне. Ему было хорошо. Ему было плохо.
Кем не овладевала несбыточная мечта: научиться жить так, чтобы ни от кого не зависеть. Совершенно. Абсолютно. И долгое время казалось, что получается: не успевал дописать, как ночами накатывала фосфоресцирующая волна ― раздвигаешь тьму руками, и брызжут искры. Душа, как говорится, бредила бессонницей и набухала, как мочевой пузырь под утро. Бродили дрожжи, кончал одно, начинал другое; десять лет ― десять книг, может, больше, может, меньше. Но разве важно ― сколько, важно как. Я чувствовал, когда тебе не нравится. Ведь никто не прочел «Записок постороннего», и ты знаешь — почему.
А как он волновался вначале, когда только пробовал перо. Но в том-то и дело, что пробы не было. Вдруг ― услышал зов, отчетливый, как свист, так хозяин зовет собаку. И кинулся писать, будто исполнял задание длиной в двадцать лет. Порядочный срок. Мог быть и короче, другим выпадает меньше.
Что это была за жизнь! Одно слово — писательская. Он поселился с молодой женой и собакой в маленькой квартире в спальном районе, работал в центре, ездил на службу каждый день и каждый день писал. Казалось бы, когда? Утром прогулка с собакой, час до службы в переполненном автобусе, девять часов на службе, час обратно, домашние дела, жена. Но писал везде ― спрятав блокнот под кипой программистских распечаток; в библиотеке Михайловского замка, где размещалась его контора; в Публичке, куда заезжал после работы, чтобы читать, читать, читать, восполняя отсутствие гуманитарного образования. Он был жаден до работы, я хотел понравиться тебе и себе, больше, конечно, себе, хотя долгие годы это было одно и то же. Казалось, еще немного — и что-то произойдет. Что? Что-то.
Он завел собаку недели через две после свадьбы. Вечером жена вышла позвонить. Было не поздно, полдесятого, конец марта. Телефоны-автоматы стояли на углу. Он то ли писал, то ли читал, забылся, вдруг звонок в дверь. Открыл ― соседка с нижнего этажа, которую не сразу и узнал. Никаких предчувствий. Знаете, ― с простонародной стеснительностью и волнением, ― там вашу жену побили. Восьмой этаж, он летел, прыжками одолевая по маршу, но ты спас ее, я так и понял. За ней пошли сразу, как она вышла из автомата. Всего-то ― вторая парадная, метров тридцать-сорок. Идет ― за ней то ли шаги, то ли ветер шутит. Оборачиваться страшно, да и неловко. Вошла в парадную, быстро к лифту, шаги отчетливее. Нажала на кнопку. Слава Богу, что в лифт зайти не успела.
Это был садист, не насильник. Схватил за шиворот, кинул на пол, она пыталась ползти по лестнице, но он швырял ее обратно. Крик, дыхание перехватило. Лестница, площадка были залиты кровью, будто пролили ведро с краской. Живот спасла шуба, несколько зубов выбито, шрамы на голове остались на всю жизнь, но в густой гриве были неразличимы.
Я бы убил его, если б нашел. Но он как сквозь землю провалился. Ты не дал мне догнать эту суку. Не хотел, чтобы жизнь началась с убийства, ― ты знал, это могло случиться.
Русская литература в результате многовековой селекции вывела тип писателя не от мира сего, человека в очках, с хилыми плечами, покатой спиной, горящими глазами и лысым лбом Сократа. Я всегда стеснялся своей силы и роста, противоречащего облику хрестоматийного интеллигента, а пятый пункт, трудное дворовое детство, привычка перебарывать страх из-за боязни унижения, заставляли лезть на рожон даже тогда, когда стоило уступить.
Был забавный случай в Коктебеле. Утром он отправился на рынок покупать помидоры. В кошельке ― один четвертак с мелочью. Разбавленная синька неба, слоеный воздух с прожилками запахов свежей зелени, терпкой полыни. Пыльная дорога в гору. Он купил помидоры у одного чучмека. На одном подносе торговца ― помидоры, на другом ― персики. Чучмек шутил, давая сдачу, зачем-то сложил пополам пачку трехрублевок, потом, держа в своих руках, пересчитал. Смотри, дорогой: раз, два, три… восемь. Порядок? Да, восемь трехрублевок. Он не следил за ним. Ему всегда казалось, что тот, кто видит его, понимает, что его обманывать нельзя. Он сильней, он большой, он улыбается, доверяя любому именно потому, что уверен ― каждому видно: с ним шутить хуево. Взял, не считая, пачку трешек, смяв, положил в кошелек. Собираясь на пляж (читать и купаться в первой Сердоликовой бухте, а если хватит сил, то еще дальше, Карадагом, через перевал), жена сказала: кошелек не потерял, тебя не обсчитали? Меня не обсчитывают, на. Она с женской недоверчивостью открыла кошелек, начала считать: три, шесть, девять… а где еще две трешки? Как ― где? Взял, пересчитал ― Господи, он меня обманул. Спокойно, я прошу тебя ― будь спокоен, кричала вслед жена. Он шел, почти бежал. Было не жалко денег, Бог с ними, хотя лишних денег никогда не водилось, но ― обманул, унизил, глядя в глаза. Он отчетливо, как нарисованные, помнил два подноса, слева и справа от весов. И знал, что подойдет и без слов с двух сторон наденет эти подносы чучмеку на голову, размажет по харе помидоры и персики и многое еще успеет сделать, пока не оттащат. Рынок, вот и торговец. Чучмек увидел его метров за десять, все понял по глазам, радостно замахал руками: «Иды, иды сюда, дорогой, ты дэньги забыл. Иды, вот дэньги, вот!» А когда он молча забрал, уже в спину, лукаво улыбнулся: «Я же гаварил тэбэ, считай!»
Я не убил его, не нашел; жене наложили восемь швов, потом месяц вставляли зубы; и он решил завести собаку, чтобы охраняла жену тогда, когда его нет.
Эту собаку любили все его друзья, которые приходили к ним по нескольку раз в неделю, оставались ночевать, им стелили на полу (кроватей не хватало), они все спали в одной комнате, собака лежала в ногах. Ее слишком любили, она так и не стала злой, хотя была огромным черным ризеном ― якобы необычайно опасный, неукротимый зверь: у них она превратилась в ласкового теленка, после первого припадка лая облизывающего каждому гостю лицо, руки, шею; она вставала и клала огромные лапы на плечи, как мягкая черная тень.
Друзья были пробующими перо поэтами и писателями, просто приятели молодости, которым было интересно в диссидентском доме. Как приятно писать банальные вещи, прекрасно зная, что означаемое и означающее не совпадают, в минусе то, что как раз и должно остаться между строк. Банальное ― сеть со слишком большими ячейками, в них застревает только рыба крупная и старая, неповоротливая, но что может быть банальней молодости с ее подлинным интересом друг к другу, невозможностью наговориться, нехваткой времени и уверенностью, что впереди у всех (а если не у всех, то у меня-то точно) мерцает, переливаясь в свете волшебных юпитеров, прекрасное будущее?
Где вы теперь, друзья юности? Нет ни одного. Все растворились за магической зеркальной амальгамой, строго и точно отделившей жизнь с надеждой от жизни без нее. И какой бы ссорой ни оборачивался этот невидимый глазу переход, любой из вас придет, вернется на миг, только позови. Но ничего не будет, друг сядет на край стула, между нами будет пропасть разно прожитой жизни, в которой ― и это прежде всего ― не оказалось места для прекрасного будущего, вакансия занята другим. И о чем тогда говорить? Все в разной степени успешны, все заняты и озабочены собой, и иногда кажется, что вас не было и раньше, что вы ― воздушные шары, некогда надутые прекраснодушием и воображением, а теперь ― нет, не рваные гондоны, а шарики после праздника, что висят на ниточке сморщенные, жеваные и никому не нужные. И нет слов, языка, забыт пароль дружбы. Нам скучно друг с другом, потому что скучно с собой. И только смерть в состоянии собрать нас вместе на миг для своих рутинных и привычных ритуалов.
Ровно двадцать лет назад он написал первое слово, предназначенное для того, чтобы впоследствии быть прочитанным неведомым читателем. Не рассказ и не дневник, а нечто среднее, промежуточное по жанру. Умер его дед ― футболист, артиллерийский офицер, его ордена до сих пор валяются где-то в нижнем ящике шведского письменного стола вперемешку с кнопками, старыми письмами, почему-то велосипедной камерой и прочим, до чего руки никогда не доходят. Первая смерть близкого и любимого человека. Гроб деда с неровно прибитой красной тряпкой, торчащими щепками и блестящими шляпками гвоздей, а рядом какой-то странно будничный, обыденный разговор вокруг. Он нес своего деда в гробу, и ему хотелось, чтоб гроб был тяжелый, чтобы он вмял его в землю, подавил своей тяжестью, а гроб был оскорбительно легок. Как и те разговоры близких, которые, давая себе передышку, уже устали горевать и просто заполняли словами промежутки в церемониале, как чтец во время концерта успокаивает публику перед грядущим номером заезжего виртуоза. А он хотел сплошного, безразмерного горя, конца жизни, хотел занавеса, тяжелого и торжественного, словно театральный плюш. И был ошеломлен не столько смертью, сколько ее обыденностью.
Всю первую половину жизни он боялся смерти, объясняя это постыдное обстоятельство тем, что боится не успеть сделать то, что должен. Боялся пресной, разреженной жизни, вялотекущего времени, ему было хорошо, только когда он работал, а дальше с убывающей гаммой радости: писал, читал, говорил. Он не хотел жить, он хотел спастись от смерти, бесследного исчезновения по формуле Карла Моора ― бессмысленного существования, уверенный, что творчество спасает. А оно не спасает. Я должен был догадаться раньше, вспомнив то гулкое, как эхо в подворотне, чувство опустошения, которое, точно сырость, проникало во все поры души, только я кончал работу. Работа не спасает, Господи, не спасает ― она лишь местная анестезия.
Он отчетливо, с шелушащимися, как обгоревшая кожа, подробностями, помнил, как работал над своим третьим романом. Присутствие суфлера порой было настолько реальным, что рождало ощущение соавторства, школьной диктовки, нужно было только точнее расслышать слово. И вздох недовольства, если слово оказывалось неточным. По пальцам он мог пересчитать эпизоды, детали, отступления, даже отрывки фраз, которые дописывал сам, в инерции смутного движения от припадка удушья к роскошеству вдоха. Ты соблазнил меня этим романом. И ему показалось, что он научился жить. Нельзя ни на кого обижаться, показалось, расслышал он. Никто ни в чем не виноват, кроме тебя самого. Настоящая близость, когда хочется еще теснее, ближе. И ему стало сниться, что он наконец выговорил самые трудные слова молитвы. Ему захотелось унизить себя, свою гордыню, прийти в Лавру, поцеловать заплеванный пол, заплакать. Он, как радиоприемник, был настроен на одну волну, ведь Бог ― это очень просто, это и есть оки-токи, переговор с небесной радиостанцией, и разница только в рельефе местности: здесь надо ловить на телескопическую антенну, там ― на спутниковую, а где-то она в виде креста или полумесяца. Ему оставалось чуть-чуть. Один шаг. Совсем немного. Так хотелось смирения, покорности ― небу, судьбе, жизни. Он ждал только какого-то толчка, невидимого намека, случая, в конце концов, какого-нибудь повода. Не хотелось идти ради себя, казалось, будет лучше, если он будет просить не себе, а кому-то. Заболеет мать, жена ― он придет, чтобы раствориться, рассеяться, изойти в ничто. Он готов был отдать все, за исключением дара — повелителя слов, покровителя мысли. Он так гордился этим даром, и ничего не мог с этим поделать, хотя знал, что не лучше любого вора-цыгана или подлеца-коммуниста. Но, Господи, ведь это ты сделал меня ― нет, не просто рассудочным и всегда ставящим мысль впереди чувства, не только с восторгом принимающим процесс рождения мысли, которая, как шар возле лузы, поколебавшись, побившись почти незаметно о края, с легким тремоло обретала форму; но и радующимся тому, как мысль разъедает, разбирает на части чувство, человека, жизнь.
Он попал в Лавру года через три-четыре, может, пять. Из воцерковления ничего не вышло; он подошел близко, добрался почти до самого верха, но недотопал, недотянулся самую малость, а потом медленно, медленно, но уже неуклонно стал спускаться. Не падал, нет. Просто церковь ― не для всех, кто-то молится в лесу, кто-то идя по воздушному мосту между сейчас и тем, чего еще нет, и вот проступают робкие штрихи, очертания, пульсирует контур и… Скажем так, ему, очевидно, придется ограничиться тем, что он получал во время писания. У других и этого не было.
Он поднимался по эскалатору метро на площади А.Невского, думая о том, что другими называется не о чем, а на самом деле является чем-то похожим на слоеный пирог трясины; один неосторожный шаг ― провалился глубже, еще глубже, потом вроде выбрался на покрытую потрескавшейся корочкой поверхность, чтобы следующее движение ноги заставило все тело ухнуть по горло во что-то засасывающее и хлюпающее теперь навсегда. И неожиданно, подняв голову, увидел ее. Милое, неясно-торопливо очерченное лицо, стройная фигурка, какая-то призывная грация, будто в проеме дверей, которые со скрипом качнулись на ржавых петлях, увидел промельк полуодетой красавицы. Они встретились взглядами, и он как бы попугал ее, как делал иногда, желая обратить внимание: расширил глаза, словно отдавая должное ее прелести, скорчил понимающую гримасу, усмехнулся. Глупость ― она улыбнулась в ответ, и вдруг ему, чего уже не было давно, захотелось нырнуть в женскую глубину; какая-то истома и жалость к себе, к своему одиночеству легли на одну из нижних ступенек души, одновременно открывая вид на всю лестницу ― какая прелесть подняться по ней вот с этой незнакомой красавицей, а там, наверху, сказать ей: я хочу не тебя, а хочу с тобой говорить.
Это началось еще в юности, когда сперва появилась робкая надежда, очень скоро превратившаяся в уверенность, что ни одна особа женского пола не может ему отказать. Ни в чем, хотя, получив согласие, зная, что оно есть, он не всегда пользовался им, чаще теряя желание в пути. Достаточно усмирить, покорить, унизить, а потом уже выебать, так, напоследок, как дополнение.
Думается, все началось еще раньше, в детстве. Его мать, крикливая, нервная, вечно усталая, бурно, в непонятно откуда взявшихся южных традициях, ссорилась с отцом, требуя от него то, чего тот, непредставимо добрый и уныло мягкотелый, дать был не в состоянии ― омута страсти и полновесной удачи праздника для ее взволнованного ожиданиями сердца. А он, невольный свидетель, ощущал себя попавшим в грозу с громыханиями молний и электрическими дуговыми разрядами вокруг проводов, и хотелось, чтобы это кончилось — как угодно, пусть рухнет крыша, упадет дерево, но мужчина должен научиться прекращать бабий визг. Женщина ― глупа, она должна подчиняться для своего же блага. Ей надо уметь делать больно, а любить ее можно с оговорками, как чудесный и одновременно опасный поворот дороги, как быстрину реки ― осторожно.
Он с ужасом представлял себя участником литературно-любовной истории, где она, очаровательная стерва и пустая красавица, получает право помыкать им, как было, есть и будет, но с другими. Лучше не любить совсем. Или так, чтобы спину холодил сквознячок от щелки в неплотно прикрытой двери, сквозь которую можно всегда уйти без стука, возни с замками и без долгих объяснений.
И от страха унижения ― унижал сам. Если, конечно, позволяли. Но ему позволяли слишком много и слишком долго. Но, как сказала умнейшая среди них, женщины любят не красивых или умных, а тех, кто ими занимается. А обожают (добавим от себя) того, кто очень достоверно и много обещает и мало дает.
Та чаровница на эскалаторе вдруг остановила его, как останавливает воспоминание, которое нужно расшифровать, расположить на полочках памяти, чтобы взять его не целиком, а только ту, не дающую покоя минимальную часть, которая важнее всего. Важнее блаженства, в том числе и вечного (ввиду его абстрактности), и чувства, неверного, словно проточная вода, но существенного, как уравнение Флоренского: А=А.
Но не знакомиться же на улице, брезгливость равна пошлости с обратным знаком. Не в его правилах было идти за женщиной, куда легче было попробовать подозвать ее как (все, забыли о рефлексии, дальше сам) сокола звуком серебряного рожка. Ему чаще всего хватало взгляда, раз, другой, длиннее, глубже ― и она была наполовину его. Если не терял к ней интерес. Или не попадал на фригидную и высокомерную дуру, для которой тождественность самой себе дороже твердого обещания счастья, на самом деле неосуществимого, но от этого только более притягательного. Или не становился жертвой самообмана, столь свойственного самовлюбленным самцам, склонным видеть порой куда больше, нежели есть на самом деле. Но тут ― ему сразу ответили, посмотрели, оценили ― правда, как-то не так. Не с той степенью самоотдачи и привычного женского кокетства, когда чужое внимание так и тянет взобраться на пьедестал.
Он поднялся к ней ближе на несколько ступенек. Улыбнулся, что-то сказал, тут же ощутив влажную фальшивость своих слов; но отступать было уже поздно. Как посторонний, с удивлением отмечая собственную неловкость, как-то сформулировал, что ее внимание ему дорого, хотя чувство неуместности и смущения не оставляло. Кажется, не давалка, в ней было странно намешано то, что обычно размещается отдельно: какая-то легкость и одновременно отстраненность, преграда, отчетливый женский призыв и твердый отказ. Он нравился ей, было видно. Вы располагаете временем, спросил он, сам морщась от тривиальности собственных слов и при этом сочувственно улыбаясь. Нет, сказала она, нет, к сожалению. Тогда потом? Кошмар, перед вами, кажется, дурак. Нет, боюсь, нет. Почему? ― задал он пошлейший вопрос. Почему? — говорят, кладя руку на колено и сминая юбку; почему? ― затыкают рот поцелуем; почему? ― тискают грудь, уже что-то расстегивая.
Они вместе вышли из вестибюля метро и разговаривали, если ощущение, что вы втискиваете ногу в тесный ботинок, можно назвать разговором. Простите, я не могу больше идти с вами, у меня назначено свидание. Он был ошарашен, пытаясь не показать виду, он ничего не понимал ― так можно было обозначить это состояние, но оно было другим, неоднородность времени и собственного существования: одна часть говорит нелепость за нелепостью, а другая с прищуром наблюдает за происходящим, прикидывая, чем это может кончиться. Он видел ее неловкость, скованность; никакого свидания, никакого соперника, хотя что-то стояло между ними, он это ощущал. Простите, сказал он, останавливаясь и испытывая раздражение, последняя просьба: посмотри на меня внимательно. Она быстро, искоса взглянула, тут же отвернулась и торопливо пошла вперед, что-то доставая из сумочки.
Слева располагалась остановка, откуда автобусы отчаливали в родной Веселый поселок. Справа ― ворота Лавры.
Он посмотрел ей вслед: черная, узкая по щиколотку юбка без разреза, какая-то кофточка, на ходу, как военный выхватывает саблю из ножен, она достала платок из сумки и надела на голову.
Он по инерции свернул налево, стал ждать автобуса, огибаемый, поглощаемый толпой, и вдруг стало тоскливо. Что-то не так, что? Постоял, потоптался, а потом медленно, нога за ногу, пошел через гулкую арку, мост с деревянным настилом, мощеную мостовую, мимо низких стен некрополя, обгоняемый с двух сторон бабками-прихожанками, как случайно оказавшийся в окрестностях стадиона прохожий футбольными болельщиками. Тут его осенило: Боже мой, она же торопилась в церковь! Вот почему платочек, скромность, намеренная сумрачность наряда, какая-то странная, постная сдержанность. Но ведь как хороша, очаровательна, желанна! Бог ты мой, монашка ― не монашка, но постоянная прихожанка Лавры.
Конечно, он действовал по инерции. Зашел в собор с крестящимися старушками, шла душная, громкая служба, народу было полно. Он затаился, прислушался, постоял немного, огляделся и нашел ее сразу, в левом нефе. Она стояла рядом с подругой, толстоморденькой простушкой в белом с каймой платочке, и мальчиком; почему-то он сразу решил ― брат. Выбрал такой ракурс, чтобы видеть ее целиком, ей же, чтобы заметить его, непременно нужно было обернуться. Он знал, что она обернется, когда почувствует взгляд. А если не обернется, то, слава Богу, отправлюсь восвояси и никому о своей неудаче ни…
Она беспокойно, быстрым жестом поправила рукой платочек, убирая под него выбившуюся прядку, зачем-то посмотрела под ноги, еще раз поправила косынку и оглянулась на него. Он улыбнулся, извиняясь, почему-то ожидая возмущения. Юная прихожанка Лавры, очевидно, из простой верующей семьи, а тут такое кощунственное ухаживание. Больше не обернется, решил он, ощущая нарастающую неловкость; постою немного и уйду. Вести себя настолько непристойно в Божьем храме, да и ради чего, тоже мне… Сначала оглянулась подружка, перед этим смиренница ей что-то сказала, та бодро вскинула голову, задорно посмотрела; они зашушукались вполголоса, защебетали, обмениваясь впечатлениями. Затем осторожно стали оглядываться по очереди. Это его покоробило. Он ожидал другого, большей строгости, что ли. Строгости и стойкости. В нем боролись два чувства ― любопытства, так как интерьер ситуации подходил более к интрижке прошлых веков, когда вместе с просвиркой в руку суют записку. Другое: оловянный привкус неправильности, неточности своего поведения. Легкого кощунства. Раздевать женщину взглядом в церкви, во время службы… А что потом? Дождаться, пока она выйдет, прикинуться простофилей, который будет хихикать по поводу ее воцерковленности и очарования? Пошло. Эрос покидал его, как воздух проколотый мяч. Она оглянулась вновь, и тут он разозлился: где твоя гордость, милочка, неужели тебя так легко совратить? Но мне так легко не надо. Ох эти святоши. Ты мне уже неинтересна. И стал пробираться к выходу, хотя чувствовал, что она смотрит ему вслед. Думай о Боге и брате, монашка (при чем здесь брат, я не знал).
Уже потом он вспомнил, что судьба для его неудавшегося ухаживания подобрала как раз те подмостки, куда несколько лет назад с неуклонностью ночных путешествий воображение приводило его для покаяния. Именно в Лавре ему хотелось помолиться впервые. Не помолился, зато смутил женскую душу. Но ведь своя душа дороже, не так ли?
Он писал в это время странную прозу, сам не всегда понимая, что именно делает. Разложение жанра ― жизнеописание, литературные портреты, сдвиг исторических реалий, лирические или ложнолирические пассажи, псевдоавантюрная фабула. Зачем все это, он точно не знал, но стрелка компаса указывала путь, он работал вслепую ― не глазом, а ухом. Точнее, эхом. Он лавировал между сомнением и тайной радостью, природу которой не знал, но предчувствовал; вся жизнь была построена по принципу эха; и был свободен почти ото всего, за исключением ответа, отголоска, рожденного огромной, безразмерной ушной раковиной, контуры которой он и пытался проявить. И ощущал себя то на длинном, то на коротком поводке.
Его интересовало только одно ― чувство внутренней правоты: оно то появлялось, то исчезало, истаивало, как прозрачно-белесый каркас; вот по нему и надо равняться; но только удавалось оснастить его плотью, как мираж пропадал ― оставались пустые, нелепые слова, неуклюжие фразы, подступало не отчаянье, а какое-то противненькое бессилие, кошмарный припадок отвращения к себе, чреватый возможностью добраться в конце концов до настоящей пустоты. Но рано или поздно мираж появлялся вновь, все сразу менялось, одна работа переходила в другую, как ступеньки винтовой лестницы. Он поднимался по этим ступенькам внутри себя, вкручиваясь, как штопор, в дышащую и полную созвучий пустоту, каждой новой строкой формируя площадку для очередного шага. Я должен дойти до границ себя, чтобы стать собой, каким был задуман, реализуя твой замысел. Хотя сколько раз ступень рушилась под ногой, он проваливался в прежнее состояние, ощущая мучительную, с бегущими за шиворот мурашками-мандавошками, осечку, но затем опять вылавливал нужную интонацию, выводящую с заросшей тропки на торную дорогу.
Так продолжалось более десяти лет. Вся остальная жизнь ― как построенные без любви, наспех сколоченные домишки, что ютятся со всех сторон барского поместья ― строилась вокруг башни, где винтовая лестница, мерцающая тайна, небесный чертеж. В ней, этой внешней и, по сути дела, лишней жизни он тоже должен был избегать ошибок, ибо тогда лестница уперлась бы в стену и путь наверх был бы отрезан. Он панически боялся тупика, боялся, что все кончится и он останется один со своим ремеслом никому ненужным и потерпевшим крах банкротом, не оправдавшим радужных ожиданий. Я прекрасно знал, что прошлое не спасает: в жизни нет заслуг, есть лишь путь, наверх или вниз, к жизни или смерти.
Ему казалось, что он не так часто и ошибался в жизни, ибо боялся грешить, дабы не растратить впустую доверие, не остаться одному. Каждый новый текст (в традициях времени словечко «текст» было синонимом любой письменной речи от заунывной эпопеи до удалых частушек) являлся этапом, изменяющим жизнь: менялась вода в аквариуме, местные обитатели, друзья и знакомые, среда обитания и, как песок после отлива, обнажался новый слой чтения.
Критерием правильности жизни был стиль. За свою жизнь я встретил всего нескольких людей, обладавших прописанным до теней и полутонов стилем жизни, ценность которого умножалась тем обстоятельством, что надо было не просто жить, а выжить.
Стоит ли описывать жизни-кристаллы, то освещавшие себя и окружающих тускло, с мятным приглушенным отблеском, то вдруг как бы напрягаясь от внутреннего света, если все равно всех пожирала бездна. Не та, ставшая дежурным образом вечности державинская пропасть, от которой все равно никуда не уйти, даже не бездна времени, тягучего, безразличного, стирающего все детали, а бездна случая, который не был предусмотрен в предварительной аранжировке частной судьбы, с грехом пополам разбиравшей полунамеки и подмигивающие маячки будущего, обернувшегося совсем не таким, каким было обещано. Виноватых не было. Но он думал (был уверен, не сомневался и гордился этим), что сияние и стиль присущ породе именно его друзей-нонконформистов: оказалось, оно (он, они) есть функция времени. И производная от давлений. Как сырая деревяшка, зажимаемая в тисках, издает своеобразный писк, так эти, казалось, уникальные создания, словно светлячки, светились только в темноте и защищались особой, жизнетворческой интонацией, когда их сдавливали мучительно прекрасные обстоятельства. Но стоило только тискам разжаться, а темноте рассеяться, как их своеобразие и стиль стали меркнуть, тускнеть, исчезать, словно окраска глубоководных рыб, вытащенных из воды. Все, все как-то разом потускнели, поскучнели, потеряли друг к другу интерес. Оказывается, дружба не есть психофизическая особенность некоторых натур, а в большей степени реакция на состояние общества. В тесном, зажатом, холодном и ненормальном обществе дружба ― хороший способ выжить, ибо вместе легче, теплее, больше вероятность спастись. Дружба спасала, ибо друзья помогали друг другу остаться изгоями и одновременно не раствориться в общем мраке. Общение, заменяя все на свете, было говорящей газетой и периодическим журналом. А самое главное ― помогало отстоять свою нормальность в ненормальном мире. Но мрак растаял, и метрический стих тесных отношений превратился в необязательный верлибр пресно-теплых и вяло-натужных контактов. Законы социума (в том числе и законы противодействия ему) сильнее натуры и ― увы, увы! ― определяют ее.
Х. поступил умнее, точнее и дальновиднее многих ― он умер, когда еще можно было жить: бездна не открыла своего рта; и я помню, как он, переминаясь с ноги на ногу, с какой-то девичьей стеснительностью поднял руку, чтобы помахать ею, но тут же опустил, оставшись на краю платформы, ― убыстряющий ход поезда сдвинул перспективу назад и влево; поднятая рука с зажатой в ней нелепой вязаной шапочкой обозначила наконец восклицательный знак. И я отправился к проводнику уточнять расписание ― поезд опаздывал, а я торопился на суд.
В то время он жил с женой и дочкой, и порой по выходным (откладывая неприятное событие до последнего, перенося его, если находился хотя бы какой-нибудь благопристойный повод), когда все отговорки оказывались исчерпаны, они отправлялись на дачку тестя в Токсово. Обыкновенное болото, отданное под участки садоводам, где не водилось престижной публики, давно освоившей лучшую часть Карельского перешейка. Служащие, рабочие, инженеры, итээры: те, кому не хватало денег сразу купить готовый дом в месте получше и посуше. И те, которые искали не отдохновения от трудов, а, ощутив исчерпанность смысла жизни, пытались обрести паллиатив его в физической работе. Чахлый перелесок вдоль заросшего щетиной камыша озера раскроили под пятачки по шесть соток и отдали тем, кто мечтал о свободе от себя прежнего. Порыв начать жизнь сызнова, забыв о своей черновой биографии, которой здесь все были недовольны, привел к попыткам сдружиться, стать, собрав все силы, добрее. Первые годы, пока строительство и садоводчество только начинались, интеллигентные по образованию люди в ватниках, халатах, невообразимых хламидах и прорезиненных плащах собирались по вечерам у костров, сидели, разговаривали, угощали друг друга, слушали и при вспышках пламени, сквозь наворачивающиеся от дыма слезы на глазах, вглядывались в лица соседей. Это была репетиция будущего незрелого демократического переворота, в котором любые внешние формы тут же наполнялись прежним духом недовольства и обиды на судьбу, чьи резоны всегда одинаковы: делить, пока делится, утаивая от людей формулу счастья.
Несмотря на роковой характер всех последующих примет, думаю, это было типичное место. Рок стал косить людей налево и направо, как бы давая понять, что покой не для тех, кто живет двойной жизнью и надеется сбежать от себя, переменив среду обитания.
Первым погиб сосед справа, симпатичный здоровяк, приезжавший на пыльном мотоцикле с женой и дочерью, обвязанной шерстяной шалью, торчащей из-под мотоциклетного шлема. Чтобы собрать деньги на стройматериалы, он как-то нашел заработок на стороне и при непонятных обстоятельствах попал ночью под грузовик, который, переехав его, даже не остановился.
Другой сосед, бывший моряк, строил дом (с иллюминаторами, капитанским мостиком, кряжистый и диковинный, как корабль) на своей крови. Дабы обмануть судьбу, он стал донором, благо здоровье позволяло, а на полученные взамен крови деньги покупал старые доски и бревна, таща их на своем горбу от электрички. Жена не вынесла существования без праздников, с отрезанными от жизни выходными, и бросила его.
Развелись и соседи слева, предварительно украсив резными наличникам окна, а конек ― флюгером в виде петушка. Сосед через дом умер от рака пищевода, у соседей по диагонали дом сожгли, сгорел дом и у соседей напротив, которые перед этим развелись, для начала перекопав свой участок для будущего райского сада. На глазах складывались нестойкие пары, возникали адюльтеры, дети взрослели, женились, рожали детей, заводили собак, разбегались в разные стороны.
Его, появлявшегося здесь от случая к случаю, всегда встречали очередной историей, хотя и без этих историй ужасал привкус и стойкий запашок затхлой, убогой жизни ― здесь вкалывали от зари до зари, не читая книг, не отдыхая, скупо улыбаясь и как бы убегая от жизни, которая, однако, мстила им, настигая неумолимо.
Единственной семьей, которая жила светло, с вызывающим симпатию аппетитом, была одна молодая пара. Он ― крепкий русский парень, кровь с молоком, веселый, добродушный балагур, работал шофером, всем помогал, для общественных нужд привозил то гравий, то песок. Она ― симпатичная евреечка, инженер одного НИИ, выдавшего ей этот участок. Дети ― наказание или награда любой семьи ― были прелестны. Их было двое: рыжий мальчик, весь в отца, и черненькая красавица, маменькина дочка. Радостные, светлые, вежливые. Периодически на даче появлялась то его, то ее мать.
Парень оказался самородком. Не просто хрестоматийные золотые руки, а незаурядный талант с артистическим воображением. То, что строил он, разительно отличалось от трафаретных домов-коробок вокруг. Строил он замок и поместье. Трехэтажный дом с башнями, внутренними галереями, подвалом, каминами, гаражом. С удовольствием объяснял: здесь будет стоять бочка с вином ― по трубам вино будет поступать в дом; открыл кран ― льется. Здесь у меня будет конюшня, здесь баня с паровым отоплением. Участок потихоньку обносился земляным валом, рвом, почти крепостными стенами; над пристройкой, смотреть которую приезжали зеваки из других районов, развевался флаг, стояла маленькая пушечка, горел фонарь в виде купола, напоминающий шар Дома книги на Невском. Как он работал, было загляденьем, феерическим спектаклем, таких не в состоянии сломать ни советский, ни другой режим.
Однако то, что поднималось, росло над убогим садоводческим поселком, противоречило ему, как вертикаль горизонтали. Завидовали ему страшно, с остервенением, особенно когда стало понятно, что в среду малохольного коллектива затесался независимый индивидуалист. На него писали жалобы: мол, можно дом шесть на шесть, а у него ― посмотрите! Работает шофером, а где доски дюймовые, новые, лесом пахнущие берет ― разберитесь. Что это за поместье барское, разве по типовому проекту так можно? Чем ты, сволочь, лучше нас, итээров, шесть лет в институте проторчавших — думал каждый второй и старался ему напакостить.
Его доброжелательность и открытость вводили в заблуждение, думали, он ― безответный, он оказался жестким и крутым на расправу, как только у него вставали на дороге. Начались столкновения с ближайшими соседями; слово за слово ― одному завистнику он дал в харю, другого окунул головой в пожарный водоем.
Его жена ― тихая, скромная, аккуратная еврейская женщина ― строго управляла своим муженьком, немного стесняясь его простоты и открытости. Но жила с ним как за каменной стеной. Однажды, еще до дачной эпопеи, на их палатку, стоявшую в лесу, напала компания хулиганов из соседней деревни: подрезали постромки палатки и попытались забить кольями. Он вырвался наружу с гаечным ключом: кому-то пробил голову, кому-то перебил руку, а самому ретивому ― бедренную кость. Таких нельзя сломить, можно уничтожить. Настоящий крестьянин-кулак, из тех, на ком в былое время держалась земля. Единственная отрада в округе.
Рок настиг его неожиданно, поначалу незаметно, зацепил острым коготком, затем впился глубже, глубже ― и потащил в свое чрево. Жена поехала в командировку в Москву, в купе познакомились с обходительным мужчиной, что сидел на нижней полке и вслух, призывая окружающих к сотворчеству, отгадывал кроссворд. Его эрудиция покорила ее сердце, уставшее от однообразной простоты жизни, она увлеклась невольно, забылась; все, может быть, и осталось бы в тайне, но неверная жена, заразившись сама, на свое горе, заразила триппером мужа. Он припер ее к стене, она долго отнекивалась, а потом созналась. Так получилось, что я стал его доверенным лицом, а потом и свидетелем на суде, так что все знал, что называется, из первых рук.
Он искренне хотел простить: любил ее страшно, признавал ее превосходство, обожал детей, хотел жить. Но то ли жажда цельности, то ли страстность натуры оказались преградой, переступить которую он не сумел.
Несколько дней не спал, болело сердце, мучил и ее и себя, требуя в сотый раз рассказать, как все было в подробностях, а потом заявил, что жить с ней больше не может: не могу, понимаешь, не могу, сердце разрывается ― будем разводиться.
Одновременно у него еще больше обострились отношения с соседями по садоводству. На общем собрании несколько раз обсуждалось его антиобщественное поведение, и тут жена его подает заявление с просьбой переписать участок, выданный ей, на имя мужа. Никто не знал, что происходило на самом деле; передача участка мужу или жене считалась чистой формальностью, требовалось лишь согласие общего собрания. А общее собрание, почувствовав свою силу, заартачилось. Потребовали: ты сначала извинись (за какой-то очередной инцидент), а потом мы решим, как с тобой быть. Другой, менее цельный человек, быть может, и извинился бы, понимая, что попал в зависимость от коллектива завистников. Он, уверенный в своей правоте, плюнул, послал их по-русски и демонстративно ушел с собрания. После его ухода некоторые опомнились (или испугались), раздались трезвые голоса: мол, нечего цепляться к человеку, вон сколько для садоводства сделал: и гравий, и песок возил, и помогал, когда только просили, а то, что человек с характером, норовом ― не причина, чтобы пустую формальность превращать в издевательство.
Однако через три дня его арестовали.
Все дальнейшее существует в нескольких версиях, взаимно исключающих (а может, и дополняющих) друг друга, смотря кому верить. Версия арестованного была следующей. Лечась от триппера, жена, очевидно, не долечилась и, как говорится, бытовым путем ― мочалкой или как-то еще передала заболевание своей семилетней дочке.
Версия жены была мрачней: ее муж заразил их общую дочь половым путем. Девочка долго не признавалась, а потом в присутствии следователя и учительницы рассказала, как и что папа с ней делал.
Он уверял, что это злобная, мелкая, женская месть, что такое может привидеться только в страшном сне: зачем ему, здоровому мужику, какие-то извращения; девочка до самого последнего момента производила впечатление счастливого, веселого ребенка, отнюдь не похожего на запуганное создание, принуждаемое к противоестественным отношениям. Медицинская экспертиза показала, что девственная плева ненарушена, однако анализ выявил заражение; а на словах, плача, девочка как заговоренная повторяла, что папа с ней делал э т о. Ее слова являлись единственным доказательством; защита строилась на многих пунктах чисто фактических противоречий. Отец с дочерью к моменту ее заражения не виделись более месяца. В момент заражения или неделю спустя анализы обвиняемого были отрицательные, анализы матери ― положительные. И т. д. и т. п. Но семилетняя девочка, то ли подзуживаемая матерью, то ли имея в виду нечто другое, говорила то, что говорила. И это решило исход дела ― ее отца признали виновным и дали четыре года.
Я верил ему, потому что он мне нравился, потому что мне нравилась вся его семья; потому что в моих глазах он был куда более нормальным, нежели остальное окружение; потому что мне хотелось верить в чудо здоровой естественной жизни, должна же она быть хоть где-то! Ну, а верить обиженной, затравленной, доведенной до предела женщине последнее дело.
А логика матери? Пусть даже случилось самое ужасное, отец оказался извращенцем, растлил, заразил дочь. Как вести себя в этой ситуации? Наказать отца, бывшего мужа? Конечно, месть сладостна, но что дороже? Одно дело ― что-то с дочерью случилось, но время лечит, особенно если не акцентировать внимание, другое ― заставлять ее десятки раз при чужих людях повторять и повторять ужасное о себе и своем отце. В первом случае есть шанс сохранить душевное здоровье, во втором, если выбирать месть, такого шанса почти не оставалось. Женщина, мать, выбрала последнее ― ее можно было понять, труднее одобрить. Мальчик, старший сын, переехал от матери к бабке.
Далее события стали развиваться с той головокружительной быстротой, с которой рок торопится доделать начатое, если попавшие под его палящее дыхание упорствуют, продолжая край пропасти считать якобы случайно оказавшейся на дороге ямой. Пока муж сидел, жена, с чисто женским непониманием текучести времени и его резонов, решила продать дачу, чтоб тому было еще больнее. Формально дом принадлежал ей, хотя все до последнего гвоздя было, конечно, сделано его руками. А, зная его характер, то, что дом, участок являлись его детищем, продажа без его ведома дачи была порочным следствием упорства и обиды, которая никогда не доводит до добра. Поэтому никто из соседей, знавших всю подноготную, купить дом с участком даже по дешевке не захотел. Она стала привозить посторонних: те приезжали, смотрели, любовались, цокали языком ― недостроенный дом был замком для миллионера, а отдавался за гроши: цену с каждой неделей она все снижала и снижала. Наконец нашлись завидущие губошлепы, решившие за бесценок приобрести чужое. При первом же посещении им намекнули: не делайте этого, тут семейная драма, жена мстит мужу, продавая дом дешевле, чем стоит один материал; муж ― парень крутой, через пару лет выйдет из тюрьмы, он вам этого не простит. Вы покупаете пиджачок с кровью, по сути ― краденое, чужое, его продает вам тот, кто по совести не имеет на это права, ― одумайтесь, ваш поступок вам еще аукнется. Они не послушались, жадность слепа, как и злоба, ― их уговорили недоброжелатели нашего героя. Хотели отделаться от него раз и навсегда, надеялись, что тюрьма научит его уму-разуму, шелковый оттуда выйдет, попомнит еще, как здесь куражился.
Вышло по-другому. Его освободили через два года по амнистии. Человека было не узнать. Был веселый, молодой, сильный парень, стал угрюмый раненый зверь. «Что будешь делать?» ― «Отдадут дом, мстить не буду. Каждый и так получит свое. Пусть вернут то, что мне принадлежит». ― «Брось, у тебя руки золотые. Что ты тут нагородил на шести сотках, возьми участок побольше, сделаешь дом еще лучше». ― «В другом месте не хочу. Хочу мое, мою землю, мой дом, хочу вернуть свою жизнь». Уговоры даже тех, кто не оставлял его семью, пока он сидел, не помогли. Первой сгорела дача его главного врага, председателя правления; в последний момент в дымящейся одежде он вывалился из окна, так как двери оказались подпертыми снаружи чурками.
Спустя дня два, ночью, по округе проехала банда рокеров с фонарями и факелами в руках: они забросали стеклянными банками с дерьмом все окна в домах, где обитали его недоброжелатели, ― перебили стекла, собаку, бросившуюся защищать хозяйство, пристрелили из охотничьего ружья.
На следующей неделе запылала еще одна дача ― его соседки, которой он сам помогал строить: многие считали, что это сделали для отвода глаз. Мол, чтобы сказать, что это месть другой стороны, а на самом деле ― дураку ясно: поджог по договоренности. Дом был застрахован, его хозяйке, видно, была обещана помощь впоследствии.
Еще через пару дней в городе, у машины нового хозяина дачи нашего героя оказались перерезаны тормозные шланги, и тот чудом избежал катастрофы. А на дачных участках мотоциклисты появлялись почти каждую ночь: с ревом неслись сквозь кусты и грядки, орали, будили всю округу.
Все происходило по плану, им ― молокососам из соседней деревни ― сказали, кого поджигать, кого оберегать. Казалось, все рассчитано до сантиметра: на следующем этапе добровольные помощники должны были напичкать минами участки его врагов, если не поможет, вместо банок с дерьмом в окна полетят гранаты. Милицейское начальство появилось всего раз ― повертело, покачало головами и отчалило. Видно, вопрос алиби здесь тоже был продуман.
Спустя две недели, как последнее предупреждение, сгорел его собственный дом со всеми постройками ― садовые участки под Токсово напоминали сгоревшую деревню из «Иванова детства»: обугленные фундаменты и закопченые горла печных труб. А еще через пару дней его бывшую жену нашли повесившейся в ванной. Голой, вымытой, почему-то с крестиком на шее, не оставившей ни записки, ничего. Дверь ванной оказалась запертой на задвижку изнутри и ее пришлось взламывать.
Все остальное неинтересно. Испуганное правление садоводства, дружно собравшись, заставило нового хозяина сгоревшего участка согласиться на продажу его старому владельцу по цене земли. Прошло несколько лет, и на месте сгоревшего дома поднялся еще более роскошный ― опять с башнями, галереями, перилами, переходами, рвами, земляными валами, парниками, конюшней с лошадьми и козами и прочее, прочее, прочее. Сын и дочь опять жили с отцом, руки остались золотыми, терпение и трудолюбие отменные, воображение ― редкостное; но чудо не состоялось, никогда не появляясь дважды в одном и том же месте. Фатум улыбнулся ― простер длани, но не стоит зевать, второй дубль для счастья не предусмотрен.
…На даче тестя он бывал все реже и реже.
Насколько он себя помнил, у него всегда имелась склонность к достаточно грубой поляризации жизни, к определению ее верха и низа, как подлинного и фальшивого. И, как следствие, почти манихейская расправа с тем чудным, просторечиво будничным и неуловимым, что именуется обыденной жизнью и что с ужасающим постоянством выпадало у него в мутный осадок, который не собрать, не соскрести, не потрогать.
За исключением писания и того, что шло ему (писанию) в рост, любой промежуток хотелось сжать до минимума. Здесь, как в обледенелом тамбуре качающегося вагона, почти всегда было холодно, неуютно, одиноко, страшно ― промежуток казался пустой тратой времени, потому что живое присутствие ощущалось, лишь когда он писал, а только останавливался, как наступала, нарастала волна дребезжащей пустоты, никчемного и ненужного времяпровождения. Другие об этом могли и не догадываться, это их не касалось. Но сам-то он знал этот ужас одышки, невыносимого для прокуренных легких подъема, и, будь его воля, вычеркнул бы все эти промежутки, как ненужные подробности из рукописи. Но в том-то и дело, что ни корректура, ни правка не предусмотрены в небесной типографии, где каждый получает гранки, в которых нельзя изменить ни точки, ни запятой. Потому он писал, читал, говорил о том, что шло в дело. И использовал людей, которые почему-то тянулись к нему, заставляя их обсуждать то, что волновало именно его.
Хотя хищный интерес к другим диктовался, с одной стороны, исследовательским инстинктом ― было приятно потихоньку, осторожно, как расправляют лепестки малость увядшей розы, раскрывать чужую натуру. С другой стороны ― и, увы, увы, это почти что закон, ― друзья одновременно являлись и читателями, и собеседниками, необходимыми для того, чтобы заполнить вакуум жизни и играть самые разнообразные роли — хора, зала, рампы, создающей полный глубоких и зыбких теней контекст вокруг автора-демиурга.
Казалось бы, описанный выше человек должен вызывать неприязнь, раздражение, отчуждение ― ан нет, его любили, он имел репутацию радушного, общительного человека, легко завоевывающего симпатии; а то непостижимое доверие, что оказывали ему случайные собеседники, так часто приводило к исповеди и интимной откровенности, что он сам иногда (не придавая, правда, этому большого значения) полагал, что заблуждается на свой счет. Да, он умел слушать, раскачивая невидимый маятник разговора в такт, будто настраивал себя на волну собеседника, после чего порой следовал девятый вал саморазоблачения, припадок откровенности. Но стоит ли наговаривать на себя, все сводя к профессиональному интересу, который на самом деле появлялся, скорее всего, лишь потом, факультативно? Хотя он и испытывал наслаждение, если удавалось управлять чужой душой, но при этом, очевидно, что-то недопонимал в себе, ибо на него не обижались, а если и обижались, то легко прощали, видя, возможно, в нем ту меру бескорыстия, которого он сам в себе не замечал. Или не придавал значения. Или стеснялся.
Его всегда тянуло к каким-то демоническим мотивациям ― не поведению, которое было обычным, но к странному способу толкования причин и следствий. Да, люди льнут к тем, кто знает о них больше, чем они, испытывая священный трепет и надежду: вдруг толкование, объяснение имеет импульс чудесного исцеления, претворении, искупления. Раз кто-то растолковал, раскрыл все тайные пружины и при этом не осудил (хотя отсутствие осуждения вполне можно объяснить душевной ленью, если не просто охотничьим инстинктом, который противоположен суду по своей игровой природе), значит, этот кто-то обладает магической тайной властью. Нет, он не ошибался относительно себя ― на поверхности, открытой для обозрения, сновали обыкновенные, вполне человеческие желания и потребности, но в густеющей, как переваренная каша, глубине таился страх. Не будет ли его проступок наказан лишением дара — и боялся он только этого.
Распад жизни начался в середине восьмидесятых. Он написал огромный роман о литературной богеме, где в закамуфлированном виде вывел несколько десятков, если не сотен (точно не подсчитывал) своих литературных знакомых; благо судьба свела его с литераторами самых разных поколений и ориентаций, а терпимость и холодность, прикрытая добродушием, не возводили излишних преград. Основной прием, отработанный еще ранее, заключался в том, чтобы живого человека разложить на литературные составляющие ― биографический факт подавался почти без изменений, но организовывался литературным сюжетом (вместо лимфы и крови в образе пульсировала история литературы). В результате живой человек оказывался замкнутым в клетку окончательных выводов и приговоров и от этого терял свободу, помещенный в испанский сапожок условной литературной формы.
Он был смущен еще во время процедуры письма, вдохновенной, чудной, прелестной, как первое раздевание любимой женщины, но подернутой тонким слоем греха, кажется, не описанного даже Данте. Портреты оказывались весьма узнаваемыми, порой точными, описание внешне доброжелательное, но привкус нравственного преступления не оставлял его именно потому, что он вполне отдавал себе отчет в том, что делал. Перерезал артерии, вены, жилы, набивал внутренности литературными сюжетами, делая такое живое, хотя и постороннее существование ― чучелом, которое уже не могло меняться по своей воле.
Есть вещи, признаться в которых почти невозможно, зато перенесенные на бумагу они превращаются в скучные для читателя-филистера длинноты, обычно пропускаемые им мимо своего внимания, как привычная и давно надоевшая вывеска на доме напротив.
Это случалось и раньше. Только ему удавалось описать то, что его по-настоящему волновало, да еще так, чтобы описание совпало, соединилось со своим двойником, как источник описания, прототип становился скучным, мертвым и неинтересным для него. Так он убил свое детство, самые драгоценные воспоминания, вложив их без всяких процентов и надежды на приз в какие-то мелькающие, будто телеграфные столбы, полустанки, города, миражи; так случалось и с людьми. Все становилось мертвым, едва описание удавалось. И постепенно он стал ощущать себя создателем мумий. Если не получалось убить и мумифицировать с первого раза, он возвращался опять, возвращался до тех пор, пока не выкачивал все соки, впитываемые литературными образами, которые в свою очередь навсегда замещали собой то, что еще вчера жило, дышало, плакало, надеялось. Литературный убийца ― забавное для непонимающих признание.
Но он долгое время почти не трогал своих близких, оберегая их от опасности исчезнуть, а теперь, поддавшийся соблазну, который оказался сильнее его, как бы выжег вокруг себя плодородную почву, окружил непроходимой полосой мертвой земли, вынужденный пастись на пятачке, который уже ничего не мог родить. Люди, окружавшие его, потускнели, обмякли, обветшали, опустели, точно покинутые гнезда, и если раньше он был уверен, что ценил их прежде всего как объекты исследований (ну, наговаривай, наговаривай на себе, думаешь это поможет?), то теперь понял, что именно он имел, что потерял. Дырявая посуда: лей не лей, дно будет сухим. О, я заплатил за это ― ты оставил меня.
Я не сразу понял, что произошло: воображение работало, сил казалось больше чем раньше, а жизнь тем временем уже вытекала из меня, как воздух их колеса при микроскопическом проколе. Жизнь спускала незаметно, оседая на каждой яме. Хотя это было незаметно не только ему, но долгое время и другим.
Она стала одним из последних приобретений, одной из тех, кто попал в равнодушно (можно прочесть и — добродушно) расставленные сети, ― мимолетная любовница, не понравившаяся как женщина при всей ее откровенно южной, душной красоте. Но зато какой задушевный собеседник, какая конфидентка, настоящий интимный друг.
И ее протестующий возглас был единственным диссонансом в хоре равнодушных похвал: «Эта книга плоха, такое нельзя писать, она убьет тебя», ― сказав ему то, что он если и не знал, то подозревал, но подозревал так же округло и нестрашно, как мы подозреваем непреложность факта своей будущей смерти. Велика печаль ― когда-нибудь. Страшно только тогда, когда не вовремя, как сказал один умный человек, ― а ему было все равно, он был готов, он уже написал все, что мог, и был согласен исчезнуть, раствориться за любым поворотом необязательных обстоятельств, как нетрудно проснуться в пиковой фазе сна, создающей иллюзию конца ночи.
Она была красавица еврейка, походила на его мать, ее слезы вызывали в нем восторг и озноб охотника. Она погубила, подорвала их отношения (как ненароком пускают петлю на новом чулке), сама не зная, что делает (да и он поначалу не знал), попросив буквально сразу, через месяц после знакомства, никогда не описывать ее. Сказала, конечно, ты можешь, но если опишешь ― это будет эпитафия на моем могильном камне. С ней случалась эта неуместная пафосность, симбиоз провинциального происхождения и подавленной пылкости натуры. Но его нельзя было задеть сильнее, чем запретить описывать что-либо. Это то же самое, что показать собаке кусок вырезки, протянуть и сказать: «Фу!» Пусть он никогда и не собирался описывать именно ее, но знать, что запрет существует, что у воображения есть предел в виде невозможности воплотиться, невыносимо для того, кто не умеет думать, чувствовать, ощущать полутона и оттенки, не пиша.
Я не простил тебе этого, ты знаешь? Это единственное, что нельзя со мной делать. Я не человек, я ― писатель. Не мужчина, не друг, а кропотливый исследователь, посторонний наблюдатель, собиратель коллекций.
Он помнил пьяный разговор в машине с одним добрым приятелем, богачом, умницей и аристократом, которого он познакомил со своей прелестной приятельницей. Они возвращались из гостей, немного перебравшие для того, чтобы контролировать слова, и тот сказал: «Удивительное дело ― не только очаровательна, но и умна. Как она формулирует, ее папа не скульптор?» ― «Слишком, ― мрачно отозвался он с заднего сиденья, думая о другом, — слишком умна». — «Слишком не бывает, чаще обратное». ― «Для женщины ― да». «Не врите, вы же не ходок, вам не могут не нравиться тонкие, умные женщины. Или вам нужна ― баба?» ― «Мне нужна женщина, чтобы ее выебать, унизить и описать».
Она не дала себя описать ― и он возненавидел ее. Возненавидел ― неточное слово. Он просто унижал ее всухую, понимая и не понимая зачем, но зато все понимала она. Воплощенное понимание. Оно струилось из ее лучистых глаз, а когда говорила, задыхаясь, волнуясь и вдруг ― чеканная формула для почти неуловимого понятия, то всегда возникала пауза, которую тут же надо было заполнить чем-нибудь попроще: заземлить, приглушить, как хлопают по вздувшейся от ветра юбке. Но как она сладостно страдала! Как великолепно мучилась! Как тянулась к людям, надеясь отыскать облегчение, но никогда не находила его, так, временная анестезия. Не находила и не найдет. В миру, в монастыре, на небесах ― ты будешь страдать всегда. Потому что ты ― прорва. Порченая. И никуда не денешься от себя, убеги ты хоть на край света ― ты рождена для несчастья, как другие для того, чтобы избегать его, укорачиваться, увиливать, в то время как ты ― громоотвод, отстойник для греха. Я и сейчас вижу тебя, ты никуда не скроешься от моего взгляда ― ни в норе, ни в келье, ни в бардаке. Твоя судьба.
Она была одарена всем и ничем. Трудно представить, чего она не могла ― прельщать, покорять, уводить мужей из стойла, фотографировать, петь, рисовать, рассуждать ― все она умела лучше других. Но ― пока занималась этим мимоходом, с небрежностью скороговорки и рассеянностью любителя, а только начинала стараться ― все разваливалось. И мучилась от бесценно-бесцельной, бессмысленной жизни, мечтая о якоре, заземлении, иногда впадая в самообман: «Я хочу мужа, простого человека с большими руками, мужчину, почти любого, чтобы готовить ему борщ, хлопотать, накрывать на стол, а потом сидеть, подперев голову ладонью, и смотреть, как он ест». Ерунда, любой тебе не подходил. Тебе нужен был такой, какого нет, который бы понял тебя, простил, не осудил ― и сделал другой. Ты хотела избавиться от своей кармы, своей судьбы. Врешь, не уйдешь. Никуда, милочка, не денешься.
Она желала хоть какого-нибудь дела, за которым можно было переждать не бурю и шторм, а заунывный, разрывающий душу штиль, мерное следование дней. Он сказал, пиши прозу. Исповедь, монолог, дневник. Выговори себя. Начни так: «Я подмывалась для него каждый раз, когда шла в их дом». Она любила очередного, не принадлежащего ей человека, жила в чужом доме на положении служанки, приятельницы жены с глазами провинциальной ведьмы, спала на хрестоматийном сундучке, а за стеной вершилась мучительно обстоятельная супружеская любовь.
О, я держу себя в руках. Я не пишу о тебе ни слова из того рокового набора, который как неумелая контрапунктура, заставил бы скорчиться твою душу. А как будет дальше, не знаю. Ничего обещать не могу. Может, и напишу.
Но у нее не получилась проза, как не получалось ничего. В ней был дефект, порок, ущербность ― маленькая дырочка, в которую все вытекало. На расстоянии двух шагов она была очаровательна, каждый второй мужчина терял голову, желал ее, но шаг вперед ― и мужчина хмурился, сам не понимая, что происходит: какой-то холод, пустота, ощущение бездны, почти животный страх. Не для меня, думал он, вздыхая. Слишком хороша. И уходил. Она полагала, что опять не повезло, надо быть тише, не волноваться, меньше говорить, больше слушать. А была не способна дать счастье даже последнему забулдыге. Дурочки, дурнушки выходят замуж и становятся любимыми, потому что в них есть женское умение и способность подстилки, отречения, отказа от себя во имя другого. А кому нужна статуэтка, прекрасная, точеная, уникальная, да еще рассуждающая как Спиноза, ― ни в постель не уложить, ни белье не постирать. Обманка, внешне созданная для любви, по существу ― чтобы мучить себя и других. Емеля на печи. Ласковый, лучезарный и порочный ангел с дыркой между ног. Не женщина ― одно расстройство.
Он сошелся с ней, потому что перестало писаться. Поначалу как-то незаметно, не очень пугая, ибо и раньше случались эти задыхания в комбинации с приступами бессилия и неуверенности в себе, забывавшиеся, однако, едва начиналась первая поклевка. Но тут это как-то подзатянулось.
При желании отыскивалось множество объективных отговорок. Изменилось время, потребовав передышки, промежутка; шла волна с грязно-перламутровой пеной на гребне, стоило ли мараться, пытаясь плыть вровень с любителями массовых заплывов. Да и потом, сколько можно выхолащивать себя беспрерывно? Отдохнет моя матка, заживут швы, затянутся шрамы и разрывы, исподволь появится лужица на глубине высохшего колодца, а там… Чисто профессионально он понимал, что его стиль тоже, кажется, выдохся, израсходовал самую важную и плодотворную фазу первого выброса ― надо писать иначе, по-другому, нельзя повторять… Но он и не повторялся, записывая то, что нашептывал невидимый суфлер, но в том-то и дело, что теперь сам суфлер исчез, его будка стояла заколоченной, замолк, как сверчок за печкой, который еще только что, кажется, свиристел, шуршал, стрекотал и вдруг ― молчок. Мисюсь, ты где? За что ты меня покинул?
Но даже зная, за что ― с этим невозможно смириться, как не может успокоиться вампир, которому нужен свежак, горловая вена, дабы насытиться и перелить кровь в новое, сверкающее, неопределенное, непредставимое и бесформенное только поначалу, ибо в следующий миг оно уже забулькает, запульсирует, задвигается. И встанет, сука, как Лазарь из гроба.
Какое мне дело до литературы, профессионализма, натужных оваций или их отсутствия, если я не вижу жизни иначе чем в зеркале, которым является письменная речь.
Он не метался, а делал что мог. Жил как все, хотя, скептически морщась, все больше и больше стал допускать ошибок, разрешая появляться в своей жизни тому, что раньше казалось нелепым, как пустая трата времени. Разрешал себе ненужные интрижки, портил женщинам кровь, жалел жену, растил дочь, ссорился с друзьями, разочаровывался в том, что называется жизнью, хотя как можно назвать живым полуфабрикат, пригодный лишь для дальнейшей переработки, а огонь в печке потух.
Потому почти ничего не писал, кроме безделиц-статей, очерков, прочей ерунды ― отработанного пара своего предыдущего агрегатного состояния. Продать душу ради молодости — что может быть банальней предсмертных мечтаний старца? А ради того, что зовется неловким и неточным словом вдохновение, он продал все давным-давно, вот только знать бы — кому? Полагал — Богу, а если нет? Какому-то эмиссару, заезжему посланцу, столь похожему на того единственного героя, которого он с нешуточной настойчивостью все проявлял и проявлял из негатива пульсирующей тьмы. Для невнимательного и равнодушного взгляда ― эксцентричный, самовлюбленный, имморальный тип. При рассмотрении более пристальном появлялись тени, объем; почему имморальный ― отнюдь, ибо он, этот герой, обитался в тонком прозрачном мире по обе стороны не добра и зла (пусть упрощают те, кому от этого легче), а греха. Которой, одновременно, страшил и притягивал. Не грешить, нет, а рассматривать. И наслаждение было не в том, чтобы творить грех, ибо мучился от этого, как и все, а описывать и исследовать его. Отнюдь не выдуманный персонаж, а фокус (чуть-чуть подредактируем певца «незнакомки») нашего не железного, а железобетонного века, окуляр, сквозь который единственно и можно подглядеть реальность. Без оправдания и утверждения ― лишь для понимания.
Если очень нужно, он мог описать тысячу историй, занимательных происшествий, сотни людей с трещинкой в душе, но без той ослепительной вспышки света, которая, одновременно, преображает все вокруг и сладостно уязвляет душу. Но почему обязательно с трещинкой, а не цельных, — потому что эта пропасть, расщелина и есть единственная реальность. Жизнь требует одного, литература (Боже мой, какая литература, ну, хорошо, пусть будет литература) ― другого. Жизнь, слава Богу, консервативна, в ней, как в бане, все бесстыдно голы и беззащитны и хочется тепла. И, как в семье, ― любви, понимания и нормальных отношений. В литературе сквозь норму не увидеть ничего. Добропорядочная норма ― слепа, как крот на свету. И не замечает траченых молью одеяний прошлого века, в которые добрая литература переодевает своих героев, заполняя пустоты ни от чего не спасающим слэнгом и прочей междуоконной ватой.
В то время как настоящий герой ― волшебный окуляр (даже если он кажется ― или является ― мерзким, вызывающим тошноту типом). Они, эти герои, не появляются просто так, их призывает время. И без них нельзя, как в тумане без противотуманных фар.
Твой туман, твое время, твоя реальность. Что ты хочешь сказать посредством этих людей? Как жить, если ноги между жизнью и литературой разъезжаются все шире, дублируя, повторяя знакомую трещинку в душе. Всех ли ты оставил или меня наказал за грехи?
Я не отчаиваюсь, хоть убей. Я готов красочно описать конец, мучительную агонию, могу умереть, исчезнуть, раствориться, ― только бы жить и писать, зная, как диафрагма изогнется дугой и кто-то скажет: «Дальше, дальше, диктуй дальше…»
В одну из промозглых осенних ночей, промаявшись от бессонницы до тусклого рассвета, я вдруг ― то ли бес попутал, то ли действительно услышал зов ― вытащил из нижнего ящика стола старую, семь лет назад начатую прозу и, как сумасшедший, не видя, не слыша ничего в лихорадке ночного возбуждения, стал читать, что-то исправляя, дописывая, перекраивая…
И так как рукопись названия не имела, то просто пометил сверху:
Господи, как иногда хочется самого простого — жизни, текущей, словно водопроводная вода (хочется пить — пей), и искусства, осененного ересью простоты, без всяких выкрутасов и кульбитов, цитат и аллюзий, а, наоборот, с психологией, короткими отступлениями, туго закрученной пружиной сюжета и героями, попадающими в обстоятельства не худшие, нежели автор желал бы для самого себя. Ослепительно летнее утро после полубессонной ночи. Теловерчение в постели, вызванное болью, которая двойным нельсоном периодически стискивает потрепанный кишечник. Море крапивы в сочетании с сорочинской ярмаркой смородинных кустов, светлые пятна солнца сквозь густые кроны, тлеющий запах северного моря в бывшей провинции России. И странное стечение обстоятельств — дарованный судьбой промежуток, в результате чего на табурете перед парусиновым креслом (в него с полустоном опустился, хотел было сказать, писатель, но теперь этот некто больше напоминает усталую комбинацию издателя и редактора) появляется папка черновика романа из прошлого времени. Легкий ветерок сыграл хроматическую гамму на траве, кустах, свисающих ветках, пока не изнемог в объятиях осины, что стоит у дороги. Ни звука о творчестве и муках слова — перед нами не писательство, а акт садомазохизма в виде чтения автором разнокалиберных исписанных листков (вперемешку со слабыми мыслями об оставленной в постели монографии «Археология клонирования: от амфибии до Эйнштейна», питьем чая, мечтой о грелке под правый бок и преступной сигарете, которую нельзя). Роман явно устарел и опоздал, хотя задумывался как остроумная провокация под аккомпанемент разных аккордов, наложенных один на другой так, чтобы вместе вызвать всегда неуловимое и исчезающее чувство времени. Центральный фрагмент — описание еще вчера казавшегося невероятным будущего (нет, начинает парить, здесь невозможно; листы, папка, ручка, чашка перекочевывают на стол веранды, тесня неубранную после завтрака посуду). Будущего, наступившего, скажем, после военного переворота или, еще лучше, народного волнения, уменьшенной копии бесшабашного русского бунта, сдунувшего прогнивший режим и заменившего его хунтой (вариант номер первый) или альянсом гнилых либералов и демократов при вялой поддержке прогрессивных военных (вариант номер второй). Сюжет почти нереальный, непредставимый в момент зарождения замысла, в то время как теперь это уже не общее, а пустое место. Но между черновиком и романом — дьявольская разница, а вдруг? Все если не банально, то достаточно буднично, хотя и с новомодными выкрутасами. Автор начинает с расстановки опознавательных знаков, обустраивает интерьер, обозначает перспективу; и под сурдинку вводит героя, более чем узнаваемого, чтобы стереть, наконец, эту навязшую в зубах разницу между искусством и жизнью. Герою лет тридцать семь, это несколько подопустившийся Дон Жуан в обрамлении хоровода прекрасных дам, как шашлык, насаженных им в свое время на шампур (сомнительное сравнение). Однако это все в прошлом, а теперь он (некогда атлетического телосложения) настолько потерял былую форму, что сам рад забыться от изматывающего зуда в мошонке во время приступов простаты. Хотя во всем остальном он, что называется, добрый малый и даже гражданин, то есть отнюдь не индивидуалист из породы внутренних эмигрантов, а, напротив, чуть ли не патриот (или, по меньше мере, из сочувствующих). А раз так, то и время должно быть такое, чтобы герою захотелось «попробовать скрипучий поворот руля», то есть ощутить свое единение с историей, которая падка на повторения, в том числе и дословные: из-за волнений в городе все ключевые точки, начиная с почты, телеграфа, банков и парламента, находятся под усиленной охраной. Однако во всем остальном жизнь пока еще течет по-старому, и герой тропически жарким июльским утром отправляется в сторону бывшего черного книжного рынка, что ютился за кольцом 12-го маршрута автобуса, на заброшенных железнодорожных путях, дабы в новое время уступить место невольничьему базару, куда, свернув с автострады и минуя городские заставы, рулит на своей лохматке, раздрызганном донельзя белом «мерседесе» старой модели, наш герой, якобы для того, чтобы прикупить необходимых ему двух женщин: одну — для уборки в доме, вторую — массажистку (а на самом деле — на тайное свидание с важным для его интересов посредником). Возможно, куда разумнее было бы, не педалируя недостатки нашего протагониста (в данном случае не имеющие большого значения), сразу обратиться к описанию тех сторон его натуры, которые представляют для нас непосредственный интерес. То есть рассказать о его связях с вполне умеренной, но подпольной организацией, о том, что на пресловутом рынке у него назначена явка, тайное свидание, весьма ловко закамуфлированное сеансом сексотерапии и толпой изнывающих от похоти мизантропов и предпринимателей новой формации. Однако, скорее всего, подобная интерлюдия была бы, что называется, слишком в лоб, не соответствовала бы постепенно проявляющейся системе стилистически опознаваемых знаков, что позволяет самое основное говорить как бы между прочим, исподволь, хищно скрывая основной замысел. Но, впрочем, пора, давно пора перевести стрелку с описания на изображение. Итак… …В белый роскошный полдень, когда все плавилось от жары, было наслаждением стоять в ненадежной, кружевной тени трех полузасохших берез, отдавая свое тело на добровольное растерзание пеклу, и ожидать, когда привезут новых невольниц. Маленькое лакомое удовольствие состояло в комбинации двух чувств: томления изможденного пылом и жаром тела (мающегося от пота, влажной одежды, чересполосицы пыли и тропического солнца) и мстительной радости от унижения, которому подвергались дефилирующие по затоптанной просеке (дальняя часть просцениума — чахлый перелесок) будущие и настоящие стервы в изорванных одеяниях. В воздухе плыла симфония из криков, свиста бичей надсмотрщиков и звона кандалов, которыми отмечали отъявленных смутьянов. Пот струйками сбегал по телу, образуя влажную трясину в густой поросли на груди и меняющую очертания лужицу над поясницей. О, эта заплывшая жирком талия, тягостная сухость плеч и суставов — как бы все расплавилось, растаяло, а затем напряглось под длинными, сильными пальцами ловкой массажистки, которую совсем нетрудно выловить из живописной толпы измученных, обольстительных, уродливых, стройных и кривобоких созданий, вздохнувших от облегчения, представься им случай попасть к такому, как он, хозяину. Куда там! Не только на двух, на одну рабыню монет не хватит, особенно если та со специальностью или недурна собой. Мельком, словно в нерешительности, он окинул взглядом стоящих рядом и, отвернувшись от красочного зрелища, побрел вниз по отлогому склону холма, туда, где в тени развесистого дуба он оставил свой «мерседес». И для посторонних совершенно случайно, в меланхолической задумчивости налетел на стоящего поперек едва заметной в траве тропинки толстяка в полосатой рубашке с закатанными бубликами рукавами. Толстяк, возмущенно фыркнув, отскочил, оставив на песке продолговатый голубой конверт, тут же засунутый нашим знакомым в брючный карман. Шипящий обмен вежливо-возмущенными извинениями, и инцидент исчерпан. Через пять минут, закрыв все окна и включив кондиционер вместо плохо справлявшегося с тяжелым густым воздухом вентилятора, он катил по сизо-фиолетовой от желтого марева автостраде, постепенно приходя в себя от слишком поспешной рокировки. Ну и жарища! Управляя одной рукой, он склонился вбок, высвобождая мятый конверт, перевернул его, расцарапал указательным и безымянным пальцами, лишая невинности чистую линию края. Затем вытащил из рыхлого разрыва листок папиросной бумаги, пробежал глазами, чтобы еще через несколько мгновений устроить быстрое аутодафе в недрах забитой окурками пепельницы. Вовремя. Снизив скорость, он перешел на более низкую передачу и выключил приемник, наполнявший грохотом электроинструментов не только салон машины, но, очевидно, и порядочную окрестность вокруг. Если ему не изменяет память, за этим или следующим поворотом — пропускной пункт. Еще издали, с расстояния метров в триста — четыреста, он разглядел рогатки, мотки колючей проволоки, таможенный шлагбаум и плавящихся от жары рослых парней в черной форме коммандос, которые сменили на этом, да и, наверное, на всех остальных въездах в город голубых полицейских. Сердце забилось чаще, на миг показалось, что в руках и ногах затвердела суставная жидкость; но он быстро овладел собой и на всякий случай подправил прикрепленный в правом верхнем углу ветрового стекла пропуск с фотокарточкой. И, перейдя на нейтраль, плавно въехал во взъерошенную толпу десантников с частоколом автоматов поверх голов и касок. Кто-то уже бесцеремонно распахивал двери слева и справа, тащил ключ из замка зажигания, открывал багажник, кому-то он совал свои документы; ему то ли помогали, то ли вытаскивали из кабины на разъезжающуюся под ногами сиреневую ленту брусчатки. И он сквозь зубы что-то отвечал, подавляя закипевшее в груди чувство ярости, которое настолько моментально вытеснило остатки страха, что он с трудом сдерживался, дабы не наломать дров, двинув хорошенько по какой-нибудь наглой физиономии ядреного парня в черной рубашке с засученными рукавами. Ах, как хотелось спросить: где вы все, молодые нахалы, были пять лет назад, когда всем здесь заправляли коммунисты, а потом демократы? Не быстро ли вы очухались? Но — было не до вопросов. С грохотом захлопнулась сзади крышка багажника, передавая дрожь возмущенного металла всему корпусу машины. — Нельзя ли поосторожней, приятель? — резко развернувшись, прорычал он, нарочито обогащая свой голос угрожающими обертонами. — Ладно, мастер, проваливай, — примирительно хлопнул его по плечу красномордый сержант с характерным для рыжих оттенком выцветших бровей и ресниц. В одной руке у него была зажата банка шведского пива с вмятиной на боку, а вторая придерживала за дуло автоматический карабин. Документы лежали на сиденье. — Давай, мастер, кати отсюда, у тебя все в порядке. — В голосе этого альбиноса усталость сочеталась с добродушием, а закатанные по локоть рукава черной рубашки не добавляли ему ни воинственности, ни нахальства. Не глядя по сторонам, он рванул дверцу, бросил бумажник с документами на соседнее сиденье, втиснулся в машину, которая за пять минут раскалилась, как духовка, и, нарочито перегазовывая, чтобы двигатель ревел и рычал, выруливая, покатил, аккуратно объезжая гранитные надолбы и свернутые из колючей проволоки заграждения, пока не выехал за шлагбаум, награжденный напоследок шлепком по капоту одним из группы хохочущих молокососов, шлепком, в котором ощущалось скорее снисходительное поощрение, вроде того, с каким эта же ладонь с высокомерно грязными ногтями припечатывала задницу случайно попавшейся на дороге девчонки. «Вот скоты», — прошипел он, скрипя зубами, и, давя что есть сил на акселератор, помчался навстречу уже виднеющемуся городу. Он негодовал на себя за мгновенный приступ страха. Чего ему бояться? Даже если в этой суматохе кто-то поставит под сомнение его репутацию и благонадежность (о его встрече и новых связях вряд ли кому известно), он все-таки может пока положиться на своих приятелей и близких знакомых, обосновавшихся, пожалуй, на всех этажах новой власти. Будь она проклята! И он, набрав полный рот густой липкой слюны, плюнул, тотчас с огорчением заметив, что ветер размазал плевок по стеклу задней дверцы. Поделом. В городе его останавливали трижды: на площади Льва Толстого, у Троицкого моста и на углу Вознесенского проспекта и Садовой, правда, здесь уже стояли жандармы, усиленные национальной гвардией. И если нельзя было определить их манеры как предупредительную вежливость, по крайней мере, они обходились без простонародного русского хамства. Садовая со стороны Никольского собора была перегорожена танками, почти на каждом углу стояли лицом к стене люди с поднятыми за голову руками, их обыскивали солдаты; а когда он попытался остановиться у Техноложки, чтобы позвонить из таксофона, стоящий рядом жандарм так яростно завертел жезлом, что он, как ошпаренный, рванулся дальше. Домой он решил не ехать — слишком далеко, да и ему должны были позвонить в течение дня на квартиру Долли, там и отдохнет. Дверь открыла одна из девочек Долли, с умыслом подбиравшей себе в дом только чистюль-дурнушек; госпожи дома не было; Николай Кузьмич принимал на черной лестнице доставленную провизию. Он прослушал два вполне невинных мэседжа с автоответчика в своей комнате и уже через десять минут наслаждался ванной и душем с перемежающейся на байронический манер горячей и холодной водой. А еще через полчаса, держа на прицеле часы и телефон с характерной трещиной под диском, листал, чтобы скоротать время до ожидаемого звонка, затрепанную книжечку с детективом из старого времени. Поначалу вчитаться не удавалось — сказывалось напряжение дня и крадущееся на пуантах будущее, да и слишком велика была разница: прошлое казалось таким же непредставимым теперь, при полном разгуле демократии, как и настоящее при взгляде из прошлого. Первые страницы он пролистал бегло, затем не столько увлекся, сколько поддался незамысловатому ходу событий в ловко закрученном сюжете. Образ главного героя проявлялся постепенно, далеко не сразу становилось понятно, что он, как это говорилось когда-то, русскоязычный писатель, живущий в новостройках на окраине Петербурга, а печатающийся в основном в Париже. Действие начиналось с подчеркнуто будничного описания утра, гигиенических процедур и прочих незначительных деталей, которые своей банальностью только оттеняли и подготавливали неминуемость грядущей катастрофы. Интересным приемом представлялось описание анализа его слуховых ощущений, стереотипность которых как бы примиряла неподготовленного читателя с диссидентствующим чудаком. И своеобразным пульсирующим контрапунктом становилась звякающая связка ключей, что в самом начале прелюдии выуживалась писателем-диссидентом из брючного кармана, так как он решил в конце первой страницы спуститься перед завтраком за утренней газетой. Уже в дверях он слышит звук хлопнувшей внизу дверцы машины — раз, еще раз, — совершенно, конечно, не придавая этому значения, только чисто машинально отмечая, что машина, пожалуй, не «Жигули», не «Волга», не грузовик, а то ли разбитый вдрабадан «москвич», либо «рафик», «газик», а может быть, и автобус, да, похоже на автобус с широким сибирским носом, каким пользуются для перевозки гробов и унылых родственников покойника. В лифте он крутит на пальце пресловутую связку ключей, всунув указательный палец в кольцо, и безо всякой связи с предыдущим вяло реагирует на две пришедшие ему на ум идеи, в очередной раз, возможно, примериваясь к эмиграции. Русский писатель, оказавшись на чужбине и ошалев от языковой блокады, обдумывает два сюжета: о первой даме в королевстве, у которой клитор не на месте, а моча пахнет пивом — анекдотическая причина борьбы с алкоголизмом. И другой, связанный с невозможностью спорить в условиях русской диаспоры, ибо любой спор — начало ссоры. И он, этот демиург, сидя в полузнакомой компании, с трудом сдерживая себя, лишь отвечает: «О, да, да» либо «нет, нет, что вы, не думаю». Квинтэссенция ужаса для субъекта с монологическим складом ума. Но в этот момент ключи, сорвавшись, падают, двери, взвизгнув, уходят в пазы, и он, подцепив связку с мелко подрагивающего пола, выходит из лифта. Конец первой страницы. В некотором смысле детектив уже начался, автор эксплуатирует отработанный в большой литературе прием остранения, подаваемый в его незамысловатой истории как нечто само собой разумеющееся. Все опять сводится к ключу, но уже маленькому, висящему на отдельном кольце и теперь, как назло (а по сути, на благо сюжету и герою), застрявшему в замке почтового ящика, что вместе с остальными ящиками расположен в углу первой площадки подъезда. Чертыхаясь, он крутит его туда-сюда, пытаясь попасть бородкой в заклинивший дурной замок и ругая себя за то, что не дошли руки разобрать и посмотреть, что там (мог бы и на почту позвонить, сказать, что не в состоянии пользоваться почтовым ящиком из-за плохого замка). Ага, ключ неожиданно поворачивается с эротическим облегчением, он жестом Гаргантюа, проверяющего свой гульфик, сует руку за газетой, больше ничего нет, и в этот момент слышит, как хлопает дверь в парадном, разматывающимся клубкомвкатываются мужские голоса; загудели, приблизились. Дверь хлопает еще раз, явно большая компания, кажется, даже звякают бутылки, к кому это спозаранку, мелькает мысль, но ящик уже закрыт, и, зажимая в левой руке ключи и газету, наш писатель делает несколько шагов, чтобы спуститься к лифту, и в это мгновение видит милицейские френчи, фуражки, двое или трое, еще парочка в штатском. «Кажется, восьмой этаж?» — спрашивает, хрестоматийно прокашлявшись, странно высокий и чем-то знакомый голос. «Да, 37-я квартира». Лязгая челюстями, открывается вызванный лифт, и, пока его нутро прямо на глазах превращается в огромную и чуткую слуховую раковину, в кабину набивается человек семь или восемь, и лифт, унося наверх гудение голосов, уезжает. Здесь то, что нам ясно уже давно, для него, совершенно не подготовленного к подобному переплету, начинает проступать постепенно, своеобразной чередой волн, каждая из которых приносит новую песчинку понимания (хотя если глядеть со стороны, то даже по незаконченному узору смысл ясен: арест, дело привычное, допрыгался, доигрался с публикациями на Западе, вот за тобой и приехали). Сам же писатель, попавший в водоворот неприличной ситуации, в сомнамбулическом остолбенении делает на цыпочках несколько шагов, спускается с площадки первого этажа, еще толком не понимая зачем, и не то чтобы оглядывает, а как бы в параболическом зеркале видит бегло декорированные подмостки последних минут своей свободной жизни. Испещренная царапинами и надписями дверь лифта, напротив полуоткрытая решетка, по идее закрывающая ход на узкую лесенку в подвал, где темно, как у негра в жопе, и тускло в невысыхающей луже отсвечивает лампочка, висящая сбоку. И тут, то ли вспомнив какой-то кинофильм, то ли поддаваясь невнятной, но спасительной интуиции, он делает шаг вперед, толкает рукой, сжимающей ключи и газету, решетку, чтобы тотчас, почти по инерции, прикрыть ее за собой, а затем спускается одеревеневшими ногами по лесенке вниз. Автор не описывает ход мыслей своего героя, как бы подчеркивая, что тот не рассуждает, а действует автоматически, и, само собой разумеется, он пока и не думает никуда бежать и скрываться, а если и думает, то, очевидно, выйти в дверь нет никакой возможности, потому как там, около машин, как в таких случаях водится, одна-две «Волги» и ментовская «упаковка», сине-желтый ПМГ, несомненно, остались те, кто его почти наверняка знает в лицо и примет тут же в распростертые объятия. И, словно подтверждая сказанное, только он, наш писатель, спускает ногу с последней ступеньки, еще не успевая адаптироваться к темноте подвала, как его обостренный слух уже обогащен шаркающим шумом приближающихся шагов — голоса, взвизгивают Скрябиным входные двери, и буквально над головой податливая акустика подъезда начинает проявлять негативы бытовой оперы. «Завтрак, понимаешь, забыл в автобусе, жена с собой сунула», — начинает первую партию провинциальный баритон. «А понятые?» — начальственный басок. «Уже там». — «Все в лифт не поместимся», — голос из народа. «Королев, на всякий пожарный поднимись-ка ножками с Серегой, он молодой, вместо физзарядки будет». — «Что-то лифт долго тащится». — «Поехали». Топот ног над головой, натужное заполнение хором кабины лифта и затем ввинчивание ускользающих звуков штопором вверх, ровно на десять вздохов, которые перебиваются оглушительными ударами сердца, после чего, дав лифту одолеть примерно половину бесконечного пути, вытянув вперед руки и почему-то ощущая спину как мишень, наш писатель делает первый неверный шаг. Конечно, автор русского детектива, детектива всегда фиктивного, обязан взять напрокат у жанра видавший виды реквизит (в виде нарочито банальной арабески фабулы) да небогатую канву событий. И все для того, чтобы герой, с трудом выбравшись из очередного поворота сюжета, прикладывал вместо носового платка к своей вспотевшей душе лакмусовую бумажку ложного психологизма, представляя (вернее, даже не представляя, а зная почти наверняка, словно мельком переворачивая в памяти страничку, где остановился), что именно происходит сейчас наверху. Уже происходит, ибо первая порция посетителей проникла в квартиру, и жена (если она есть, но у писателя должны быть и жена, и даже ребенок, не желающий сам одеваться и капризничающий по поводу слишком узких колготок или чего-нибудь подобного оказывается перед выбором), итак, жена, первая принявшая гостей вместо подразумеваемой соседки либо рассеянного мужа, забывшего ключи и вспомнившего об этом только перед почтовым ящиком, оказывается поставленной перед необходимостью дать первую версию ответа на вопрос: где муж, гражданин такой-то, имярек, русскоязычный писатель, широко известный в узких кругах? В девяноста девяти из ста случаев жена, конечно, ответит правду, то есть испуганно залепечет, что муж внизу, спустился за газетой, а вы его не видели, и значит, сейчас, буквально сейчас, кто-то втроем-вчетвером побежит, не мешкая, вниз, кто-то поедет на лифте. Именно в такой момент автор русского детектива должен пуститься в отступления. Лирические, философские, психологические. Объяснить, наконец, как и что? Кто и зачем? Почему имярек, а не какой-нибудь его товарищ по литературному цеху? За что, в конце концов? Или дать краткую биографическую справку. Или лаконичное описание его мыслей в момент крайнего замешательства посредством каких-либо аналогий или ассоциаций. Скажем, без всякой видимой связи с предыдущим — история из детства одного знаменитого человека, который в подростковом возрасте сбегает ранней весной в Крым вместе с девочкой-погодком (закручивая с ней первую и навсегда памятную любовь). С ними еще одна пара. Всем, очевидно, лет по пятнадцати. Просторный пустынный Крым начала 50-х, брошенные татарские сакли и домики с вещами, которые не успели захватить с собой увезенные хозяева, море и горы, которых не будет больше никогда. Цветущий миндаль и распускающееся девичество: она была подстрижена чуть ли не наголо, ибо боялась вшей. Лето промелькнуло незаметно, пока не наступил октябрь. Жили в брошенных домах, мерзли, ходили с мешками и котомками за спиной, побирались, воровали, кололи дрова, чтобы согреться, жгли в случайных хибарах книги и что попадется под руку, спали где придется, были счастливы. Всю компанию повязали на вокзале, когда окончательно наступившие холода выгнали их, наконец, из Крыма. На перроне, пока ожидали опаздывающий поезд, как бы ниоткуда появился милиционер, что-то спросил, отошел в сторону, стал наблюдать. Немедленно, сейчас же, пока не поздно, нужно было бежать, но почему-то было неловко. Ощущая опасность, выжидали, пока милиционер уйдет или отвернется, чтобы тут же смыться. Успела это сделать лишь та самая девочка, его подружка, которая, не смущаясь взгляда мента, вошла в пронизанный светло-жемчужным светом прямоугольник открытой двери вокзала. Вошла, чтобы исчезнуть уже навсегда, а спустя минуту через эти же двери прогрохотал сапогами взвод автоматчиков, и их взяли. Оказалось, отец девочки, с которой он жил эти полгода, секретарь то ли обкома, то ли горкома Киева, и по делу исчезновения его дочери был объявлен всесоюзный розыск. Девочка была половинка, мать носила фамилию Гринберг, из знаменитой династии дореволюционных врачей, фамилию отца он так и не узнал, хотя его и оставшуюся пару допрашивали почти неделю в присутствии учительницы из соседней школы, и однажды в проем беззвучно распахнутой двери вошел в полувоенном френче без погон ее отец, чтобы мельком бросить взгляд на того, кто знал его дочь с другой стороны и кому эта история, эта девочка настолько врезались в память (потом он даже пытался разыскать ее, но безуспешно), что приснилась в первую ночь в камере, куда он был помещен как подозреваемый в ограблении родного брата. Идиотская ситуация. Он был арестован, сам не зная за что, на квартире брата, куда явился за полчаса до милиции с двумя оттягивающими руки сумками, набитыми тамиздатскими новинками, взятыми у голландского посла в качестве гонорара за двухчасовой фильм о покинутых северных деревнях, снятый им по заказу Би-би-си. Он смог распаковать только одну сумку, с некоторой оторопелостью убедившись, что вместо ожидаемых им журналов она полна бесчисленными экземплярами монографии «Евгеника» и разрозненными томами роскошно иллюстрированной энциклопедии «Масоны в России». Он успел выложить на стол последний том «Евгеники», когда раздался звонок в квартиру. Убирать было некогда, да и трудно было предположить все последующее, он смог только накрыть криминальные стопки на столе газетой и задвинуть вторую сумку ногой под стол, как услышал, что соседка, не подозревающая, что он дома, уже открыла дверь и впустила в прихожую незваных гостей. Уже в следующую секунду он выскочил в переднюю, поспешно прикрывая за собой дверь, кротко щелкнувшую французским замком. В прихожей стояли двое в характерных финских плащах реглан, с настороженными физиономиями. Дальнейшее можно объяснить лишь тем, что он в результате аберрации посчитал, что его проследили на выходе из посольства и пришли по журнальным делам. Он и не подозревал, что позавчера была разграблена находящаяся в квартире брата антикварная коллекция, что почти сразу обнаружила случайно приехавшая с дачи жена брата (весь вечер отчаянно звонившая ему, чтобы посоветоваться, как быть, и только утром, пока он, пересиливая себя, пил со вторым секретарем посольства джин с тоником, сообщила в милицию, а сама помчалась в Новый Иерусалим извещать брата). Коллекция была драгоценной, четверть вещей — под охраной государства; как впоследствии выяснили, пропали две напольные вазы, севрский фарфоровый сервиз, много столового серебра, две картины Крамского, пять икон XVI века, инкрустированная перламутром столешница и много чего по мелочи, хотя не менее ценное, ориентировочной стоимостью около миллиона. Младший брат ни о чем таком даже не подозревал. Его задачей было ни в коем случае не допустить в комнату с книгами людей, тут же показавших ему удостоверения следователей районного отделения милиции, которых прислали в качестве экспресс-группы. Они требовали, чтобы он предъявил документы и пропустил их в квартиру. Он же, оставивший паспорт и все бумаги в кармане куртки, повешенной на спинку стула рядом с криминальными сумками, требовал, чтобы ему предъявили ордер на обыск, которого, конечно, не было; вел себя предельно подозрительно, не объясняя причин, по которым он не пускал представителей власти в комнату. Полчаса препирательств, а затем его, как подозреваемого, увели, но зато он успел шепнуть на ухо соседке, которой доверял совершенно, чтобы она тут же, по их уходе, убрала книги; он был уверен, что только в них и дело. Пока его вели, оба незадачливых детектива держали правые руки в карманах, уверенные в его причастности к ограблению и решившие, что живого или мертвого, но доставят его в отделение. Он же не сомневался, что привлечен по политической статье, что все несуразные вопросы — что делал вчера и позавчера? почему так странно вел себя утром при задержании? кто он такой и так далее? — задаются для отвода глаз и должны сбить его с толку; и памятуя Альбрехта, пропускал все их вопросы через четыре сита системы «ПЛОД» [1], в результате чего ни на один, даже самый простой вопрос он так и не ответил. Это только усилило подозрение. Из отделения его перевели в следственный изолятор, и здесь-то все и началось. Кроме него, вся тюрьма знала, что пойман уникальный преступник, укравший миллион. На него приходили смотреть практиканты, пялившие глаза на чудо природы. Начальник тюрьмы, облекая его своим заискивающим благоволением, уже на второй день перевел на особый режим с грузинскими рыночными помидорами и парным мясом, намекая, что может обеспечить вином и другими развлечениями. Пришедшая к нему с очередными вопросами высокопоставленная дама из прокуратуры после двух часов безуспешного допроса в качестве комплимента шепнула на ухо, что держится он идеально, она восхищена его выдержкой и самообладанием, кроме косвенных улик, на него ничего нет, и если он продержится в таком духе еще недельки две, то будет подчистую отпущен на свободу. Нельзя сказать, что он не догадывался, что его принимают за другого. Слишком часто ему задавался вопрос об отношениях с братом и его женой, о связях с антикварами и ювелирами, чтобы он не сообразил — случилось нечто из ряда вон выходящее. Но что именно — он так и не понял. Он боялся сменить тактику, ибо другой у него просто не было, все время твердил про себя «плод-плод», опасаясь кого-нибудь, сам не зная кого, ненароком подвести. Первые три дня его продержали в одиночке, потом перевели в камеру, где находился еще один человек, по поводу которого он не сомневался, что тот — подсадная утка и должен разговорить его во что бы то ни стало (за что тому, очевидно, пообещали скостить срок); но тем не менее поддался его обаянию, ибо ни до, ни после не встречал настолько приятного и обходительного человека, который при всем том был владельцем подпольных кожевенных фабрик и швейных мастерских в Грузии. И почти согласился на его уговоры после выхода на свободу, в которой — для обоих — его собеседник не сомневался, войти к нему в долю, чтобы — при его-то талантах! — сказочно разбогатеть буквально за несколько лет. По ночам ему рисовались структуры подпольных синдикатов, производств, назывались связи, явки и каналы, объяснялась вся тайная механика подспудного бизнеса, причем так подробно и достоверно, что придумать это ради легенды было невозможно; либо надо было быть гением, что одно и то же. И он в ответ тоже стал что-то рассказывать о своей жизни, о замыслах, о журнале, который мечтал выпускать, о способах пересылки рукописей за кордон, на что его седовласый собеседник только восхищенно причмокивал губами и качал головой: вах, вах, вах, ты так им и крути, молодец, так и крути динамо, ни за что не догадаются. Его выпустили на двадцать первый день благодаря заявлению старшего брата, клятвенно заверившего, что младший брат тут ни при чем, что ни прямо, ни косвенно не может быть замешан в деле, хотя, кажется, этому заявлению никто так и не поверил. По крайней мере, провожать его вышел чуть ли не весь персонал следственного изолятора, с восторгом и значением пожимали ему руку как самому хитроумному преступнику, коего им довелось видеть, сумевшему обвести вокруг пальца всех, в том числе родного брата. Об источниках коллекции и состояния брата знал он, конечно, не все. На семейных застольях порой всплывали рассказы и запутанные истории по поводу наследства, доставшегося от тетки со стороны отца, что приходилась дочерью последнему голове Москвы, купцу первой гильдии, не успевшему до революции спустить все свои несметные капиталы на скачках и ипподромах. Настоящее богатство нельзя экспроприировать до конца; сколько ни проводи обысков и реквизиций, что-то всегда остается если не в золоте, то в бриллиантах, если не в драгоценностях, то в столовом серебре и семейных преданиях. Одно такое предание касалось главной семейной реликвии — бриллианта величиной с голубиное яйцо (чуть ли не из короны английской королевы), вставленного в брошь из меди, похожую на голову ягненка, что, надо сказать, производило впечатление чудовищной безвкусицы и подтверждало уверенность, что эта брошь — дешевая бижутерия, вполне достойная полусумасшедшей тетки. Та буквально не расставалась с любимым украшением, таская брошь приколотой на груди дряхлого, в дырах, вязаного жакета, и даже завещала похоронить себя именно в нем. Семья — огромная, наследников, как водится, — туча, многие что-то подозревали; в последний момент, когда гроб с телом уже стоял на обеденном столе, брошь пропала, но этому не придали значения. Прошло несколько лет, брошь не нашлась, брат добился разрешения на эксгумацию и в присутствии соответствующей комиссии нашел брошь именно там, где и говорил, — прикрепленной с обратной стороны к теткиному жакету, если можно назвать жакетом то, что от него осталось. Кое-что перешло и от деда, первым в Москве умершего от длительного недоедания в самом начале войны, еще до настоящих холодов и голода. Его смерть легко вычислялась заранее, ибо дед начиная с шестнадцатилетнего возраста ел только два блюда: свекольный борщ и паприкаш с красным перцем, для чего были необходимы филейные части годовалых барашков, всегда покупаемые на рынке. Он чуть было не умер в эпоху военного коммунизма, но как-то выдюжил (помогли старые связи), однако, когда начиная с первого военного лета филейные части барашков пропали окончательно, он понял, что шансов у него нет, повернулся лицом к стене и стал умирать. Основная же часть наследства пришла к брату вместе со второй женой, младшей дочерью известного в России рыботорговца, владевшего не только сетью рыбных магазинов в столицах и провинции, но и своим флотом в четырех морях. А кроме того, огромными вкладами в крупнейших иностранных банках. Это отчасти и помогло ему спастись от неминуемого разорения и исчезновения после революции, ибо все магазины, капиталы и флот внутри страны были экспроприированы, конечно, мгновенно, а вот получить доступ к его иностранным вкладам без его подписи и участия было невозможно. А он хотя и отдавал им то один, то другой вклад в Цюрихе или Берне, но отдавал не торопясь, постепенно, оговаривая условия, и так дотянул до нэпа, когда, как и многие другие, поверил в перестройку и выкупил обратно у государства несколько своих рыбозаводов, чтобы уже окончательно распрощаться с ними через несколько лет. Среди оставшихся после всех экспроприаций сокровищ, как нарочно унесенных во время ограбления, было несколько уникальных вещиц, как, например, два неиспользованных билета на тот самый «Титаник», который отправился в рейс без его деда, поссорившегося с бабкой за неделю до путешествия из-за его увлечения балеринами и покупки чудного, но катастрофически дорогого жеребца. Пара билетов была единственной сохранившейся в России и сразу стала стоить баснословную сумму, все возраставшую от времени; однако дед, конечно, ни за что не хотел расставаться со своей реликвией, заказав специально для билетов рамочку сандалового дерева с замшевым паспарту. Неведомый вор прихватил также и белый мейсенский чайник, без ушек, крышечки и носика, но, несмотря на это, равный по стоимости целому состоянию, ибо на днище стояло корявое клеймо с подписью, утверждавшее, что это первый чайник мейсенского завода, выпущенный во время пробы печи. В обмен за этот чайник представитель правления мейсенских заводов предлагал один из первых мейсенских сервизов на сорок персон (чайник должен был пополнить коллекцию музея при заводе). Но обмен не состоялся, и чайник вместе с билетами на «Титаник» исчез в небытии, унесенный явно тем, кто не раз бывал в доме и хорошо знал ему цену. Младший брат тоже был не промах. Ему, в условиях неписаного советского майората, достались по наследству лишь крохи, и своим состоянием он был обязан только себе, и никому другому. Так часто бывает: человек мечтает об искусстве, о полуголодном существовании в обнимку с верной музой, не сулящем ничего, кроме тайного горения, а судьба решает иначе, и вместо тернистого пути художника посылает своего протеже на деловую стезю, лепя из него удачливейшего дельца, которому все само идет в руки. За что бы он ни брался, все приносило ему невероятные дивиденды, хотя сам считал, что занимается этим спустя рукава, дабы как-то заработать на тот черный — а на самом деле — светлый день, когда засядет наконец за давно задуманный роман либо закончит уже подготовленную эскизами серию картин. Лелея мечты об искусстве, он устраивается анахоретом на даче в Новом Иерусалиме, чтобы писать и писать, но ему тут же делают фантастическое предложение о разработке проекта виллы одного бельгийского миллионера. Этот проект впоследствии он переработает для более скромных дач друзей брата, тоже коллекционеров, и даже согласится руководить строительством первых пробных экземпляров. Несколько лет строительства, затем пять лет работы с мозаичным панно и ювелирными изделиями (в основном по заказам Московской патриархии, знакомство с которой началось с невинной просьбы помочь отреставрировать алтарь и дароносицу в одном полуразвалившемся соборе на Поклонной горе). А затем еще семь лет кропотливых трудов по освоению техники перегородчатой эмали, для чего он приобрел уникальное оборудование, в конце концов окончательно потерянное и разворованное во время очередного обыска. Так как деньги, конечно, являлись лишь средством, он, по сути дела, с самого начала стал вкладывать их в новую живопись и фантастический по уникальности журнал, став благодетелем и меценатом для художников и владельцем труднопредставимой коллекции нового искусства, сравнимой разве что с коллекцией Костаки. Он давно уже вызывал восхищение, перемешанное с подозрительностью, своей странной удачливостью, везением настолько постоянным, что примерно треть его знакомых полагала, что он является прекрасно замаскированным агентом ЦРУ; другая треть считала его агентом KGB, а остальные были уверены, что его кормят и те и эти; и только очень немногие, самые близкие к нему, понимали, что это — чепуха, ибо сами ничего не понимали. В это лето, за год до описываемых событий, я жил почти в полном одиночестве в недостроенном флигельке на берегу моря, рядом с Мерикюлем, снимая его у странного типа с внешностью постаревшего Франкенштейна, а на самом деле бывшего лесного брата, отсидевшего свое, чтобы затем стать то ли лесником, то ли пожарным, в никогда не снимаемой сизо-зеленой шляпе с опущенными полями, постоянно что-то бормочущим на русско-прибалтийском диалекте. Его запущенный участок поражал комбинацией живописности и беспорядка в виде склада ненужных и немыслимых вещей, вроде использованных и искореженных газовых плит всевозможных образцов и моделей, труб, конфорок, дырявых ведер, кастрюль, банок, железных и стеклянных, всевозможного калибра, начиная от склянок из-под лекарств и кончая чудовищного объема сосудами абсолютно непонятного назначения. И по всем этим предметам, сваленным вдоль дорожек с проросшими сквозь них бурьяном и травой, ползало несметное полчище улиток, где были только что родившиеся, размером с ноготь младенца, и чудовищные монстры, величиной с кулак. Весь июнь шел дождь, прекращаясь на считанные часы, забор перед окном почернел, позеленел, покрылся изумрудным мхом, просвечивая сквозь светло-зеленую волну кустов, — и стоило только выйти за порог, как улитки начинали трещать под каблуком, как бы нога с брезгливой расчетливостью ни избегала столкновения. Улиток, казалось, было столько, сколько бывает порой дождевых червей на дорожке в теплый день после дождика, когда они выползают изо всех пор. Но суть совпадения (как совпадают порой два различных во времени образа, тут же рождая целостную и уже неделимую реакцию) была не в улитках и даже не в двух нимфетках, живших по соседству (одной десятилетней в плиссированной юбочке, гольфах и с пушком на голенях, которую зорко стерегла бабка в очках-велосипедах; и другой, уже распустившейся лолите, в доме рядом, всегда в чем-нибудь сиренево-фиолетовом и огромных клипсах размером с кофейное блюдечко). А во всем вместе: одиноком житье, дожде, улитках, гольфах, сумасшедшем хозяине с желто-седой бородой, который иногда откуда-то из глубины окутанного листвой сада издавал странные, воющие звуки, — и возникало, проступало ощущение пустого, дикого Крыма, без санаториев и отдыхающих, послевоенные горы Кимерии и девочка-дюймовочка, еще не вышедшая до конца из преамбулы кувшинки. Почему именно это, только со стенографической быстротой, как спицы в велосипедном колесе, промелькнуло в мозгу нашего героя, который замер на мгновение, прислушиваясь к затихающим над головой шагам в парадной, не думая, но зная, что случится буквально через минуту-другую. И, подчиняясь невнятному механизму поступков, пригнул явно ниже требуемого голову и рванулся в спасительную темноту подвала. Уже потом, вспоминая, переводя транскрипцию сжатого в кулак прошлого на язык другого времени, он, скрывающийся от провидения писатель-диссидент, расшифровал, расставил по местам все быстротекущие секунды, что, словно круглые биллиардные шары, заполнили предназначенные для них лузы (тогда и понял, что действовал единственно возможным способом). Но это было уже потом, а пока он, как кинематографический слепец, выставив вперед руки, полез через перегороженное какими-то трубами, веревками, кабелями нутро подвала, обогащающее его запахом гнилой, застоявшейся воды, кошек, заскорузлых тряпок, до боли сжимая в руке вытащенную из ящика газету и связку ключей. Конечно, шансов мало. Сейчас в окно заголосит участковый, оставшиеся внизу рванутся к дверям и перекроют все выходы, но, перелезая с бьющимся сердцем через трубы, писатель и не думает о таком совершенно невиданном в русской литературе событии, как побег. Только не надо забывать, что мы листаем книгу. Автор, как и полагается в фальшивом детективе, подробно и не без изящества описывает подвал; не педалируя, но и не боясь аналогий с катакомбами, в которых скрывались первые христиане, озабоченный на самом деле решением достаточно трудно разрешимой в пространстве русской прозы дилеммы: как изобразить вполне естественное замешательство героя и при этом не уронить его достоинства? Так как герой хотя и диссидент, но все же русский писатель, а это совсем другой коленкор. Ибо где это видано, чтобы русский писатель бежал от наказания, не совершив преступления, то есть избегал самого лакомого штриха в биографии, каким является узилище, притом что правда, как всегда, на его стороне, а будущее — его единственный покровитель — все расставит по местам. Но — довольно иронии. Человек в самый разгар седого безвременья бежит от погони, принципиально отрешенный от вопросов абстрактной справедливости, видя перед собой не розовую зарю перестройки, а нечто странное в виде магической пары цифр «7 + 5». Эта разница станет особенно отчетлива, если рокировать нашего писателя с каким-нибудь американским журналистом с Северо-Запада, вступившим в борьбу с подкупленными мафией агентами ФБР и влюбленным в дочь бедных русских эмигрантов, девушку Наташу с загадочной душой. А раз так, то читателя будет ожидать расширяющаяся перспектива увлекательных приключений: револьвер в промасленной тряпке, туго обвязанный бечевой и спрятанный в особом углублении вентиляционного отверстия; ловкий, с помощью нескольких кульбитов захват полицейского транспорта под аккомпанемент нестрашных выстрелов, поражающих второстепенных персонажей; побег, погоня, веревочная лестница с 83-го этажа Всемирного торгового центра. А затем тонкое, остроумное распутывание петель той сети, которую решили накинуть на него подручные президента Международного банка реконструкции и развития, убившие и зверски изнасиловавшие любовницу последнего, дабы не позволить ей опубликовать мемуары о финансировании им запрещенных экспериментов с человечекими эмбрионами. Попутно, конечно, душераздирающие встречи с русской девушкой Наташей; разбитые челюсти, хитроумное похищение бумаг, несгораемый шкаф с музыкальным шифром и дама, исполняющая минет по-американски, стоя на коленях в нейлоновых чулках посреди казенного кабинета на последнем этаже госдепа. Предусмотрительно расстегнут полуформенный китель строгого костюма. «О, как я устал», — шепчет герой. Но язва мятежного лобзания не может освободить его от стиснутого желания и нешуточной тревоги за жизнь скрывающейся от агентов бюро волоокой смиренницы Наташи. Пусть она и не обладает роскошной хрестоматийной пышностью форм, что недвусмысленно обнажил расстегнутый синий блайзер, а, напротив, «делит пламень (как говорит в соответствующем пассаже Дилан Томас) поневоле», зато имеет тонкую, чувствующую душу, соединение с которой слаще душного плотского плена (но сейчас девушка, забравшись с ногами и пледом в утробу стоящего в углу огромного кресла, вздрагивает от каждого шороха и прислушивается к угрожающе молчащему автоответчику). И в этот момент неожиданно (оборот викторианского романа, слишком поспешно перекочевавший в авантюрный) раздается телефонный звонок, и перевернутая книжка обещает репризу, достаточную для того, чтобы угадать условный сигнал в виде четырех гудков, затем пауза и следующий звонок: «Боб, это ты? Салют! Ровно в семь у Эмилии, тебя устроит?» Шелестящие переговоры, во время которых затекшая от неудобной позы рука ищет сигару где-то тут, между чашкой, пепельницей и перекидным кадендариком, а затем, перехватив трубку, опускает ее в прокрустово ложе углубления. В семь часов у Эмилии. Ох уж эти заговорщики, свергающие друзей, чтобы вернуть власть то ли коммунистам, то ли патриотам, то ли еще кому-то, и для этого собирающиеся у Эмилии, с которой не спал разве что ленивый. Кто бы мог подумать, что русская демократия — это нонсенс, привычное ярмо куда милее, и приступ идиотизма с непонятной поспешностью заполнит объем, называемый у других убеждениями. Как это по-латыни: svoya nosha ne tyajela. Равнодушный взгляд переезжает оставленную книжку поперек, а затем рука переворачивает ее с живота на спину. В семь у Эмилии, сейчас три. Самое пекло. Есть время порадеть за того парня. Ну что ж, автор должен помочь ему как-то выбраться из подвала, но как? Сделать его, наподобие героя из рассказа Уэллса, невидимым до первого приема пищи (напомним — завтрак еще не остыл на кухонном столе)? Или бег по гулкому чреву подвала до последней парадной, запертая решетка, к счастью не доходящая до самого потолка; и чудесная встреча с полузнакомой молоденькой мамашей в папильотках и с колесницей, что грозно выезжает прямо на него из лифта, а он, на скорую руку придумав причину своего нахождения в подвале, помогает — в качестве любезного соседа — вытаскивать колясочку из подъезда. И, продолжая разыгрывать перед своей спасительницей неожиданный приступ чадолюбия (для окружающих исполняя роль заботливого супруга), провожает их до автобусной остановки. В конце концов, все чудесное — случайно. Но даже если представить себе, что редкий и прекрасный, согласно формуле Спинозы, случай помог ему выбраться из подвала незамеченным, то куда он денется в своих тренировочных штанах, где вместо кармана слежавшийся гульфик с мятым застиранным фантиком от барбариски, в шлепанцах и футболке, домашней униформе советского интеллигента? Исчезнуть, скрыться в большом городе не так просто, как кажется. Первое — мысли о парикмахерской, чтобы изменить внешность, состричь шевелюру и сбрить курчавую бороду, но чем рассчитываться — мятым фантиком? Следующий вопрос: куда? Метро, вокзалы могут обернуться ловушкой, и любой постовой с наметанным глазом, мучающийся от скуки рядом со стеклянной кабинкой дежурной подземки, что просеивает сквозь сетчатку многоликую гидру толпы, может оказаться владельцем его фотографии. С одной стороны, явная нелепость, абсурд — объявлять всесоюзный розыск человека, опубликовавшего на Западе несколько сот страниц прозы или давшего интервью корреспонденту «Дейли миррор» или «Нью-Йорк таймс». С другой — раз верхний этаж Литейного принял решение брать и произошел прокол, то теперь они обидятся и будут упорно искать, ибо у них просто нет иного выхода. Вопрос: насколько энергично и серьезно? Если серьезно, то уже сейчас выужена его записная книжка из кармана зеленой куртки, висящей на вешалке за дверью, и группе прослушивания диктуется список всех указанных там телефонов для проверки и контроля (ибо понятно, что к кому-то обратиться за помощью придется). Однако, учитывая всеобщий бардак и леность, не говоря уже о затратах, все и вся прослушать они не смогут, да и не станут, но какие-то телефоны будут слушать обязательно, а какие именно — береженого Бог бережет. Надо сматываться из города. Родительская дача не подходит. Очевидно, засвечена, как и адреса, не оснащенные телефонами, надо теперь считаться с правилом: всех, кого знает он, знает и Литейный. Ринуться в консульство либо позвонить приятелю, культур-атташе, прося о содействии (каком? замолвить словечко, устроить пресс-конференцию, скандал или попросить, чтобы вывезли за границу в несгораемом шкафу дипломатической почты?), — глупость, тут же заметут. Что же тогда? Первое — найти место, где его не будут искать. Второе — все остальное потом, потом, трижды потом, хотя избавиться от безумных идей, как предупредить друзей и близких, как обеспечить встречу с, вероятно, единственным человеком, способным give him support, было трудно. Вполне можно усмехнуться, закрыть книжку и поразмышлять вслух. Нам всегда приятно, если герой в куда более трудном положении, чем мы. Трудном? Если иметь в виду реальную жизнь, то не просто трудном, а безвыходном, ослепительно безнадежном, без шансов спастись. Если же иметь в виду роман, то все зависит от изобретательности автора и толщины романа: раз роман достаточно толстый, это лучшая гарантия того, что герой не попадется на следующей странице, а по крайней мере продержится на плаву достаточное для развития действия время. Конечно, о многом можно догадаться. Похоже, перед нами детективный роман на материале «второй культуры». Что-то в подобном роде, кажется, уже было. Какая-то сторожка в больничном саду, среди сумятицы кустов и кленов, сумерки безвременья, новое поколение теней в широких шляпах и длинных пиджаках, обменивающихся тяжелыми томами в подозрительных коленкоровых переплетах. И тут же полудетективная-полуфантастическая история с исчезновением трупов из соседней со сторожкой прозекторской, где служит старый университетский приятель сторожа. Он то ли поэт, то ли критик самиздатского журнала, а по первой специальности — генетик; на что нужны трупы, сразу непонятно, точно не некрофилия, а какой-то мистический расчет, смысл которого выясняется по ходу дела. А раз так, то и мы можем предположить, что наш герой — автор то ли «Часов», то ли «Канавы» (в просторечии обозначение журнала «Обводный канал»), скажем, выпустивший свой роман в приложении к одному из них, а потом решившийся на издание в одиозной «Имке» либо лондонской «Русской рулетке». Что и вызвало гнев властей предержащих и их посредников с удивительным пристрастием к птичьим фамилиям, каких-нибудь Коршунова, Воробьева, Лунина. Может, это сам Борис Иванович с поседевшими пшеничными усами, хотя вряд ли: грех заставлять старика бегать по подвалам и думать о том, как бы поскорее сбрить бороду, которой никогда не было и в помине, но суть не в этом. Раз «вторая культура» (пусть и в детективном преломлении), то вполне уместны несколько прочувствованных описаний, дающих читателю возможность понять, как тяжел удел не печатающегося на родине писателя, которому хорошо под сорок, если не больше, а у него один или два рассказа, опубликованные пятнадцать лет назад в «Юности» либо в «Тарусских страницах» (хотя для «Тарусских страниц» он, пожалуй, был слишком молод, но не в этом дело). Если у нас в кадре «вторая культура», то, даже не педалируя крутые повороты сюжета, можно использовать в качестве персонажей наиболее удивительных и фантастических ее представителей, способных, благодаря своей колоритности, придать устойчивость любой фабуле, украсив, расцветив своими портретами ткань повествования. Скажем, если нам нужен консультант по преодолению «железного занавеса», необходимо сконструировать планер для перелета с вершин Кара-Дага в Турцию либо Италию или сделать особые присоски, способные прикрепить человека в скафандре и ластах к днищу стоящего на рейде в Маркизовой луже шведского сейнера, то как не вспомнить фантастическую фигуру небезызвестного редактора «А-Я» Алика Сидорова, чей гордый римский профиль, осененный седовласой челкой, первым, очевидно, должен проявиться на изнанке памяти, выуживающей верных помощников из омута отчаяния. Кто может больше, чем он? Не о нем ли и подумал наш герой, рассуждая о том единственном человеке, способном помочь ему в безвыходной ситуации? Хотя все, что связано с переходом границы туда и обратно, давно уже обросло самыми невероятными легендами. Фольклор обогащен рассказами о всевозможных чудаках, выбирающихся за кордон в контейнерах, запечатанных на протяжении девяти дней пути, зайцем проникающих в салон самолета компании «Люфтганзе», переклеивающих фотографии в паспортах доброхотов-иностранцев, в это время отсиживающихся в вытрезвоне. Хотя наиболее интересны перипетии тех, кто тем или иным способом выбрался за границу, а затем так же нелегально вернулся обратно. Вроде того парня, что пролез несколько десятков километров по трубе строящегося газопровода, пересек таким образом финскую границу, потом — более ста миль инкогнито по просторам Финляндии, несколько лет жизни в Швеции, Европе; а затем не менее фантастическое возвращение назад в трюме испанского сухогруза, пришвартовавшегося в Одессе; три года бездомной беспаспортной жизни, случайное задержание на неофициальной выставке Ильи Кабакова и последующий срок, как шведскому шпиону, ибо единственный документ, который был представлен, — автомобильные права, полученные в Стокгольме. Поэтому с фольклорной точки зрения положение нашего героя отнюдь не так безнадежно, как это могло показаться вначале. Да, он ехал в автобусе, без гроша в кармане, не имея, кажется, в целом городе никого, к кому бы мог обратиться за помощью, и мечтая только о том, как бы быстрее отдаться в руки брадобрея. Было бы забавно, если б в эту минуту за безбилетный проезд его задержал контролер; но довольно унижений, вполне достаточно подвала и коляски, пора выводить на авансцену какую-нибудь прекрасную даму с влажным взором голубых либо карих глаз, легкими нежными руками, способную, как Афина, из ничего соткать облако, скрывающее героя от преследователей. Но разве не метафизическое облако позволило ему выскользнуть из железных объятий ситуации, что имела сотни входов, но ни одного выхода, и спустя полчаса оказаться в толпе приезжих нацменов, иногородних студентов и одетых по фирме телок, кантующихся около переговорного пункта на Невском, рядом с известной пельменной, в неприятном визави «Сайгону», где появление смерти подобно? Однако вполне вероятно, появление у переговорного пункта и было вызвано невозможностью позвонить кому бы то ни было из знакомых здесь, в Питере (ввиду засвеченности записной книжки), и необходимостью отыскать кончик ариадниной нити, скажем, в Москве (хотя того, кому он собирался звонить в Москву, тоже слушали почти наверняка, значит, сказать что-либо прямо, без перифрастических недомолвок, он не имел права). Правда, если вспомнить, что в кармане лежала лишь мятая конфетная обертка, то и звонить было не на что, и, скорее всего, появление здесь, в злачных окрестностях «Сайгона», объяснялось надеждой на какую-нибудь счастливую встречу со старым знакомым, который бы ссудил его какой угодно суммой на первое время. Знакомого — да, однако легче выловить клон Софи Лорен, чем врачующую душу Афродиту, из волн невского прибоя возле «Сайгона». И только недобросовестный и неловкий фальсификатор чудесного позволит себе выдать за чистую монету историю о том, как накрашенная краля с внешностью слабой на передок давалки окажется в конце концов наивным и преданным созданием, вполне употребимым для наших целей, но… Выбор героини — дело не вкуса и пристрастий, а попадания или непопадания в цель, ибо способ репрезентации женственности, каждый новый поворот ее взаимоотношений с мужским началом (также психоисторически обусловленным) — определяющая черта общества. Оппозиция «женское — мужское» отчетливее видна в обратной перспективе. Хорошо было в конце прошлого века оборачиваться назад и видеть тихо дышащую статую, про которую певец «шестидесятников и шестидесятниц» рассказал одну из своих парадоксальных историй. А тот, для кого купол Царскосельского вокзала стал впоследствии стеклянным гробом, первым отметил пропущенное другими роковое обстоятельство. И назвал знамением времени опасную влюбленность в женщину-статую. А как иначе можно было назвать чреватую последствиями комбинацию горячего и холодного, наспех прикрытую социальной подоплекой, и неизменное возвращение героини-статуи на свой знаменитый цоколь после лихорадочно-сумбурной ночи экстазов и обид. Поэтому когда художник еще во власти ночного видения поднял с чадной подушки голову, то из зеленых впадин глины на него взглянуло лишь какое-то тревожное воспоминание о неоправданной жизни, которое пришлось-таки успокоить панихидной службой рассказа. Конечно, ее звали Софи, та самая Софи из «Трех разговоров» и одновременно дочь откупщика, который говорил, что «риск — благородное дело»; и может быть, поэтому для его дочери найдено еще одно странное определение — отрешенная фаворитка. Можно представить себе, как осенью 1868 года из окон своей виллы в Баден-Бадене сквозь частую сетку дождя, в еще не разошедшемся утреннем тумане, умиротворенный славой писатель увидел двух случайных пешеходов. И как, увидев их, он почувствовал смутную тревогу; а следом, сами собой, и уже не из тумана, а из забытья выплыли к нему два таких же, только давних пятна на размытом черноземе, — выплыли милые, зовущие, упрекающие, такие же фантастически притягательные, как и вся его отсюда еще более близкая и еще более загадочная родина. А следом, как по заказу, пошла для чего-то разматываться и вся пестрая ткань былого. И особенно ярко запечатлелась та девушка, которую ему стало когда-то до боли жалко. Он увидел Софи на коленях сквозь щель в переборке постоялого двора; увидел расцелованный ею скользкий сапог юродивого, тряпочку в ее красных, опухших пальцах… потом бал… лампы, в качестве знамения эпохи заменившие вчерашние свечи… бирюзовый крестик на черной бархатке и, наконец, — опять-таки ее, Софи, но такою, какой она вышла к нему в первый раз, когда ее голубое платье падало прямыми складками на стройные маленькие ноги. Вот тогда-то он и решил написать — нет, не повесть, а только рассказ, сдержанно-простой и отчетливый, которому годы и подлинность материала придадут особое меланхолическое очарование. Зажиточная дворянская семья, поместье где-то в южно-русской провинции — удобная рамка для жизни юной красавицы, знаменательно растущей без присмотра матери. Ей едва исполнилось семнадцать, но уже приходится хозяйничать, возиться с младшими детьми, принимать и выезжать. Она — тоненькая, с густыми шелковистыми бровями на детски припухлом личике, вся молчаливо-внимательная, с привычкой держать локти неловко и строго прижатыми к узкому стану с еще неразвитой грудью. По видуей живется хорошо: ее любят, балуют, готовы сватать. Девушку тревожат, однако, особые, отнюдь не девичьи мысли и желания; и, как ни странно, первое чувство, которое она вызывает, — жалость с легким привкусом брезгливости, так как в жизни она ищет только одного: полновесного, полноценного унижения, способного дотла искоренить девичью гордость. Перед нами симптоматичная проблема белого экстаза. Для равнодушного ума она — религиозная психопатка. Для кропотливого — очевиден эротический подтекст. Несколько бегло набросанных сцен, когда второстепенные персонажи вроде бальных кавалеров и случайных насмешников пытаются заронить сомнения в ее поистине гранитной неприступности. Однако она тверда настолько, что становится очевидным: и она, и автор скрывают какую-то важную причину, по которой ей просто необходимо вытравить из себя нечто, не поддающееся воздействию разума. Кажется, она — тайная преступница, совершившая по оплошности проступок, который тщетно пытается забыть. Но так как забыть не получется, то в конце концов ей не остается ничего другого, как решиться на побег из отеческого дома. И все, Господи, ради того, чтобы стать рабыней полусумасшедшего бродяги, безобразного грубого мужика, эпилептика, медиума и юродивого одновременно. Не случайно, наверное, его гнойные раны пахнут спермой; ряд сцен имеет характер наскоро декорированных под светский рассказ картинок житийного повествования; затем, как водится, возвращение блудной дочери домой, обет молчания, смерть и симптоматичное исчезновение трупа вместе с гробом накануне похорон. Нам, однако, сегодня нужна не иллюзия вымысла, а вся безусловность отнюдь не случайного совпадения. Поэтому назвать свою героиню Софи было бы попросту невозможно. И пусть она не выйдет из уютного семейного портрета, а придет к нашему герою в котельную устраиваться на работу, ибо герой, раз он писатель, не печатающийся на родине, должен где-то работать, а так как в объективе, напомнили, «вторая культура», то не будем без особой надобности искушать канон. Тем более что в самой экспозиции заложены два обстоятельства, без которых нам просто не обойтись: герой не должен знать героиню слишком хорошо, ибо, во-первых, тогда ее телефон может оказаться в его записной книжке, а во-вторых, ему будет неинтересно познавать ее по ходу развития сюжета. С другой стороны, в момент их единственной встречи она должна была раззадорить его воображение своим вопиющим несовпадением с образом ожидания и вызвать ощущение если не чуда, то по меньшей мере — уникальности. Итак, пусть она зайдет к нему по звонку приятеля справиться о возможности устроиться на кочегарскую синекуру, поразив при этом в самое сердце (хотя поразив — слово неточное, обеспокоив — будет вернее) и оставив телефон, который он совершенно неожиданно для себя вспомнит, едучи через мост в автобусе либо уже здесь, возле переговорного пункта. Было бы странно и неинтересно, если бы герой сразу разгадал формулу ее прелести. Нам же никто не мешает задаться вопросом: что именно делает женскую красоту привлекательной и при этом пленительно незащищенной? Сколько ни существует красавиц — худеньких, длинноногих, пышных, независимых, недоступных или разыгрывающих недоступность, но почти все из них замкнуты в ощущении своей красоты, как в футляре, и обременены комплексом спящей красавицы, положенной в хрустальный гроб. Конечно, что и говорить, есть определенная прелесть в холодных, высокомерных красавицах, кичливых недотрогах, которым хочется засадить и унизить, опустив их до уровня просто женщин; сбить с них спесь и лишить хрустального комплекса, разбив, разорвав целлофановую оболочку. Но что делать, даже в этом случае они скучны и незанимательны, ленивы в любви, не в состоянии сойти с пьедестала (так как больше у них ничего нет); поэтому так естественно желание задрать им юбку и измазать в сперме с головы до ног хотя бы для того, чтобы лишить их гордости, тягостной и неуместной. О, сколько существует на свете женщин, насаженных на шарнир собственной внешности, как бабочка на иглу. Женщина всегда найдет, чем гордиться, — если не ногами, то голосом, если не прической, то походкой, а некоторые наши с тобой знакомые, приятель, гордились тем, что вагина у них маленькая, как у девочек, и узкая, словно прорезь в копилке. Помнишь, одна, первый раз раздеваясь, так и сказала, намекая на свое уникальное внутреннее устройство (которое, очевидно, представлялось ей безупречной сладостной ловушкой или хитроумным капканом с засасывающим принципом действия): ну, теперь ты от меня никуда не денешься. Сказала, впрочем, совсем не желая повышать себе цену, а, напротив, смягчая сказанное товарищеским сожалением, благородной печалью, ласковой заботой, намекая, что, мол, кто раз это попробует, сам от нее никогда не уходит (хотя, на наш вкус, вульва ее, действительно маленькая и сухая, как детский кулачок, оказалась при этом обманкой и неинтересной, как райское яблочко). Но мы несколько о другом. Мы — о выборе героини. И коли разрешили ей стать красавицей, но красавицей, не торчащей на своей внешности, не закомплексованной собственным совершенством, то этому кое-что должно сопутствовать. Либо она ничего не должна знать о гипнотическом влиянии своей внешности (что очень трудно, если вообще возможно). Либо по каким-то причинам не ценить свою красоту или, еще лучше, относить ее не к достоинствам, а к недостаткам. А это, как говорил поэт, «близко, близко, очень близко…». Пусть поэтому в тот единственный раз, когда они виделись, устраиваться на работу в котельную к нашему герою пришла женщина неизмеримого очарования, с лучистым и глубоким взглядом нежных и несколько виноватых глаз, которые одновременно молили о снисхождении и обещали невиданное, ни с чем не сравнимое счастье. Для психоаналитика ситуация открыта. Мы же попросту можем наградить ее «комплексом Софи», списав на него все остальное. Если даже для тургеневской девушки было возможно начать мастурбировать с первых отроческих лет, то что мешает нам увидеть восьмилетнюю девочку, ненароком оседлавшую ручку бабушкиного кресла раньше, нежели зеркало и глаза окружающих убедят ее в могуществе собственного нежного облика. Пусть она превратится в трепетного ангела, кропотливо прячущего от других и себя тайну автоэротического наслаждения, которое впоследствии обернется формированием двух принципиальных черт характера: немыслимой откровенности, доверительности, детской интонации, которая с ловкостью усталого лоцмана обходит риф вагинальной тайны, и уже отмеченного нами настороженного, скептического отношения к собственной прелести, ибо она, эта прелесть, обманна: сулит счастье всему миру и оказывается неспособной подарить его даже одному-единственному мужчине. Пусть этот вариант существует лишь на правах версии, которую либо подтвердит, либо опровергнет герой. Ему пока что ничего не известно. Он кантуется у дверей переговорного пункта и пельменной, с опустошенной, беспокойной душой, почему-то вспоминая строки Введенского. Еще есть у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. Импульсивное желание исчезнуть, наконец найденная возле урны позеленевшая медная двушка, которая открывает глазок в другой мир, — и пневматическое воспоминание о милой и странной женщине, телефон которой нигде, кроме памяти, не записан. Но — времени нет, он, кажется, зачитался. Будильник на руке не успел доиграть любимый марш из «Melody alarm», как рука уже заправила полы рубашки в брюки, тянула подтяжки с висящей сбоку кобурой, на ходу проверяя, отстегнута кнопка или нет. Отстегнута. И, надевая по пути пиджак, он успевает взять чашку крепкого кофе с лимоном из рук почтительно стоящего с пуховкой под мышкой дворецкого графини Люверс, Долли Люверс, Николая Кузьмича, — кофе, от которого его спазматически передергивает на лестнице. Слава богу, бельэтаж. Три прыжка, и он уже за рулем машины с предусмотрительно разогретым двигателем; отваливает от поребрика, брезгливо морщась от звука стучащих клапанов; ловко перестраивается в крайний ряд, чтобы сразу с Фонтанки свернуть на Каменный мост. И, не думая ни о чем, бросает небрежный взгляд в панорамное зеркало, видит, как из-за дверей Доллиной парадной выскакивают двое в серых шляпах типа «борсалино», распахивают дверцы зеленого лимузина с желтым дипломатическим номером, который, нахально вильнув, тут же перестраивается в нужный для поворота правый ряд. Как ни странно, это открытие кажется настолько удивительным, что он забывает об управлении, в последний момент успевая увернуться от столкновения с высоким гранитным парапетом моста, круто вращая рулевое колесо влево, в ответ награждаемый испуганным сигналом идущего рядом микроавтобуса: первая слежка. Ну, ну, успокаивает он отвратительно дробно застучавшее сердце, передающее эстафету дрожи пальцам, ничего страшного, рано или поздно это должно было произойти. Или ты хочешь делать такие дела и чтобы за тобой не следили? И, в последний момент приняв решение, резко газует на красный, успевая пересечь Фонтанку перед самым носом бешено загудевшего потока машин (понимая, что зеленому лимузину не перепрыгнуть через пять или шесть машин, отделяющих их от него). Стремительный разгон, несколько поворотов, вылетевшая из-под колес белая собачонка, знакомый проходной двор с узкими подворотнями, Загородный, Лиговка, Пески. Пересекая Загородный, он перемещает револьвер из кобуры в карман пиджака; по Лиговке тащится в среднем ряду, чтобы не заметила транспортная полиция, если у них уже есть его номера; на Песках паркует машину за квартал от дома Эмилии, из «бардачка» вынимая темные очки, а из багажника — хозяйственную сумку. Улица как улица, прохожие, редкие машины. Дом Эмилии с тремя характерными эркерами виден издалека, но он не смотрит на него, ленивой походкой идя по противоположной стороне; минует зеленную лавку, а затем, качнув раздумчиво сумкой для провизии, разворачивается и, спустившись по трем хрестоматийным ступенькам, заходит внутрь. Толчея, запах сырости, земли и склепа, который не мешает беглому, но внимательному осмотру нутра лавки: не наблюдает ли кто за окном и противоположным домом, за ним, за кем-нибудь еще? Нет, стерильно. Только не торопиться. Пропустим, просеем сквозь радужную оболочку зернистую карту заоконного мира, просмотрим внешне чистую корректуру булыжной мостовой, полупустого тротуара, обложку фасада с говорящими окнами и красноречивый зев подъезда. Итак, третий этаж, стекла эркера, забранные жалюзи, два окна — ошую с кремовыми шторками, одесную — с лимонными. Сладкие кремовые беззаботно отдернуты, строгие лимонные целомудренно закрыты. За лимонными — гостиная, где все и должны собраться. Странно, закрыта форточка, а там почти все дымят; если забыли открыть, то начнут задыхаться и скоро откроют. За кремовыми — кухня Эмилии, где беспрерывно готовится чай и где к окну будут обязательно подходить. Нет, отсюда не видно, надо подняться на уровень третьего этажа по черной лестнице противоположного дома и принять короткое донесение о визуальном осмотре. Что ж, пора. И тут словно Божественная рука выпустила игральные кости, что со стуком покатились в разные стороны, поставив ситуацию на ребро. Все соединилось в одном мгновении, будто совпали концы, и мир повернулся на незримом шарнире. Три стертые ступеньки под ногами, со стуком захлопнувшаяся дверь за спиной и выплывший из нужной парадной на руках грузчиков сиринский зеркальный шкаф. Он заглотил часть вывески, колено водопроводной трубы и будто нарисованное акрилом выстиранно-голубое небо с беззаботным облачком — идеальный фон для визгливого бабьего всхлипа тормозов грузовичка-пикапа. Угрожающее, по восходящей гамме нарастание гула, а затем оглушительно красноречивое сочетание звона разбитого стекла, сумятицы криков — и летящая через разбитое стекло огромная книга. Прошелестев крыльями, она упала, беспомощно изогнув переплет, ему под ноги, словно специально, чтобы он поднял голову и увидел искаженное лицо Эмилии, которую незнакомые мужчины оттаскивали от окна. Видела или не видела его Эмилия? Главное было сдержать себя и не поднимать больше глаз на разбитое стекло ситуации, чреватой стремительными последствиями. И, инсценируя глухоту, он пошел за спиной толкавшей перед собой тележку на колесиках старухи в вязаном жакете, глухота которой, очевидно, была естественной. Переложив сумку из одной руки в другую. Рассеянным, небрежным жестом запуская правую в пиджачный карман и снимая револьвер с предохранителя. Держа на экране сложенные крылья упавшего тома, более других похожего на некогда знаменитую монографию Северено Антинори «Клонирование и масонство». Неплохая идея: подать знак о провале, выбив стекло. Это не отдернутая занавеска или выставленный на подоконник горшок с гортензией. Бедная Эмилия, смелая Эмилия, кто бы мог подумать: вот и люби после этого мужчин. Он был настолько уверен, что не успеет дойти до своей машины, настолько был готов ринуться при первом же оклике в любую парадную, дабы выскочить в окно черного хода, что, идя по инерции за вязаной спиной старухи, чуть было не прошел мимо своего грязно-серого, как апрельский снег, «мерседеса». Все еще не веря, он забрался внутрь, швырнул сумку на заднее сиденье и, не понимая, почему его не останавливают, завелся с полоборота, развернулся и покатил по переулку, ведущему к набережной. Мысли мелькали быстрее, чем дома. Сменить номер. Предупредить того, кого еще можно предупредить. Срочно сматываться. Куда? Поменять машину: как? Наоборот, отвлечь внимание, выкинув фортель. Кузмин или Феликс? Пожалуй, Феликс. И, увидев выходящую из телефонной будки даму под вуалью с карликовым пуделем на поводке, резко затормозил у освободившегося таксофона… Ровно через два часа из сборного металлического гаража отца Александра выехал перекрашенный бессчетное число раз черный гроб, «опель-кадет» батюшки, с номерами, полученными тридцать лет назад, в середине семидесятых прошлого столетия; в то время как белый «мерседес», наполовину затонув, уже лежал на известной отмели у Полюстровской набережной, выбив предварительно чугунную решетку и перевернувшись в воздухе. Из воды виднелся только задний бампер с открытым багажником, сквозь серо-жемчужную воду обреченно светилась белая крыша. Все дверцы были распахнуты, намекая, что тело водителя, очевидно, выпало при первом ударе о решетку либо при втором — о воду и затонуло, утянутое течением на дно. Можно было гадать, несчастный ли это случай или самоубийство: пусть решает транспортная и речная полиция, заражая своими сомнениями агентов тайной полиции, — по меньшей мере, пока будет разматываться ложный след, время у него есть. Надежно урчащий мотор «опель-кадета» компенсировал чувство дискомфорта от потертой, а местами драной обивки, от стародавней лицевой панели с дремучими дедовскими приборами и помятого, перекрашенного корпуса. Однако сказать, что он ощущал себя защищенным, было бы преувеличением. Две остановки, на углу Колокольной и Владимирского и на Большой Мещанской, укрепили его подозрения. Шпики кишели вокруг нужных ему домов, опознавательные знаки недвусмысленно свидетельствовали о провале самых надежных квартир. Хотя явной слежки за ним еще не было, чувство, что его преследуют, что его местонахождение скоро будет раскрыто, что времени, увы, слишком мало для принятия единственного и верного решения, — это чувство не покидало его. По сути дела, оставалось одно место, один дом на Каменноостровском проспекте, куда он и держал путь. Едва он выехал из гаража, пошел дождь, сменивший белый полуденный жар с наивной яростью неофита. Дождь размывал перспективу, смывал следы, разгонял прохожих. Центр города почти весь был перегорожен, на площадях еще стояли танки, то и дело он натыкался на рогатки и мотки колючей проволоки; национальные гвардейцы мокли, исхлестанные влажным кнутом небесного раздражения; дворники с трудом раздвигали струи и потоки заливавшей лобовое стекло петроградской Ниагары. Забавно, но все повторяется. Жаль, что не захватил тот пародийный детектив из стародавнего времени, что сейчас вполне мог бы сгодиться в качестве пособия. Мало ли что придумал изобретательный автор вместе со своим alter ego: ловкий ход не исключен. Трудно, правда, сказать, что спасение посредством прекрасной незнакомки — верх остроумия, но банальные приемы потому так употребительны, что кажутся вполне достоверными. Погружение в женщину если не вдохновляет, то по крайней мере обнадеживает, а тоннель любви, благодаря мраку неопределенности, поделенной на его длину, намекает на мерцание света в его конце. Конечно, многое зависит от интерьера. Одно время ему хотелось написать историю путешествия заветного медальона в русской литературе, который сначала становится залогом любви, когда дрожащая ручка дарит его в осеннем помещичьем парке офицеру в простом военном френче, а затем ее обладательница умоляет вернуть опрометчивую улику детской слабости под сводами бального дворцового зала, прижимая руки то к груди, то к малиновому берету. В другом случае медальон — веский аргумент в споре отцов и детей, и его снимают с обреченной шеи, чтобы положить на комод перед делом, результат коего — увы! — предрешен. Или же медальон с портретом и локоном юной девушки выпадает из нагрудного кармана уже знакомого военного кителя, когда другая ручка гладит непокорные волосы (если поднять глаза, то над зубчатыми уступами гор плывет на север череда облаков — величественно девственная природа Кавказа), и чернокудрая обитательница сакли требует рассказа, чреватого для нее приговором. Что ж, женская любовь тем и хороша, что почти всегда несчастна. Ее неудовлетворенность есть источник антропологического движения. Ее способ манифестации задает тональность общественному менталитету. Ибо, как сказано совсем по другому поводу, если женщина духовно оплодотворяет мужчину и его поступок, то мужчина, в свою очередь, оплодотворяет женщину, тем самым замыкая круг. Конечно, наша героиня не княжна и не терская казачка, хотя, если подумать, вряд ли кто-либо мог помешать и им мастурбировать, если бы очень приспичило. И все же. Пусть она будет чем-то средним между монашкой и блядью не в том банальном смысле, что, тряхнув косой челкой, отдается направо и налево и ощущает горячий уголь между ног, который, во избежание пожара, надо заливать из брандсбойта, подключенного к фонтану слез. А просто — две бездны в душе: одна — белого экстаза, вторая — тихого ужаса от созерцания себя. Генезис такой натуры очевиден. Глупая, простодушная мать, отец — либо на полжизни старше и брюзгливо доживает свой век, либо бросает смазливую и порывистую дурочку, оставляя дочь в колыбели. Детство, по сути, без отца и демпфирующего мужского влияния, зато со всеми огрехами женского воспитания, какие только возможны. Капризная дома, она стеснительна со сверстниками, особенно в переходном возрасте, принесшем такие обильные и обессиливавшие ее месячные, что они больше напоминают плач зигзицы на Путивле по утерянной девственности и чистоте. А чисто подростковая угловатость (плюс апостроф греховности в душе) создает комплекс женской неполноценности, который не проходит и после того, как из гадкого длинношеего утенка она превращается в очаровательное создание с лебединым станом и брезгливым скепсисом по отношению к себе (что, надо сказать, только больше к ней привлекало). Структура ее души — жидкий двухполюсной магнит: с расстояния неудержимо притягивает, при сближении начинает отталкивать. Рассеянная погруженность в себя, борьба с сутулостью, полное безразличие к тому, что некоторыми чудаками обозначается как социум. Вместо мыслей об устройстве жизни — тяжкая, изматывающая мечта о любви, которая должна принести целостность, в действительности недостижимую. Юность — либо в английской школе с доминированием еврейского контингента, либо в архитектурно-оформительском училище с преобладанием иногородних. В любом случае — ранние романы и увлечения, заканчивающиеся ничем. Если это архитектурное училище, то милый друг неожиданно, за месяц до свадьбы, переключает внимание на другую, и она в припадке отчаяния выходит замуж за его приятеля, который ей никогда не нравился. Если английская школа, то сонное, неразбуженное существование между тоскливым бытом с быстро стареющей матерью, ненужным поступлением в институт и зеркалом в ванной, где ее отражение живет своей жизнью, для чего, раздеваясь по несколько раз на день, она имитирует патологическую чистоплотность. В вопросах секса муж оказывается убийственно техничен, но не в состоянии ни разрушить кокона одиночества, ни достать до задней стенки, оставаясь при этом настырным, неродным и ревнивым, как тасманский тигр. Часто после сеанса любви она забиралась в теплую ванну и мастурбировала ручкой от зеркала либо зубной щеткой, доводя себя до изнеможения. Она не сразу сообразила, что муж олицетворял как раз ту часть ее натуры, от которой она постоянно пыталась освободиться. Он, кажется, так и не понял, что попал впросак, женившись совсем не на той, ибо был введен в заблуждение ее беззащитной податливостью и восторженно-лучезарным сиянием глаз. Правда, глаза лучезарно сияли после английской школы, после архитектурно-оформительского училища они светились убаюкивающе мятным кошачьим светом. Жизнь кажется легче, если ее неудачи можно списать на счет внешних обстоятельств и смаковать свои и чужие ошибки, с мазохистским сладострастием бередя душу. Ревнивый и нелюбимый муж — находка для потерявшей (или ненашедшей) себя женщины; борьба с ним становится смыслом жизни и увлекательным спортивным состязанием вроде бриджа. Хотя что это нас все тянет на изломанных особ? Почему бы не изобразить женщину принципиально нормальную, хорошую, отнюдь не стерву, не инфернальницу, а невероятно простую и прекрасную без извилин. Ее секрет герой начинает разгадывать, скажем, в поезде, увозящем его от беременной третий раз жены в Крым невообразимо жарким и душным летом, превратившим вагон в эротический предбанник черноморского пляжа. Правда, герою не до эротики — завалившись на верхнюю полку, он корпит над сличением параллельных мест в жизнеописаниях супругов Панаевых, наверстывая упущенное в предродовой суматохе и спасаясь от зубной боли, удваивающей пульсацию на стыках рельсов. Ближе к вечеру боль стихает; Панаев с Панаевой окончательно расходятся; и он спускается вниз, в вагонный звон стаканов, потную духоту, в обычные железнодорожные разговоры об отсутствии кондиционеров: то-то еще будет завтра, когда приблизимся к югу. Но хорошо хоть жара, а не холод, вот сестра прошлым декабрем ехала в Красноярск к мужу, и на вторые сутки отключилось отопление в трех вагонах — за окном тридцать, в вагоне минус десять, дети, ничего предпринять нельзя. Из-за какой-то аварии впереди поезд по два-три часа стоит на каждом переезде, что делать — непонятно; женщин с детьми, сжалившись, пустили в коридор купейного вагона. Всю ночь на откидных стульях, здесь же с помощью кипятильника варится курица; кому-то удается отвоевать третью полку, кто-то из сердобольных пассажиров берет к себе в купе просто посидеть, но ближе к ночи каждый хочет спать, три плацкартных вагона в поезде не разместишь. С каждой крупной станции — совместная телеграмма-петиция в Управление железных дорог, после Урала — молния в Совмин, но телеграммы тоже не греют. Около какой-то водокачки, где стояли три часа, терпение лопается, некоторые отчаявшиеся с узлами побрели на огоньки домов по снежной целине к еле различаемой вдалеке дороге, смущенные слухом о расположенном поблизости военном аэродроме; через час большинство вернулось, так и не дойдя до жилья; сестра с племянниками думала, что уже все, живой с ребятишками не доберется, помог моряк, уступивший свою верхнюю полку на ночь, а сам отдыхал днем — в общем, кошмар. Да, откликается полная еврейка с усиками, все-таки, что ни говори, офицерская косточка что-то да значит, у моей мамы одно время был знакомый офицер, еще до войны, так вот; но восточной наружности парень, подозрительно едущий без вещей, не дает уплыть железнодорожной теме и тоже рассказывает, как прошлой зимой уезжал с Ленинградского вокзала, и, когда подали поезд, его вагон оказался с разбитыми стеклами, с незакрывающимися дверями, без белья, в коридоре — подтаявший ледок. У проводника, вылезшего из купе, да и то не сразу, а когда подняли шум, один ответ: из запаса идем, не хотите — можете не ехать. Время — под Новый год, билет достался с боем за двойную цену; пассажиры поднимают хай, заспанный начальник поезда только разводит руками, мол, ничем помочь не могу, идите сдавать билеты. Но как их сдавать, если новые достать невозможно. Поезд трогается, кто-то срывает стоп-кран, опять переговоры, ругань, опять трогается поезд, опять — уже по договоренности — стоп-кран. Появляется милиционер, начальственный басок, предъявите документы; однако на предложение составить протокол незаметно ретируется. Вместо него появляются блатные явно с желанием устроить разборку с тем, кто дергает стоп-кран; наименее стойких размещают по соседним вагонам и покупают обещанием устроить билет на завтра. Даже после отправления поезда самые настырные все не расходятся, составляя какую-то бумагу, благо нашелся один дока, ибо, ничего не поделаешь, маячит перспектива встретить Новый год на вокзале. Гейзер бурлит, то затихает, то опять шипит и брызгается, но тут появляется человек в железнодорожной форме с неожиданно предупредительными манерами и предлагает ехать другим поездом. По расписанию никаких поездов давно нет, даже дополнительные все ушли, абсолютно пустые платформы, всю группу ведут через железнодорожные пути к платформе пригородного вокзала, где стоит совершенно пустой, ослепительно сверкающий и ярко освещенный поезд с вежливыми проводниками, которые зазывают, как на восточном базаре: «Ко мне, пожалуйста, ко мне!» Внутри зеркала, ароматизированное белье, тихая музыка, чай и кофе, работающий вагон-ресторан, и на всех вагонах надпись: «Экскурсионный». Проводник, уже когда тронулись, объяснил, что этот поезд каждую ночь находится в резерве до утра, ожидая, не захочет ли какая-либо министерская жена прокатиться в Питер за покупками. В железнодорожных реестрах он значится под номером 69-бис, в народе известен как «Черная стрела». Тут же разговор переключается на разные фантастические истории, в основном дорожные байки, рассказываемые между прочим; исповеди от бессонницы в прокуренном тамбуре, удивительные попутчики, начинающие свои апокрифы хрестоматийными словами: еду я однажды в Воронеж, не спится, разговорился со старичком-соседом, угостившим меня перед этим коньячком. Слово за слово, я ему про одного своего знакомого, зарабатывавшего себе на жизнь тем, что ежедневно с разных почтовых отделений отправлял десяток ценных писем и бандеролей по фиктивным адресам в разные части света. Скажем, Уилмету из Розлин Институт в Эдинбурге (хотя никакого Уилмета в Эдинбурге, может, и нет, как нет и Розлин Института). И действительно, из десяти восемь приходили обратно с указанием, что такой адресат не значится, но одно или два обязательно — у нас или уже там, где ищут долго и старательно, терялись, — и ему выплачивалась полная оценочная стоимость письма или бандероли. В результате набегала сотня-другая в месяц, а неудача, то есть ответ, что такого адресата не существует, становится экземпляром в его коллекции, ибо погулявшее письмецо испещрено самыми невообразимыми штемпелями — от южно-корейских до израильских. Тут старичок, хитро усмехаясь, говорит: а вы знаете, я тоже коллекционер, достает дипломат с цифровыми замками и демонстрирует коллекцию медалей, от которой у меня глаза лезут на лоб, ибо среди его раритетов, приобретенных в основном за бутылку или иной спиртовой эквивалент, два Героя Союза, орден Льва и Солнца и знак «Летчик-космонавт СССР». Охи, ахи, вздохи, недоверчивые смешки, проводник тащит очередную порцию чая, облагороженного содой, идет взаимное угощение дорожными припасами; герой, освобожденный от гипноза зубной боли, ощущает себя словно родившимся из яйца. Лопается скорлупа, проклевывается глазок, и он, отряхнувшись от прошлого, видит перед собой молодую симпатичную женщину, почти девочку, визави, наискосок, сквозь мелькающие над столом руки. Она скромно и молча сидит в уголке рядом то ли с братом, то ли с сокурсником — он бесцветный, белобрысый, незаметный, с детским чубчиком, чуть ли не школьник, а она невероятно свежая, юная и очаровательная до захватывающего дыхания, с гривой пышных волос золотистого отлива, непрерывно отбрасываемых узкой рукой с трогательно вспотевшего лба. Взгляды встречаются с каким-то мягким взаимопроникновением друг в друга; и тут он как бы припоминает этот взгляд, который с любопытством обращался к нему и раньше, пока он ворочался в своей берлоге на верхней полке, закусив губу и испещряя только ему понятными значками лунные ксерокопии вечно женственного слоя «Современника». И с этого момента для него начинается двойная жизнь: одна вместе со всеми, за неумолимо вянущим вагонным разговором, постепенным разбреданием, тут же составившейся «пулькой»; другая — с нею, включая извечную игру взглядов, поначалу как бы случайных, скользящих, с вежливым экивоком извиняющейся улыбки, а ближе к вечеру чуть более настойчивых и продолжительных, с отдаленным привкусом чего-то запретного. Взгляд — как легкий незаконный удар ниже пояса, который принимается почему-то чуть ли не с одобрением, раз от разу все более явным. Но для начала вечер сгущается за окнами раздвигающего темноту поезда, звяканье стаканов сменяется шелестом расстилаемых постелей; дневной яркий свет в вагоне переключают на ночной, очертания размываются тающе-душным полумраком, занавеска пузырится над полуопущенной рамой окна; сквозняк, не разжижая духоту, врывается с сухим нажимом. Он читал под дряблым светом ночника, потом выключил и его; она лежала, закинув согнутую в локте руку за голову, в тонкой футболке, прячущей маленькие груди. Глаза постепенно привыкали к темноте: смотрит — не смотрит, нет, вроде закрыла глаза. И нарастающее предчувствие какого-то особенного события, непонятно какого — они не сказали друг другу ни слова; а, кажется, что может быть банальней игры в гляделки с незнакомой женщиной, едущей на юг вместе с мужем. (Давно, давно уже стало ясно, что белобрысый мальчуган — муж этой очаровательной девочки, хотя им на вид не было и восемнадцати, что за странная пара, не в десятом же классе они поженились, и он успел ей надоесть.) Но муж заснул тотчас, только положил голову на подушку, продемонстрировав перед этим худые выступающие ребра и черные плавки с аппликацией в виде вишенки. А его жена тем временем отдавалась взглядом незнакомому мужчине, лежащему напротив; и он, этот мужчина (чем не пародия на любовный роман шестидесятых годов), не любил, не желал никого сильнее — ни до, ни после. Какое-то сладкое сумасшествие и предчувствие спасения в облике обыкновенной женщины, предназначенной именно для него. О, это была отнюдь не похоть, хотя он и желал эту густогривую худенькую девочку больше всего на свете, и с ней было хорошо, как ни с кем потом, пока они любили друг друга в ялтинском Ботаническом саду, падая в кусты за первым же поворотом дорожки, и она сказала: не трогай, здесь у меня некрасиво, я бритая, уколешься. Она только две недели как сделала аборт и была лучше всех на свете, и потом, и после, и везде, но особенно там, в полумраке душного вагона, когда даже дотронуться друг до друга было невозможно, а только смотреть мерцающим взглядом, проникающим вглубь, в суть, в бездну, таинственную и спасительную. Потом, через несколько лет, когда любовная страсть не то что сошла на нет, а стала рутинной, он думал, что, быть может, имело смысл тогда не продолжать, оставив все в памяти, воображении как нетронутое чудо и неиспользованную возможность, чтобы мучиться, искать и надеяться. Женщина, предназначенная для любви, пеленгуется, как запретная волна, — каждый настраивается на нее, надеясь на спасение, хотя предрасположенность к любви такая же ловушка, как и все остальное. То сослуживец предлагает довезти на машине до дома, а вместо этого везет в лес, постепенно мрачнея лицом и теряя нить разговора, и, заведя в чащу, требует отдаться, угрожая ножом и расчлененкой. То ее, купившую туристскую путевку в Румынию, за микроскопическое нарушение правил провоза советских сушеных рублей задерживает таможня, и, запуганную, обманутую, вместо Румынии, якобы для выяснения обстоятельств, поселяют на три дня в захолустной гостинице, где толстый бровастый молдаванин, начальник заставы, заставляет отрабатывать прощение, которое оборачивается для нее внематочной беременностью в тот самый момент, когда решаются ее отношения с очередным возлюбленным, так и не перенесшим этого испытания. Но любил ли ее кто-нибудь сильнее того странного человека фантастической ночью в душном вагоне, во время которой они даже не сказали друг другу ни слова, он не дотронулся до нее, хотя голова шла кругом, и он чувствовал, что умещается в ней целиком, точно попадая в ласковый размер, а она впоследствии призналась ему, что с трудом сдерживала себя, чтобы не стащить футболку через голову, чтобы он посмотрел, какая у нее грудь. У нее была маленькая прелестная грудка, мальчишеская грация, и она могла говорить ему все про себя, даже то, что часто начиная с подросткового возраста ласкала себя то сама, то прибегая к помощи подружки. Как женщина она имела именно те недостатки, что нужны для любви во время войны или землетрясения, ибо была чутким и точным эхом, а то, что любила перемежать простые ласки сложными, придавало ей только особый стереоскопический шарм. Если прибегать к известной классификации, она была «губкой», созданной для того, чтобы только впитывать и отдавать, лишь когда потребуется. Однако нам, пожалуй, более бы пригодился «фонтан», умение формулировать, ставить в тупик и вести диалог, дабы не заставлять героя тянуть лебединую песню бесконечного монолога. Надо ли описывать, как сходятся мужчина и женщина, как преодолевают они барьер отчуждения, как сближаются, испытывая взаимное волнение; как мужчина, решившись — а, была не была, — якобы ненароком, дополняя жестом сказанное, кладет руку на колено или плечо, чего женщина, внутренне трепеща, на самом деле давно ждет. И как все происходит дальше, обрастая важными и неважными подробностями вроде рассказа о детстве и руки с трауром под ногтями, и… «Понимаете, прости, я опять на «вы», не привыкла еще. Не помню, кто рассказывал что-то похожее про одну даму, сестру то ли Фалька, то ли Малевича, в молодости писаную красавицу, от которой все сходили с ума за границей. Бессчетное число романов и интрижек, пока она не решила возвратиться в Россию, году, наверное, в тридцать девятом. Сделала последнюю остановку в Вене, где в нее безумно влюбился фон Паппен, президент Австрии; сумасшедшая неделя страсти, он делал предложение, умолял остаться, признавался в любви, она не соглашалась, ибо ей осточертели романы и любови, не приносящие удовлетворения. Хотелось трезвой, спокойной, рабочей жизни — конечно, была патриотка, не понимая ничего из того, что происходило на родине. Вернулась в Москву и, переходя вокзальную площадь, ошеломленная увиденным, восторженная, попала под трамвай, отрезавший ей правую ногу. Всю жизнь потом почти не вставала с постели, читала, писала, уверяя всех, что, только потеряв ногу, стала по-настоящему счастлива, ибо освободилась от беса. Хотя даже к одноногой к ней сватались, дом был полон разномастной богемы, сумевшей оценить ее пронзительный и точный ум; а умерла она совсем удивительно. Однажды, уже в возрасте пиковой дамы, оставшись одна в квартире, услышала, как открыли дверь и вошли грабители; приказали ей лежать: «Молчи, старая, а то прихлопнем!» — почти не обращая на нее внимания, стали искать и находить драгоценности, подаренные в той, другой жизни многочисленными поклонниками, снимать со стен бесценные картины Фалька, Филонова, Малевича. Она испугалась за свою жизнь и умерла от разрыва сердца. Такой остроумный ход судьбы, кошмар и одновременно освобождение, но я это все к тому, что ты мне рассказал: попытка уйти от своей судьбы неосуществима». Хотя в принципе разговор мог быть и другим: «Скажи мне вот что: скольких женщин ты любил в своей жизни?» — «Ни одной». — «И меня нет?» — «Тебя — да». — «А сколько еще?» — «Ни одной». — «А скольких — как это говорят — скольких ты знал?» — «Ни одной». — «Ты говоришь неправду». — «Да». — «Так и надо, ты мне все время говори неправду. Я так и хочу. Они были хорошенькие?» — «Я ни одной не знал». — «Правильно. Они были привлекательные?» — «Понятия не имею». — «Ты только мой. Это верно, и больше ты никогда ничей не был. Но мне все равно, если даже и не так. Я их не боюсь. Только ты мне не рассказывай про них. А когда женщина говорит мужчине про то, сколько это стоит?» — «Не знаю». — «А что такое «потеря тотипотентности» знаешь?» — «Нет, а что это?» — «Это так, прости. На меня иногда находит, я ведь два курса на биологическом училась. О клонировании слышал?» — «Нет». — «Просто иногда кажется, что все повторяется и будет повторяться». А за час перед этим: «Не надо, — сказала она. — Мама услышит». — «Иди ко мне». — «Нет, вам нужно думать о другом. Боже мой, что же делать?» — «Я люблю тебя. Перестань. Я не хочу ни о чем думать. Ну, иди же». — «Слышите, как сердце бьется?» — «Что мне сердце? Я хочу тебя. Я с ума схожу». — «Вы меня правда любите?» — «Перестань говорить об этом. Иди ко мне. Ты слышишь? Иди сюда». — «Ну хорошо, но только на минутку». — «Хорошо, — сказал он. — Закрой дверь». — «Нельзя. Сейчас мне нельзя». — «Иди, не говори ничего. Иди ко мне». Он заснул так, будто не лежал в постели с полузнакомой женщиной, будто не было за стеной ее матери, еще дальше — его жены, еще дальше — глухой, абсолютно непробиваемой неизвестности завтрашнего дня. Будто из одной эпохи провалился в другую, из одной жизни — в следующую, где еще можно все начать сначала. Ночью он несколько раз вставал, чтобы еще и еще раз посмотреть в зеркало на свое незнакомое бритое лицо и подстриженную почти «под бокс» голову. За семнадцать лет, пока он носил бороду и шевелюру, физиономия изменилась до неузнаваемости. В таком виде его не узнала бы и родная мать. Полупустынный город напоминал дурной, надоевший, часто повторяющийся сон: сиреневые сумерки, голые, как бритая щека, улицы, охрипше-усталое, с нотками недовольства, урчание мотора. Притормозил на одном углу, постоял, покопался в «бардачке», огляделся, медленно тронулся; остановился на углу Морской и Сенатской площади — слежки, кажется, не было. Припарковался у самого поребрика, между минибусом с дипломатическими номерами и обгоревшим, беззащитно обнаженным остовом огромной посудины, очертаниями скелета напоминавшей то ли «роллс-ройс», то ли «кадиллак» с откидным верхом, и дальше побрел пешком. Стараясь не выходить на освещенные перекрестки, прошмыгнул двумя проходными дворами и высунулся из подворотни ровно настолько, чтобы убедиться — свет в нужном окне (еще раз, второй подъезд, эркер, сломанный сустав водосточной трубы, зависающей над головой, да), свет в нужном окне горел, значит, еще не спят. Возможность ловушки была не исключена. Будь что будет. Слишком устал. Вот чем все кончается — усталостью, помноженной на равнодушие. Поднялся на третий этаж, прислушался — за дверью галдели, кажется, знакомые голоса. И нажал на звонок… Через полчаса с влажными после душа волосами он сидел в углу с сигарой и стаканом спиртного, вполуха прислушиваясь к оживленному разговору. — Ты предлагаешь мне лечь под коммунистов, как будто не было их реставрации, когда они тут же, только вернулись, стали тыкать всех мордой в говно? По какому праву? Потому что сменили название, потому что демократы оказались такими же голодными, гребущими под себя, как все те, кто пробует власть на язык? Но сколько, черт, можно, сколько раз можно верить и прощать? — Семижды семь, батюшка, семижды семь, дорогой. — Да поди ты знаешь куда со своим прощением. Мне остоюбилеили те, остоюбилеили эти. Мы каждый раз верим, что будет иначе, а все становится таким же. Вместо одной фразеологии — другая, а жизни как не было, так и нет. — Хорошо, ожидай, когда за тобой придут. Или ты думаешь, что тебе спустят то, что не спускали другим? Вчера взяли всех, кто был у Эмилии. А ты все рассуждаешь, размазываешь сопли — можно ли стрелять в бывших друзей и их солдатиков? Если мы не будем стрелять сегодня, завтра мы будем там же, где и все остальные, если только, как Ардашев, не останемся… — Про Ардашева лучше молчи в тряпочку. Мудак, начавший палить просто так, для понта, из-за него сколько невинных людей погибло. Притащить молокососов с пушками на площадь только потому, что крутой: бицепс-трицепс… — Ты бы поостерегся о мертвом. Если бы он привел не пятнадцать человек, а пятнадцать тысяч… — И что — было бы море крови, а так — семь трупов. И ты меня не совести Сенькой. Я, думаешь, его не жалею. Кто у Ленки провел две ночи, только чтобы как-то успокоить. Все ножи и веревки попрятал. Чуть не трахнул ее от жалости. Жена друга, никуда не денешься. Сенька Ардашев — мудозвон, добряк, депутат, — думал, депутатский значок спасет от пули. А он не спасает, понимаешь, не спасает. Но ведь… — Перестань ты думать о коммунистах. Их больше никто не потерпит. Давай здраво, спокойно рассуждать: зло или не зло то, что сейчас происходит? Развалить страну, озлобить людей, наобещать с три короба и опять прогнуться перед коммунистами, только их вынесло на поверхность. И опять взяться за свое, когда их смели. Но коммунистов больше не будет, нет никаких коммунистов — это все из прошлого. — При их втором возвращении так тоже говорили. И тоже на это рассчитывали. А как обернулось? Ты меня не уговаривай. Я сам могу поднять шестьдесят — семьдесят стволов. Но зачем? По какому праву? Как я буду смотреть им в глаза, если сам не знаю, что будет дальше, зачем мы будем стрелять в тех, кто будет стрелять в нас? Чтобы последние евреи и немцы могли уехать? Я будущего не вижу, понимаешь. Я не толстовец, но и не без креста. Лить кровь… — Ортега-и-Гассет… — Ебал я твоего Ортегу-и-Гассета, Хайека вместе с Сартром, мне… Голова почему-то кружилась. Он прошел на кухню, чтобы выпить воды, открыл кран и, пока пил, долго стоял — смотрел, как льется вода. Открыл сильнее. Бурлящие водовороты вокруг стока напоминали прозу друга Базунова. Кто теперь помнит его? Кому нужна головокружительная точностьи выверенность детали, мост между частным и общим, вообще благородное изящество стиля? А что нужно? Попытаться свалить очередное временное правительство, которое только устраивается поудобней, всерьез и надолго, словно усаживается на место, что пусто не бывает (а пока суд да дело, затыкает рты всем остальным, будто и не состоит сплошь из бывших демократов)? Нет у нас никаких демократов, да и не может быть. А есть лишь страх смерти, гнилая антропология, которую мы пытаемся преодолеть с помощью одной и той же национальной игры: свалить, стащить с постамента прошлое, чтобы тут же начать его реставрировать. Песочные часы. Он подставил под струю стакан, вода переливалась через край, разнокалиберными струйками, струями, каплями падала вниз, смешиваясь у стока в один бурлящий сотнями водоворотов поток. Вечер, перешедший в ночь, был в самом разгаре. Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая вращались. Кроме ma tante, около которой сидела только одна пожилая дама с исплаканным худым лицом, несколько чужая в этой оголтелой компании, все остальные казались навеселе. Общество тем временем разбилось на три кружка. В одном обсуждали проблему Ардашева. Во втором — есть ли шанс как-то повлиять на знакомых в правительстве и образумить их, заставив прекратить террор и отменить комендантский час. В третьем — как захватить какую-нибудь телебашню или радиостанцию, чтобы хоть на пять минут выйти в эфир и призвать всех к отказу от православия в знак протеста против благословения патриархом главы хунты. Хозяин дома, бывший депутат, неделю как лишенный своих полномочий, переходил от одного кружка к другому, как владелец прядильных мастерских, следящий за работой, стараясь не пропустить ни слова, важного для дела. Тишина за окном пару раз прерывалась воем сирен полицейских машин — все на секунду смолкали, отслеживая траекторию звука, а когда звук удалялся, продолжали начатое. В соседней комнате, дверь в которую была полуоткрыта, стоял стрекот пишущих машинок, ротатора, там что-то печатали, клеили, диктовали. Рядом, у экрана с формулой генома и схематичным изображением двуглавого ягненка, о чем-то взволнованно спорили люди в белых халатах. — Ну, Боб, — сказал хозяин, кладя ему руку на плечо. — Ты отдохнул? Что собираешься делать? — Надо отсюда уносить ноги. До конца комендантского часа… Твоя коробочка полна. Скоро за ней придут. Хочу на время исчезнуть из города. — А эти? — Бывший депутат махнул в сторону ученых. — Боюсь, не успеют. В любом случае их стоит перевести в более безопасное место. Всем остальным надо проспаться, меньше пить, меньше болтать. Я не знаю половины тех, кто сегодня у тебя. — Я сам не знаю половину, — признался хозяин. — Приходят, приводят с собой — не выгонишь. А кто такие? Почти наверняка есть агенты правительства. — Это хорошо. Пусть все закончится болтовней. Проследи, чтобы не было дат, цифр, имен. Пусть будет все в общем, будет трескотней. Я уверен, что тебя не берут намеренно — ты светишься сам, светишь остальных. Попробуй выяснить: кто знал об Ардашеве? Ведь его ребята не успели достать пушки, как по ним стали стрелять, я правильно понял? В принципе, можно узнать. Но и это не главное. Главное — спасти нашего ягненка. Это — последняя надежда. Если жизнь можно будет копировать, все остальное сразу станет архаикой. Уходи через полчаса после меня и предупреди всех, кому доверяешь совершенно. А потом… — И он притянул голову депутата к себе и зашептал на ухо. Уже светало, когда он, переждав нужное время в соседней парадной, нашел на прежнем месте оставленную ночью машину и двинулся к выезду из города. В кармане лежали документы с его фотографией, но на чужое имя. Его остановили на Каменноостровском, где транспортная полиция была усилена национальной гвардией, и на Приморском шоссе, где возле рогаток, колец колючей проволоки и шлагбаума кишели черные береты. И офицер транспортной полиции, и сержант-десантник явно ждали, когда их сменят, утренняя промозглость делала их хмурыми и неразговорчивыми. Беглый осмотр документов, взгляд в салон, какой-нибудь вопрос, разрешение ехать. В багажнике, рядом с запаской, лежали две коробки с перфолентами, а сверху сумка с провизией от Николая Кузьмича, дворецкого графини Люверс. А через час он уже разжигал камин в ее загородном доме в Куоккале. Казалось, все прошло благополучно. Ни слежки, ни погони, ни банального хвоста. Его, однако, не отпускало чувство невольной тревоги, он нутром ощущал сжимающееся вокруг него кольцо. Так просто его не выпустят. Значит, надо что-то придумать. Машину он предусмотрительно загнал в полузасохший ольховый кустарник на большой дороге, у поворота к кладбищу, в полутора верстах от дома. Садовый участок просматривался, кажется, со всех сторон, к даче незаметно подойти было невозможно. К тому же имелся второй выход. Тщетные надежды. Револьвер лежал в правом брючном кармане, в левом — запасная обойма. «Только не напейся», — говорил он себе, отхлебывая из стакана, пока занимался огонь в камине. Два соседних дома стояли заколоченными, лишь из двух-трех труб окрестных дач шел робкий дымок. Надо протопить быстро и энергично, чтобы потом закрыть дом изнутри и не выходить. Ночью чувство тревоги только усилилось. Дважды он вставал, курил, прижимался лицом к стеклу веранды; потом открыл входную дверь, отвратительно громко лязгая запорами, и помочился с крыльца в траву. Было тихо, поразительно тихо и спокойно, небо над головой, очевидно, было затянуто тучами, ибо не горела ни одна звезда, лишь справа над лесом, как фонарь сквозь воду, тускло светилась луна. Он вздрогнул — на соседнем дворе мяукнула кошка, зашелестело в кустах, он захлопнул и запер на все запоры дверь. Поморщившись, прополоскал рот водой, надо меньше курить, мелькнуло в голове; стараясь ступать тише, подошел к кровати и лег с краю. Две теплые руки обхватили его за шею. — Ты боишься, да, ты боишься, — зашептал голос, — не бойся. Я спасу тебя, они тебя не найдут. Они не будут искать у меня. — Перестань, — сказал он, отстраняясь. — Я не боюсь. Это другое. Мне стыдно скрываться, бегать от своей тени. Мне кажется, я заснул, а проснулся в другом теле. Может быть, даже не в человеческом. Был писателем, а стал аморибией под кагэбэшным микроскопом. Туго им, совсем на ладан дышат, если стали заниматься такой ерундой и мелочевкой, как литература. Что им здесь светит, не пойму. — Дача записана на мою тетку, — будто не слыша его, жарко дыша в шею, шептала она. — Они никогда не догадаются. Ведь о нас никто не знает, ты сам говорил, что вспомнил мой номер почти случайно. Мы можем здесь жить всю жизнь, и нам никто не помешает. Я все для тебя сделаю, все: поеду в Москву к Сидорову, сама сниму тебя на фото для паспорта. А кончатся деньги, ты только не беспокойся, я достану. — У меня в голове тесно. Будто разрушили запруду. Хоть сейчас пиши сразу десять романов — дрожь берет… — Ты дрожишь, тебе холодно, давай я тебя укутаю… — Дрожь берет — прямо сейчас сесть и писать. Но писать сразу все десять романов, которые вместе уже не роман, а рецепт, шифр, сообщение. Кому, зачем, я не знаю. Я так раньше интонацию будущего романа чувствовал, словно привкус лакрицы. И невидимого учителя — как самого себя в будущем. А теперь мы как будто поменялись местами. Я сам жду, что он мне скажет. А он молчит. И здесь никакой Париж, никакая эмиграция не поможет. Я не… — И не надо. Давай жить здесь. Я спрячу тебя ото всех. Будешь жить как трава. Не хочешь в Париж, не нужен иностранный паспорт и Сидоров, не хочешь, чтобы я к тебе приехала, — я уже знаю, что придумать, я приеду, где бы ты ни был. Но не хочешь, я все устрою и тут. Живи сколько хочешь, пиши, гуляй, я… — А дочь будет расти без меня, а жена — все поймет. Ты ей, конечно, все объяснишь: ваш муж, сбежав от кагэбэшников, прибежал ко мне, и нам так хорошо, что мы… Они помолчали, словно прислушиваясь к тишине, которая все равно становилась шершавой, гулкой и тусклой, словно дыра колодца на соседнем участке, где они брали воду. А еще вчера все казалось таким прочным и цельным. — Скобарь. Мерзкий скобарь. Негодяй, неблагодарный, как дупло. — Макс заиграл желваками. — Я позвонил ему из таксофона, чтобы не записали номер. Мы с ним учились с девятого класса. Я его знаю как облупленного. Всегда разыгрывал сноба, аристократа. А на голове — знаешь, как говорят, корова языком зализала, — такой заломленный чубчик. Человек, который умеет устраиваться и со всеми ладить: с коммунистами, демократами, Церковью, самим чертом. Я позвонил ему и говорю: «Григорий Саныч, ты — министр юстиции. Ты — благоразумный человек. Выступи с протестом, осторожным протестом, если такой возможен, приструни своих оголтелых патриотов, которые охренели настолько, что запретили генетические исследования из страха, что открытие достанется оппозиции. Ведь это шанс для всех нас, и без него ты и дети твои уйдете туда, куда уходили другие и никогда не возвращались. А он мне так, будто мы не знакомы тридцать лет. Не встречаемся на днях рождения по нескольку раз в год. Будто не я… да ладно. А он мне чуть ли не на «вы», чуть ли не Максим Максимычем называет. И какой-то бред: «Я стою на позициях правового государства и церковной морали. Моя задача — точное соблюдение закона при любых обстоятельствах». Как будто это законно: под предлогом борьбы с corruptio превратить страну в концентрационный лагерь. — А ты хотел, чтобы он заплакал тебе в трубку и попросил прощения? Он сделал свой выбор, ничего изменить он не в силах. — Да я это понял. Повесил трубку, быстро перешел на другую сторону, зашел в кафе. А через пять минут к телефонной будке, из которой я звонил, подкатили две машины с сиренами. Оцепили улицу, но я это видел уже из автобуса. Что делать, прямо не знаю, мрак какой-то. Уже смеркалось, когда он, проводив друга до станции, возвратился к себе в дом. Было безумием приезжать сюда, где в подвале хранилось не только оружие для роты солдат, но и весь архив многолетних исследований подпольных лабораторий по созданию альфофетопротеина. Всю ночь он составлял отчет, суммируя результаты последних недель. Есть ли в этом смысл, он сомневался. Может быть, осталось немного, а может — долгие годы. Да и что можно сделать в этом мире, если люди забывают уроки, как только они кончаются. Человек ненаучаем. Больно — отдергивает руку. Только зажило — тянется опять, как слепой. Противление злу не спасает, но и непротивление — тоже. Спасет ли бесконечное копирование и возможность исправлять прошлое, Бог знает… Солнце садилось за лесом, жемчужно-золотые лучики сеялись сквозь черную осеннюю крону деревьев, будто протискивались через щели в прохудившейся кровле. Раздетые деревья стояли, как изваяния, листья под ногами шуршали, как шуршат листья в сентябре. Еще за сто метров от поворота, снизив скорость, он стал внимательно разглядывать пространство вокруг дома. Его могли ждать за дровяным сараем с дырявым синим тазом на крыше, в даче по соседству, в самом доме, наконец. Он запустил руку в карман. Когда это кончится? Сколько можно находиться не на своем месте и играть случайную роль? Перед ним стояло три задачи. 1. Как выжить в этом разваливающемся мире, оставаясь чужим и не теряя себя, если водораздел проходит по самой жизни, памяти, близким, друзьям? И уже как следствие вопрос — стрелять или нет, если буквально сейчас из-за вон того ольхового куста выскочат клоны в плащах реглан и с пистолетами в руках? 2. Что делать с волоокой женщиной, которая ждет его в комнате на втором этаже? Как быть с ней, с ментами, что ищут его в городе, с женой и дочерью, которых он не видел уже неделю? Не может же он, отказавшись от числителя прошлого, начать жизнь с мнимой единицы, вычеркивая череду ужасно-прекрасных лет, прошедших, пролетевших, прошелестевших там, в шестидесятых и семидесятых. 3. Как быть, если одна жизнь кончилась, а вторая то ли не началась, то ли началась совершенно непонятно, отторгнув, отсеяв почти все, что было наполнено смыслом, и лишив ощущения безусловной правоты? Как объединить эти три проблемы, три составляющие стиля, не потеряв целого, которое и есть его жизнь? Дождь пошел как-то нехотя — штрих, нажим, пунктир; нарисовал мокрый лесок, осину на углу, лужи на дороге, легкий туман, насупившиеся заколоченные дачи. Ракурс, забранный мелкой сеткой. Почему нельзя жить прошлым? Потому что прошлое не спасает. Он открыл дряхлую калитку, скрипнувшую несмазанными петлями, и, ступая осторожно, пошел по убитой ногами тропке, узкой морщине, виляющей в траве. Чем ближе он подходил к дому, тем отчетливее сознавал, что кто-то (что-то?) ожидает его там, внутри, отделенный невидимой границей, переступить которую он обязан. Вдохни напоследок поглубже, набери воздух грудью. Сомнений не осталось, захотелось улыбнуться, стереть тыльной стороной ладони непрошеную влагу с глаз. Он поднялся по ступенькам крыльца, взвигнувшего второй доской: мы с тобой двойной орешек под единой скорлупой. Конец, начало? Распахнул дверь и, стараясь не слышать нарастающего, как гамма, шороха рядом, быстро закрыл ее за собой, окунаясь с головой в блаженную черно-коричневую темень с пепельным подпалом. Здравствуй, племя молодое-незнакомое!.. 1986, 1991Черновик романа
Последние комментарии
1 день 20 часов назад
2 дней 49 минут назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 6 часов назад