Воспоминание о счастье, тоже счастье… [Сальваторе Адамо] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Сальваторе Адамо Воспоминание о счастье, тоже счастье…
Из душной клети бытияТебя, Магритт[1], окликну я.Хоть знаю — ногти искрошитМне доводов твоих гранит…
И вот я у его изголовья, при двух титулах: правой руки и будущего зятя. Всего несколько часов назад он ещё думал, что я женюсь на его дочери, но, как оказалось, в патетический тот момент руку её сжимал я в последний раз — очень скоро она остановит выбор на более подходящей, нежели я партии. Когда обнаружившая его Зульма, домработница, отвела нас, меня и мадмуазель Легэ, на место драмы, последняя спросила сквозь рыдания, действительно ли он мертв. Не бросился я, дабы в том убедиться, грызть большой палец его ноги, хотя и рассказывал мне Фернан, что он в свое время проделывал подобные штучки. Как бы и что бы там ни было, но он был мертв и по причине, точно, злонамеренной. Недавно какой-то оригинал прислал ему… веревку, потом вторую, затем и целый ящик плетёной конопли выслал… Поди, узнай теперь, отчего ж это без малейшего сомнения принял Фернан ту посылку за приглашение повеситься. Наверняка веревка могла предназначаться для чего угодно, только согласитесь и ваше сознание помутилось бы, получи вы такой подарок. Готов поспорить, что и вы с выключенным светом не ложились бы спать, пока не разыскали бы обидчика, отважившегося на этакое послание в ваш адрес. Было отчего пасть духом. Вот Фернан духом и пал, и… очень сильно. Об уступке нажиму негласного приказа скрывавшегося под маской врага не могло быть и речи, даже если бы эти попрошайки и разыгрывали сцену неотвратимости спланированной экзекуции по законам сицилийской омерты. И это в Бельгии-то, в самом, можно сказать, сердце её! Пусть даже названную местность и орошают воды реки с красноречивым названием Эн, это ровным счетом ничего не значит. Что же касается всяческих там сицилийских преданий, то направо и налево сыпавший поговорками и прибаутками Фернан не мог не знать и такую: «Кто угрозы пишет на песке, тот получает ответ на мраморе выгравированным»… В ожидании худшего Фернан предпочел с этим худшим судьбу-то свою и разделить. Он пошел даже на то, чтобы собственную способность противления повешению взвесить; словно на безмене из своего кабинета. И надо же было такому случиться, что какой-то там стул — вот уж кто истинный самоубийца — взял да и предал его. Ну да, жизнь вел Фернан бесшабашную, ничтожную и непредсказуемую, однако, осмелюсь все же утверждать, что он прекрасно обошелся бы и без столь тесной, почти трогательной дружбы со смертью. На презентации кончины Фернана я, разумеется, не присутствовал, но именно так себе и представлял её, стоя у него в изголовье и сознавая, что, пусть хотя бы в мыслях, но остаюсь признательным тому, кто непременно одарил бы нас своим: «Вот черт, удрала-таки, мерзавка!» От дорогой его маман, в чьих глазах он оставался все тем же невинным малышом, благочестиво скрыли так называемый акт сыновнего отчаяния, приписав его кончине банальный вариант несчастного случая «с проломом головы от падения при попытке замены плафонной лампочки». — Прими его душу, Господи! — вздохнула мадам Легэ, в затянутой черным бархатом комнате одна одинёшенька со слезами на глазах… А вот это, пожалуй, вряд ли, мадам! Не мешало бы тебе, Фернан, при жизни быть более осмотрительным. Душа, это тебе не вставная челюсть. Да, она тоже твоя и ничья больше. Только челюсть можно вынуть, почистить и вставить назад, а вот душа, она одна и на всю жизнь, её не поменяешь. Бывают, конечно, исключения, как то, с Иисусом из Назарета, ему удалось-таки через три дня после утери снова вернуть себе все жизненные блага. Но Фернан не Христос и… что сделано, то сделано. Но, может быть Фернан сном праведника уснул? А почему бы и нет? Верно же то, что в последние годы память у него слегка ослабела — стерлись из неё, наилучшим образом подчистив совесть, если таковая вообще у него имелась, некоторые не столь уж и блистательные перипетии прежних лет. Так что, не смотря на скрытую угрозу тайных недругов и некоторых проблем со здоровьем, совсем впрочем, незначительных, не было у него и малейшего повода, чтобы прервать неспешный ход жизни, со стороны все еще казавшейся полной удовольствий. В общем, чертовщина какая-то!
Первым предвестником тяги к своевременному им забвению чего бы то ни было, к тому же с весьма плачевными последствиями, стал неожиданный, всего за несколько недель до свадьбы, разрыв с Люсьен, с невестой. Бросила-то его она, неблагодарная… правда, долгое время не получая от него ни весточки… В те времена призван был бедняга Фернан под знамена и, просто-напросто, позабыл известить о том Люсьен. Но подобное со всяким приключиться могло, разве ж не так? По возвращении нашел он у своей мамаши, Жоржет Легэ, в девичестве Навэ, годовалую девчушку… собственную дочь… на которой я чуть было и не женился. Ну да, цветочки эти быстро подрастают… и столь же быстро попадают на цветочный рынок… Чтобы не травмировать собственное чадо, ставшее новобранцем, мамаша Жоржет, не жалея себя самою, тщательно скрывала наличие вылупившегося у него приплода. Тем временем истинная мать, то бишь Люсьен, голубоглазая брюнетка с вполне, для своих двадцати лет, сформировавшимся характером, дочь свою преспокойненько оставила, объяснив это тем, что, дескать, вынуждена следовать за собственными родителями в Квебек, где в ту пору, похоже, было чем заняться и на что надеяться — несколько лет спустя Люсьен вышла замуж за Эмэ Санрегре, служащего квебекского похоронного бюро, ныне уже владеющего собственным подобным заведением неподалеку от Монреаля. Узнав об этом, Фернан, это он сам говорил потом, возненавидел дважды предавшую его Люсьен: сбежавшую, а затем и бросившуюся в объятия, пусть и находившегося на расстоянии в шесть тысяч миль, но, всё ж таки, конкурента. Чем же мог оправдаться Фернан в собственной причуде? Война закончилась, немцы сдались. Что же такого он больше года делал, что не сыскал свободной минуты, дабы черкнуть Люсьен хотя бы пару строк? Занят был по горло, как утверждал он сам. Шофером был… у генерала. Среди сослуживцев благородная эта миссия почему-то считалась «теплым местечком». Дабы в случае возобновления военных действий воинов своих не лишиться, все части приведены были в постоянную боевую готовность — их постоянно, по ложной боевой тревоге, перебрасывали с места на место, во время одной из которых солдат Легэ и попал в Вейден, под Колонь. И пока генерал играл в войну, Фернан дни напролет до блеска натирал свой Jeep, отдавая этому занятию все свои помыслы, без остатка. Не было для него никаких тренировок, ни ползанья по грязи, ни карабканья на пределе сил и дыхания по подвесным лестницам. В обязанности его входило лишь поддержание морального облика высшего офицера на подобающем уровне, через подачу тому безукоризненно чистого авто. Шел 1946-ой год… Телефон в ту пору вещью был экзотической, элитной. В минуты откровенности Фернан, положа руку на сердце, уверял нас, дочь свою и меня, будто догадывался, что кто-то рассказал-таки Люсьен, где он находится и та, дескать, все поняла и написала ему. Не дурно, Фернан, отличная уловка… Да только не было этого, каналья, никто и ни о чем ей не сообщал. Просто инсценировка эта устраивала тебя, позволяла тебе не помнить, что родители твои из своего сердца ее вычеркнули, в особенности твоя мать, которой трудно было сносить ее манеру ставить тебя на место по всякому поводу и без оного. Она хотела тебя сделать ещё лучше, твоя Люсьен, только раньше до совершенства тебя довела твоя доблестная маман. За те несколько месяцев, что длилась ваша помолвка, между двумя женщинами шла беспощадная борьба по навязыванию противоположных, несовместимых по сути методов возведения на пьедестал общего идола, тебя, Фернан, и то была твоя Голгофа! Но, прямо-таки с небес, в твой почтовый ящик свалилась призывающая на службу повестка и у тебя, для раздумий, появилось целых восемнадцать месяцев избавления. После трех дней неизбежного общения в Малой Крепости с военным людом, по выяснению профпригодности, тебе удалось настоять на признании твоей сноровки в управлении грузовичком прачечной семейства Легэ и ты с облегчением вздохнул, поняв, что бельгийская армия под началом союзнических сил доверяет тебе осторожно вести ее куда следует. Между нами, Фернан, ты что же и в самом деле не мог предупредить Люсьен? Или же предпочел удалиться, по зову собственной предосторожности и неконтролируемого порыва, на какое-то время и некоторое расстояние, после того замечательного вечера, когда Люсьен предупредила тебя, что у нее период плодовитости? Вот тебе, однако, и мораль: мерзавцу — мерзавка с прицепом… Она оставила тебе плод твоего собственного легкомыслия весом в три с половиной кило. По возвращению в Эн-Сент-Мартин ты уже был и сыном и отцом, в одном лице. Матушка твоя, не жалея на то сил, лелеяла и голубила малышку Франсуаз. У тебя не было выбора и в поиске имени её. Она была схожа с тобой как две капли воды и, чтобы заполнить пустоту твоего отсутствия, прародительница твоя вполне логично нарекла ее твоим вторым, из уморительного Фернан-Франсуа-Легэ, именем в женском, конечно же, варианте. Твоей маман, особе во всех отношениях достойной и плутоватой, хватило ума не назвать ее Фернанд, что уже в те времена вызывало улыбки. Между прочим, позже, все тот же Брассанс прицепил-таки обветшавшее прозвище к одной из рифм, неизбежно преобразованную и признанную подрастающим поколением прикольной: «Когда я думал о Фернанд[4]…» Малышка была столь мила, столь улыбчива и спокойна, что полюбил ты ее сразу же, как только оправился от ожидавшего тебя сюрприза — как ни как, а лишний рот! Увы, но к тому времени не было уже отчей прачечной, основанной Октавом Легэ, трудягой из трудяг, выдохшимся из-за упрямого и заносчивого нежелания оставить дело, которое должно было, в чем уверял и ты себя самого, обеспечить достаточный для получения твоей наследницей достойного образования доход. А ведь было же и у него, у этого семейного предприятия золотое времечко. В тридцать третьем Октав Легэ выносил хитроумный план расширения этого, казалось бы, совсем незатейливого занятия. Он предложил своей клиентуре чистку самых неприятных вещей, среди которых была стирка с дезинфекцией постельных принадлежностей со смертного одра усопших. Трах-тарарах! Победа! Скромное прежде предприятие завалено работой по горло, вынуждено расшириться и стать процветающим, на нём трудилось уже с дюжину работников. «Хорошее было времечко», — говаривала, вздыхая, мадам Легэ. Эйфория продолжалась до самой войны, что удивительно поставившей крест на делах папаши Легэ. Впрочем, осмелюсь напомнить — смерти нет дела до живых. Что и говорить, но, на войне, как на войне, потому-то приунывшие клиенты, отныне не имевшие возможности шиковать, оплачивая услуги прачечной, грязное своё бельё вынуждены были вновь стирать собственными руками. Уже в самом раннем возрасте, каждодневно, наблюдал Фернан за тем, как во внутреннем дворике некого строения городка Л., где проживало и работало семейство Легэ, происходила выгрузка матрасов и подстилок, пропитанных выделениями разлагающихся трупов. И придавал он им значения не больше, нежели сын какого-нибудь автомеханика пятнам и запаху отработанного масла, сопутствующим занятию своего отца. Вспомнил он об этом лишь осознав, что сам стал отцом, а листая военные сводки, вновь убеждался в вездесущности смерти. Без особого труда пришел он к выводу, что, взяв её в компаньонки, сможет отхватить кусок масла на свой кусок хлеба, сохранив при этом необходимую дистанцию между нею и собой. Одной лишь стиркой белья жертв её вечного благоденствия родительскому предприятию не обеспечить — усопшего в последнем его путешествии нужно сопровождать вплоть до последней ступени перрона. До него покойников Эн-Сент-Мартин отвозили прихорашивать и переодевать в соседнюю деревушку. Отныне был он, был рядом, здесь. Безжалостный, но предупредительный и заискивающий, невзрачный и толстый до невозможности, рассеянный или скорее забывчивый, не помнящий именно тех вещей, которые не хотелось держать в памяти, таков он и был, каналья Фернан! И, можно сказать, он преуспел! Но и про свою военную карьеру, с её подвигами, он, конечно же, не забывал, доказательством чему служили те несколько платков, что лежали в ящике его прикроватной тумбочки. Уверяю вас, были они чисты, но с завязанными на них, по три на каждом, узелками. Поди узнай, чему они должны служить памяткой. Сожалел ли о чём-то, наш Фернан? Или же каждый из узелков напоминал ему о неких жертвах, чтобы не перепутал он предполагаемых врагов? Ну, а может быть узелки те являлись наивным напоминанием о давних похождениях, о которых как-нибудь при случае, когда уже не смогли бы они кому-либо навредить, хотелось ему поведать? Или же, но тогда это действительно ирония судьбы, таким способом ему хотелось напомнить о самом важном — о том, что просто нужно жить! Может быть, тем самым утром, он был разбужен пугающим откровением бессодержательности своего бытия, то бишь бытия могильщика. Не довелось пострадать ему скрытым недугом, который мог затронуть его мораль, но был ли он при этом счастлив? Не хотелось ли ему обменять скромное провинциальное благополучие в этом богом забытом городке на «что-то этакое», пускай и не столь приметное, как коммерция на смерти, на некоторую сумасшедшинку, которая пусть накоротко, но подняла бы его над этим забавным с виду и ставшим для всех привычным домом, на втором этаже которого у него кров, но не было жития? Если бы он осмелился ухватить одно из пролетающих по небу над Эн-Сент-Мартин желаний, то что бы ему досталось? Да, ничегошеньки, кроме страха перед свершившейся мечтой, убившей в нем нечто такое, что вспомоществовало ему с удовольствием предаваться неопределенности. Мы погрузились в раздумья, которым время от времени мог бы предаваться всякий могильщик, да только не Фернан. Фернан, он всегда довольствовался лишь тем, что падало к его ногам уже лишенным всякой мистики. Он противился любому излишеству, которого не мог достичь. Он обрывал все маковки, но на высоте своего роста, и потому оставался во главе клана, частицей которого был сам, и в котором всё подчинялось чёткому стандарту метр восемьдесят пять на пятьдесят пять. Время покорежило его душу, оставили на ней свои отметины и те войны, которые он, не страдая излишней щепетильностью, развязывал и выигрывал. Сомневаюсь, что кто-либо пожелал бы обрести такую душу. Вот только переселение душ было меньшей из твоих забот, не так ли, прагматичный мой Фернан? Если же душа его и была бы ровней прекрасным, полным сил и свежести, то, всё одно, продать её смог бы он лишь единственному, известному на сегодня коллекционеру — дьяволу. Впрочем, и я, заинтересуйся ею дьявол, охотно уступил бы свою, в обмен на то, чтобы стать невидимым. Незаметность — вот главное! Старость не пугает меня, я уж понемногу старею. Как говорится, было бы здоровье, а возраст, он каждый по-своему красив. И потом, только с возрастом узнаёшь толк во всем, приговаривал Фернан. А по мне, лучше стареть так, чтобы другие не видели твоих морщин и сами не морщились бы при этом от наслаждения. Ну, а если, однажды, я больше не смогу скакать невидимым, то обопрусь на палку. Представляю себе свою палку, прогуливающуюся среди честной, недоверчивой публики. Да, это было бы чертовски забавно… а сколько пересудов-то было бы! Лучше уж сразу попросить у дьявола и палку невидимую. Вот только думать о том начинаем мы, достигнув преклонного возраста, по настоящему лишь состарившись, свыкшись с ежемесячными визитами к геронтологу для обследования нашего остеопороза, замедления жизненных способностей и дегенерации нейронов. Мы просматриваем на страницах полюбившейся газеты некрологи, дабы убедится в том, что нашего имени там нет пока… перед тем как привстать… быть может в последний раз…
Всё вокруг в то 2-е ноября 1986 казалось каким-то сморщенным, съёжившимся. В комнату мою и в меня самого просочилась поблекшими солнечными лучами осень. Начала с моего отражения в зеркале, затем принялась и за слетевшую через открытое окно с плачущих деревьев листву, устилавшую пол до самой постели. По правде сказать, помят я был из-за того, что подружке моей не хватило деликатности быть в такой важный для меня момент рядом со мной. Знала она преотлично, что родился я в ту самую ночь, когда все святые удаляются, оставляя авансцену мертвым, могилки которых близкие их ранним утром украшают цветами, а взамен уважаемые усопшие одаривают послушных малышей сицилийского происхождения подарками. Милое предание, бережно передаваемый из поколения в поколение красивый ритуал, пусть немного и смешная, но всё же память по усопшим. Конечно же, надеялся и я, что кто-то из пращуров одарит и меня, приведя ко мне мою возлюбленную. Дабы не заставить до утра лежать на половичке возле входной двери, прождал я её всю ночь, не смыкая глаз… и напрасно — вся жизнь моя пошла насмарку, в довершение тому брюки оказались мятыми и не грелся утюг. Вот и пошел я по зову не устоявшейся привычки через парк, который терпеть не могу! В сорочке цвета морской воды с накрахмаленным воротником, под костюмом-тройкой в серую полоску, задыхался я тем утром как никогда. Наметившаяся полнота несколько раздвигала прутья грудной клетки, но не настолько, чтобы из неё можно было ускользнуть. Весь я потускнел, едва осмеливался дышать. В Галереях, большом местном магазине, где я отвечал за отдел «тонкого белья», никому и ничего не было известно, конечно же, о моей годовщине. Но я, все ж таки, был шефом отдела. Да, меня обзывали Полифемом, сравнивая с неусыпным оком: из профессиональной надобности положено держать его мне всегда открытым. И ещё потому, что тот был самым известным из циклопов, и коллеги мои, продавцы и кассиры, слышать могли только о нём. Если бы они называли меня Аргес или Стеропес, я порадовался бы их эрудиции, но оставим это, так будет лучше. Сальваторе, некий, как и я, продавец сицилийского происхождения из Асиреаля, что между Мессиной и Катаньей, часто их поминал. Он-то знал, что вдоль всего берега родного острова моего почти в каждом курортном местечке торчит в море скала, которую циклоп, согласно Гомеру, в гневе бросал в голову лишившего его единственного глаза Одиссея. Даже самому невежественному жителю Сицилии известна притягательная сила имени Полифема для туристов. Уверен, что кроме этого ничего не ведал из нашей обильной мифологии даже педант Сальваторе. Ну да, я отвечал за продажу женского белья, что ж в том такого? Повода для иронии не вижу. У меня острый и неусыпный глаз, за что мне и платили. У клиенток с пустым кошельком, уверяю вас, свои уловки по дармовому обновлению исподнего, только со мной фокусы их не проходили. Именно верному своему нюху обязан я и встрече со звездой жизни моей. Но об этом расскажу я вам как-нибудь позже. Не сегодня. Хоть бы одной из девиц нашего отдела взять да и улыбнуться мне в намек на годовщину! Так, нет же, ничуть не бывало. Одни заняты укладкой — по типу материала, размеру и расцветке — чулочных поясов, лифчиков, комбинаций, трусиков и по моделям — мини, миди, макси. Другие ждут, пока клиентки в кабинках с недоумением пытаются втиснуть свои округлости в 85В перед тем, как смириться с необходимостью в 9 °C. От шелка к нейлону, от полиамида к хлопку, от вискозы к эластану, так и дурачились продавщицы мои, ни малейшего внимания не обращая на мою персону. Это их работа, скажете вы. Ну, да, конечно, само собой разумеется. На стеллажах, прямо посредине торгового зала, высилась гора трусов. По внешнему виду выпущены они были еще в довоенную эпоху и пришло время их выбросить, но я пустил их в распродажу под вывеской — Шарм минувшей эпохи. В преддверии зимы были здесь, конечно же, и на подкладке из мольтона, и из нераспускающегося трикотажа, и упрочненные эластином — на любой вкус, любого размера… Время было раннее, торговые залы пустовали. Радуясь перспективе освобождения от залежалого товара и ткнув пальцем в нагромождение вышедшего из моды белья, я обратился в никуда: «Вот закончим с этой грудой и займемся свежачком!» Лучше бы я эту шутку, черт бы её побрал, не выговорил. Не видел я, что как раз в то самое время, в занятой почему-то без моего ведома примерочной кабинке некая дама, скажем при телесах, терзала бедный лифчик размера 110D, напоминавший по виду небольшой гамачок. Кабинки отгораживались полотняными занавесками, тирада моя ускользнуть от неё не могла, жест же мой, указующий на истинный предмет восторга, остался дамой незамеченным. Прикрыв грудь шторой, она высунула наружу растерянную физиономию: — Груда? Любезность ваша мне адресована? Я застыл, парализованный размахом грядущей катастрофы. Дама ни в жизнь не поверила бы, что усмешка моя целилась не в неё. Вместо того, чтобы увязнуть в объяснениях — искренние, они лишь усугубили бы её досаду — я оставался безмолвным. Она же принялась поносить и оскорблять меня, обзывая тайным поклонником эротики. Ей, видите ли, было невдомёк, какого черта в отделе женского белья торчал какой-то там мужчина, обещала поговорить об этом со своим кузеном, оказавшимся ни кем иным, а директором этих самых Галерей. Мсьё Дюпла потребовал, чтобы я принес мадам, его кузине, свои извинения. Не чувствуя за собой ни малейшей вины, я не стал подыскивать подобающих слов, которые ровным счетом ничего бы не изменили. И потом, мне казалось, что извинения должны были быть вынесены в мой адрес — я и так унижен согласием своим, при моей-то ученой степени, на дерьмовую эту работёнку, где, к тому же, беспричинно обвинялся в недостатке воспитания. Пускай, ступенька мсьё директора на иерархической лестнице располагалась и выше моей, но я себя с ним, хотя бы по благородству, оценивал ровней. Он потребовал от меня следовать за ним, я же просил предоставить мне перед тем, чтобы собраться с мыслями, чуточку времени. Унижение и учинённая выволочка казались мне незаслуженными и несносными. Основным поводом молчанию моему являлась несокрушимая воля к сопротивлению скверным манерам… и ничего более! Я схватил по швам трещавший от бредовых моих идей дипломат и с достоинством, насвистывая и неспешно лавируя между отделами, принялся прохаживаться по проходам торгового центра. Давненько я не осмеливался извлечь на свет божий звезды, цветочную амбру и залитые полдневным солнцем пляжи. И стало страшно вдруг, что море окажется не в состоянии затмить собою те деликатные вещицы отдела, что лучше всего продаются лишь потому, что они из Парижа. И поди ж ты узнай, отчего любая тряпка из «блистательного» города обладает столь загадочной притягательностью для женщин. Вот и производят их с радостью, эти неизменно «восхитительные, очаровательные, волшебные, бесподобные» выдумки и причуды из Парижа в каком-нибудь Рубэксе или на Тайване. Отдел же в течение двух лет, мною ему в жертву принесённых, впечатляющие результаты по их продажам выдаёт.
Я вдохнул полной грудью и заявил себе самому, что отныне это не моё. Мне требовался моральный отпуск. Директор ждал меня у себя, в то время как я стоял перед тамбуром, ведущим на свободу. Со словами прощания повернулся я в последний раз в сторону неблагодарной публики, готовой через несколько минут заполнить все ходы и выходы и, спустя мгновение, очутился на улице, как если бы вышел за пачкой сигарет. Только я не курю, а вот в Галереях меня больше никто не увидит! Сил здесь, однако, потрачено моих ох, как немало. Невинным, целительным шалостям за незримо проносящиеся восемь часов работы предавался я не более пары минут и то лишь в воображении. А в начале все было иначе, о работе, наоборот, думал я лишь в редкие моменты надобности. Я старался быть прозрачным и занимался лишь тем, что создавал видимость своего присутствия там, где меня не было. В Италии на многих фирмах всегда есть свободный стул, на спинке которого висит, напоказ, пиджак. Можно подумать, что его хозяин отошел справить нужду, на самом деле ничуть не бывало, хозяина на месте нет весь день, с самого утра. Ловко? То-то же. Вот и гуляет пиджак иллюзорного хозяина из кабинета в кабинет, и всякий служащий пользуется подобным мошенничеством по-своему. В начале карьеры я вроде как присутствовал на месте, но на стуле находилась лишь моя телесная оболочка. Уразумев, что коллеги на удочку не ловятся, я сменил тактику и превратился в надсмотрщика, в истую шавку. С моей стороны все было серьезно, без полумер. Однако им и это не понравилось. Тем хуже для них, им это ещё предстоит понять. Не ведают, чего теряют. И тем хуже для неё, изменницы этакой. То целых два месяца не отставала от меня, а тут не явилась на мое тридцатилетие. Завтра о ней и не вспомню, пусть катится! Чуть погодя, проделав по улице несколько шагов, я уже состряпал себе и своё ближайшее будущее. Займусь-ка искусством, запишусь на вечерние курсы, стану музейным завсегдатаем, упьюсь красотой и до краев наполню глаза невиданными ранее формами и красками. Вместо неё. Она больше не существует! И никаких «но»! За кого она себя принимает? Задавака!
Из свободы своей я решил выжать все по максимуму и навестил родителей, которых очень уж давно не видел… Мать, как обычно, кофе угощает. Отец ударяется в воспоминания и я, в который уж раз, растроганно выслушиваю их. «В посёлке Зелёный Крест, как и на всех окрестных шахтах, жизнь наша шла своим чередом. Что только не мы делали, а уголь нас с утра до вечера доставал. Ни на минуту не давала нам спуску угольная эта пыль — не смотря на ежедневную уборку, в кровать набивалась, покрывала небо, листья на деревьях, траву в полях, облака, дома, шахтеров, жен их, детей, любовниц, пищу, воду, да и мозги тоже. «Молотые с чернотой» — говорили про нас, и так оно и было. У меня черная пыль на зубах хрустела, вы ею дышали, ели её — мать твоя, сестра твоя и ты. Жизнь наша была по-настоящему черна, дощатые перегородки бараков, крыши гофрированного железа, всё было покрыто толстым слоем угольной пыли, так что даже в редкие минуты отдыха разговор снова крутился вокруг угля. И все же в своем, увы, карточном, замке мы были счастливы… с приближением зимы дрожали, конечно, в нём от холода и мысли, как бы северный ветер не сорвал крышу, под которой частенько вспоминали мы нашу прекрасную, бедную Сицилию… Ты, поди, того и не помнишь, мой мальчик! — Да, нет же, отец, всё я помню… Прошу, прости меня, ма… только почему же у ног-то моих вы лежите и отчего это имена ваши на камне выгравированы? И, не получив ответа, ухожу… с кладбища.
После провожу пару часов в городском парке Эн-Сент-Мартин, облокотившись на перила, покоящиеся на балясинах из цельных деревянных стволиков, переброшенного через искусственный пруд бетонного мостика, прочищая мысли свои от черноты. Пышные ивы оплакивают меня, рискуя вызвать во всей округе наводнение. Спасибо вам, мои «плачущие сестры». Приободренный их трогательным сочувствием, с грехом пополам пробую зачерпнуть горсть надежды из той благодушной эпохи, где я, склонив голову к рулю маленького велосипеда, мчусь навстречу своему блистательному будущему. И вот, вновь оседлал я ту самую Фландрию детства моего и все «вернулось на круги своя», и еду я по дороге в школу. Еду вдоль канала, через шлюз, обгоняю ломовую лошадь, тащившую груженную горой угля шаланду и, спустя мгновение, исчезаю в туманной пелерине той самой Фландрии. Я давлю на педали так, словно от того зависит моё существование, вся едва начавшаяся моя жизнь. Я преследую свою мечту, которую так и не смог с себя смыть, столь сильно въелась она в кожу мою. Потому разношу её на себе повсюду — на черную доску шестого, «продвинутого» С, на свой гербарий, на квадрат гипотенузы Бермудского треугольника, на разбитых Карлом при Пуатье сарацинов, на прямые и косвенные дополнения, на звонок на перерыв и на щеки Клементины, которые отзывались на все это краской одобрения. А на обратном пути, почти в сумерках, маленький мой велосипед продолжает свой полет, грациозно лавируя между кораллами облаков с золотистыми нимбами. Но тут, откуда ни возьмись душераздирающее воспоминание — зеваки облепили труп утопленника, некоторые под маской смерти разглядели то, что не видели на живом лице: «Марокканец!» Вынужденный опустить ноги на землю, я не в состоянии противиться желанию посмотреть на первого в моей жизни «мертвого взрослого» и протискиваюсь меж двух ротозеев, которые назидательно советуют мне идти мимо, спектакль, дескать, не детский. Не смотря на оливково-зеленый цвет его лица и черноту губ, я тоже его узнаю, то был «чужак». Прогуливающимися их можно было увидеть лишь в ярмарочные дни, мы расступались перед ними, потому что «от них нужно было держаться подальше». Да, в ту пору так оно и было, а теперь мне стыдно, что и я позволял расползаться зловонной той идее вместо того, чтобы ей противиться. Меня оберегали в мои двенадцать лет и пытались воспитать во мне уважение к «нормальности», к слепому отказу от различий. Сын иммигранта, с трусливым душевным томлением уверял окружающих придурков я в том, что моя «итальянскость» находится на пути к соглашательству и интеграции. Придурки были всегда и племя их, к сожалению, не стерильно. Напротив, размножаются эти скоты с невероятной скоростью! «Марокканец!» — разносит эхо. «Ай, не так это уж и страшно», — думают многие, хором…
В то самое 2-е ноября 1986-го время, бывшее некогда моим и которое катал я когда-то на багажнике своего велосипеда, перескочило на ходу на Кавасаки 900. И не стало канала, вместо него автострада… Нет больше утопленника, что хорошо, да полно иных неудачников, как и тех, кому на все это начхать. Ну, что ты будешь делать, даже хорошие воспоминания выруливают на серое и черное, лучше уж вовсе ни о чем не думать. Я перебрался через Эн, чтобы вновь оказаться в центре городка. Пошел по улице Кальвэр, что на задворках храма Святого Мартина, в котором двадцатью годами ранее доводилось мне участвовать в богослужениях певчим детского хора. Я прошел вдоль стены длиной метров с пятьдесят, разделенной по средине металлическими воротами и остановился возле витрины похоронного бюро Легэ. Поддавшись сиюминутному настроению, я остановился, чтобы рассмотреть четверку сверкающих, величественных гробов с золочеными ручками, в стиле рококо, и барельеф сострадающего Христа, тоже из дерева. Один из гробов, ослепительной белизны, показался подходящим даже мне, ходячему трупу, коим стал я. К счастью та моя часть, что пока еще оставалась живой, заметила приклеенный к катафалку листок. Там было сказано про срочное предложение стажировки в проведении похоронных церемоний, а иначе говоря, места подмастерья могильщика с последующей перспективой постоянного найма. Листок был явно не первой свежести, похоже кандидаты в борьбе за место свалку не устраивали. Продолжая находиться в полукоматозном состоянии, представил я себе, слово в слово, уведомление об увольнении в связи с допущенными мною серьезными промахами… на бланке Галерей и за подписью мсьё Дюпла, которое я вскоре должен буду получить: «… ваше возмутительное поведение сего дня на рабочем месте поставило под удар репутацию всего магазина…» и т. д., и т. п. Хорошо, хорошо, все верно! Следуя зову инстинкта, я переступил порог тяжелой и серой, как моя жизнь, входной двери и тут же увидел Фернана Легэ. Впервые. То ли мина моя ему приглянулась, то ли что ещё, но в глазах его, от встречи с первым и единственным кандидатом на вакантное место, явно засквозила радость. Я тотчас почувствовал к будущему патрону симпатию, заполнил контракт по найму, который и протянул ему с застенчивой, но вместе с тем и полной признательности улыбкой за неожиданно быстро проглянувший лучик солнца. Видели бы вы его, когда он узнал про день моего рождения. Он буквально ликовал: «Нет, так не бывает… Жулиано Кросе, это же означает «крест», если я не ошибаюсь, так сказать, животворящее начало, изъявил желание стать служкой в похоронном бюро! Не иначе, как само Провидение прислало тебя. Вот что, парень, если ты в своем уме, значит ты не промах и за это нужно выпить! Откуда ты такой, чем же ты занимался всё это время, почему столько заставлял ждать себя, спаситель ты мой?» Я пересказал ему сценку, закончившуюся моим увольнением, и он расхохотался до слёз. Потом вызвал секретаршу, бывшую к тому же его дочерью, радостно представил нас друг другу и откупорил бутылку шипучки, стоявшую у него под рукой на всякий несчастный случай, будь то катастрофа или прочий катаклизм, коих у него насчитывалось не меньше десятка. «Добро пожаловать и с днём рождения тебя, Жюльен! Ничего, что я называю тебя Жюльен? Послушай, я займусь тобой, парень, вылеплю тебя, станешь свободным, как я… Мы с тобой теперь вместе до конца дней… Да пребудет всё, с чем связан ты на земле, и на небесах…», ну, и так далее. Кто сказал, что дело утратило предмет страсти? Этот человек дожидался меня многие и многие годы. Не было у него сына, была лишь дочь, Франсуаз, с которой я только что познакомился. Он вспомнил ту счастливую пору, в которую ценили труд похоронных дел мастеров и в которой, я уже вам о том как-то сказывал, грыз онбольшой палец ноги поступившего к нему клиента дабы убедиться, что тот ушёл из жизни окончательно и бесповоротно. «Знал бы ты, крышки скольких гробов исцарапаны изнутри», — с улыбкой доверительной нашептывал он мне. Милый и назидательный подход к философии профессии… бр-рр-р! я содрогнулся от ужаса. — И смерть случается забавной, — пошутил он, протянув мне руку, которую я вежливо пожал, прежде чем попросить у него отгул.
Вышел я от Легэ без лишних вопросов, как если бы только что подписанный мною контракт стал всего лишь последним, само собой разумеющимся «па» из тридцатилетнего кружения в вальсе моих сомнений и проволочек, а та «корявая, с косой», всегда желавшая иметь у себя на службе персону мою, устала пинать меня и передала все полномочия на меня не кому-то иному, а именно Легэ. Вновь представил себя малышом, единственным сыном, не год и не два владевшим правом на отрешенность, грусть и недоумение, стоящим рядом с какой-то оранжевой коробкой, размером что-нибудь восемьдесят на тридцать, с неподвижным ребенком, серого цвета, неестественно молчавшего внутри… с навсегда закрытыми глазами. Я регулярно видел у мамы вздутый живот и ласково говорил: «Мама, ты слишком много ешь», смутно догадываясь при том об истинной причине её тучности. И она всякий раз находила в себе силы весело рассмеяться. Я смеялся вместе с ней, сидя у неё на коленях и теребя её волосы. Через несколько месяцев раздавались крики — то днем, то посреди ночи, не взирая ни на какие правила… Тетка моя, Тереза, убегала в поселок и спустя каких-нибудь полчаса всякий раз возвращалась сопровождаемая неизменной матроной, которую все почему-то называли акушеркой. Никто и никогда не осмелился просить её о дипломе. Вход в родительскую комнату мне был настрого заказан, я присоединялся к толпившимся возле двери в ожидании результатов акушерского вмешательства немногочисленным соседям, догадываясь, что вскоре ещё одно дитя предстоит предать земле. Было их пять, пять девочек… прежде чем одна моя сестренка, Сарина, выжила… Должен ли я был воспринимать себя самого, как чудом избежавшего злой участи? Я был первенцем, перворожденным. Родители мои отметили появление мое со всей, подобающей Сицилии, заносчивостью. Как требовала того традиция, повитуха для первого моего омовения приготовила ароматический отвар, в который подбросила рису, дабы окрепли мои ножки. Затем, коль скоро я был мальчиком, смывки с помпой были выплеснуты на улицу, в случае с девочкой их вылили бы в отхожее место. Милых дам прошу не сердиться на меня, я тут ни при чем и уверяю вас, что ныне традиции эти утеряны. И так, всегда непредсказуемо, но вместе с тем и неумолимо, позволив подзабыть о своей последней победе, смерть вновь представала передо мною, как всегда в роли триумфаторши, чаще всего одеваясь в младенческие одежды, иногда же представляясь водой, а поскольку клеилась ко мне она постоянно, я начал привыкать к её отвратительному присутствию. Эта Курносая в прямую насмеялась над всей нашей семьей ещё раз. Как-то, воскресным вечером, возвращались мы с ярмарки. Мама шла по проезжей части и толкала перед собой коляску со спящей в ней сестренкой, мы с отцом шли рядом по тротуару. Неожиданно раздался визг тормозов и, прежде чем мы поняли, что же произошло, в четырех или пяти метрах от нас в фасад дома, где спустя несколько мгновений оказались бы и мы, врезалась какая-то машина, что смела бы, как кегли огромным шаром, и нас. Мама упала без чувств. Обняв меня и поцеловав ручонку сестры, папа поднял её и присел, с ней на коленях, на ступеньки магазина игрушек, возле которого все и произошло. Я придерживал коляску и вожделенно разглядывал все эти Динки Тойс. Столько раз слышал я о них от своих одноклассников, а теперь вот они, рядом, залитые иллюминацией, но в недосягаемости. По правде говоря, во мне вибрировал сочный аккорд мечты обладания, но я довольствовался и её виртуальностью, она нисколько не стесняла меня — ведь, даже не читая Мишо, знал я про необъятность «внутренних ощущений», которые всегда остаются при тебе, со всем своим скопищем прекрасного.
Вот собственно и всё, о чем думал я, выходя от Фернана Легэ, только что подписавшего со мной «контракт» ассистента похоронных дел мастера. И вынужден был я признать, что все прошлое моё было тому поводом и, судя по всему, было все у меня, чтобы преуспеть.
Почему же продолжаю жить я среди всей этой безысходности, спросите вы меня. Сам не знаю. Виной тому, несомненно, память о родителях, которым и мощеный-то подъезд к дому был успехом на пути социального развитии. Впрочем, они были бы много довольней, живи я в районе попрестижнее. Но, тут и своеобразный вызов, и сострадание, и потаенная надежда какого-нибудь чинушу, заинтересовавшегося загнивающими здесь излишками отчетности увидеть. Что ни говори, а в золоте и я не купался. Жалование шефа отдела в Галереях позволяло мне быть и поамбициозней, только не задумывался я как-то об этом. Честное слово, о переселении начал я всерьез размышлять лишь после визита ко мне возлюбленной моей. Но она, по причине известной лишь ей одной, настояла на том, чтобы остались мы в этом жилище, и непристойный городской квартал обрел блистательное её присутствие. Я же перестал смущаться окружения, приспособившись к его отзывчивости. Как бы там ни было, но я оставался почти по-ребячески покладистым… как в той истории с моим псом Бабелютом, помеси овчарки, пуделя и, наверное, далматинца. Лет семь мне тогда было, мы всё ещё жили в деревянном бараке. Как-то раз, после окончания уроков, напрасно дожидался я его возле школы, куда приятель мой по детским забавам моим имел обычай приходить на встречу. С наихудшими предчувствиями обыскал я весь наш городок, но Бабелют так и не нашелся. Домой вернулся я весь в слезах, с ужасом представляя себе самому свалившиеся на его голову несчастья. Несколько дней ждал я его, храня надежду на то, что он попросту не может выпутаться из какой-либо неприятности, затянувшейся, но отнюдь не фатальной. Постепенно, пусть и весьма болезненно смирился я с неизбежностью утраты. И вот тремя неделями позже, отец мой приводит мне собаку. На первый взгляд почти Бабелют — такой же задира, те же два абсолютно разных уха, одно обвислое, второе торчащее вверх, рыжие и черные пятна на белой, слегка вьющейся шерсти. «Ну, вот и он! — горделиво заявил папа, довольный сам собой. — Конец разлуке! Это же он, узнаешь его? Он-то тебя узнал, смотри как лижется, а хвостом как машет! — Да, папа, конечно это он. Спасибо, па!» Целую отца, стискиваю Бабелюта. Отец счастлив, и я, не желая огорчать его, не осмеливаюсь сознаться, что несколькими днями ранее отыскал свою собаку мертвой на краю ручья, пересекающего угодья фермерши Лизы-четырнадцать-ляшек, было у той семь дочерей… откуда и заумное это её прозвище. Там его я и похоронил, никому не раскрыв своего секрета.
В результате 2-е ноября 1986-го, в дополнение к свершившемуся курьёзу, зависло между нетерпением и отчаянием. Рассеянная моя подружка о годовщине моей не вспомнила и на лестничной клетке не дожидалась. При всём при этом, мне предложено новое амплуа. Смотрю в небо за окном, припудрившее Ситэ первым снегом, скрасившим неудачи уходящего дня. В ноябре снег, в декабре Рождество, думалось мне тупо и в том же духе продолжилось: в мае, после апреля — Пасха… и то, и другое у продавщиц Галерей почему-то вызывало хохот…
И довелось мне всё это познать, а как же… Смерть одних может стать источником забавных, порой уморительных историй для других — суровый закон единства сопричастности и отстранённости. Десять тысяч погибших при катаклизме в какой-нибудь там банановой республике отзываются болью в наших душах в гораздо меньшей степени, нежели потеря кого-то из близких. По тому поводу роняем мы несколько слезинок и какое-то время, покуда не возьмут верх мысль о неизбежном, да инстинкт самосохранения, истинно тоскуем. Жизнь, говорят, продолжается. Но, испытываем ли мы физическое страдание при этом? Способны ли мы, помимо охватывающей нас дрожи от жалости и желания помочь, почувствовать ту же боль, разделить её с тем, кого касается она непосредственно? Вот, вы рядом с кем-то, снедаемым изнутри нечеловеческой болью, но ощущаете ли вы вместе с ним реальные страдания его? Даже, если довелось вам некогда терпеть ту же муку и, при известном насилии над памятью удаётся вам всколыхнуть тяжкое то воспоминание, всё равно это иначе, вы всё равно иной. Страдание другого, если речь идёт даже о вашей второй половинке или о вашем ребёнке, который есть плоть и кровь ваши, так вот, мука его, согласитесь, никогда не отзовётся в вас столь же болезненно, и вам, как бы вы того не желали, ни на йоту не уменьшить её. Я видел умирающей маму свою. Тело её было переполнено слегка приглушенной морфием болью… а она, как бы сквозь дрёму, продолжала улыбаться. Перед самой кончиной её, извинялся я за невозможность остаться подле неё, нужно было бежать сдавать экзамен в той самой ВШЭ[5], и она доверительно напутствовала меня: «Иди, сын мой, не собираюсь я сию же минуту помирать». Покинула нас так, будто, не осознав всей тяжести недуга, вышла погулять, должно быть и к лучшему. Протестовал и умолял я, сердце моё на части рвалось, но не удалось мне даже проблеск истинной боли её с ней разделить. Уберегла она её всю без остатка для себя одной, с ней же и умерла. Долго оставался я рядом с нею, всё разглядывал её в обретенной безмятежности — была она воистину, нереально красива, светилась вся. И, пока катились из моих глаз две слезинки, решил я сфотографировать её и срезать локон волос, оставаясь при этом всё тем же невинным младенцем, каким и был всегда для неё. За несколько первых, минувших после её смерти недель взглянул я на фото лишь пару раз и отложил его подальше вместе с оставленными мне отцом карманными часами, под крышку которых и упрятал отрезанный локон волос, которыми, будучи ребенком, так любил играть. Случается порой и поныне — пробивается вдруг сквозь меня загадочный и нежный свет, таю я в лучах его, как свеча, и животворящим нимбом высвечивает он из прошлого моего… улыбку мамы. Э-эх, жизнь моя, жестянка… Посмотрим же, пока, программку развлечений и увеселений на всякий тот случай, если придётся вам вдруг прибегнуть к помощи моей персоны, то бишь проходившему практику у мастера похоронных дел стажёру. За исключением врожденной склонности сновать поблизости от самой знаменитой из косцов, прочих пороков я не имею. Как и вы, мои дорогие читатели и читательницы, если только в скромные ваши ряды верного мне читающего братства не втиснулся какой-нибудь служка из похоронного бюро. Основное правило: за так — более ничего. Даже, если вам очень захочется достичь чертогов вечности незаметно, так сказать en stoemmeling, обязательно придётся оплатить право на проход. Так-то вот… Вплоть до вдыхаемого вами воздуха — его стоимость включают в растущие день ото дня налоги, которые рассчитывают делением отбираемой у вас некой суммы на 365, но раз в четыре года на 366… а значит в високосные годы воздух обходится вам дешевле, что и весьма важно помнить, говорю вам это как бухгалтер. Воспользуйтесь этим в будущем — каждый четвёртый год дышите полной грудью и отмечайте 29 февраля должным образом, нализавшись кислородом, бегая по свежему воздуху. Только всё равно, не избежать вам уплаты мыта при переходе в мир иной. На историю вашей жизни, даже на оставшиеся у вас о ней воспоминания навесят ценники, пусть те и не будут в точности такими, как рисовали вы их в мечтах, отдавая дань собственным способностям и амбициям. Даже, если существование ваше в последнее время, стало подобием моего и представляет собой всего лишь сплошную, терпеливо сносимую вами неудачу, а то и вовсе уподобляется какашке (при ежедневном испражнении куском в пятнадцать сантиметров и при условии, что проживёте вы восемьдесят лет[6], она длиной в четыре с половиной километра, а это расстояние между Эн-Сент-Мартин и Эн-Сент-Винсент), всё равно его кто-то, да должен будет оплатить! Почитаем же, сосредоточимся-ка на «обычной» брошюрке в черном глянцевом переплёте, тиснёное серебром название которой набрано шрифтом «старый английский» и приглашает вас, на манер Бодлера, отправиться в страну, где «нет ничего кроме порядка, красоты, великолепия, спокойствия и наслаждения…»
Похороны: обряды, обычаи и практика
Глава 1
Истоки.
Никаких истоков нет. И профессия переходила в старину от отца к сыну.Отец мой, будто каторжанин, вкалывал тоже на «чёрной» работёнке, но на другой. Его была не такой лощёной, ни перед кем ему не нужно было заискивать, его не окружала тишина. Он, под аккомпанемент отбойного молотка, перевоплощал свои пот и кровь в уголь. В день по тонне угля[7], на что и поменял свою молодость… ну, чем не таинство евхаристии?
В былые времена гробы делали с меркой на самого плотника или же на хозяина, если дело у того было наследственным.У мсьё Легэ, у него не было сына… потому-то я ему и нужен был. Посмотрим же, для чего.
В настоящее время предприниматель прибегает к помощи специализированного предприятия, которое выпускает всего два размера гробов: обычный и безразмерный.Так что, эй вы, карлики, а также одноногие и вовсе безногие калеки, не рассчитывайте на какую-то поблажку. Вам, как и всем прочим, придётся оплатить полный тариф. Только исполины имеют право на особое обхождение, с оружейными залпами и хвалой в качестве бесплатного приложения. Или же у вас, к примеру, маленький ребёнок… но и тут понадобится делать «на вырост», хотя бы на год, и вам всучат размер на шесть лет больше, на случай, если вдруг бедный ваш малыш не перестанет расти.
Глава 2
Виды гробов
Знайте же, сочтённый и вместе с тем смертный читатель, что гробы отнесены к предметам мебели и их производители состоят в отечественном Союзе мебельных промышленников. Фернан Легэ, он что же — краснодеревщик? Во всяком случае сколочен он словно нормандский шкаф. Если в свой вам нужно втискиваться, можете поискать среди широкой гаммы моделей, способной удовлетворить всякому желанию, даже самому захолустному. Отныне есть выбор между парижской формой и лионской, а не то и провансальской, или нордической. В Англии вы имеете право на гроб в форме бутылки — подходит какой-нибудь шишке[8], в немецких землях вы отыщете эльзасскую форму, она самая ёмкая (и это правильно, поскольку именно здесь проживают истинные любители пива), можно выбрать форму сейфа или американскую форму, можете в виде усыпальницы или склепа, в Бельгии восьмиугольную форму создали (увы, я не знаю ни одной бельгийской истории, что могла бы её объяснить). Как бы там ни было, но если вы свой выбор сделали, а из соображения предосторожности ещё при жизни оплатили все издержки на свои же похороны, поставьте об этом в известность близких… Шепчут, будто некое предприятие выписывало чек к оплате за услуги по одним и тем похоронам два раза: усопшему, а затем и его ничего не знавшей о заблаговременной оплате по произведённым хлопотам со стороны покойного родственника семье, не взирая на то, что народная мудрость и гласит, будто умирают лишь раз. В конечном счёте, вопрос лишь в средствах, и вы получаете право на любую фантазию и сумасбродство, по примеру того невротика, что оснастил свой гроб батарейкой и лампочкой для внутреннего освещения, поскольку боялся темноты. Или же другого забавника, потребовавшего установки сбоку от места своего погребения трапа, чтобы видеть приходящих к нему визитёров. Некий закостенелый лунатик выбрал для себя модель «диско», сиреневого флюоресцирующего цвета. И известно, что Вуди Ален приготовил с собой в могилу смену белья; дескать, пусть он и не верит по-настоящему в загробную жизнь, но ни в чём нельзя быть уверенным до конца, якобы сказал он. Смотри-ка, техасская модель, с седлом, конечно же, и шпорами… Прекрасно! Перейдём же к материалам, дереву, металлу и пластику, во что гробы одевают. Дуб, всё ж таки самый надёжный, да и вид у него сдержанный. Хорош и вяз, да редко встречается. И потом, есть же ёлка — та скромнее, но и фатальнее. В наши дни пошла мода на экзотику: самый шик это красное дерево, дороже только тиана или гондурас. Ещё аукумея есть и всё прочее, что растёт на островах, и чем, по вашему усмотрению, могут обить гроб, на манер экзотических рисунков на пляжных полотенцах. Но осторожно, вы обязаны соблюсти определённые правила сопричастности, если хотите добрососедства в отношении сонанимателей и являющихся сюда с визитами. Вам наверняка всем сердцем захочется избежать того, чтобы о вас говорили: «Ах да, такой-то, с вонючими ногами, четвёртая южная аллея, второй слева…» Стало быть, в склепе, в крипте или же в братской могиле обязательна свинцовая или цинковая броня! Самая благородная из гарнитур бесспорно медная, но, в случае набирающей популярности кремации, пламени приносится в жертву гроб менее дорогостоящий, предпочтительно еловый, с ручками и крестом, со звездой Давида или полумесяцем из пластика. Можно взять гроб на прокат, парадный, для церемонии, а тело на кремацию пересадить в другой, попроще, скажем, в картонный (представляю себе презрение Легэ при виде той нищеты загробного мира, этакого посмертного скупердяйства), да только риск привести «шикарную» модель в негодность заставляет стоимость аренды карабкаться до заоблачных высот. Но успокойтесь, если вы и взаправду бедны, то коммунальное управление раскошелится на четыре простые, но добротные доски, к которым никто не станет придираться, потому что умерли вы по существу в одиночестве и всем миром позабыты.Надгробный камень не обязателен, погребение бесплатно.Итак, дорогие будущие покойнички, где бы вы хотели почивать? С видом на море, на горы, на обретенную вами юдоль печали? Конечно же, есть и братская могила, в три с половиной метра глубиной, но это, как говаривал маркиз дю Мас д’Арра, так обыденно. И вдобавок к тому, после шести или семи лет окажитесь вы рядом с соседом по этажу заслоняющим вам вид на бескрайнее небо. А удобство старым косточкам дохляков при этом? Так оплатите же местечко на кладбище, а лучше семейный склеп, черт побери, где сможете принять родителей и друзей на праздник всех святых, в тепле и уюте. Кров же будущей клиентуре всучивать поручат мне, если я захочу понравиться Фернану, у которого, конечно же, и гранильщик личный есть.
Всё это искусство мягкой обивки… оно кануло в лету, и, при нынешнем устремлении к стандартным гробам, владелец идёт лишь на то, чтобы прикнопить изнутри простое полотно или же лоснящийся шёлк, собранные из кусков на выброс. Соответственно вашему настроению сможете выбрать между белым, розовым или цвета шампанского: «Официант, плесни-ка мне шампанского, пожалуйста!» За неимением лучшей доли на этом свете у вас есть возможность отыграться на судьбе, организовав своё благополучие на том, перед тем обязательно обмывшись. Если вы, как впрочем и большая часть кандидатов на последнее путешествие скончаетесь в больнице, то прежде чем вы предстанете перед глазами близких, вас обязательно, в принудительном порядке припудрят. Что бы там ни было или же как только станете покойником, можете требовать проведения сеанса танатопраксии. Вот уж воистину красивое слово! Тут и историю, с учётом положения, припомнить можно. Всё станет весьма полезным на остаток жизни.
После смерти близких древние египтяне вверяли их тела парашистам (Каково?); последние вскрывали левый бок усопшего в том месте, которое называлось глазом Озириса (Ну и ну!) Через этот надрез они извлекали все внутренние органы, кроме сердца и почек, которые они помещали в четыре канопа. Затем колхлиты погружали тело в natron на 70 нихтемер[9] с тем, чтобы оно после этого было поручено тарихотам, те, обмыв и умаслив благовоньями, пеленали его в льняные, смоченные в миртовом масле бинты, написав поверху имя и заслуги усопшего.Ничего не скажешь, умели они жить, эти египтяне.
В наши дни танатопрактики, спустив из вас кровь, вводят вам в артерию консервирующий раствор — формальдегид — после чего вы, похоже, готовы сохранять вашу форму без разложения в течение трёх недель.Всё, начитался. Едва не стошнив, закрываю брошюру. И вовсе не спешу я встретиться с занимающимся всеми этими гадостями, по заданию Фернана Легэ, Фирмэном. Мне слышалось, как мой отец на своём сицилийско-неаполитанском повторял излюбленное: «Chi mo fa fa’?», что означало: «На черта сдалась мне эта каторга?» Так, решено, от должности я отказываюсь. Мне нужно на свежий воздух! На дворе почти полдень, я вышел и укрылся в кафе де л’Эглиз. В первый и последний раз пью виски перед обедом. А что, если мне прийти с повинной к директору Галерей? Нет, ни за что не предоставлю им случая унизить меня или ещё раз поднять на смех. В конечном итоге разбавленное парами рано принятого алкоголя отвращение моё поутихло и я решил вернуться в заведение… готовый встретить и вынести худшее, но уж никак ни без пакетика хрустящего картофеля с сарделькой на обед. Часть послеобеденного времени потратил я на то, чтобы пробежать глазами оставшиеся наставления и даже, к собственному своему удивлению, рекламные брошюрки, хвастливо напоминающие обо всём, что сделал бы для вас владелец похоронного бюро: от сверх быстрого напечатания и отправки письменного уведомления о вашей кончине, до резервирования места для некролога в вашей местной газете, от фурнитуры для урны с вашим прахом, до духового патентованного оркестра, численность которого опять же зависит только от ваших возможностей. Он мог бы освободить ваших близких и от многих других забот, таких как розыск министра по делам религии, кюре, пастора, раввина или имама — по вашему выбору. Он вызвал бы вам и судебно-медицинского эксперта и тот выдал бы вам настоящее разрешение на захоронение, которому никто не мог бы воспротивиться, которое нужно было бы сдать в органы местного управления и то в свою очередь нацарапало бы вам в таком случае собственное разрешение на погребение, после чего официальный распорядитель поставил бы на него свою печать. И только после этого, вы смогли бы закрыть крышку гроба и, как следует напившись, уснуть. Вот видите, не смотря на распространённое мнение, смерть — это вовсе не отдых. Брошюрки, выполненные на ярко красном фоне, сообщали о невероятно выгодных ценах — последний писк среди моделей гробов, доставка в сезон. И, как взрыв: «Умирайте сегодня, это обойдётся вам дешевле».
Как раз в тот день мы и встретились, все трое, в доме покойника. Роль моя как стажёра ограничивалась наблюдением за действиями и жестами Розарио, с тем чтобы смог их воспроизвести я во время настоящей церемонии, как только новый мой хозяин сочтёт к тому меня пригодным. По прибытии на место, перед входом в жилище покойника, Фернан придержал меня за руку. — Позволь сначала Розарио войти, кое-какие детали убрать, чтобы по первости не шокировали они тебя. Позже ты с ними свыкнешься. Однако, нужно ещё убедиться, закончил ли работу свою Фирмэн. В ноябре, что важно отметить для правдивости моего рассказа, уже к шести часам вечера успевает ночь разбросать первые куски темноты. Несколькими минутами позднее Розарио, пухлый силуэт которого угадывался в пятне света, раскрыл окно и мы увидели его сигнал, поданный картузом — мы с гробом могли заходить. Вдова встретила нас вполне достойно; она объяснила нам, насколько усопший муж её был существом из ряда вон. За пятьдесят лет совместной жизни не было и дня, чтобы он не сделал ей комплимент, и ещё не далее как вчера говорил ей, насколько находил он её восхитительной. А потом, это падение… в ванной комнате… и вот… пятьдесят лет совместной жизни, поскользнувшись на обмылке, навсегда улетели. После смиренных, весьма неспешно высказанных сожалений, указала она нам на лестницу, ведущую в комнату покойника, и сказала, что позволяет нам заниматься своим делом. Розарио дожидался нас в полутьме, облокотившись о подоконник распахнутого окна, нам виден был вырисовывающийся в лучах неонового уличного светильника дымок его сигареты. Он повернулся к нам спиной, тем самым, как бы показывая, что его часть работы выполнена. Гроб мы поставили на паркетный пол, параллельно кровати. — Ну, вот, — сказал мне Фернан, — единственное, что ты можешь сделать без всякой боязни, просто чтобы привыкнуть к смерти, так это помочь мне переложить тело в гроб. А потом мы спустим его на первый этаж и водрузим посреди зажженных свечей. Направился я к изголовью кровати некогда наславшего на свою вдовушку чары мсьё, лёгкая полнота которого угадывалась мною под натянутой на нём простынёю. Запустил я свои сплетённые, вдруг со страху похолодевшие ладони ему под затылок и отчетливо расслышал замогильный голос, сказавший мне: «Возьми под мышки, легче будет!» Как бы вам объяснить то, что почувствовал я? Вырвалось сердце моё из груди… на его месте образовалась бездна! куда в следующую секунду рухнул и я. Из кровати встал Розарио и чуть не грохнулся было с хохоту, да Фернан, больше думая о репутации своей фирмы, нежели о почтении к мертвецу и его вдове, захлопнул своей крепкой рукой этому горе-детективу, помощнику могильщика, рот и приказал тому смеяться молча. Покойник… настоящий… сидел у окна, с сигаретой во рту, подпёртый подбородком на костыль и с кепкой Розарио на затылке. Крещение огнём… остудило меня. Предпочёл бы умиляться я всяческим глупостям живых, нежели прятать тех в шкатулки на вечное хранение. Не был я готов к тому, чтобы натянуть на себя железные латы косности и безразличия. Может то был обычай, подумал я, неминуемый и неотвратимый для новичка. Предоставим ещё один шанс тому, что согласно Легэ могло стать делом всей моей жизни. Путь домой пролегал мимо «вечерней школы». Стенд возле неё извещал о программе обучения. Я прочёл: лепка, рисование, живопись, история искусств. Прошёл я в бутылочно-зелёного цвета стеклянную дверь, отыскал милейшей дамой заселённый кабинет, потребовал у неё бланк заявления и заполнил его… для оживления черного экрана, на котором разворачивалась после 2 ноября моя жизнь, ощущал я острую потребность во всех красках радуги.
Утром следующего дня сопровождал я Фернана Легэ в соседнюю деревушку Эн-Сен-Жан. Верховодил у нас всё ещё Розарио. В этот раз показалось мне, что церемониал и отведённая для меня в нём роль более соответствовали моему пониманию почтительности. Не было ни потаённых ухмылок, ни неуместных высказываний; Фернан при виде слёз и искренней скорби по умершему целомудренно опустил глаза, а Розарио, державший обеими, молитвенно сложенными на сердце руками кепку, вполне мог сойти за одного из членов семьи усопшего, мсьё Никэза, настолько искренно удручённым он выглядел. Он даже расщедрился на «о, бедняга», когда дочь умершего рассказала нам, как он раскланялся с ними: «Рассветало, когда матушка пришла проведать его и он сказал ей: «Думаю, близок конец-то, уж!» Она пробовала ободрить его, дескать, чёртово отродье, вечно жалуется, да никак не умрёт, а отец едва этак слышно согласился: «Ну, тебе виднее!», отвернулся и оставил нас одних, наедине со слезами и рыданиями». При втором погребении не испытывал я нелепого изумления, как то было накануне. Тон опекунов моих казался мне подобающим, я не смел и подумать, что был он не более чем обыденным, если не наигранным. Но стоило нам со всем этим покончить, как Фернану тут же достало самообладания объявить нечто, вроде: «Утром смерть с голодухи, на ночь смерть с первухи», в виду имея, конечно же, выпивку. Кладбище было под боком и, чтобы не выпасть из атмосферы происходящего, он предложил нам где-нибудь поблизости перехватить по сэндвичу. Нам было из чего выбирать: из десятилетий в десятилетия пара заведений, прямо против главных ворот, делила меж собой отлив уже свободной от слёз родственной скорби. С одного боку, кафе «В тишине», с другого некая таверна, рядом с которой и стоял Мерседес-300, поскольку философу Легэ весьма нравилась вывеска её, выгравированная на самой что ни на есть грани здравого смысла — «Здесь лучше, чем напротив». Он, конечно же, не удержался от того, чтобы добавить нечто и от себя и, поднимая бокал мюскадэ, процитировал Сенеку: «Кому-то смерть в кару, для многих в подарок, но немало и тех, для кого она во благо». И осознал я, что, отныне и непременно, сотрудничеству нашему предстоит соседствовать с подобными, более или менее подходящими случаю цитатами, которых он должно бытьнахватался из «Сборника пословиц, поговорок и изречений»…
Назавтра, к десяти часам утра, в зале похоронных церемоний кладбища в Монаж собрались друзья мсьё Никэза, дабы в последний раз склонить головы и пустить слезу перед дубовым, утопавшем в белых цветах гробом усопшего. Я держался поодаль, в глубине зала, рядом с застеклённой дверью и Фернаном. Мы присматривали за надлежащим исполнением церемонии. После произнесённых близкими хвалебных слов и горьких сожалений, установилась заполненная личными воспоминаниями каждого из знавших покойника тишина. А затем Реквием Моцарта, неземной, но явственно плотный, заполнил собою всё пространство, увлёк нас в нечто неосязаемое, где становилась достижимой всякая духовная алхимия. И тут же, будто в продолжение витающих вокруг эмоций смиренный и нежный голос Бреля запел Не покидай меня. И столько было в нём силы, столь проникновенно упоминание о пустоте, о нехватке того, что оставляют после себя в нашей душе любимые, что даже и я, не знавший покойного, что называется, ни по отцу ни по матери, не сумел удержаться от слезы. Неуловимо разум мой перенёс меня на последние в моей прежней жизни похороны, на которых присутствовал я по долгу службы, похороны Филиппа Котре. Три года тому! Время летит, с ума сойти. Шедевр Бреля всё перевернул, я решил поскорее увидеться с некоторыми из друзей, кого любил, до того, как станет поздно или же раньше, нежели буду вынужден покинуть этот неблагодарный мир сам. Столько дряни подстерегает нас. Как сделать, чтобы прошмыгнуть между каплями пагубного дождя, что внезапно обрушивается на нас сверху, тогда как ни единое облачко не предвещает нам необходимость захватить с собой плащ или зонт? Одни поддаются грызущей их болезни, другие притворяются ничего незнающими, а ещё есть такие, как Филипп, всё объясняющие с юмором и обезоруживающей улыбкой. Филипп Котре на завершающем этапе обретения мною классического образования преподавал нам французский язык. Он во всеуслышание заявлял о своей безусловной приверженности Италии, её литературе, живописи, скульптуре, её городам, кухне и женщинам. «Я забываю о некоторых исторических ошибках её» — говорил он по секрету, демонстративно прикрывая рот тыльной стороной ладони. И брал меня под своё крыло несомненно потому, что был я одним из немногих встречавшихся ему на этой стадии обучения (ещё раз спасибо тебе, папа!) иноплеменных учеников. Это он, бельгийский италофил, открыл мне многих итальянских авторов, не фигурировавших в той обязательной программе-минимум, которой ему должно было утолять жажду учеников экономистов. Он-то и ссужал меня творениями Моравиа, Павезе, Буцати, Кальвино, а вместе с ними и сицилианских мастеров, таких как Пиранделло, Квазимодо, Саскиа. Один из них, Джезуальдо Буффалино, известнейший с его слов современный писатель, тот и вовсе был родом из моей деревушки. Добил он меня, объявив, что тот посещал в Комизо базилику Благовещения, в которой был крещён я и где висели несколько картин Сальваторе Фьюме, другого выдающегося сына нашей деревни, безвестной колыбели мастеров самых разных направлений. Не стану говорить вам, какой гордостью был при том я охвачен. Позже, уже закончив учёбу, я повстречал мсьё Котре в бытность его почётным членом Общества любителей итальянской словесности. Вспомнив о моём бухгалтерском образовании, он попросил меня помочь ему разделаться с некоторыми налоговыми декларациями, ставших для эстета, каким он был, чем-то вроде полосы препятствий для молодого бойца. Поскольку я отказался от всяческого вознаграждения, он предложил мне свою дружбу и настоял, чтобы я обращался к нему на «ты». Приноравливался к тому я не без труда и до тех самых пор, пока… его не назначили на пост директора королевского колледжа в провинции Люксембург, и мы потеряли друг друга из виду. Как-то, воскресным днём, встретил я его в Эн-Сент-Мартин в компании молодой незнакомки и некой пары. Он, как и прочие, каруселил вкруг озера, воды которого красовались гирляндами солнечных бликов. Ещё издали признал я надменный, но лишённый манерности шаг, его естественную и благородную поступь, неизменный галстук «бабочку», в тот день жёлтого цвета, как бы подсвечивавший твидовый костюм цвета пожухлой листвы. «Неисправимый щёголь», дружески отметил я, намекая на бритый череп, придававший ему сходство с восточным царедворцем. Приветствовал он меня с изысканной и дружеской горячностью, какую я за ним знавал. Представил молодую свою спутницу, брата своего и супругу его, в гости к коим совсем недавно и приехал. Один разок обошёл я вместе с ними озеро, он предложил мне присесть с ним на скамью, только что освободившуюся, другие же продолжили прогулку. И довелось мне узнать, из какого счастья да к каким мучениям ведёт его за нос судьба. Началось всё нежданным приходом к нему, в его засыпающий по осени сад… весны… Изящество форм молодой, тридцати лет, Катрин, профессора английского языка нового его заведения, преобразило его. Уступил-таки он неотступному зову, чуждому застаревшей привычке к подменившему ему супругу одиночеству, поскольку всё это время лишь оно одно и справлялось с его жаждой познания и тягой к абсолюту. А тут любит, вдруг, его женщина, любит таким, как есть и любит то, что любит он сам. Был он тем очарован и обрёл вновь лёгкость, ведомую лишь юности. Но, позволительно ли выставлять счастье своё напоказ? Безнаказанно ли это? И вот Великий Цензор, противник безоглядной любви, принял решение, что продолжаться это не может, и славно напортачил. Плешивость его была следствием химиотерапии, открылся он мне, едва не шутя. Началось с ганглий, добралось до спинного мозга. Он ещё силы и шутить находил. Надо думать, обновившие ему сердце лучи солнца оказались живительнее всяких препаратов. Мы обнялись и друг другу пообещали вскоре встретиться. Судьба заставила нас сдержать слово. Я любил улыбку твою, Филипп. Я любил в ней ребёнка — появляясь между двумя нарочито строгими замечаниями, выдавала она присутствие оного. Ну да, как бы говорил он, время от времени мне следовало бы принимать себя всерьёз, иначе, кто же сделает это вместо меня? Редко кому удавалось подстроиться под его поведение, он мог вполне серьёзно заниматься какими-то пустяками и тут же, с непревзойдённым юмором отстаивать свои преподавательские права, при этом едва ли не извиняясь за предоставленные ему его титулом официальные полномочия. Филипп всё и всегда оценивал несколько выше остальных. Несколько месяцев спустя, в Галереях, позвали меня к телефону. Звонил Пьер Котре, брат Филиппа. Он извинился, что не позвал меня, когда о том просил старший брат. А не сделал оттого, что случилось всё очень быстро. Беспомощным голосом сообщил лишь, что в госпитале Святого Жозефа в Монсе только что скончался преподаватель мой и друг. Чтобы не усложнять жизнь членам семьи и быть похороненным в фамильном склепе, тот попросил госпитализировать его на родине. Я был тронут, осознав, что он думал обо мне. Это оставляло веру, что я чего-то да значил в его жизни. Было около 16 часов, я тут же сел в автобус на Монс. Останавливался он прямо возле госпиталя. На столике у изголовья лежали очки Филиппа. Руки его со скрещенными пальцами покоились на груди, под саваном. Глаза у него, конечно же, были закрыты, как и у любого послушного мертвеца. Но, когда монашка прочитала свою короткую молитву за присутствующих здесь отца, мать, брата, невестку, его последнюю спутницу, за бывшую жену, которой я не знал, и за меня самого, его очки, уверяю вас, смотрели на меня — в стёклах их был взгляд Филиппа. Очки смотрели на меня. Я просигналил об этом брату Филиппа, который сделал мне знак быть серьёзней, хотя я таковым и был. Наверное, он принял меня за странного субчика или за марсианина, больше я его, впрочем, не встречал. После панихиды все присутствующие пошли на выход из палаты 212 отделения онкологии, мягкого синонима ракового. Я шёл позади всех, в последний раз повернулся в сторону друга и не сумел воспротивиться желанию дотронуться через простыню до его руки. Была она ледяной. Мне следовало бы унести с собой на память его очки, никто ничего не заметил бы, но я сказал себе, что Филиппу они могли понадобиться… позже… или, если серьёзно, побоялся засунуть их куда-нибудь и потерять. А там, рядом с ним, они могли вроде бы ещё и послужить. К великому своему удивлению, через несколько дней после его смерти, получил я почтовую открытку из Флоренвиля, куда, по долгу службы, Филипп был переведён и где закончил свою карьеру преподавателя. Ему хватило мужества написать на ней отрывок из «Смерти волка» Альфреда де Виньи, поэмы, которую он заставил выучить нас всем классом, и которую я до сих пор знал наизусть:
Фернан толкнул меня локтём в бок, и я спустился на землю. Нам предстояло нести к склепу семьи Никэз гроб.
После обеда, с энтузиазмом отчаявшегося, вновь оказался я у мсьё Легэ на улице Кальвэр. Мало помалу пришёл я в себя, перестал в его присутствии чувствовать неловкость, не всякий раз опускал под его взглядом глаза и даже кое-что в нём разглядел. Тонкие усы его и волнистые, с проседью, зачесанные назад волосы придавали ему вид идальго. Тёмные, как это заведено среди похоронщиков, глаза, похожие на половинки самшитовых венков брови, хищно, будто у стервятника, изогнутый нос, непомерно мясистая нижняя губа, которой он неосознанно, словно некое лакомство накрывал верхнюю. На мой вкус было в нём, с его массивным, как ящик кассового аппарата, подбородком, что-то поросячье, но мог ли я, со своими метром семьюдесятью едва доставая ему до уха, в том его упрекать. Вынужден признать — был он внушительного роста, что, вместе с предупредительно заботливым уходом за августейшей своей персоной, давало повод женской половине всей округи говорить о нём, как о красавце мужчине. «На вкус и на цвет…» — скажите вы мне, но, должен вам доложить, и «прочие его достоинства…» играли при том не малую роль. Обо мне, с моими-то каштановыми, с грехом пополам причесанными, жесткими волосами, так вот, обо мне никто и ничего бы не сказал… Меня даже не приметили бы. Когда спрашивал я матушку, какого цвета мои невзрачные, под нахлобученными над ними в форме летящих ласточек бровями слегка косоватые глаза, она с улыбкой нежной, снимавшей всякое сомнение, что это могло хоть в чём-то помешать ей любить меня отвечала: «Culuri do cane, ca curri», что означало: как у бегущей собаки. Говорил же я вам уже о том: я смешивался с прозрачностью воздуха. Даже сам себя спрашивал я, каким же хитроумным взломом удалось мне проникнуть в сердце… мне нужно бы назвать вам имя её… хотя и обещал я себе позабыть его… но, напомните мне об этом при случае… Что же она полюбила во мне, прекрасная моя иллюзионистка? Может молчаливое мое обожание… было оно воистину молчаливым, так что она о нём даже не догадывалась. Ни разу я не сказал ей: «люблю тебя». Всё время кажется мне, что я и произношу это неверным тоном, будто петуха даю. Просто убеждён, что выражение то не отвечает глубине чувства моего. Потому-то ничего и не говорю. Смотрю восхищённо, вот и всё. Пусть догадается. И в момент знакомства показалось мне, что она понимает. А потом, наверное, потеряла она терпение, стала за идиота принимать меня, а может и слово заветное забыла. Сначала наивно думал я, что она покорена моими планами на будущее, связанными с моим дипломом… кто знает? Или же домом, о котором ей рассказывал, с цветами в окнах, укрывающем от всяких ужасов нас… А может и тем положением, что занимал я в Галереях, через вращающиеся двери которых она и вошла в мою жизнь. Что касается входных дверей, всё ещё ясно слышу я звук их плавного вращения и затянувшийся шлепок, предшествующий важному известию. Она… я вижу её, Боже милостивый! Мысленно падаю на колени и благодарю внявшего моей просьбе Господа, и прошу у него прощения за то, что не верил в его существование… Но, спохватываюсь и сразу же становлюсь взрослым, тут же становлюсь мужчиной. И всё это не сходя со своего места в кабинете, откуда у меня прекрасный панорамный вид по всем направлениям. Из своей обсерватории мог я подсматривать за ней без всякого на то её ведома. Она отобрала на примерку что-то из белья, включая и трое трусиков (пересчитал я их, как профессионал, машинально) и весь шуршащий этот ворох отнесла в примерочную кабинку. Я молил, чтобы она не вознамеривалась испытывать судьбу. В то время выставленные на продажу вещи не пичкали всяческими хитроумными ловушками. Ай, ай! Ну, вот… Чёрт меня подери! Ну, что за наивность? На такие трюки торгаши натасканы не хуже полицейских псов. Несколько минут погодя, она вышла со всей этой кучей белья, из которой ей, конечно же, ничего не пришлось по вкусу, на что у неё было право, но одни трусики исчезли. И не я один это заметил. Одна из продавщиц, тренированная, фурией на неё тут же и набросилась. Потребовала, чтобы та следовала за ней в кабинку и показала ей исподнее под угрозой вызова секьюрити. Прекрасная посетительница делала вид, что смущена. Тут-то и вышел на сцену я: — Представляешь, Мирэй, ты же знаешь какой я мнительный, так вот я за этой мадмуазель краем глаза следил. Пронесла она в примерочную кабинку двое трусиков. Сколько из них она вынесла? — Двое, мсье, но… — Что, но? Ты прекрасно видишь, что малейшего повода нет отрывать у этой милой девушки её время, к тому же она вовсе не смахивает на мелкого воришку. Отлично сработано, Каллаган! Какая властность, какая выдержка! Никак не могу объяснить себе кураж, пойманный в тот день закоренелым тихоней, каким я был в ту пору. Я проводил её к выходу, где дожидался её сидевший на привязи к ручной тележке пёс. Я даже предложил ей встретиться. Пёс посмотрел мне прямо в душу… не было ли там косточки для него? Он живо прыгнул на меня, как только она его отвязала. Девушка улыбнулась мне… должно быть ободряя. Она ответила мне утвердительно. Тем более не могу себе объяснить, как это Галереи превратились вдруг в крытую соломой хижину, а фасад покрылся розовыми кустами. Она удалилась. Я вбежал вовнутрь, чтобы увидеть заполнившее весь магазин солнце. На линии горизонта поднимались пурпурные и лиловые всполохи, они вплетались в трепещущее полотнище лазурной акварели. Я смотрел на мир сквозь разноцветные линзы. Любовь, любовь! Стоит тебе только нас коснуться! Я наслаждался той пресыщенностью чувств, что очень схожа со счастьем, и я дышал им полной грудью… Девушка звалась уже на «ты», лучшим из имён. Через витрину мне была видна её спина, а перед глазами упорно стоял её образ. Я уже не помнил, как она только что стащила шёлковые персиковые трусики фирмы Ля Перла модели 052–030 размера 38. Может и всплывёт это ещё как-нибудь в моей памяти, появись они на полу возле моей постели знаком сводящего с ума обещания… У-у-а-а-а-у-у-у-у! какова, плутовка!..
Розарио, с круглой будто полная луна физиономией, в ореоле чёрной густо вьющейся шевелюры, с его манерой запрокидывать голову, чтобы с высоты своих стандартных метра шестидесяти пяти коренастого сицилийца смерить вас полувопросительным, полунасмешливым взглядом, любивший порассказать премерзкие истории, никогда не был мне антипатичен… скорее напротив. Я прощал ему даже такие выходки, как неконтролируемый занос ведомого им похоронного автобуса, когда какой-то, впрочем не такой уж и чёрной кошке пришла вдруг в голову идея перебежать нам дорогу. Никогда я так и не узнаю, хотелось ли ему её придавить, только он при этом обронил с сожалением: «Mannaggia alla miseria»… т. е. «проморгал я её», что оставляло всякие сомнения в его намерениях. Мало помалу, но пообвыкся я и с подстрекательским, но безобидным юмором его. Ну, а что до кошки… рассказал он мне, к примеру, что некогда, в расцвете ещё своих двадцати лет, работал он горным мастером в шахте 28 и вместе с лучшим своим другом Джино похитил кошку у своей квартирной хозяйки, для которой бедное животное было единственным смыслом жизни. Оттащили они её на пустырь, простиравшийся вдоль канала, свернули той шею, ободрали с неё шкуру, выпотрошили, разделали, принесли на дом хозяйки и приготовили под соусом из зелёных оливок. Отведали сотворенного сами, из чувства искренней благодарности предложили бедрышко хозяйке, чем та была буквально очарована. Несколько дней спустя прохвосты укатили на своём Гуччи 500 в Италию, в отпуск. По прибытию на место они отправили несчастной, потерявшей всякую надежду, но каждый вечер перед тем, как запереть все засовы, продолжавшей душераздирающе взывать в темноту: «Мину, Мину» домохозяйке открытку с фотографией великолепной персидской кошки и коротким посланием на обороте: «Нам не понятно, как ваша кошка вместо нашего кролика смогла очутиться в вашей кастрюле. Но мы её очень любили, так же как и вы, и храним о ней трогательное воспоминание». Не очень-то верю я в достоверность мерзких похождений Розарио, да только, вот, нечто во мне самом, то может быть и смутным отголоском моего происхождения, допускает, что аскетическая Сицилия насмехается над растроганностью и жеманством, дозволенными хронически суровой жизнью высшему обществу. Впрочем, не припоминаю я, чтобы до шестидесятых можно было увидеть в тех краях домашнюю собаку: все они были бродячими, оставленными на произвол судьбы, собирающими брошенные в след им каменья, либо накоротко впряженными в двухколёсную тележку псами. Истинного их назначения я так и не понял. Как бы там ни было, но не думаю, что мог бы увидеть я кого-либо на Сицилии ласкающим собаку.
Неровно дышавшему на всё, что пахло сыском, Розарио не составило труда разузнать, что в Эн-Сент-Винсент, а точнее прямо на другом берегу Эн, на свет божий явилась новая контора по оказанию ритуальных услуг. Он доложил результат своего расследования Легэ, и тот решил прибегнуть к уже подтвердившему свою эффективность плану «дефект». Суть его была о том, что отыскивалось жильё с усопшим, выжидался перенос конкурентами того в гроб, но, как только отъезжал вражеский катафалк, надлежало представиться сотрудником той же самой фирмы и, со ссылкой на некое мелкое упущение, проникнуть в храмовый придел, где гробу предстояло оставаться до самых похорон. После того, как члены семьи, призванные уважать интимность смерти, удалялись, оставалось лишь открепить в углу мягкую обивку гроба, приподнять с помощью гвоздодёра, скажем на какой-нибудь миллиметр, крышку, вновь закрепить велюр, но… до того в фальсифицированный подобным образом «дефект» влить несколько напёрстков старательно приготовленной артистом Розарио смеси из куриной крови, мочи и нашатырного спирта. Вот и всё, распорядитель мог опечатывать гроб. На завтра, уже в самой церкви, украшенный цветами гроб ставили посреди главного прохода перед ступенями, ведущими на хоры. После длительного, в течение всей ночи поиска выхода, представало вдруг глазам всех близких усопшего красноватое и зловонное филе, содроганием от отвращения вырывая тех из состояния благоговейной печали. Подло… но ужасно эффективно, поскольку в вину вменено имя конторы: выставлено оно в подножье катафалка напоказ, и участники церемонии в точности знают, с кем им не стоит иметь дело, когда придётся умирать самим. Это всё становилось барышом Легэ, у него и подходящий тому слоган был: «Когда к вам смертный час пожалует, Фернан Легэ и вас побалует». Всех нас, будущих усопших, балуя портят. «Умирают надолго, так что пользуйся этим!», нашептывал мне Пигмалион в лице отстранённого тем утром патрона. Каким же из дрянных ремёсел промышляет он теперь?
Вечерами, в попытках очистить душу от драпировавшей её мантии из чёрного порфира, в дугу гнувшей мою спину, прилежно посещал я лекции по искусству. Страстно познавал его историю, эпохи и периоды, открывал для себя великих мастеров, разнообразие художественных стилей, различные течения, роскошь и нищету, трепетность и зыбкость, рассветы, всполохи, фонтаны, непорочность и умиление, манерность и сумасбродства, оскорбления и пророчества, одёргивания, притеснения и затыкание рта, символы и намёки, озарения и бунты, терзания и обсуждения, насмешки и вздор, отрицание самого себя, чаяния, вопли о спасении и обвинения… На Новый год подарил самому себе я коробку масляных красок, тут же решил круто изменить жизнь и набросился на… но, часами оставался неподвижным с грифелем в руках, не осмеливаясь нанести и мельчайшего штриха. С невероятной чёткостью видел перед собою лицо модели моей, черты которого стереть не удалось даже долгому её отсутствию. Видел её глаза — две миндалины озёр, в которых отражалась лазурь неба, с архипелагами плывущих по нему облаков. Видел овал её лица, подобного ликам боттичеллевых мадонн, исполненных достоинства; видел уста, напоминавшие лепестки роз, лакомых и целомудренных, в одно и то же время, столь нежно вырисованные божественным карандашом. И всё же, не осмеливался. Был я будто парализован, отказываясь совершить то, что представлялось мне ничем иным, как святотатство. Думал я о тех истинно великих художниках, биографии которых читал, нечем было расплатиться даже за холст которым, и стыд обуревал мною. Да, кто я такой, чтобы дерзнуть стать одним из них? И уж, тем более, не хотелось мне опошлять запомнившиеся прелести Венеры моей. Воскресив в памяти с сотню возможных сюжетов, смочил я кисть в воде и написал имя своё. Полотно осталось незапятнанным… и уснул я опустошенным, разбитым и удручённым.
На завтра вновь принялся за дело… В одном из журналов попалась мне восхитительная по красоте бабочка. Старательно и тщательно воспроизвёл я лепидоптеру, бабочку махаон из Северной Африки или великого щёголя, имя которой доказывает, что претензии на то могут принадлежать не одному лишь человеку… Закончив начатое, остался я разочарованным: получилось слишком уж похоже, может и красиво, но без изюминки, обыденно как-то. Схватил губку, мокнул её в скипидар и со страстью набросился на своё произведение. Круговыми пошаркиваниями по холстинной основе из хаоса смешавшихся на ней красок альвеолы губки извлекали волюты и арабески голубого, вычерчивали их по коралловому фону, воскрешая в памяти безумный полёт безвестного, потерявшего крыло насекомого. Тогда вновь ухватил я кисть и в похожем на пьяный угар состоянии вдоль извивающихся линий написал: «Бабочка улетела…» А бабочка неотвратимо перенесла меня к ней. Что сталось с ней? Вернётся ли она? Счастлива ли без меня? Любит ли всё ещё меня? Во всяком случае я больше её не любил. Но даже зеркало в моей умывальной комнате, словно по указке злой колдуньи, отказывалось давать моё отражение, всякий раз показывая мне её лицо. И за то сердился я на неё — обезглавила она меня, превратила меня в ничто. Наслушавшись проклятий моих и сожалений по поводу их, потом новых оскорблений, затем слёз и по ним, вы могли ожидать, что примусь я описывать вам её, не умея назвать. Знайте же, что по жизни моей прошла красота и не сумел я её удержать, что будучи и вдали от меня, памятью о своём бытии озаряет она грязную холстину неба. Красота её и побуждает к этим эмоциям, красота её отзывается во мне этим вот ознобом, что всё ещё испытываю я, хотя и должен бы был пробудиться от снов своих. В глазах её — путешествие на двоих в волшебную страну, по которой бродит она в одиночку. В самых невыразительных, самых банальных жестах она воздушна, словно богиня. Пройдёт она и любые потрескавшиеся, шелушащиеся, облупившиеся, покрытые похабными граффити стены, вся погань мира изглаживаются, и воздух очищается от всякого смрада и заполняется тысячью блёсков, как в том калейдоскопе, что подарили мне как-то, в далёком моём детстве, на Новый год. С тех пор, как вошла она в мою жизнь, ни разу не отвёл я взгляда от лица её, и даже на работе удаётся мне хранить его в укромном уголке головы моей, где-то между кучей залежалого товара, неоплаченных чеков и рекламаций клиентов. Бальзамом растекается по душе осознание, что она есть. На каждой странице своего ежедневника написал я имя её, чтобы не могла она ускользнуть из памяти моей.
В возрасте двенадцати лет был водворён я на свою прародину, отправившись туда вместе с родителями, которых телеграммой уведомили, будто бы дед мой по отцовской линии, имя которого, Джулиано, я и носил, только нас одних и дожидается, хочет увидеть перед тем, как успокоиться в последней своей обители. Приехали мы на Сицилию, проведя в поезде три дня и три ночи. Четыре месяца дожидались мы, чтобы дед смирился с необходимостью обнародовать последнею перед смертью волю. Радость вновь видеть нас вдохнула в него новые силы. Быстро, увы, тающие, к тому же — иллюзорные. Не было никакой в нём сицилийской загадочности, но у меня появилась возможность узнать поближе того, и лица-то которого я не помнил. Он предстал передо мною таким, каким я себе его и представлял: правильным, с пушистыми седыми волосами, краснолицым, в маленьких и круглых с железной оправой очках. Geppetto, в некотором смысле, только глухонемой. И хотя родители мне обо всём осторожно поведали, впечатляющим всё же оказалось констатировать, что некто, столь близкий мне по крови, казался пришельцем из другого мира. Нам не о чем было с ним говорить, ему не был знаком язык его близких, был он совершенно неграмотен в своей «глухонемоте», однако во взгляде его, взгляде человека знавшего о своей близкой кончине, улавливал я отблеск некого удовлетворения. Несомненно, одаривал он меня своим молчаливым согласием относительно отсрочки исполнения разрешавшего мне продолжить его род уговора, успокоенный тем, сколь радостно носил я его фамилию. В самом начале очередной недели, упрямо утверждая, что ему много лучше, с деланным энтузиазмом начал он плести ивовые прутья: слыл он хорошим плетельщиком. Всё ещё помню я ловкость рук его, непринуждённо управлявшихся с длинными, колышущимися перед ним стеблями, постепенно и полностью исчезающими, взамен себя дарующими жизнь какой-нибудь красивой корзине с прочной ручкой. Достичь этого невозможно без покусывания языка, который со знанием дела как минимум помогал ему в том, вместо того, чтобы позволить говорить. Разнообразные плетёнки, так и не накормившие своего хозяина, свалены были в кучу в единственной, но просторной комнате без потолка — видны были в ней балки и черепица — служившей одновременно магазином, приёмной, столовой, мастерской, спальней, а случись в том надобность и конюшней, поскольку время от времени редкими для Сицилии холодными ночами там стоял и лошак. Так-то оно было у нас, в середине шестидесятых. А мул, я про него не забывал с предыдущей, случившейся четырьмя годами ранее, поездки на родину. Регулярно наведывался я в небольшой загон позади дома, чтобы приласкать его. У него была попона, то бишь два пустых джутовых мешка и подстилка — нескольких пучков сухой соломы. Попасть к нему можно было лишь через жилое пространство, на котором обитала семья; вот и случалось порой, что этот милый плод любви ишака к кобыле, видимо, не совсем правильно рассчитав, опорожнялся прямо на грубый, безо всякой там плитки цементный пол разномастного по назначению помещения, на что моя бабушка всякий раз философски предрекала: «un giorno sara oro», что означало: «когда-нибудь это станет золотом», с тем же пылом, с каким она говорила всякому чихнувшему: «Благослови тебя Господь». По возвращении в Бельгию всякий раз, как только приходит на память мне родная земля моя, со щедрым солнцем своим, ласкаю я Чичу, доблестную тварь. Виделся он мне на обсаженной по обочинам фиговыми деревьями дороге, ведущей к Барбаре, тащившим семейную двуколку, на которой теснились шестеро взрослых и трое детей: дедушка и бабушка, папа и мама, тётя Аделина и дядя Нан, кузины мои, Кармелина и Розетта, и я. Обстоятельства нашей поездки «на природу» более чем радостны: впервые из своего заточения выезжаем мы на отдых. С наступлением вечера отправляемся мы из Витториа, родной деревушки моего отца, чтобы весь завтрашний день провести на Скоглитти, ближайшем доступном пляже, что в пятнадцати километрах, то есть в семи часах тряски на двуколке. Дети вскоре засыпают, убаюканные мерным покачиванием повозки, ко времени тому уже архаичной, но отвечавшей средствам, какими располагала тогда моя семья. Боже, как же были мы счастливы от мысли, что увидим вскоре море! Раз или два за весь путь приоткрывал я глаза, чтобы в свете луны различить лишь силуэты взрослых, подталкивающих тележку, которую бедняга Чичу не мог мчать в одиночку, как только дорога, из песка вперемешку с камнями, слегка забирала вверх. Проснулись мы с рассветом, на берегу фантастически сверкающего перламутровыми блёстками моря. Над раскалённым горизонтом висела огромная просфора — солнце! Как же это было красиво — все мы, вдевятером, зачарованно смотрели и молчали, не в состоянии высеять слова без риска погубить их и боясь отдалить миг вечности, певшей нам свой гимн. Тремя неделями ранее случилось первое моё причастие, а тем утром, смею утверждать, поверил я изо всех сил моих, прочувствовал нечто грандиозное и необъяснимое. Тем полны и сегодня глаза мои. Мы прожили на берегу моря шафраново-лазурное воскресенье, пропахшее миндалём с привкусом аранчини, мустата и гранита ди лимоне. Далеко после полудня на крохотной площадке в нескольких метрах от пляжа какой-то кантастори пел свои сторнелли, расхваливавшие подвиги чтимых здесь разбойников с Сальваторе Джулиано, Робин Гудом тамошних сицилийских лесов, во главе. Я и теперь слышу назойливые его вопли в Барбаре.
Для родителей моих научить меня сицилийскому языку было делом чести, и потому новыми словами пичкали они меня, как пичкают немощных больных лекарством, вводя им его против их воли, с помощью капельницы: нежно, с любовью, утешая и ободряя. Как только не называли меня, с окончаниями на все эти муси-пуси, от Линуси, уменьшительного для Жюльен, до моего любимого шантуси, означавшего вроде как «дуновение жизни». Я прекрасно понимал диалект, на котором говаривали в Витории, удивляя тем ничуть не опасавшихся меня соседей бабки и деда, сообщивших мне о неких престранных вещах, случавшихся с его величеством Джулиано, то есть моим «Нонно Лино». Так, стало мне известно, что предок мой убил человека. Чёрт побери! Я не знал, гордиться ли этим или приходить от этого в ужас. Было то в 1928, в эпоху неукоснительного соблюдения кодекса чести. Вываривал, как-то, в Кальтаджироне дед прутья, чтобы те помягче стали. Содрал с них кору, обрезал с них лишние мелкие ветки, собрал в вязанки, сгрузил на плоскую — подобие кое-как закреплённого на четырёх колёсах, безо всяких бортов плота — двуколку и приготовился уже тащить её, вместе с запряжённым в неё извечным мулом, брюхом едва не касавшимся колдобин ухабистой дороги в Витторию. Но, некий шагавший по обочине кальтаджиронец потребовал уступить ему дорогу. Дед мой не отвечал, и — не без основания. Тот второй, возвысив голос и отчаянно жестикулируя, настаивал. По папе Лино было видно, как старается произнести он то единственное, что удавался ему — гортанное уханье морского льва. Вместо того, чтобы ужаснуться, как это приключалось с большинством из встречавшихся с моим дедом, этот разразился хохотом, хлопая себя по брюху и тыча в сеньора Джулиано пальцем. Подошёл ещё один сельчанин и принялись они потешаться уже хором. Дед мой слез с повозки, зацепил вожжи за один из кустов придорожного миндаля и достал нож. Непочтительный селянин от схватки отказаться не мог, не то стал бы посмешищем среди своих же односельчан. Началась дуэль — ни на жизнь, а на смерть. Мой храбрый, но обидчивый дедуля, вышедший из схватки живым, был приговорён к восемнадцати месяцам тюрьмы. Тьфу, за столь тяжкую ошибку то сущий пустяк, могло показаться вам. Но, речь шла о чистоте поруганной чести, и власти в те времена часто закрывали или прикрывали глаза, столкнувшись с подобными делами, причиной коих являлась бегущая в жилах нашего народа горячая кровь. Правда, то официальная версия. Родная бабуля моя, «Нонна Саридда», позже рассказывала мне совсем другую историю. Речь в ней шла о предвечной мечте и, согласно ей, какой-то чабан поведал деду о существовании клада, припрятанного в одном из гротов, неподалёку от Торренте Иппари. По прибытии на место, пращур мой и на самом деле отыскал сокровище, но, увы, уже доставшееся какому-то, прятавшему его в седельные сумки своей лошади чужаку. Не об одном и том же мечтали они тогда? Папа Лино освободился от своего соперника, но, поддавшись панике, утёк, бросив и сокровище, и труп убитого в загадочном гроте. Потом он так и не смог вновь найти его, удача наша замерла на месте — в шаге от сапог-скороходов и от пересудов. Остались мы бедняками, а отец мой вынужден был отправиться в ссылку, дабы прокормить свою небольшую семью, мать мою и меня в данном случае. Вот отчего, всё так и случилось! Бабуля моя частенько высказывалась в таком вот поэтико-эзотерическом жанре, и временами я и теперь задаюсь вопросом, уж, не верила ли она во всё это сама. Никогда не знал этого и никогда не узнаю, да только с тех самых пор понял я, что словно венами испещрена Сицилия всяческими путями-дорогами, по которым сказочные всадники скачут к подвешенным между небом и землёй гротам, а не то и к развалинам замков, следам набегов норманнов или осады византийцев, где дожидаются их пришедшие в самых сокровенных мечтаниях сокровища… Сицилия!.. Ложа рек твоих столь сухи, что справедливыми кажутся слова о том, будто «бросались они каменьями во всякого, пожелавшего напиться из них».
Дед снова впал в летаргическое состояние. Чтобы уберечь детские мои глаза от тяжких сцен, отец решил отправить меня в родную деревню предков моей матушки. В Комизо добирались мы по дороге, серпантином извивающейся между белоснежными холмами мела, горами в ржавых воротничках, плоскими террасами с выделявшимися на них, словно рисованными по охре и лазури силуэтами часовен. И утопало всё это в светлой бескрайности покоя и умиления. Родился я на «виа Бальбо», улице сбегавшей к углу дома Витторио Эммануэле, чтобы затем взлететь сверкающими на беспощадном солнце булыжниками ступеней к небосводу. Добравшись до верха, где голубизна переходит в индиго, обрамляя колющую глаза белизну, она словно передумывает и потоком расплавленного неба стекает назад к вашим ногам. Предки мои по матери, Себастьяно и Джованна Кунсоло, проживали на параллельной улочке — виа Аримонти. В то время, как отец мой проводил последние дни возле постели своего отца в Витториа, мы с матушкой его как раз там и дожидались. Именно посреди странной этой смеси декора Италии и Африки познал я внутреннее богатство людей страны моей, изобилующего различиями их друг от друга. В Бельгии нас, как скот, толпами загнали в бараки — обезличенными, одинаковыми, лишёнными всякой культурной оболочки. Отец мой часто говорил мне, что шахта пожрала их мечту, что страх подземелья всякому, кому бы то ни было, мешал думать о чём-либо другом, кроме следующего шага, любой из которых мог стать последним. Но, в короткие паузы не многим удавалось избежать чувства нахлынувшей ностальгии. Встречались меж них даже поэты. Один из таких безвестных мечтателей самопровозгласил себя «королём острова». Остров его, правда, был всего лишь на всего большим камнем, площадью в несколько квадратных метров, на котором прозагорал он всё своё отрочество. Но, то была его скала, пусть даже и хватило бы одной приличной волны, что бы смыть его оттуда. Он приглашал на неё своих друзей, а поскольку король всемогущ, то жаловал он всем им дворянские титулы. Даже прирученный им дрозд получил право называться «Duca del Mar che licica», что означало «герцог Сверкающего Моря». Редкими просветами хорошего настроения в беспросветно чёрной утробе подземелья при виде какой-нибудь отколотой угольной глыбы случалось вспоминать ему о своём королевстве, и принимался он тогда одаривать своих компаньонов в несчастье различными званиями: «Не могли бы вы мне подсветить вашей доблестной лампой, о маркиз Голубых Сумерек, не подадите ли вы мне, дорогой барон Чёрной Ямы, скромное моё кайло?» Отца моего посвятил он в принца Вечных Бурильщиков… И отец мой бурил и бурил, всю свою молодость… и до самого конца тоннеля. Когда Короля Острова предавали земле, рядом были захоронены и все приближенные его двора. Нет, не согласно правил бытовавших при дворе фараонов, но единственно потому, что по взрыву гремучего газа перенеслись они все в пределы того света, что дарован был им за истинное их благородство. Посвящённые поняли, откуда взялась водружённая на его венок из невзрачных еловых лап крохотная латунная корона. Разделить тот ужас должен был вместе с ними и мой отец, спасся он благодаря Папе Лино, которому мысль объявить о неизбежном путешествии своём в мир иной пришла в голову лишь за несколько дней до катастрофы. Когда из полученной телеграммы стало известно о ней отцу, он тут же принял решение никогда больше не спускаться «вниз». Нужно было случиться такому вот несчастью, чтобы осознал он простую вещь — конец его тоннеля находится там, где он сам решится выйти из него.
Останемся, однако, на Сицилии, в Витториа, с оставшимся, благодаря неожиданному фокусу судьбы, в живых отцом моим, последние дни ухаживающим за своим, в то время как дед и бабка мои по материнской линии кудахтали над нами, мною и моей матерью, в Комизо. Вновь увидел я стадо коз, под радостный перезвон колокольчиков ранним утром спускавшихся по улице. Пастух, если просили, тут же доил одну из них, сцеживая «парное» молоко прямо в оловянную миску. Безо всякой там стерилизации, пастеризации, гомогенизации пили его настоящим, подлинным, было то упоительно и, Боже ж мой, как любил я приготовленную из него рикотту, подаваемую вкруведи — рожках из бамбука. Соседи приставали ко мне с расспросами, правда ли, что я «u niputi do mastru e l’acqua», то есть «внук хозяина вод» — прошу прощения, дон Бастиано, второй мой дед, отвечал в деревне за розлив воды. На самом деле был он путевым обходчиком, но в Италии любим мы приукрашать скромность всякого занятия и возвеличиваем крохи жалуемой при этом значимости, любим громкие титулы, пуляемые общественностью в преддверии предполагаемой милости, которую можно будет однажды испросить с того, кому их бросали. То есть нескончаемое поклонение почёту, вот и называют здесь жандарма маршалом, почтальона ufficiale, музыканта маэстро, помощника мэра ваша честь, шефа бюро командующим, и ничего нет необычного в том, что после встречи с папой, пребывая в состоянии чрезмерной степени восторга, уходят бормоча имя «Павел», являвшего собой пример проповедуемой Иисусом Христом смиренности, передавшего её в данном случае простому крестьянину, с трубкой в зубах доившему свою корову. Хозяин вод каждое утро поднимался на башню водокачки и открывал краны, и Комизо вновь могла жить, утолять жажду, мыться вплоть… до 19 часов, когда невозмутимо взбирался он снова на башню и беспощадно, обеими руками, закручивал огромные медные, отлитые в форме роз краны. На этом всё заканчивалось, после этого оттуда уже не поступало ни капли воды, и тем хуже для неосмотрительных, не запасшихся впрок — выживаемость деревни проходила через эту его неуступчивость. В засуху бывало и так: получал дед более строгие, чем обычно предписания и тогда вода отпускалась всего-то какой-нибудь час за весь день. И становился тогда дон Бастиано самым ненавистным человеком в деревне, принятие непопулярного того решения в обязательном порядке приписывал простой люд одному ему. Меж сих, равно удалённых друг от друга действий — пускающего по венам деревушки ток воды, не уступающего по значимости кровотоку в обычном организме и его прекращающего — сибаритствовал дон Бастиано неподалёку от собственного дома на главной площади, посреди которой вопреки хронической нехватке воды круглый, с обильными, если не сказать величественными струями фонтан, ни чуть не смущаясь изображал из себя ди Треви. Дед объяснял мне, что в нём использовалась одна и та же вода, бегущая в нём по замкнутому кругу месяцы на пролёт. Неподалёку от того оазиса прохлады, рядом с памятником старым воинам, играли в scopa, tre sette и briscola, популярные у народа всей Италии карточные игры, одетые в белые рубашки и чёрные кепи старики, тут же ссорились, скрещивая шпаги и бокалы, обмениваясь тумаками и золотыми монетами. Самые спортивные из них сходились на стульях. Дед мой не одиножды приводил меня туда после сиесты; откровенно скучая, я пристраивался на краю бортика бассейна, в то время как он громовым своим голосом объявлял козыри. Время от времени вываливался я из своих грёз, потому что вопил он во всю глотку о выигрыше, а за сим обязательно следовало угощение домашним вином, которое дед мой Бастиано никогда не ругал, скорее наоборот. Ближе к 17 часам, когда частью площади завладевала тень, он натягивал кепи на глаза и, устроившись на опрокинутом на задние ножки стуле и сложив собственные ноги на спинку другого стула, давал добытому в победе вину возможность перебродить. Квадратные челюсти его при этом были плотно сжаты и, поди узнай почему, принимался он ими скрежетать, да так сильно, что все окрестные жители смеялись, задаваясь вопросом, на кого же это мог дед сердиться до такой степени, что готов был изгрызть того своими мощными челюстями; в щелке меж белых его зубов при некоторой доле воображения удавалось различить даже чьи-то трепыхающиеся руки и ноги. Как-то, уже несколькими годами позже, надрался он сильнее, чем обычно и поскольку там, на площади, никому в голову не пришло его разбудить, дед на два часа опоздал с закрытием кранов. На самом деле, вся деревня была в восторге от опоздания деда и от полученной при этом выгоды; никто не снизошёл до милости выдернуть его из сна — может кара то была, а может насмехались над тем, что могло походить на спесь, но на самом деле являлось ни чем иным, как чувством долга, смирением перед инструкциями. Увы, не прошло и недели, а дону Бастиано, по линии управления водными ресурсами и лесами, высказали суровое порицание, укорив в разбазаривании водного богатства посёлка, а вместе с тем и его будущего. Он был смещён с должности, оказался без работы и как человек долга, кем всегда и оставался, оскорблён был до самой глубины души. Даже пост паркового сторожа взамен утраченного, выхлопотанный позже для него влиятельными друзьями по компартии, не помог вернуть ему прежнее отношение к жизни. Он продолжал пить, а вместе с тем и хиреть. Угас он вытянувшись на скамье, в тени ветвистой кроны карубье в том самом парке, за которым вменено ему было ухаживать. Лишь только уснул он последним сном своим, небо, будто восстанавливая в правах память о нём, открыло краны свои и освежило деревню спасительным дождём, заставившим кричать о свершившемся чуде. И повелитель вод памятью народа причислен был к лику блаженных.
Как-то раз, сидя на краю фонтана, бил я баклуши, когда ко мне обратился некий мальчуган моего же возраста: — Хочешь, в мяч поиграем? «Спасён!» — подумалось мне. Калогеро, новый мой приятель, был сыном becchino — угадайте перевод, отказываетесь? Служка из похоронного бюро! Никуда уж от этого не денешься. Он тут же начал смеяться над моими промахами, связанными в первую очередь с явным отсутствием у меня регулярного общения с круглым мячом, который вовсе не подходил физическим формам моим по-детски хрупкого сверчка, но также из-за огромного желания доказать этому нежданному компаньону, что я достоин проявленного ко мне с его стороны интереса и, конечно же, желая всё сделать как нельзя лучше, в девяти случаях из десяти был на грани посмешища, попадая ногою в пустоту. Проводил я его, с разрешения деда, вплоть до кладбища на выходе из деревни, в самом конце улицы Витторио Эммануэле, в направлении на Витториа. Он с гордостью показал мне владения своего отца. В отличие от Фернана Легэ, отец Калогеро, на самом деле, являлся всего лишь водителем одного из двух, имевшихся в мэрии, похоронных автобусов. Мы вошли в каменное строение, служившее одновременно и амбаром, и гаражом для обеих похоронных машин, одна из которых в тот день была на месте. Я был весьма поражён внушительными размерами машины, силуэт которой с доминировавшим по центру её балдахина крестом и хромированными светильниками просматривался среди полумрака. Но, я чувствовал на себе насмешливый взгляд Калогеро и не позволил ему что-либо заметить, проследовав за ним в автобус, радушный подобно утыканному гвоздями ложу базарного факира. Затем безо всякой опаски принял предложение лечь в один из стоявших прямо на земляном полу ангара гробов, в то время как сам он забрался в другой. В точности не припоминаю уже, каков был уговор — всё, что помнится мне теперь, так это то, что с быстротою молнии, как черт из табакерки, выскочил он из гроба своего и закрыл крышку гроба надо мною. Миллионы игл вонзились в поры моей кожи. Калогеро уселся на крышке того, что, как думалось мне тогда, стало последним пристанищем моим, и не выпускал меня оттуда несколько секунд или минут, а не то и веков — теперь уж и не упомню; во всяком случае наступило ощущение вечности, ужас перед которым чувствую я и по сей день. Когда же он меня освободил, я ничего не сказал и, хотя, несомненно, догадывался он о ненависти, которую вызывал во мне всё то время, пока держал меня взаперти и по поводу чего ликовал, не признался я о том великом страхе, которым был обязан ему. Так что, не было у меня ни малейшего повода, чтобы перестать с ним встречаться.
Калогеро был старше меня на год, втихаря покуривал, не одиножды предлагал сделать то же самое и мне. Я испробовал, больше для видимости, и задыхался под его насмешливым взглядом. Больше он мне этого не предлагал, негласно заявив, что неизбывен я в хилости своей, и всякий раз жаловал меня заносчивым взглядом, как только начинал сворачивать косячок. Сопровождал я его также и к «Бокаллине». Не улавливал я ускользавшего от меня, но понятного тем другим, более сведущим, смысла спрятанного в прицепившемся к даме, которой собирался он меня представить, прозвище. Думал я, что речь шла о некой кондитерше. Так, обольщённый и брёл я за ним. Каково же было моё удивление, когда не обнаружил я ни разноцветных сладостей, ни коробок, полных нуги и шоколада, но всего лишь тёмную комнату, посреди которой царственно возвышалась неубранная кровать с несвежими простынями. «Кондитерша» — беззубая, рябая, с сигаретой под носом встретила нас радостно: «Хочешь попробовать?» — спросила меня. Я не понимал, о чём она мне говорила, но догадывался, что было это нечто из «запретного». Калогеро прошёл предо мною, в очередной раз презрительно взглянув на меня, и предложил дожидаться его за дверью. Когда чуть больше стал я разбираться в том, что может происходить между мужчиной и женщиной, то ясно осознал, как дёшево тогда отделался, что старая та карга желала всего за несколько лир столкнуть меня в некий любовный ритуал, который со всем таинством его, с его нежностью и хрупкостью открыл я для себя много позже самостоятельно.
Как-то раз, послеполуденным временем одного из дней месяца августа, когда парализованная и рухнувшая наземь под напором лавой стекавшей на неё жары деревня предавалась животворящей сиесте, услыхал я какие-то крики. Толпой высыпали мы из дома стариков. Вопли доносились из дома напротив, в нём жила мадам Джованни. Ей только что сообщили, будто найдено бездыханное тело шестнадцатилетнего сына её Кармело, который, как она знала, должен был быть на берегу моря. Выбросило оно его на пляж Скоглитти, словно семечко яблока, высосав из него перед тем сочную сердцевину, имя которой — жизнь. Став посреди улицы, призывала женщина соседей своих в свидетели горя своего, в кровь расцарапывая своё лицо. Двумя часами позже останки юноши покоились на катафалке, не иначе как по воле рока появившемся в полумраке его комнаты. Я, разумеется, прошмыгнул меж взрослых, как когда-то к утонувшему марокканцу в Эн-Сент-Мартин. Тут-то и явились они или, скорее, слились с жертвой своей, плакальщицы эти — четверо чёрных ворон, четверо горестных вестниц покачивались и раскланивались над раздутым юным телом, морем покрытом синюшным оттенком. Зашлись внезапно они разноголосым аккордом, пронзительным и душераздирающим… Настолько убедительными в своих стенаниях были эти гарпии, что вместе с ними разрыдался и я. Обнаружив, что хорошо плачу, решился сделать плач своим ремеслом и плакал будто истый плакальщик.
Плакал вновь горючими слёзами я, когда раскланивался, из последних сил, Nonno Лино. Пришло время обклеивать стены улицы Фрателли Бандьера объявлениями о смерти деда с обрамлённым в чёрную рамку его, а значит и собственным моим именем и паковать нам свой багаж. Отныне был я единственным в семье Джулиано Кросе. И вот, снова мы на паромной переправе в Мессина-Реджио ди Калабрия, затем в паровозе с непременными черствым хлебом, колбасой, вялыми томатами, scaccia, шпигованными шпинатом со следами мяса пирожками, что должно было помочь продержаться нам до вокзала Шарлеруа, в Бельгии. Странно, но чем глубже погружался я в возраст, тем меньшим представлялся мне тот паром, в первое моё путешествие на Сицилию представшим передо мной величавым, светящимся, сказочным будто Rex из «Amarcord»’а Феллини.
Франсуаз стало известно, что живу я в Ситэ, и она попыталась нагнать на меня страху. Сделала это она, правда, единожды. После делала всё, чтобы убедить меня из квартала съехать. Как-то, в постели, припомнил я танго-клуб на Лувьер, еще совсем недавно регулярно посещаемый мною. Танго люблю я с детства. Это был танец моих родителей. Я представил нас в Арлекино, дансинге на главной площади Эн-Сент-Мартин. Они тогда были молоды, двадцати восьми и двадцати девяти лет, едва повзрослели, у них уже был я, было мне тогда восемь лет. Шеф оркестра, любезный Донфю, брал в руки свой бандонеон и объявлял, что сейчас будут играть танго. Помню вздох удовлетворения, что слышался в зале за каждым столиком. Освещение приглушилось, словно ночь подступала, и среди флюоресцирующих бликов, в кругу, оставались различимыми лишь белые платья, воротнички мужских рубашек, да плывущие замысловатыми кругами, под звуки всяких там «Компарсит», «Адиос Мучачос», «Жалузи» «Голубого танго» и «Каминито», синеющие улыбки. Я обожал из своего кресла следить за мамой, провожал глазами её светлое платье, надувающееся подобно парусу неведомого корабля. Время от времени наступал мой черед, я тоже с ней танцевал и говорил себе, что обязательно на ней женюсь. Когда вырасту. Не для того, чтобы увести её у отца, я не уподоблялся Эдипу, но с тем, чтобы мы, все трое, были женаты друг на друге. Бывает, что в мыслях восьмилетнего паренька, который очень сильно любит обоих своих родителей, так и случается. Дети не ведают, что такое время. Иногда отец танцевал с женами своих приятелей, и те весьма охотно исполняли дерзкие «па». Похоже в танце, как и в любви, с поклонниками женщины более смелы, нежели с мужьями. Эту тонкую и хитроумную игру, в которой нет соглядатаев, понял я много позже, когда танцевал уж сам. А предположить в то время, что начатое танго отец может продолжить в незаконных объятиях, было мне не дано. Да и не мог он этого сделать — по ночам вкалывал, а днем отсыпался, к тому же, родители мои друг друга очень любили. Случалось, что и мама танцевала с другими кавалерами, но скорее из вежливости и при этом никогда не смотрела партнеру прямо в глаза. В танце она была весьма скромна и, поверьте мне, всегда держала дистанцию — все время следил я за ней краем глаза, готовый тут же напомнить о себе. Наблюдая за танцующими танго родителями, я невольно перенимал то, как делали это они. То был мюст блатного квартала Круа Верт, наш танец. На пороге века братья иммигранты из Италии прихватили с собой аккордеоны и довезли их даже до берегов Аргентины, и ностальгия по шумевшим некогда народным гуляниям докатилась до берегов Рио де ля Плата, легко смешалась там с бытовавшими на месте хабанерас, милонгас и прочими туземными замакуэкас. Бедноте не свойственно жеманство. Покажи им свой танец, он тут же сделается местным, поделись своими горестями, они тут же раскроют перед тобой собственные души. Там играли, пели и плясали столь неистово, что не смогли удержаться и толстосумы, посещая кварталы пользующиеся дурной славой, сначала — из любопытства, затем — в надежде поднабраться всяческих штучек и в конце концов всем этим безнадежно заразившись. И пошло крутиться танго по миру. Его танцевали даже в барачных забегаловках Круа Верт, куда по вечерам стекались рабочие с окрестных шахт. Стойкой служили козлы, а вокруг на складных стульях неуклюже пристраивали свои зады молодые вьючные животные, приходившие разбавить свою усталость стаканчиком вальполичеллы или кьянти, затянутые в солому, вытянутые, развязно спокойные бутыли которого расточали утешение. Кто-то, как мой отец, приходил сюда с женами и с детьми. Были и те, кто искал здесь свою удачу. А были и помоложе, холостяки, они-то и разрисовали мелом стены «Большого Барака», покрыв их квадратами сантиметров по пятьдесят. Кто-то из них принес свой патефон, коробку с иголками и несколько, бережно извлекаемых из плотных бумажных конвертов пластинок. Я и теперь смог бы напеть вам Il Tango delle capinere, «Танго лжецов». То была популярнейшая вещица, исполняемая звездой итальянской эстрады пятидесятых годов Лючано Тэоли. Он имел обыкновение петь, сидя на вращающемся стуле, а в зарубежных гастролях, заканчивая выступление, неким загадочным образом доставал из кармана горсть земли, утверждая, будто она набрана в Италии, и благодарная публика, плача, выносила его на руках. Согласитесь, малая толика сантиментов вреда никому и никогда не причиняла; шахтёры охотно приняли за своего того, кто раскрывал им честные свои объятия, как делал то певец при грустном расставании в конце. И в простой столовке, кипя от возбуждения, эти истые шахтёры, шахтёры до мозга костей учились танцевать. Речь шла о подготовке к субботнему балу, на котором предстояло произвести хорошее впечатление на италийских signorine, а тем — опускать глаза в ожидании, пока их воздыхатель подойдёт и склонит голову перед их отцом, более суровым, нежели какой-нибудь музейный смотритель. Другие, несомненно не столь романтичные, помышляли разве что о молодых рабочих, бельгийцах либо поляках, за которыми и меньший догляд со стороны их родителей; и вот уже некоторая, пусть малая кроха, но раскрепощённости, с надеждой на сближение менее платоническое… если получится. Каковой не была бы тому мотивация, но все они были там ради посвящения в танго, готовые за то на любые внушения, мирились даже с обвинениями того или иного старшего возрастом, более тренированного, согласившегося вдалбливать в них свои познания, в непригодности. Ну, и конечно же, главная проблема — партнёрша. Пусть нет твоей, но есть же стулья. У каждого свой — такого больше ни у кого, и никакой ревности. Видеть было нужно, сколь серьёзно переставлялись их ножки, сосчитывались оставленные на земле квадраты. Утомлённые неподатливостью «деревянных» своих партнёрш, ученики Рудольфа Валентино — неуклюжие, усердные, умилительные до наивности — оказались в объятиях друг друга. Конечно, каждому поочерёдно, без тени сомнения и безо всякой двусмысленности, довелось им исполнять роль «женщины». И, под пошлые остроты и дикий гогот сбившейся в свору колонии, неизбежно запутывались. Но, именно неизбежным розыгрышам тем и были они обязаны достигнутым на балу успехам. Сам же начал я танцевать танго раньше других, просто нравилось танцевать с мамой. То был единственный танец, соответствовавший моему характеру — сосредоточенного на самом себе человека. Я мог танцевать безо всякой потребности улыбаться или что-либо говорить своей партнёрше, но смотрел ей прямо в глаза, и она отыскивала в моём взгляде всё, чего хотела. Если не считать, что я при этом ни о чём не думал, ни о чём другом, кроме танго. Танго слишком серьёзно, чтобы танцевали его от безделья, место которому после него. Впрочем, в клубе издавна числюсь я самым молодым его членом. Танцую только с достигшими «полтинника», а не то даже и с шестидесятилетними, ностальгически шуршащими своими (красное с чёрным) нарядами, не перестающими играть во всяческих там лолитас. Нет у меня ни одной знакомой девицы, истово исполняющей все правила танго, дышавшей им. Рискнул я, как-то, явиться в клуб со своей светловолосой фламандкой; энтузиазм её оказался чрезмерным, граничившим с насмешкой, чем повергла она седовласых моих подружек в крайнее смятение. До нашего ещё с ней знакомства, выставил я, как-то, на показ своё увлечение танго и сразу же был причислен сверстницами к инопланетянам. Лишь с любезными, озорничавшими в разысканной ими вновь и более красивой, нежели была та на самом деле, молодости бабулями нашёл и я себя самого. А они просто порхали, импульсивно восторженные тем, что их историческое прошлое могло интересовать и меня. «Как, вы любите танго, юноша?..» Будто они его придумали… Спокойно, дамочки, уж двадцать лет, как мы знакомы, танго и я. Нужно было видеть их, извечных этих субреток, через прикрытые глаза ускользающих от клюки в видимость вновь обретённого своего двадцатилетия. Набухшие сладостными воспоминаниями, полной грудью вдыхают они его и будто наяву проживают минувшее, наново оркестрованное в некое экзотическое исступление. В момент исполнения corte, когда я вытягивался в струну, кабрируя, щедро жаловали они меня своим пониманием истинных ценительниц и украшали бантами невидимых своих «восьмёрок», quebradas. И таких, и эдаких. И замирал я на месте, будто тотем, в то время как они, чувственные и эфемерные, накатывали на меня и отступали, словно морской прибой. И я чувствовал себя тогда сотворённым из железа. Это покруче рок-н-ролла. Порой, если вдруг заглядывала удача на огонёк, движения их вырисовывались и становились видимы, будто абрис следов их танца обозначала пудра из звёзд, оседая на арабесках и вращениях. Незаметно и неминуемо оказывалась вновь в руках моих мама, я танцевал с нею… и, счастливый, засыпал.
Сестра моя, Сабрин, вышла замуж в 1981, будучи восемнадцати лет. Законным браком она сочеталась с сыном пастора церкви пятидесятников в Эн-Сент-Мартин. Отчего же, будучи столь юной? Осточертело ей, несомненно, быть нянечкой и мамашей братца своего бездарного; в таких выражениях отзывалась она обо мне только в узком кругу друзей, в присутствии людей посторонних она меня обязательно расхваливала. Братца же она имела-таки блистательного, титулованного, с бухгалтерским, добытым им самим собой, безо всякого там блата, дипломом. О! Не было у меня и тени сомнения в её привязанности ко мне, тем же отвечал ей и я, безусловно. Сожалею только, что, выйдя замуж за будущего пастора, стала и сама она набожной, после чего всякий разговор, по любому поводу, не обходился уж более без упоминания имени Господа: «Боженька всё видит, не забрасывай грязные носки свои под кресло…» и так далее, и всё в том же роде. Господь жаловал её парой шор, потому всякий раз при моём упоминании о Дарвине принималась она винить меня в кощунстве: «Как осмеливаешься говорить ты, что человек произошёл от обезьяны? Проси прощения у Господа! Бог создал человека по образу своему; не уж то посмеешь сказать ты, что и Господь произошёл от обезьяны?» На что отвечал я: «Почему бы и нет, а обезьяну об этом спрашивали?» Тут она сердилась, забирала пальто, дочь и, не простившись, яростно сбегала по лестнице. Супруг её, тот никогда ко мне не приходил. В его глазах я был пособником сатаны, в особенности с тех пор, как проживал без святого на то поручительства с неведомо откуда взявшейся девицей. И ни инстинктивно чувственная тяга, ни зов крови не подталкивали его к встрече со мною, как, не смотря ни на что, случалось это с сестричкой моей. Как же познакомились они, соблазнились, друг дружку взаимно сагитировали, она и этот мужний её проповедник? В школе, конечно же. Маленькая моя сестрёнка видимо нуждалась в обретении того отца, которого так плохо знала, и который покинул нас в 1970, в самый разгар летних каникул, на пляже в Скоглитти. Было тогда ей семь лет. Так был нужен Он ей на Сицилии её пращуров, что она полностью отринула Его, со всеми его святыми, со всеми его мадоннами, которые оказались неспособны в тот момент, когда умоляла их она в детской растерянности своей прийти на помощь тонущему на её глазах отцу. Вот и отвернулась она к протестантизму, не знавшему святых и осеменённых бесполыми, как про то говорят, ангелами девственниц. Антонио Кросе выжил в аду угольных штолен, он готовился к ожидавшей его череде счастливых дней, к смакованию успокаивающего чувства исполненного долга. Он знал, что самое трудное уже позади. Он был доволен тем, что молодость его принесена в жертву не напрасно, ведь благодаря ему сын его получает образование, достойное какого-нибудь буржуа, да и дочь обещает достичь не меньшего. Надо же было такому случиться, но именно в окаянный тот день 7 августа — солнце даже через тенты обжигало отдыхающих — пришло в голову двум девчонкам в море подурачиться, поприкидываться утопающими; крики их о помощи похожестью не уступали истинным. Полусонный отец, не раздумывая, бросился в воду. Он знал наверняка, что пляж имел репутацию небезопасного, что в самых неожиданных местах его возникало вдруг сильное течение. Молва людская не советует купаться после вкушения арбуза, но у папы не было времени на освобождение от него. Был он совсем близко от девчушек. В месте том, день-деньской, через круглую дыру в подножье высокой отвесной скалы дул сильный порывистый ветер, отчего и прибрежная вода там была на удивление холодна, не смотря на поджаривавшее распростёртые телеса пекло. И случилась молниеносная остановка сердца, вызванная судорогой от переохлаждения. Папа при жизни очень много курил. В ожидании последнего часа своего жил он, годы и годы, в глухом подземелье, при постоянной угрозе взрыва рудничного газа… Там, наверху, перед каждым спуском в преисподнюю, успокаивал он свой страх, смоля каждые четверть часа. И последние те сигареты — всё время собирался он бросить курить — наоткладывали на его коронарных сосудах множество всяческой дряни. Мама и Сабрин наблюдали трагедию из первых лож, я же, тем временем, где-то шатался. Было мне тогда четырнадцать — возраст, когда приятели значат всё.
Была у меня и племянница, Аурелия. Для неё я был птичьим дядей. Я вам уже говорил о моих талантах подражания птицам. Когда была она совсем маленькой, очаровывал я её, выразительно высвистывая чириканье — получалось лучше, чем было возможно. Она была на седьмом небе от удовольствия, глазёнки её распахивались бездонностью голубых просветов, пробившихся сквозь серое небо. Воскресенья пятидесятников посвящены культу, исключительно. Не имевшие пока что касательства к происходящему или же, иначе говоря, всё ещё ничем не стеснённые дети, которым трудно было усидеть на месте во время литургии, становились шумливее в то время, как служба превращалась в долгое евангельское совещание, когда друг в друга бросались стихами из Библии, препарируя их, объясняя и комментируя. Чтобы беззаботные твари не отвлекали родителей от увлекательных приготовлений к посмертному раю, потомству предлагалось убираться вон вплоть до наступления возраста обращения, без принуждения, но с настоятельной рекомендацией, грозя преисподней с её самыми изощрёнными истязаниями. Множество раз приходил я в их церковь забирать племянницу. Может и я остался бы с ними, если бы вместо тех стихов рассказывали там анекдоты: «А этот, знаешь? Номер какой? Двадцать третий! Ну, да, круто!» Ведь даже и анекдоты, если их читать, становятся скучными. Вот и выдались мне несколько воскресных дней по уходу за ребёнком. О, занимался этим я от чистого сердца, заботы эти позволили понять, сохранилась ли во мне хоть малая толика прежнего того воображения, способности обожания, превращавшие когда-то и меня в замечательного малыша. Я очень любил себя самого младенцем. Себя ребёнка знал я лучше, нежели себя нынешнего. С десятилетним багажом жизненного опыта за плечами помнил я о себе всё. Я мог нажать на потайную клавишу и целый ломоть истории моей молодой выпрыгивал вдруг из моей коробки с воображением. Множились затем бобины, катушки с магнитными лентами, память волшебного короба воспоминаний моих становилась более избирательной. Накопил я тысячи и тысячи сцен в том невероятном ангаре, в котором находиться мне оставалось всё меньше и меньше времени. Зато доводилось обнаруживать мне то тут, то там ускользнувшие от меня бобины. Так, припомнил я имя алжирца, подсобного рабочего с шахты, помогавшего справляться мне со школьными заданиями. Жил он один, затерявшись в итальянском поселении. Ему пришлось оставить на родине жену и двух малышей. Ждал он, пребывая в постоянном страхе, пресловутую визу В, легализующую его пребывание в Бельгии, дающую ему право быть человеком и, к тому же, позволявшую вызвать к себе семью, в северные эти туманы. Более живительные, нежели щедрое солнце его родины. Он единственный, кому удалось мало-мальски выучить французский. Меня он очень любил, был мне тем, кем я собирался стать для Аурелии — шутом. Выдворили его из страны несколько месяцев спустя. Помню его извиняющийся взгляд, когда вели его полицейские — в наручниках, словно злоумышленника, хотя делал он одно лишь добро. Все итальянцы застыли в немом приветствии брата по несчастью у дверей своих. Это я помню. Над ним по-дружески посмеивались, потому что судьбой уготовано было ему жить в жилище, имя которого буква в букву совпадало с его собственным именем — звали его Барак!
Очень любил я возиться с Аурелией; у неё была забавная мордашка, в штопор завивающиеся чёрные локоны и хрустальный смех — самая развесёлая из всех мелодий, какие только я знавал. Я делал всё, чтобы она была весела. Послеобеденное время проводил я на коленных чашечках. Я был её лошадкой, волшебным принцем, драконом, боксёрской грушей, объектом для издевательств, сверстником. Ну, а прежде всего, был я королём Гили-Гили и являлся к ней, чтобы вытащить из неё гирлянды смешинок, звеневших по всему дому. Никто и никогда на то не жаловался. Напротив, когда позже отец её решительно заявил, что более не может оставлять дочь свою с каким-то нечестивым служкой из похоронного бюро, и что в Ситэ её больше никто не увидит, некоторые из соседей, обычно никогда ко мне не подходившие, осмеливались на вопрос, не съехала ли малышка куда-нибудь. В редкие моменты отсутствия у меня игривого настроя, она первой догадывалась о том и, пытаясь снять с меня обязанность мою смешить её, просила отпустить поиграть на площадку с Ноэми, крохотной уроженкой Заира, её возраста. Однажды решился я проверить отношение её к различию и спросил, не замечает ли она что-нибудь особенное в своей подружке Ноэми. Она долго думала и в конце концов ответила мне: «Да, у неё из носа часто течёт». Ну, разве это не здорово? Мир должно доверить детям… Мы с ней стали истыми сообщниками. Помню я, смотрели мы вдвоём какую-то передачу о животных, сидя на софе — она опершись головкою своей на руку мою и засунув большой палец в рот. Созерцали мы с ужасом и дрожа от страха мангуста, которого змея выбрала себе на обед. Я хотел выключить телик. — Нет, не выключай! — На это неприятно смотреть, Аурелия. — Ну и пускай, я хочу досмотреть! — Тебе приснится кошмар! — Я люблю кошмары, я люблю проснуться и обнаружить, что всё это я придумала, это так здорово. Ну, что тут возразишь неопровержимому тому отпору? Ну, а скверная та змея, она что же проглотит милейшего мангуста? Она глаз с него не спускает, угрожая ему. Мангуст будто окаменел. «Ах!» — громко вздыхает моя притворщица, готовая вот-вот заплакать. Ну, уж нет! Появляются другие мангусты, наверняка это мамаша, папаша, дядюшка и тётушка из Сарагосы, четыре их молокососа, да ещё тётя из Бургоса. Они окружают змею и прохаживаются вокруг. Мангуст мамаша атакует первой и кусает змею, остальные ей подражают, не останавливая своё непреклонное кружение. Змея теперь не знает с чьей стороны будет укушена и за несколько секунд искромсана в клочья. И, вот уже, мы с Аурелией почти что жалеем бедную змею. А потом, в другой раз, без обиняков: — Дядюшка Жюжю, почему папа, он всё время говорит о боженьке, а ты никогда? — Потому что он с ним знаком. — А как это… он с ним знаком? — Он встречается с ним в церкви! — Так он в церкви… папа говорил, что он вроде везде. — Да, везде, где ты назначаешь ему свидание. — Его можно и дома встретить, что ли? — Конечно! — А правда, что он всё видит? — Да, даже грязные носки под креслами! Смех Аурелии. — И он читает мысли, — добавляю я. — Правда? Ну тогда, если боженька мысли читает, незачем говорить с ним всегда в церкви, нужно только подумать, о чём хочешь ему сказать и ему всё станет известно, нет? Я тебя такое говорить не принуждал, гениальная моя Аурелия.
Если мать приходила за ней с опозданием, а это случалось почти каждое воскресенье, упоение смехом следовало дополнять небольшой сиестой. Не имея ни малейшего расположения к пению, избегал я напевать ей колыбельные даже из тех, что пела мама моя для меня, и потому выгравированных в памяти моей навечно. Но был у меня в запасе один верный трюк: рассказывал я ей про нашёптывателя снов. Вот! Вы укладываетесь в уютную кроватку, положив голову на любимую подушку. Принимаете уютную позу. Закрываете глаза. Представляете себе кору своего головного мозга. Красите его в излюбленный цвет. Сконцентрировавшись как следует, вы сможете различить некий устойчивый отсвет… то ни что иное, как сон, существует он в самом деле. Это свет с той, «другой стороны», он просачивается через отверстие, называемое так: будка нашёптывателя снов. Вы его точно засекли, не так ли? Именно в тот момент вы аккуратно и вежливо суёте один из мизинцев своих в ту ноздрю, что соответствует руке с этим пальцем. Ничего сложного. Аккуратно толкаете его в носовую полость, за лобную пазуху, спокойно добираетесь до мозга, осторожно его проходите и достигаете наконец оболочки головного мозга. Жмёте, но не резко, на тонкую полупрозрачную мембрану в том месте, откуда просачиваются отсветы. Это поталкивание придётся как раз на высоте плеча нашёптывателя снов, дремлющего по ту сторону, да так, что сами вы даже проснётесь. Вы следите за тем, что я говорю? Так вот, наш нашёптыватель снов вздрагивает и понимает, что вы готовы перебраться на его сторону. А вы продолжаете надавливать на мембрану своим мизинцем — со стороны снов он похож на сосок груди и потому не распугивает метафоры. Нашёптыватель снов хватает упомянутый сосок и принимается тащить его вверх. Вы почувствуете, что вас засасывает. Сантиметр за сантиметром проскальзываете вы на ту сторону, будто сами вы всего лишь слезающая с вас синюшная плёнка или же не более чем некий наряд из одной лишь кожи. Сначала один палец, потом ладонь, рука, плечо, волосы, голова, осторожнее с ушами! Вот и шея. Проходит вторая рука, готово? Так, теперь очередь за другим плечом, затем грудь, талия, бёдра, ноги… и вы целиком оказываетесь со стороны снов, симметричны самим себе, некое подобие силуэту из антиматерии или собственному отражению в зеркале. С того самого момента нашептыватель снов, если до того он всего лишь дышал, теперь он, как указано и в имени его нарицательном, нашёптывает вам новый ваш сценический образ… согласно текущему своему настроению. Он довольно сумасброден и вполне может нашептать вам какой-нибудь кошмар. Когда настанет черёд утомиться нашёптывателю снов, ему, конечно же, захочется спать, а значит вновь занять прежнее, отнятое у него вами место. Вам для того надлежит пройти через то же отверстие, которым вы шли туда, и вернуться в реальность прежде, нежели умыкнёт его восстанавливающая силы дрёма. А что же снится самому-то нашёптывателю снов? Не является ли нашёптывателю снов действительность наша тем же сном? Поди ж ты узнай! Ну, а если это так, пожалеем его, беднягу! Заслуживает ли он всех этих кошмаров?
Несколько недель спустя, было это в июне, через семь месяцев после первой нашей встречи, Франсуаз пригласила меня провести объявленные из-за жары выходные вместе, в неком укромном домике, этаком коконе шелковичного червя, принадлежавшем её отцу и расположенном на бельгийском побережье, в Коксиде, куда съезжается куча отдыхающих из нашего региона, своего рода Эно на море. Тотчас попытался я сочинить оправдание, внушающее доверие:ссылался на возможность непредвиденной работы, в которой хозяин рассчитывал на мою незанятость, бормотал что-то про обещание Розарио навестить его матушку, родом из одной со мной деревни на Сицилии; ничто не возымело должного действия. Папаша её как-нибудь выкрутится, возражала она, не раб же, дескать, я его, а Розарио всё поймёт, сам тоже молодым был. В последний раз бельгийское побережье видел я в Кнокк-ле-Зуте, было то с красавицей фламандкой моей и зимой. Она обожала пустынные, северным ветром подметённые пляжи. Дурачились мы там и я, как истый сицилиец, угадывал в окрестном пейзаже, не смотря на терзающий за уши холод, нечто чарующее. На берегу отступившего с отливом моря разыгрывался лунный спектакль. Как если бы шагали мы по настоящим облакам. Пурга неслась низко, до полуметра в высоту, почти нам по колени поднимая песок, сворачивая его в похожие на вату шлейфы с барашковых небес. Мы обезумели, крутились друг вокруг друга, словно дети. Вихри ветра уносили нас, куда им того хотелось, а мы ожидали, что они унесут нас на вершину счастья. Увы, свалился с тех облаков, озарённых поэтическим сиянием, слишком рано я. Ветер отогнал их от меня далеко-далеко, вместе с феей по имени… Колокольчик, на борту. Или же, оставив меня на краю дороги, улетела она с теми чайками, что составили её кортеж в перелёте к лагуне Цвин, где многие и многие тысячи таких же птиц мигрантов находили приют ещё на заре времён. И вот, я на приморской автостраде, за рулём — милейшая Франсуаз. — Нет, Жюльен, позволь мне, ты всю неделю водил похоронный автобус. — Хорошо, раз ты так того жаждешь… И чего ждала она от меня? Мы прибыли в Коксид поздним вечером. Жильё стояло на дамбе, с видом на море. Небо флюоресцировало голубовато-лиловым отсветом, и едва заметно, взбитыми сливками, плыли по нему розовые облака. — Смотри, какое красивое небо, Жюльен, — сказала она, взяв меня за руку возле панорамного окна. И представил я нас на фоне китайских разводов севшего в полихромное море солнца, как то бывает на почтовых открытках ко дню святого Валентина. Я оставался несгибаем ровно настолько, чтобы поняла она, что я не тот, кем она меня воображала. Мы спустились в соседский кабак съесть, как обязывают к тому бельгийство и традиции, по нескольку мидий с несколькими же ломтиками хрустящего картофеля, затем вернулись в студию и тут только я осознал, что проблемы мои едва начались. Я был удивлён, указав ей на то, что в единственной комнате вижу одну лишь кровать. — Где же должен спать я? — спросил я сердито. — Ну… со мной, — ответила она, удивляясь моему вопросу, очевидно приняв его за идиотский. — Есть же канапе… — настаивал я, пребывая на грани отчаяния. — Жюльен, чего ты опасаешься? Я умею себя вести, ты же знаешь… — А я в том и не сомневаюсь, — лицемерно ответил я, — но, речь идёт… лишь о твоём удобстве. — Ты думаешь, что такая большая кровать это мне одной? — Да, нет же, Франсуаз, ты великолепна. Брошенный в мою сторону взгляд красноречиво говорил о явной несуразности моего комплимента, и я понял, что реплика та ни коим образом не намекала на оккупационную зону пышных её округлостей, тогда как в мозгу моём засвербело от мысли о возможной их доступности. Она не обратила ни малейшего внимания на явную мою оплошность и мне стало ясно, что по поводу внешности вовсе она и не комплексует. Извиняясь, принялся уверять я её, что привычку спать вдвоём в одной постели, дескать, давно утратил, она же, с некоторым жеманством, заметила, что о том как бы и предстоит поболтать. Кольцо замкнулось. Не подыскав достойного возражения, я раскрыл дорожную сумку, достал оттуда пижаму, несессер и заперся в ванной комнате. Вышел я оттуда не трясясь, а бодро дыша. Тем временем, она облачилась в элегантную, цвета шампань, шёлковую комбинацию и вызывающе вытянулась на кровати. — А правда, что ты торговал женским бельём? — Ну, да! — отвечал я, — делал я и это. — О-ля-ля! а моё как находишь? — Очень тебе идёт, очень. — Точно? И заискрилась вся, и вся-то запенилась мамзель Легэ, точно едва откупоренная трёхлитровая бутыль шампанского. Осторожно, никак не успокаиваясь, скользнул я под тонкую, будто свадебная фата простыню, отрезавшую нас от тягостной, с полудня зависшей в комнате духоты. Она погасила свет и, не более, как через секунду, уже вкатилась на меня. Я собирался сказать ей, что весь в грибке, как в шампиньонах, что у меня прыщавая лихорадка, экзема, астма, ревматизм, что от высоты у меня кружится голова, что я совсем позабыл, как это делается — она ничего не хотела слышать. И тут вдруг, клубившаяся было вокруг темнота, только что вот представлявшаяся мне свинцовой, к великому моему изумлению стряхнула на меня пуховое облако своё и мужское моё начало, многие месяцы ужимавшееся до минимизма, взяло вновь верх, а сам я… не пожалел о том вовсе… по крайней мере, сразу… я бы так сказал. Проснулся я на рассвете, сгрызаемый растущим осознанием ночной своей «уступки» напору, грозящей обернуться для меня крупной неприятностью. Я напялил на себя футболку, цветные бермуды, теннисные тапочки и направился на пляж, обдумать возможные варианты дальнейшего развития событий. Того уединения, на которое рассчитывал, я не нашёл; там уже возились с песчаными замками своими какие-то малыши, и, неподалёку, сбросив с себя шелуху повседневности, устроилось на шезлонгах несколько взрослых особей. «Кто рано встаёт, тому бог подаёт» — подумалось мне. И побрёл дальше, вдоль мелководной волны отлива, пока не упёрся в перегородивший мне путь волнорез. На выступавшем в море конце его сидел некий человечек — ноги свешены, волосы веером разметаны по голым плечам. Я вкарабкался по камням на волнорез и услышал доносящееся со стороны моря пение дудочки. Я подошёл к ангельской фигурке. Музыкант обернулся в мою сторону. «Я всего лишь созерцатель океана», — сказал он мне. — Должен же кто-то и это делать. Продолжайте, не хотел вас беспокоить, — ответил я ему. И ушел, оставив его наедине с восторженными волнами, тысячами змеек извивающимися у его ног. Решил, что по воссоединении с Франсуаз, тут же в студии, сразу дам ей понять, что должны позабыть мы о произошедшем этой ночью между нами, как о некой не имевшей продолжения блажи. Встретила она меня радостно, что-то напевая. Глазам моим предстал столик, застланный красивой скатертью, с желтыми соцветиями по голубому и лавандовому фону — был подан завтрак. Она не позволила вставить мне и слова; я слушал речь, изредка прерываемую глубокими вздохами, подтверждавшими, как я того и опасался, что никогда, дескать, не была она столь счастлива, как теперь и всё это, благодаря… мне, то бишь «её Жюльену»… «Ну, чего же я такого сделал, боже ж ты мой?», — впав в уныние, спрашивал я у себя самого… и было в ответ молчание мне.
И вот снова я на пляже, на этот раз в компании с потрясающей Франсуаз, вырядившейся в бикини, красное в желтый горошек, и горошинки те на её впечатляющих формах обрели статус апельсинов. Мы вытянулись на песке, лицом к морю, возле пляжной кабинки с надписью на дверце: «Собственность Легэ» — иного и быть не могло. Перед нами прошёл чей-то пёс, казалось, был он накачан гелием. Чуть было не коснулась нас своим крылом чайка, похожая на цепеллин. Я осмотрелся вокруг — всякое, даже самое из них поджарое существо, будь то мужчина, женщина или ребёнок, могло записаться на предстоящий чемпионат по сумо. Пляжные наряды на всех трещали по швам, но все пели и смеялись, и Франсуаз, впрочем, первой из всех. Отметил я ещё и странный феномен: мои руки, бёдра, живот, щёки, различимые мною в зеркале кабинки, короче, всё моё тело подладилось под царивший вокруг размерный диапазон, стал я упитан, что твой прелестный розовый поросёнок. Каким же это странным вирусом был я заражён? Я смотрел на Франсуаз и находил её прелестной. Я протянул ей руку и пригласил искупаться. Детишки, пухленькие подобно ангелам Рубенса, повизгивали, дурачась, на надувном Зодиаке, нам это было незачем, мы превратились в плывущие каноэ, надутые неведомым воздухом, напоминавшем нечто приятное… некую реминисценцию минувшего счастья. Уж не нашёл ли я спасательный буёк свой? Мы вернулись в ту же забегаловку-закусочную-блинную, что и вечером, намедни. Заказали всё меню — начали с блинов, затем блины на второе и под конец блины на десерт. Мы весело нафаршировали ими себя, сглотнув не менее дюжины на каждого, глядя прямо в глаза друг другу в долгом и глубоком единении наших совершенно изголодавшихся душ… и буднично земном сладострастии. Насытившись, или же по меньшей мере хорошо поев, она пригласила меня следовать за ней на «недолгий послеобеденный отдых». Мне было хорошо. — Нет, нет, я остаюсь на пляже, обожаю солнце… когда ещё придётся позагорать… — А меня ты хоть немножко любишь, Жюльен? Цепляясь за наречие, только что смягчившее безусловность толкования прозвучавшего вопроса, я искренне ей ответил: — Ну, конечно же, Франсуаз, конечно! И она покинула меня, перед тем чмокнув и радостно улыбнувшись. Как только исчезла она, тут же вновь стал самим собой и я. Вернулись в прежнее состояние и впалые щёки мои, и бледность моего лица. Мне следовало вернуться к первоначальной раскраске и вернуться на пляж. Феномен на этот раз оказался обратным: люди были тощи, грустны и бесцветны. «Уф, — подумалось мне, — всё это солнца шуточки!» И прикорнул, на минутку, под влиянием окропившего блины шабли. Когда сознание вернулось ко мне, отдыхающие окрест меня приняли свою «нормальную» наружность, и мне удалось рассмотреть всевозможные, привычные формы — груши, кувшина, амфоры, вешалки, страуса, новогодней ёлки, отсутствие оной, порыва ветра, чека, чаевых, всяческих хлопот, а были среди них и такие, которые имели уже теперь форму своего гроба; глаз мой заострялся уже профессионально. Тут вышла из воды некая женщина, сплошь урытая морщинами так, будто запутали в рыболовные сети её, сумевшая однако сохранить жесты, лёгкость, смелость и ложную стыдливость юной девы, а потому скрестила руки на голой иссушенной груди, томно, по-кошачьи, покачивая бюстом из стороны в сторону. С видом заговорщицы улыбалась она сидевшему на раскладном стуле мужу. Тот, с видом счастливчика, разглядывал её поверх журнала. Знакома ему всякая из морщинок его дульцинеи, смог бы перечислить он их все, вновь прожить их, проследить их по карте жизни, задержавшись на всём, всем растрогавшись. Конечно же, захотелось мне втихую посмеяться над мятой этой и сморщенной Венерой, но тут же передумал, за видимой обыденностью её заметив руку Боттичелли. Франсуаз объявилась лишь после полудня. Была она теперь в закрытом купальнике, чёрном в широкую жёлтую полоску, облегавшим её столь плотно, что казалось он вот-вот разорвётся, как сказал бы я о нём ещё вчера, но нет, я находил её «потрясной» в этаком вот образе пчелы-чревоугодницы, существа столь же мифического, что твои индейцы племени Майя. И в очередной раз внимающие глаза мои вновь надели увеличительные линзы и вернули меня в мир надутых гигантов из рекламы Мишлена, в котором и пребывал я вплоть до возвращения в Эн-Сент-Мартин.
Утром следующего дня, в понедельник, встретил у Легэ я Розарио. Тот явился сообщить мне, что он, мол, выдержал экзамен на инспектора и приступает к работе в следственном отделе Монса. Я искренне его поздравил. Он же с лёгкой издёвкой продолжил: — Ну, что, cumpari, воздух морской пошёл тебе на пользу, ты в отличной форме. Всё ему было известно, Франсуаз эмоции свои не смогла сдержать. Заведение Легэ целиком, от Фернана до матери его, от Фирмэна до приходящей уборщицы было в курсе всего. Пока лишь мне одному не было известно, что я просил руки м-ль Легэ. Понял это я, когда патрон отвел меня в сторону, чтобы прочесть мне речь, полную полезных советов, любому-отцу-который-берёг-дочь-свою-как-зеницу-ока положено их иметь для будущего зятя. Как мог, сдерживал я восторженное устремление это, имевшее виды на не столь уж и радовавшее меня будущее, но, при том, окончательно и бесповоротно аннигилировать чаяния семейства Легэ мужества мне не доставало. На следующей неделе, впервые, пригласил меня Розарио к своей матушке. Она, конечно же, была в курсе о «помолвке» моей. Разумеется, мадам Беллясе говорила мне о сыне и прежде всего о присущем ему чувстве юмора, некоторые образчики которого успел испить и я. Она рассказала мне, как встал однажды он на рассвете и высадил в огороде, рядами, спагетти… а всё затем, чтобы нашли их, проснувшись, младшие его племянники и племянницы и верили бы несколько лет подряд, что макароны прорастают по весне, как и добавленные к ним в тарелки помидоры. Припомнила она и достопамятное то Рождество, на котором весь вечер Розарио надоедал буквально каждому из собравшегося на празднество семейства, справляясь о самочувствии красной рыбки, почему-то казавшемся ему странным. Аккурат в полночь он подошёл к аквариуму и воскликнул: «Идите сюда, смотрите, у рыбки малыш — это новый Иисус». К тому времени все уж пребывали в благодати господней, а потому принялись вопить о неком чуде. Немного понадобилось им времени, чтобы вспомнили они о яйценоскости красных язей и зашлись в хохоте, веселясь и досадуя, что попались в ловушку. Шутник, проделавший это, явился к маменьке с небольшим, наполненным водой пластиковым пакетиком в своём кармане и розовым мальком в нём. Солью тех двух анекдотов был тот самый Розарио, каким я представлял его себе, и которого любил. Всегда наготове у него было что поведать мне, большей частью нечто захватывающее о нашем с ним отчем крае, о подчас тупой решительности некоторых наших соотечественников, в том числе дядюшки его Тури. Как-то раз, сидел тот на пороге дома своего и ковырялся перочинным ножом в ногтях своих, и пристал вдруг к нему, к terrone (южанину) некий polentone (северянин). — Извините, что беспокою вас, месье, не могли бы вы сказать, сколько времени придётся потратить, чтобы дойти отсюда до вокзала? Не отрывая глаз от ногтей своих, отвечал Зиу Тури иссушенным на солнце голосом своим: «Cammina!», что на хорошем итальянском означает: «Марш!», в просторечии же, понимается так: «Убирайся! Выметайся!» Задетый резким тоном сицилийца и тыканьем в свой адрес туринец извинился за назойливость, но добавил, что тому всё же следовало быть повежливее. — Cammina! — повторил Зиу Тури. Представитель севера Италии, раздосадованный, пошёл прочь. Едва осилил несколько метров он, как автохтон крикнул ему: — Чтобы добраться до вокзала, тебе нужно двадцать минут! Турист, удивлённый неожиданным тем участием, дядюшку поблагодарил, однако не мог удержаться и не упрекнуть того в изначальной грубости. — Но, не зная с какой скоростью ходишь ты, как мог бы сказать я, сколько времени придётся потратить тебе, чтобы добраться до вокзала? Тоже мне, ловкач! В конце встречи поднесла мне синьора Беллясе в качестве свадебного подарка пару чашек итальянского фарфора. Напрасно отрицал я наличие обязательств за собой, признан был скрытным и чашки вынужден был унести. Придя к себе, удивился их тонкости. Взял одну из них в руки, полюбоваться ею. Слишком порывисто сдавил её, что ли я? Хрустнула она меж пальцев моих. Вздрогнул, конечно, я, однако, собрав осколки, уснул, особого значения инциденту не придав. На следующий день Розарио принёс мне другую, взамен вчерашней. — Держи, это от матушки моей, разбитая чашка к несчастью, следует как можно скорее заменить её, а не то проклятие накликаешь. — Постой! Ты что это мне тут рассказываешь? Что всё это значит? Как может знать она, что разбил я одну из двух чашек, я же не говорил об этом никому? Розарио только и ответил: — Она знает!
Случаются дни, когда и не живёшь вовсе… те дни полны солнца, но холодны как стекающая сквозь пальцы последняя надежда. В такие дни, как только выберешься из постели, убивает тебя полным разочарования взглядом зеркало, и поливаешь ты никогда не раскрывающиеся цветы; зовёшь тогда кого-нибудь из друзей, хочешь слышать чей-то голос, а слова его, нужные как воздух, натыкаются на твоё замешательство: «Хорош хандрить, все рады тебе», — искренне говорит он, и ничего не происходит, а ты снова в дураках и одинок, как никогда… так-то вот… бывают такие дни, когда как бы и не живёшь. К счастью, случаются и другие дни, о которых, как поведал нам о том Д. Д. Сэлинджер, мечтала рыба-банан, когда зацветают в саду грёз голубые розы. Всё вокруг небесного цвета, и примечаете вы зелёный луч, след некой, пусть и грозовой тучи, и узнаёте розовато-лиловый отсвет, оставленный небосводу дуновением надежды. Накануне вечером смотрел я по телевизору известную картину, «Он и она», фамилию режиссёра я проморгал. Навеяло та на меня кой-какие мысли. Кэрри Грант и Дебора Керр, и вправду великолепная парочка, устраивают свидание на сто втором этаже Эмпайр Стейт Билдинга. Знакомы-то они всего ничего — в одно и то же время, случайно, оказались в одном и том же отеле, на Лазурном берегу. Друг другу понравились, но за каждым уже болезненный опыт несостоявшегося счастья. И, остерегаясь пьянящего дурмана любви с первого взгляда, на поверку-то всё могло обернуться очередной иллюзией, решили потому дать друг другу время на осмысление: договорились встретиться ровно через год, день в день после первого поцелуя, доверившись судьбе. Какое благоразумие, не правда ли? Короче, он на месте, чтобы тоже там быть, сделала всё и она. Но, увы, в тот самый день и всего в нескольких метрах от того самого небоскрёба, попадает в автокатастрофу. В клинику доставляют её с параличом ног, оттуда выходит она несколько дней спустя, прикованной к инвалидной коляске. Можете пускать слезу, никто бы тут не удержался. Ожидает он её до закрытия дверей знаменитой башни. К полуночи, убедившись, что возлюбленная от него отреклась, сглатывает все свои мечтания о новом счастье и возвращается к прежнему одиночеству. Позже, будьте покойны, он её найдёт, узнает о своей «лапуле» правду и… всё прекрасно — она излечивает недуг, они счастливы и у них много детишек. The end! С подстрочечным титром: «Конец». Тронутый красивой и поучительной историей, решил я совершить романтичный и наивный поступок — пропихнуть Тино Росси в члены известной группы с обострённой формой Эдипова комплекса. Написал на совершенно белом листе бумаги я то ли послание, то ли SOS, то ли ультиматум, то ли просьбу. Сложил его пополам, верхние края загнул к центру, обе половинки завернул в обратную сторону, раскрыл… и т. д. и т. п., пока не получился наконец маленький кораблик. Самим собой я остался доволен; а как же, ведь в последний раз получился он у меня никак не менее двадцати лет назад. Не имея под рукой Эмпайр Стейт Билдинг — разве что выстроить для неё нечто подобное, укладывая по камню за каждую минуту отсутствия её — назначил я свидание пройдохе моей на четвёртом этаже мерзкого жилища; обернулось бы раем оно, соизволь она хотя бы ещё раз с балетными, тридцать восьмого размера, пропорциями своими ступить на ведущие ко мне лестничные, устланные грязной бумагой ступени. Осмысливая послание своё ясно понимал я, что повседневный антураж мой вряд ли был подходящим декором долгожданной встрече, придать которой хотелось мне как можно больше блеска. Тогда взял я другой лист и письмо переписал. Намереваясь даровать избраннице исступления моего заслуженную ею красоту, назначил я ей то невероятное или же чудесное свидание в музее Оранжерей, в гостиной Нимф, в оговоренный день и никак не иначе. Исписанный лист ламинировал я целлофаном и вновь проделал мудрёную укладку. Отдельные сгибы скрепил прозрачной липкой лентой и, вот, кораблик был готов к плаванию. Я направился на берег Эн, метрах должно быть в ста ниже по течению от очистной станции, где освобожденные от безобразия нечистот воды её через деривационные каналы стекались в нормальную с виду речку. Должно ли мне уточнять, что и здесь уже можно наблюдать отвратное явление в ней покрышек, консервных упаковок и презервативов. В месте том, однако, она хотя бы течёт и уж одно это оправдывает то, что доверяю я ей своё послание, вой влюбленного волка. Нужно же что-то пробовать… я и испробовал — приём однодневка, акт бескорыстия, миг идиотизма, образчик слащавости, в любом случае была у меня уверенность, что единственный, кому сие ведомо, это я.
Эн… странное имя у этой речки. Тем более, что изначально звалась она Агна, и ничто не предвещало того неприглядного её переозвучивания. Потому и звалась Агной, что судьбой было ей уготовано совсем иное, за то и уважение было ей. А Злобного, досталось же кому-то прозвище от неё, должно бы называть Агнцем, и обитатели тех мест, то бишь Агнцовы дети, веками покорно паслись на зелёных выгонах и покрытых мальвовыми облаками люцерны холмах. Некоторые историки утверждают, что идея та исходила от Юлия Цезаря, дескать, дабы покарать обитавших на её берегах доблестных Нервьенов за противление намеревавшимся преодолеть водную преграду центуриям его и нацепил он ничтожное или, по меньшей мере, несимпатичное то поименование. Отсюда и непримиримость наша, высокочтимый Кельт из Франции. Не заявлял ли Юлий, что из всех народов кельтских бельгийский самым храбрым он считает? Такая вот история… Отсюда и мщение: за упрямство наше гордое приговор прекрасному потоку нашему на бесчестие, в грядущих поколениях. Мелок, однако, ты, о, великий Юлий! Римляне, всех нас[10] к великому сожалению таки покорившие, увековечат плоскую остроту и много веков подряд с презрением и злобой регулярно станут плеваться и писать в бедную и ни в чём неповинную реку — тем и можно объяснить пенящиеся порой, будто покрытые слюною воды её. И потому-то, на самом деле, не призывают воды Эн к купанию, супротив Амура, воды которого, впрочем, не менее грязны.
С другой стороны, «haine» то же самое, что по-латыни odium, объяснявшее предкам нашим всякую принадлежность к славе и почёту, но, как мне кажется, доверия сиё заслуживает мало. Другая, более прагматичная историческая школа утверждает, будто слово «haine» происходит от кельтского aien, смысл которого сводился к простому понятию «бежать, течь». Должно было это означать, что Эн всего-навсего речной поток, и что когда-то она и в самом деле текла, теперь же выглядит продрогшей и в замедленном подрагивании вод своих несёт в них нечистоты всех окрестных этих мест. Сможет ли кто-либо ныне поверить, что некогда с радостью вилась она меж лугов и болот, полная карпов, щук, линей, колюшки и прочей пресноводной рыбы, мимоходом поглаживая растущие по берегам деревья, огибая и при том одаривая своей прохладой хутора и деревушки, жители которых удостаивали её доверием своим, сидя на гостеприимных берегах её и полоща в водах её ноги свои? Времена меняются, и ныне ползёт она стыдливо меж замечательных наших терриконов, гигантских могильных холмов, подобных Альпам гор хлама, слишком бедных для использования угольных отбросов, смешанных с извлеченной при проходке галерей, ведущих к угольным пластам, землёй. В пятидесятые протекала она вдоль поселений со сбившимися в кучки шаткими, едва не разваливающимися постройками под ребристыми толевыми крышами, схожими с вагонами поставленных на вечный прикол поездов. Позже, обернулись они свалками бетонных конструкций, грубых, шершавых и бездушных, если только не вдыхали в них свою душу популяции иммигрантов, вынужденных довольствоваться, хотели они того или нет, и этим. То тут, то там преодолевала она хитросплетения кабелей и металлических балок, когда-то участвовавших в работе лифтов, спускавших героических шахтёров на глубину в тысячу метров лишь затем, чтобы обмакнуть там в ванну чёрных чернил, а потом на белёсых стенах их бессонных ночей навсегда отпечатать пережитые ими страдания, поступки их и дела их, мрачные страницы книги их жизни. И теперь ещё, средь изъязвлённого камня и ржавого железа, промеж сортировочных ангаров с выбитыми стёклами и застывших на оказавшихся вне закона рельсах вагонеток возносятся к верху эти туры молчаливыми, недвижимыми стражами гнетущего запустения, напрасными и призрачными. Перед тем, как оказаться среди восторженной публики Эн-Сент-Мартин, заполучить фейерверк из их отбросов и экскрементов, река вначале, чуть выше по течению, набивается ими в Морланвельце, в Эн-Сент-Пьере в Карниере и… хорошо гниёт тот, кто гниёт последним. Как деньга бежит к деньге, так грязь липнет к грязи, а пустые обещания нанизываются одно на другое вниз по течению, от обитателей Эн-Сент-Поля к жителям Сент-Вааста, и так далее, и так далее, вплоть до Жемаппеса, где и река-то уж не более, чем едва ползущая свалка мусора, и где, агонизируя, получает она последнее причастие своё в виде некого притока, который называется, держитесь, чтобы не упасть — Труй. Ну да, понатворили с ней, с бедной этой Эн. А у меньшей, запоздавшей сестрёнки её, ничего такого, кроме скверного имени. Может статься, что мадам Пубель[11] с мадам Будэн[12] на самом-то деле и весьма милые дамочки, лишь укрытые отсветом фамилий знаменитых их мужей, да только вот Труй, ручеёк и вправду премерзкий. К великому счастью, вязкие и смрадные воды его, с плавающими в них хилыми, никогда не закрывающими пасть крысами, летом укрыты тучами хмельных от омерзительных испарений комаров, а зимой — зацепившимися, за проступавший из его берегов уголь, туманами.
Эн и Труй… нежные ручейки из детства моего. Мы, пацаны шестидесятых, легкомысленно алчущие приключений, не колеблясь пересекали роковой сей Рубикон, преследуя или спасаясь, по обстоятельствам, в противостоянии с бандами завоевателей из соседних деревушек. Пересечь вплавь ту безобразно липкую жидкость, которая должно быть стекала с терриконов, было теперь мерилом истинной удали. Начало пути Эн на Голгофу вряд ли сегодня можно датировать с точностью до дня. Уже в XIV веке уголь становится повсеместно и каждому доступным к использованию, ну а река — средством его доставки. Живущие по её берегам копатели угля переправляли его в мешках, влача их к берегу на спине и затаскивая на баржи, обзываемые тогда керками. Потом настал черёд двухколёсных повозок, и пусть понемногу, но за столько-то времени, понасыпалось его по пути миллионы тонн, и потому-то почернели прямо на глазах некогда зелёные речные берега, а ещё недавно хрустальной чистоты речные воды зловеще засверкали фиолетовыми и зеленоватыми шлейфами. Отталкивающий вид и испускаемые ею миазмы стали досаждать жителям прибрежных деревень столь сильно, что те решили соорудить поверх её дорогу. Чтоб и духу её тут не было. Несколько лет тому назад даже была совершена частичная её «эвтаназия». Через несколько километров, там где стало невозможным её «закатать», была она упрятана в трубу, что и тянется теперь вдоль автострады Париж-Брюссель.
Именно той гнусной полоске соплей и доверил я своё прошение. Уф… то состояние моё, в котором я пребывал тогда… Находился я метрах в ста от мостика с названием Беспокойство, висевшего над рекой моих надежд. При виде его пришла мне на ум одна идея. Тем же вечером, уже в сумерках, нескольким, весьма редким прохожим дарована была привилегия наблюдать на мосту некий, вытянувшийся рядом с большим ведром силуэт. То был я и огромной кистью, ярким солнечно-жёлтым цветом, для себя как бы кверху ногами, выписывал я сквозь столбики перил имя той, кому предназначено послание, доверенное речному потоку. И добавил: «Я тебя люблю». Полотнище железобетонное получилось десяти метров длинною. Тем был я весьма горд, не смотря на то, что оказался в воде — пришлось перелезть через поручни, чтобы закончить нижнюю завитушку буквы «Я». Не позабыл я и про художественный образ виденного мною, не хотелось халтурить с сюжетом своего предложения, речь-то ведь шла в нём обо мне, о моей жизни и о ней, как о прямом продолжении моих желаний. Несколькими днями позже почти вся пресса на все голоса заговорила про мост Беспокойства, но не в связи с моим, в стиле концептуализма, произведением, что вполне меня устроило, потому как могло усилить и без того громкий вопль любви моей. Так нет же, склонять получивший известность мост стали из-за некого мясника, бросившего у опор его несколько мусорных мешков с останками разрубленных в куски женщин. Говорил же я вам, что Эн речушка премерзкая…
Какое-то время я ещё ждал. Она же избегала меня, и надо ж такому случиться — я засомневался в реальности существования её. Отчаявшись до готовности на невесть что, отсюда и лёгкое то исступление, о чём я рассказывал вам не так давно, оставался я всё же в здравом уме по отношению к такому немыслимому, как личное прошение к любой из сестёр по одиночеству прибрать меня к рукам. Сам себе я говорил, что коль паруснику моему и будет суждено юркнуть в чью-то гавань, то встретит пусть его всё ж таки женщина и не из человеколюбия, но как избранника своего. И непременное условие — нужно обязательно, чтобы имела она на то добрую волю свою, ей предстояло собрать из кусочков пазл, каким стал я в собственных глазах. Так же нужно, чтобы была она красива, умна, эрудированна, чтоб способна была остроумием своим вдовца новоиспечённого рассмешить до слёз и, конечно же, умела готовить обожаемое мною ризотто с мозгами. Ничуть не меньше! Если и хотелось мне заключить соглашение со сверхъестественным, то не любой же ценой. Благоразумно предоставил я ей год и один день на то, чтобы разыскать меня. По истечении сего срока мечту свою о любви рассматриваю аннулированной…
Так вот, когда не находил я никого, кто составил бы мне компанию, то давил на педали к тому самому супермаркету, что находится почти на стыке с автострадой, где и припарковывал свой двухколёсный, запирая его на противоугонку, и уж потом заполнял тележку всем тем, что должно было обеспечить моё доживание до следующего неминуемого обнищания. Укладывал я туда стиральный порошок, макароны, хлеб, рис, соус томатный, молоко цельное, масло, маргарин, йогурты, столовое вино, пармезан, масло оливковое, краски акриловые, обтянутый холстом картон для художественных моих экспериментов, не позабыв о туалетной бумаге и про несколько хлопчатобумажных трусов — истинной наседкой был я для себя самого. Толкал поклажу до самого своего жилья, поднимал всё наверх лифтом. Возвращал порожнюю тележку назад, к супермаркету, вновь седлал велик и вот, как же это классно, снова оказывался у себя. Вся операция занимала у меня не более трёх часов. Практично, да? О, я мог бы купить и машину, но у меня не было гаража, а в городе, после первой же проведённой под звёздным небом ночи, рисковал я найти её без колёс. Или же пришлось бы купить себе ружьё, но это не для меня. Я пошутил… Как бы там ни было, но о своей незначительной персоне подумал я лишь в субботу, блюдя оную как и патронесса моя, мадам Смертушка. Разумеется, никогда не бывал я одинок перед телевизором, где обретал возможность увидеть иные лица, а не только лишь погружённые в траурную скорбь. Не осмелюсь утверждать, что на всех на них сияют улыбки, однако, по меньшей мере, они не плачут, что для меня значило вовсе не мало.
Народу-то, народу-то сколько! Будто порошинки металла, притянутые гигантским магнитом в форме вопросительного знака. Господа теологи, скажите же мне, как это наш Господь, будучи один одинёшенек, конкретно каждым из нас интересуется? И на фоне и соседства тающей вечности с неизмеримой мощью, чем же это наши попытки возвыситься до единения с высшей Сутью окажутся лучше тех волн лепета, посредством которых ростки растений, похоже, друг с другом общаются, реагируя на наше присутствие, хотя мы всего лишь более или менее симпатичный итог их жизнедеятельности? Способны ли они, в растительном миру сестрёнки наши малые, пробиться сквозь глыбу огромного невидимого кристалла, на котором всякий раз, когда возникает желание у нас сесть на рейс, уносящий в страну живущих в ней душ, расшибаемся, по крайней мере при жизни, всмятку мы? В любом случае, бамбук умеет нечто, благодаря чему, при зацветании первого из них, то же самое происходит со всеми остальными, одновременно и повсеместно, где бы они не произрастали. Словно повинуясь приказу, передаваемому некой волной, бросающей вызов и времени, и пространству. Что скажете на это? Представьте, что мы, все и повсюду, запустили бы волны любви, как только первые влюблённые ощутили в сердцах своих едва зацветшие бутоны божественного чувства. Ну хорошо, картинка получается в стиле «love and peace, and flowers в волосах», только, может, удалось бы нам нескольких войн избежать. Боже мой! Куда ж это меня занесло? С ума сойти, что может в голову поналезть, пока стоишь в очереди в супермаркете. Вновь отправляюсь в развернувшийся во мне самом монолог. Почему и для кого галстук сей, мадам? Для мужа вашего, вашего сына или любовника? К годовщине его, на праздник ли? Уверены ли вы, что он ему понравится? Если осмелюсь, я непременно вас об этом спрошу, милая мадам, дабы свидетельствовать вам, что случай ваш мне интересен и, что не одиноки вы. Боюсь только, как бы не послали вы меня к чёрту. О, намерения мои ясны, вам я желаю лишь всего самого хорошего, безо всякой двусмысленности, так сказать, без тени на плетени. Я зауряден, посредственны также и вы. Вы и я всего лишь парочка из шести миллиардов микрокосмосов, составляющих человечество. Так что, прежде чем утверждать, будто могли бы мы завладеть вниманием мирового сознания, называемого Богом, обеспокоимся обоюдно на наш счёт, поскольку стоим теперь в одну и ту же кассу, в одном и том же супермаркете в ту же самую субботу — хронической безысходности. Лишь от вас зависит, улыбаться ли мне. Заклинаю вас в том, пока не проглочены вы толпой и не перестанете существовать для меня. И, как если бы прочла она мысли мои, ко мне в этот раз угрожающе повернулась некая дама и бросила мне, без экивоков: «Фото моё хотите?» Я намеревался улизнуть, но она едва ли не непреклонно добавила: «Поищем его у меня!» Я опорожнил тележку в «Опель» таинственной дамы моей, и очутился у неё, в небольшой уединённой вилле на окраине Морланвельца. Едва приоткрылась входная дверь, а мною уже завладело нечто подобное вещему угрызению совести. Задавался я вопросом, не уж то и в самом деле то был я, Жулиано Кросе, заскорузлый скромняга, преступивший тот запретный рубеж, что доселе звался благоразумием. В какую же авантюру я вляпался? Не заставил себя долго ждать и ответ, правда, не совсем хороший. Через щель в драпировке между холлом и спальней заметил я сидевшего в кресле-каталке мужчину, смотрел он телевизор. Присутствие его сразу же успокоило меня — совершенно дерзкое моё вторжение не возымеет сколь-нибудь серьёзных последствий, думал я, потешаясь про себя тому всполоху сумасбродства, что привёл меня в этот, оказавшийся, в конечном счёте, весьма пристойным дом. Тогда, как мы разгружали доставленные изсупермаркета съестные припасы, я задавался уже даже вопросом, не пожалею ли я о столь мирной развязке, поскольку, как бы там ни было, но на первый шаг осмелился то я. Жизнь моя, и в правду, несколько уж месяцев была довольно плоской. Женщина, тем временем, весьма холодно мне объяснила, что муж её болен синдромом «locked in». Иначе говоря, в своём непослушном теле «умирал он живым» и, как думалось ей, совершенно того не осознавая. Автомобильная катастрофа закончилась перелома позвоночника. Мозг его функционировал, только не принимал, «пожалуй», более сигналы ощущений от заинтересованных в том конечностей и мышц. То «пожалуй» заставило меня похолодеть от ужаса. Она показала своему Кристиану голубой в золотистую полоску галстук, который ему подобрала — занимался он коммерцией, торговал обувью — и мы отпраздновали, напоминаю вам, день святого Крепина. Затем она взяла мою руку и с похотливою улыбкой, отвратный намёк на сговор в которой ускользал от моего внимания, потащила за собой. Я был убеждён, что идём мы на кухню, выпить кофе и поговорить о её голгофе. Женщина, конечно же, искала внимающее ухо, которому могла довериться и хотя бы чуточку, но облегчить душу, а я сердился на себя за то, что приписывал её приглашению непристойные мотивы. И вот тут-то всё и обернулось ужасом. — Это, мой новый массажист! — громко объявила она на случай, если её Кристиан задался бы вопросом по поводу присутствия незваного гостя, которого преданная жена его уводила за собой в их спальню. Даже если, притом, мысли образцовой супруги, героически принявшей на себя целомудрие в знак верности ввергнутому в немощь мужу оставались и праведными, никто не посмел бы бросить в неё камень и в случае, в общем-то, житейского промаха её. Но, почему нужно было ехать к ней? Я последовал бы за ней в тот день безумства куда угодно. Зачем же понадобилось ей унижать своего мужа импотента? И, принуждённый чёрт те знает что за неодолимой силой, новоиспечённый массажист сымпровизировал сеанс массажа. Хотя и призывал полновластную владычицу свою к молчанию, та не смогла отказать себе в удовольствии поисторгать из себя огненную страсть; многозначительные крики её не оставляли ни тени сомнения в истинной природе практикуемого массажа. Как же это удалось мне удерживаться роли моей, не смотря на недопустимую близость низведённого до тишины бедолаги? Загадка. Не стал ли циником я? К самому себе испытывая отвращение, всё же никак не мог остановиться я. Что же это — нужда в реванше, в козле отпущения, в искупительной жертвенности? Ничего не знаю я, смею лишь надеяться, что тем днём не моя была то участь.
Во время, как покидал я ту гнусную и пафосную жёнушку, даже не предложившую подбросить меня обратно, на поросших плодовыми деревами задворках виллы неспешными водами своими, как глаза хозяйки ненавистью, истекала Эн. Словно осёл тащил я пакеты свои до самого супермаркета и всю дорогу, как тот истый католик, выговаривал себе, что заслуживаю подобной кары и, что для искупления вины моей, нужно бы меня ещё и бичевать. Всё, что принёс, загрузил я в единственную, брошенную после закрытия возле торгового центра Мега ручную тележку. Затем проделал весь путь домой, где и принял горячий душ. Чувствовал себя я отвратительно и решил, что велик свой заберу как-нибудь в другой раз. Несколькими днями позже наткнулся, случайно, я на телепередачу, касавшуюся больных с синдромом именно «locked in», в которой супротив гарантий супруги бедного рогоносца говорилось, что слышал тот преотлично и, главное, прекрасно всё осознавал. С мужем-инвалидом неверной жене достаточно было установить некий код общения. К величайшему, но не имевшему обратной силы стыду своему увидел я, как один из подобных ему «живых мертвецов» дрожанием ресниц изъяснялся с кроткой и улыбчивой второй половинкою своей, а та с любовью, нежно и горделиво переводила «слова» счастливого отца двоих детей и третьего, бывшего, должно быть, пока в пути к ним.
Шёл пост, преклонил колено пред алтарём храма Святого Мартина и я. Викарий, в нимбе небесного, золотисто-коричневого света, льющегося сквозь розарий возвышавшегося за спинами певчих витража, торжественно вскрывает ковчег и извлекает из него дароносицу: — Sanctus, sanctus, sanctus! — Domine deus sabaoth! — вторю и я, словно некую «Абракадабру». Забываю только осенить себя при том подобающим моменту крестным знамением, а посему викарий искоса одаривает меня неистовым взглядом. Выхватываю тут же я бретонскую волынку свою и, чтоб заполучить прощение себе, живо её на него же и наставляю. Вера моя возносит и ослепляет меня, и ничто не в силах остановить меня — танцую и с ноги на ногу прыгаю я по ступеням алтаря, разум мой стелется в парах мессианского вина, раздаются звуки трещотки вдруг, да так похоже на утиные призывы: кррр кррр!.. припоминаю даже, что я уж не мальчик из церковного хора и понимаю, что это сон, не более того, а если хочу уверовать в тот сон, значит вот-вот проснусь… Потому как трещотку слышу наяву. Привожу в действие автофокусировку мыслей своих… Ну, вот и я, а это… звонок в дверь! Наконец-то, сейчас всего лишь восемь часов! Сквозь туман, напичканный крошками ризотто, тащусь, облокотив веки на желудок, к входной двери. Открываю и оказываюсь нос к носу с некой дамой, в строгом аглицком, бежевого твида с каштановым узором костюме, шёлковой шоколадного цвета блузе, левой рукой, на высоте моей головы, опиравшейся о косяк двери, кулаком правой же, что твой матрос о стойку портового бара — в бедро. Спрашиваю, надменно и безо всякого интереса её: «Да? И что надо?» — Что ты несёшь, олух? Ты видел меня не далее как вчера, я пришла за моей супницей. Смотрю на неё недоверчиво: — Вы та самая дама, из вчерашнего вечера? — Самая, что ни на есть она. А кто ж я по-твоему: пресвятая дева? И зашлась смехом, вмиг превратившим леди, чай пившую с мизинцем на отлёте, в торговку рыбой. Её колье из янтаря, каждый камень величиной с куриное яйцо, моталось, побрякивая словно погремушка. — А я принял вас за королеву Фабиолу. — Похожа на неё, что ли? Да, не всё ли равно, спишь-то ты крепко, я вот уж минут пять, как звоню. — Но всего лишь восемь часов, да и воскресенье. К тому же сегодня день поминовения усопших, значит у меня день отдохновенья. — Надо же, а мне супница моя нужна. Ризотто-то моё, как тебе? — Экстра, лучшее из того, что пробовал когда-то, даже маминого. Проглотил всё как свинтус, спасибо большое. — Если я правильно поняла, она не пришла, так? — Ну, да… — Позвонила? — Нет. — У тебя есть номер её телефона? — Нет. — Забудь всё! Чао, парниша… И перед тем, как сгинуть в проёме лестничного колодца навовсе, бросила мне: — Эй, вздумаешь спрашивать обо мне, зовусь Пьереттой я… Нечто схожее с «Жюльен» смиренно промямлил в ответ и я. — Пока, Жюльен! Спать ложиться я не стал. Оделся и пошёл на кладбище, свидеться с родителями. Они-то уж точно не забывали о днях рождения моего.
Приди непреходящая гостья моя накануне, я бы предложил ей позировать, осмелился и преподнёс бы ей сей сюрприз. Упёк бы красоту её в полотно, пусть даже и ускользнула бы она с последним мазком кисти. Непременно отыскал бы в глубине души таланты, её обаянию обязанные. Воспользовался бы случаем тем и раз и навсегда обил бы стены комнаты своей аурой её. Но любимица моя вновь надула меня и не явилась. Так вот, вместо того, чтобы предаться познанию искусства надувательства, удвоил я усилия свои к обретению навыков ремесла мечты моей: принялся я рисовать. Оттачивал карандашный штрих, чтобы стать лучшим из лучших к приходу её, готовой к наброску портрета и увековечивания на полотне. Даже позабыл про мимолётный миг отчаяния, случившийся со мной накануне. Умереть казалось так просто, что чувствовал себя я способным сделать это в любой момент, случись вновь оказаться мне в настроении том и при тех же обстоятельствах. Дожидаясь того, я и живу. Спасибо тебе, Пьеретта! Я рисую… безнадежье, душевные синяки, побег в никуда, прочищаю от чёрных мыслей мозг свой, купаюсь в розовом цвете и нравится мне это, безо всяких там претензий. Рисую повсюду, на самом себе и напеваю: «Еж ли ноги голубы, это значит от любви, ну, а зелены еже ли, значит в гневе забурели..» Звонят… кто это опять? Инопланетянка из вчера, теперь лицо её скрыто под кремовой маской небесно голубого цвета, но бигуди из морских трав всё те же. — Здорово, парень! Не хотелось доставать тебя вчера, и без того ты был основательно потрепан, но я заметила приставленные к стене картинки и подумала, уж не ты ли их нарисовал, а кисть и палитра в твоих руках подтверждают это. — Так оно и есть, в воскресенье у меня живопись, ну и что? — Воскрешенье? Причём здесь воскрешенье? Ну, да ладно. Не хотелось бы тебя огорчать, но у тебя есть одна проблема. — Да? И какая же, скажите на милость? — Ты дальтоник. — Это как же так? — Деревья у тебя голубые, а я не видела ни разу голубых деревьев, потому как их и не бывает. — Я их такими вижу. — Ах, ну да, ты видишь их голубыми… Что ж, я права, ты дальтоник. — Да, нет же, Пьеретта, вас ведь так зовут, не правда ли, таково на этот раз решение художника, так сказать. — Что, у тебя и разрешение на это есть? — Это личное осмысление, интерпретация, что ли, или воображение, в то время как вы хотели бы видеть вещи такими, какими они и есть на самом деле… — Ах, ну да! Только так-то оно проще, чем видеть деревья синими, а ручьи красными. — Да, знаю я и сам, что это не настоящие их цвета, но вижу всё же их голубыми. Если вам нужны ручьи и деревья «нормальные», возьмите «Поляроид» какой-нибудь и получайте удовольствие. А я, я пытаюсь передать, или воссоздать, иллюзию таинства, удивить что ли… — Ты что, травкой обкурился, эй? — Вовсе нет! — Да ты бы меня больше удивил, напиши ты деревья эти как они есть, во всех деталях. У тебя же нет даже листьев, на твоих деревьях. — Но… да не стремлюсь я к виртуозности, чёрт меня подери! — Не нервничай, малыш, рассказывай спокойно. — Точность, совершенство формы, деталей, цвета всего этого старались достичь в минувшие эпохи: Вермеер, Каналетто, Дела Франческа, Ингрес, Курбе, Рафаэль, Да Винчи с Джокондой, Веласкес и его Menines, всё это прекрасно, от этой красоты дыханье может перехватить. — Эй, парень, поосторожней, не выпендривайся громкими этими именами. — Не перебивайте! В ту эпоху, так называемую эпоху классицизма, от живописца требовали передачи сюжета без его интерпретации, за минусом некоторых бредовых галлюцинаций у Босха, да большинства мифических заклинаний. Сегодня, дорогая Пьеретта, сюжет играет гораздо меньшую роль, нежели способ выражения или же эмоциональность. — Хватит, а не то заплачу. — Вздумай вы рисовать с тем же реализмом, с той же правдоподобностью, что и при Ренессансе, ваши картины смотреть, конечно, будут уважительно, но с едва скрываемой скукой. — Ну уж, детка, ты и хватил. Надо же это ещё и уметь. Да не те мерзости, каракули или прочий там помёт мушиный, что пытаются нам демонстрировать теперь. Оставляю её на минуту, нужную мне для того, чтобы отыскать на моей полке, считай библиотеке, увесистый том по искусству XX-го века, и показываю ей «Гернику» Пикассо. — Это ужасно! — Погодите… Показываю ей одну вещицу из молодого Пабло, автопортрет лет в двадцать, в академической манере. — Ну, вот то, что надо, это мне нравится, это красиво… Тут меня и понесло… Вываливаю ей всё, что узнал я на вечерних курсах по истории искусств, да так терпеливо, что твой профессор с университетской кафедры. Ну да, Пьеретта, Пикассо тоже начинал с гамм, всему учился, рисовал как все, мне хотелось показать вам, что ему прекрасно всё удавалось… но, когда упоминают Пикассо, никому в голову не приходят эти его первые работы. Пресытившись старыми мастерами и набив, что называется, руку, Пикассо попытался сделать что-то своё, он отринул логику, освободился от любых канонов и табу, ушёл от классицизма, пересев в поезд, выпущенный на рельсы Сезанном. — Лучше б у него из этого ничего не получилось! — Милая Пьеретта, вам не помешало бы оставить эту уверенность в собственной правоте и не нападать на то, что вам неведомо. Во все времена были нужны безумцы, открывавшие новые пути, которыми всякие там умники начинали пользоваться лишь много позже. Говорите, что вам это не любо, у вас есть на то право, а я стану уважать ваши вкусы, только не отвергайте иной взгляд на вещи кого-то другого. И закончил, предложив её вниманию «Радость жизни» всё того же Пикассо. — Вот что, старина, он должно быть носил очки с треснутыми стёклами, здесь же нет ни одной четкой линии… — Да, только благодаря тем очкам, скажем лучше тем призмам, Пикассо ушёл так далеко вперёд, что и в наши-то дни большая часть нынешних художников «пользуется» всего лишь одной из многих граней его таланта. — Ладно… хватит этого твоего «лизоблюдства», не убедишь ты меня, парень. Продолжаю листать репродукции, натыкаюсь на первый вариант «Красной пустыни» Матисса. — Вот, Пьеретта, что вы думаете об этом? — О! Это прекрасно… — Знал, что вам понравится. Это картина Матисса, одного из любимых моих художников. И здесь речь снова идёт об одном из первых его произведений, нарисованном в стиле мастеров старой школы. Одиннадцатью годами позже он тот же самый сюжет переписывает. Всё это время Матисс в поиске себя, меняется, отбрасывает ненужное, становится проще и доступней, отыскивает свой собственный ракурс и вот что представляет собой новая версия… Углубляюсь на несколько страниц вперёд. — Тут же ничего интересного… — Да, нет же, взгляните, все элементы на своих местах, нужно только немного воображения… — Так, ты хочешь, чтоб я приняла белое за чёрное, только это не одна и та же картина! — Да, конечно же, нет, Пьеретта, а если вы любите числа, может они больше вам говорят, скажу, что первая версия должна стоить двадцать миллионов бельгийских франков, это тоже впечатляет, но вторую-то, милая моя, вы сможете заиметь не меньше чем за миллиард. — Вот уж, она мне и даром не нужна! — Ваше право, и я его уважаю. — Вот и отлично, вот и спасибо… только хватит, насмотрелась я уж… и не переубедишь ты меня. Я, всё же, продолжаю… о Сутине, о Кокошке…
— Что за уродства? Это от наркоты, говорю ж тебе! — Не думаю, и потом… что в том плохого, если искусство от этого становится ярче? — Да, всё отлично, мсье профи, и хватит об этом! Ты меня уже целый час одному тебе понятными формулами пичкаешь, да в глаза мне красками, которыми всё вокруг исписано, тычешь. А всё потому, что решилась я сделать замечание о голубых твоих деревьях! Да, по барабану мне твои деревья! — Не сердитесь, Пьеретта, просто мне хотелось дать вам понять, что если разум не эволюционирует, если бы Коперник не осмелился заявить, рискуя быть заживо сожжённым, что земля круглая и вертится вокруг солнца, всё так и осталось бы на плоской земле. — Как же… это ещё нужно бы увидеть! — Как это? — А ты, что же, веришь, что земля круглая? — Но это же доказано… — Вот те на, а как? — Ну, я не знаю… есть же фото, сделанные из космоса… всё верно, круглая она! — А если это просто трюк… мы ж всё, что угодно глотаем! Нокаут, сдаюсь, отбросив губку, заодно и тазик. Распускаю шнурки на боксёрских перчатках, сажусь на край моей постели и молча опадаю. После не видел Пьеретту более трёх месяцев. И новостей о ней никаких. Думал даже, может права она, вот и рухнула в бездну… с краюшка плоской земли…
Несколько дней спустя, в обеденный перерыв, беру напрокат наш труповоз, чтобы навестить своего друга, инспектора комиссариата Монса, позвал меня он через Легэ и пригласил повидаться, с тем чтобы продвинуться вперёд в нашем расследовании… Прибываю в то самое время, когда он приступает к допросу одного из мясников, в предположении многочисленных. Односельчанин мой появляется в дверях одного из кабинетов и знаками предлагает мне дождаться его, заговорщически подмигивая в мой адрес. Розарио известно, что с того места, на коем я сижу, всё слышно и, более того, можно разглядеть подозреваемого. Инспектор Беллясе вопросы свои задаёт, отчётливо артикулируя. Смею доложить, субъект, едва мною различаемый, соответствующей комплекции… с всклокоченными волосами и бородой, огромными, сплошь укрытыми татуировкой руками, торчавшими из драной, кожаной жилетки накинутой на голое тело. Но, я тут же прогнал от себя легкое на помин обвинение в адрес этой «грязной рожи». Розарио: — Ты мясник? Субъект: Что вы хотите сказать этим «мясник»? — Ты разбросал мусорные пакеты с женскими останками по вдоль Эн? — Я… Да, как вы смеете задавать мне этот вопрос? Послушайте… у меня на это руки коротки. — Память у тебя, можно сказать, короткая… ты мясником был? — Да, а что? — В Сент-Симфорьене жил? — Там всё ещё и живу… — Кто такой святой Симфорьен? — Святой. — Так, а ещё? — Что я, знаю? — Что он такого сделал? — Нимб, что ли, свой разбил? От Розарио не ускользнул след усмешки, что обыкновенно им пренебрегалось. — Эй, чувак… ты смеёшься, что ли, надо мной? — Совсем нет, мсье полицейский, но откуда мне это знать? — Ты в церковь ходишь, или когда-нибудь ходил? — Нет, я всё время в кирку хожу. — Потому и не знаешь, кто такой этот святой? — Так… у протестантов нет святых. Наступает тишина… Раздосадованный Розарио постукивает кулаком по тыльной стороне второй руки. К допросу подключается молчавший прежде комиссар Дюмолин. Он извлекает из какой-то папки фото. — Узнаёте? Это голова одной из жертв. — Это Жаклин, только без вставной челюсти… — Кем она тебе приходится? — Были какое-то время вместе… — Бил её? — Только, когда заслуживала. — Как это? — Если препиралась. — А ещё? Ну-ка, рассказывай. — Когда храпела… — А отчего она храпела? — Вы хоть одну бабу знаете, которая не храпит? — Не моё это дело… так почему она, Жаклин эта, храпела? — Бывало, возвращался домой поддатый, поздно ночью, ну будил её, чтоб поколотить… но из-за этого в мясники… куда там… чтоб я распилил!.. Да, вам лишь бы кого в виноватые… все вы полицейские такие… вот хотя бы меня, честного воришку, и туда же… хотя я сам бы для неё на части разорвался. Также и с первой моей бабой, когда она кончила с собой, прыгнув с машины, на скорости сто в час. Пытались повесить её смерть на меня… А я хотя бы потому был не причём, что не мог её удержать. Хотел бы я на вас при этом посмотреть, рёхнутую держать и тут же, как того требуют в правилах вождения, ни при каких обстоятельствах руль не бросать. И потом… эти бабы… вы же знаете, когда им что-то в голову взбредёт… Ну, может, мне нужно остановиться было, когда она слетела с «Хонды», но, я же спешил, мне было нужно успеть к началу забастовки, чтоб всё не перекрыли… нелёгко было тогда, вы же знаете, мсье сыщик. — Комиссар! — Как хотите… А то, любил я её… когда увидел в зеркале заднем, дак слёзы на глаза навернулись. Даже сумочку ей бросил, подумал, понадобится ещё вдруг, если выживет. — Почему вы с ней спорили? — Потому, что собиралась она от меня уйти, всё ей пообещал, пообещал даже, что буду с ней добрым, всё сделал, лишь бы выбить ей из головы эту затею. — И голову снесли ей? — Да нет же, вовсе нет, я же вам сказал, что она спрыгнула на ходу. — Голова? — Да, нет, баба моя. Та, что умерла… первая… Да, подумайте же вы, мсье директор… — Комиссар! — Хорошо… Еж ли б я был мясником, а известно жертв много, и убийца выбрасывает куски… — Значит вы в курсе? — Как и все кругом, об этом только и разговор, в последнее время… Говорю ж вам, что если б был этим мясником, я б не выдал вам голову подружки, которую порол поблизости, её запросто было б опознать, и вы б допёрли бы… А он хитрый и учёный, артист этот… — Почему бы и нет, это позволяет вам говорить в точности то, что вам хотелось бы мне сказать. — Эй… постойте-ка! Субъект умолк и посмотрел комиссару прямо в глаза. — Вы забыли одну штуку… — И какую же? — Вы забыли, что не настолько я смышлён, чтоб додуматься до такого. Для меня, точно, мудрёно это всё… Знаете, в школу я почти не ходил. Малым пацаном совсем приходилось мне уже «зарабатывать на жизнь», как говорится, и папаша мой рано научил меня ловить кроликов и форель. — И кур в курятниках… — Может быть… только между кражей курицы и разделкой её на части есть всё же разница… — Прекрасный образец смыслового согласования, молвит увлечённый французским правилонаписанием комиссар. — В любом случае, не об одном и том же подчерке идёт речь, — продолжает он. — Курицу я мог и купить… — Или же украсть… — …уже мёртвой, в супермаркете. Незачем и утруждаться. А отрубить окорок у курицы, пускай и краденой, совсем не то же самое, что отчекрыжить ходули хорошенькой бабёнке, где-нибудь на берегу реки, пусть и называется она Эн, мсье контролёр. К тому же, я таких вещей не делаю… я не такой, пусть с виду на то и гожусь. Вы же верите мне, не так ли? Могу я идти? — На сей момент, вы свободны, по меньшей мере до новой повестки… Из виду мы вас не выпустим, не всё ещё с вами закончено, мсье подозреваемый за номером 43.
Татуированный наш ковбой уходит, а Розарио присоединяется ко мне. — Теория моя на счёт святого Симфорьена не сработала, — хныкнул он. Я напомнил ему причину своего визита. С виду ушедший в себя, он протянул мне папку с делами пропавших за минувшие два года женщин, с прилагавшимися их фото, даже тех, что были найдены мёртвыми, но не опознанными. С комом в горле, едва дыша пробежал я скорбный список и фото несчастных созданий, о которых по меньшей мере можно было сказать, что выглядели они совсем не как на пробах. Стало мне легче. Не нашёл я имени исчезнувшей моей в списке, не признал я ни овала её лица, ни миндалин её глаз, ни губ сердечком, как не напрягал я воображение своё, силясь устранить с жертвенных сих физиономий видимые мною кровоподтёки, гематомы и волдыри. Вызвал Розарио и ту, кого должно было бы мне называть «экс-будущей тёщей», чего точно уж не осмелился бы сделать сам я. Вестей от дочери у неё не было вот уже несколько месяцев, она, однако, вовсе не беспокоилась — случилось то не впервой, приплод её истинная кошка, всегда падает на лапы свои и знак о себе подаёт лишь по собственному разумению… то бишь, когда в деньгах нужда возникает. — Ах, да… — добавляет инспектор Беллясе, — в последний раз разговаривала она с матерью, чтобы сообщить той, будто бросила «грустного клоуна» своего… — Это всё? — Это всё! На что ещё ты жалуешься? По крайней мере ты знаешь, что она цела и никто кроме тебя ею не интересовался. — Хорошо, старина, сэндвич с меня, поговорим о святом Симфорьене… у меня до начала работы всего полчаса. Говорили в самом деле опять обо мне, всё, чего по этому поводу хотел сказать Розарио, уложилось в нескольких словах: — Вот, спрашиваю я себя, как ты терпишь всё это у Легэ, не похоже на тебя… или же сильно ошибаюсь я на твой счёт. — Я и сам, должно быть, ошибаюсь на свой счёт, — возражаю ему. — Припоминаю денёк один, слонялся я с дружками своими, лет двенадцать мне тогда было. Предводитель банды, Рене, даже имя помню его, решил наведаться в кондитерскую лавку старенькой и весьма любезной дамы. Он знал — чтобы спуститься к явившемуся в лавочку клиенту, о чём предупреждал перезвон колокольчика над входной дверью, ей требовалось некоторое время. Всё нужно было вершить как раз в те самые несколько минут, в которые мы оставались среди горы лакомства, предоставленной единственно лишь нашей совести. Без зазрения этой самой совести, набили мы свои карманы всяческими карамельками, драже, миндалём в сахаре, лакричными палочками, кексами, сладкой пастой и всевозможными шоколадками. Тут явилась и неизменно улыбчивая старушка, казалось вовсе её не удивляло, отчего это являлись мы всемером к покупке какой-нибудь ерунды сантимов за двадцать пять на всех. Лавочку покидали мы притворщецки, гордые своим ничтожным подвигом. — Не спал я ночь напролёт. На следующий день в одиночку явился в кондитерскую и тем временем, пока шла она ко мне, выложил на место свою долю награбленного, купленного мною в другом квартале. Я положил ей даже плитку шоколада «Нестле», дававшую мне право на глупую картинку из серии «Красивые уголки Бельгии». То была, как сейчас помню, церковь Сен-Ромболь в Малине — одно единственное фото, недостающее до полного набора, обменившегося на килограмм какао и некий шарик с видом центральной площади Брюсселя. Ах, как же был я счастлив! Ах, как сладко спал я в ту ночь! — Так, ну и что? Зачем рассказываешь ты мне всё это? — Просто спрашиваю себя, вернул бы я сладости сегодня. — А я, — решил переплюнуть меня Розарио, — я бы придумал что-нибудь этакое, чтоб угостить приятелей задарма. Скажем, дюжина из них заваливает в бистро, впервые. Несколько минут спустя являюсь туда с корешем своим, Джино, и я. Мы что-то заказываем себе, как бы ничего не зная про остальных. Мало помалу увязаем в общем веселье, не общаясь с теми. По условному сигналу те, один за другим, смываются. Оставшись одни, мы с Джино платим по счёту. — А остальные? — спрашивает обеспокоенный хозяин кафе. — Какие остальные? — Ну… друзья ваши? — Какие друзья? Мы их вовсе не знаем! — Как это? Хватит вам шутить, — нервничает тот. — А что, разве они не симпатичны? — Нет, это невозможно! Вы все заодно. — Послушайте, мы не станем сносить подозрений, вызывайте полицию, пусть разберутся. Не на многие же тысячи мы тут наели… нам есть чем расплатиться. Бесцеремонно помахиваю нашей единственной купюрой в тысячу франков. — Если у нас акцент, не значит, что мы нечестные. — А я этого и не говорил, — протестует бармен. — Но, так подумали, а тысяча франков… да лучше я их отдам нищему, которого вы оставили скулить под дверью, без малейшего внимания. Стыдно-то как! — Какой там ещё нищий? — Эй, Джино, отдай бумажку тому бедолаге! И у нас есть самолюбие, за кого вы нас принимаете? И Джино с достоинством проделывает это на глазах у обернувшегося медузой трактирщика. Он выходит из бистро и хвастливо протягивает тысячу какому-то ханыге, сидевшему у входной двери, бросив меж ног прямо на тротуар свою кепку. — Вот! А на счёту у нас два раза по две кружки пива. — Хорошо, пускай, — проворчал владелец кафе, — это за мой счёт, раз уж я в таком положении… Уходим мы довольные собой, а через несколько минут нищий, на самом деле, конечно же, член банды, догоняет нас, давясь со смеху и возвращает тысячу франков в наш общак, который мы избегаем тратить, если то позволяет нам наша изворотливость. — Тонко сработано, Розарио! А затем ты вернулся и ворованное пиво оплатил? — Ты что, за дурня меня принимаешь? По возвращении в контору столкнулся я с Франсуаз, подставившей мне щеку. Холодно замечаю ей, что утреннее приветствие у нас уже состоялось. — Ну и что? Хорошего, насколько я знаю, много не бывает, — пошутила она. — Чем же, крошка моя Жюльен, так обеспокоен, коль отдергивает голову от обычного поцелуя? — Ничего, Фанфан… всё отлично. Я назвал её Фанфан, как это делали лишь отец и бабушка её. Пожалел об этом тут же, осознав тот факт, что ветреность моя принуждает в очередной раз меня сделать шаг навстречу неизбежному сближению нашему или к столкновению. Мог, однако, я ещё вернуться на путь истинный и выправить завихлявшую было свою жизнь, если бы только настоящая возлюбленная моя вспомнила обо мне. Решил — обожду ещё немного, то ли сигнала какого, то ли действия… неважно уж, главное чтоб от неё.
Когда встретил я её в Галереях, она, то мелкое воровство не в счёт, костюмами занималась на самом деле, чинила их и рядила в них исполинов. Призвание обнаружилось в ней на Дюнкеркском карнавале, куда была она приглашена фламандскими друзьями, почитателями всяческой напыщенности. В то время, как в одном из кафе у скверика на задворках площади Жана Барта, куда из Бинча перебрались ритуальными плясками встречавшие возвращавшуюся весну дурашливые персонажи уличных гуляний, вся эта банда заказывала по стаканчику, она приметила отдыхавшую рядом семью великанов, терпеливо дожидавшихся своего выхода на дефиле: Рёц папашу и Рёц мамашу с детьми, Питье, Митье и Бетье[19]. С рождения любопытная Шарли мигом скользнула под юбки Бетье, белобрысой, метра в четыре ростом простушки с косичками, и заставила ту крутиться на месте до тех пор, пока не выскочил, горланя что есть мочи, из бистро согревавшийся там от зимней стужи «горячим бульоном» официально означенный распорядитель анимации. Хотелось ей, видите ли, сделать несколько «па». Да только, не отыскав скрытого вуалью малого оконца, позволявшего под ноги себе смотреть, проделывала она всё это вслепую. Вот и растянулась во весь рост, да ещё и на пару с великаншей — запуталась в кружевах не перестававшей улыбаться девчушки. На волю, за ноги, вытащил её разгневанный кукловод, однако юбка Бетье оказалась порванной. Он, не колеблясь, влепил бы Шарли пощечину, если бы не удручённая, милая её мордашка. Сражённый чарами, довольствовался лишь тем он, что предложил самой неполадки устранять. В свою очередь шмыгнув внутрь ивового каркаса под юбки, будто школьник густо при том покраснев, вернулся он с полотняным мешочком, в котором ютились разные портняжные приспособы, с дюжиной средь них иголок и толстыми, что твои спагетти нитками.
Шарли не только извинилась, улыбнувшись при том, но и тут же усердно принялась за дело, да так ладно всё у неё получилось, что успокоенный носильщик великанов предложил ей, ехидно, выбрать это своим основным занятием. Слова пали в благодатную почву. И настолько таинственным и обаятельным показался ей тот верзила, что она тут же и решила отправиться вслед за ним. Такая вот она, моя Шарли. Бродяжничала с ним несколько месяцев в шумной, карнавальной толпе, с ним же и устроилась в моей округе. Спасибо тебе, щедрый предшественник, за наше с ней сближение.
Великаны любят путешествовать. Приходят они отовсюду, даже из Испании и из Италии, чтобы вместе оказаться на празднествах в Хацбруке, в Стеенвоорде, в Байоле, в Ваттрелосе, в Гравелине: новостями заодно обменяться, чью-то свадьбу справить. Как у Тинтин Пуретта с Фрази, которые годом позже под фанфары оповестили всех о рождении Луизы. Как же они воспроизводятся? Да не касается это нас. На некоторое время оставили их в Лосе, где у них дом, силенок поднабраться, вспомнить молодость, ивовые каркасы свои осмотреть, окраску подновить. Их частная жизнь, ночная в особенности, им лишь принадлежит, никому больше, и в ней творят они, чего пожелают. С позволения сказочного своего принца, Шарли с удовольствием втискивалась с ним внутрь великана, которому в тот день выпадало быть анимированным. Она воображала себя душой и мотором огромной куклы и полными пригоршнями черпала свежесть из фонтана, опадавшего струями смеха вокруг веселого шествия. То становилась дочерью угольщика Мари Гейетт, с черной от сажи мордашкой. Или же дочкою Гаргантюа, уплетавшей в метр длинною рожок с шоколадным мороженным, вымазывая обвислые губы и подбородок, чем и смешила детишек больше всего. Шарли нравился этот приютившийся средь взрослых мирок кукольных персонажей, далёкий от моды шоу-бизнеса и прочей пыли в глазах, обращающих людей в слепцов. Ничего, дороже удовольствия одаривать всех весельем, не показывая при том своего лица, не было в нём. Никто вас не знал и даже не представлял о вашем существовании, но вы сами, вы-то знали, что без вас праздник останется угрюмым. И Шарли мирно уживалась с той непосредственной девочкой, ныряя в которую вновь играла в куклы, даже в столь большие, что те сами могли бы носить её на руках. Мало помалу она перезнакомилась и с прочими членами сей анахронической общины созидателей и разносчиков великанов, научилась ценить этих заблудших во времени мечтателей, творцов всеобщего воображения, живущих лишь раздариваемою всем и вся радостью филантропов, завещанием которых лишь даруется жизнь новым эмблематичным персонажам. Увы, среди скромных сих идеалистов затесалась-таки одна паршивая овца, «добрый» малый, в которого она и влюбилась. Речь-то, на самом деле, шла об искавшем забвения прошлым своим подвигам и нашедшим спасительную жёрдочку в утробе великана рецидивисте. Расплата ему и устоялась бы таковой, не пожелай он объединить новое ремесло со старым, «чистильщика банков». На такой вот забаве он и попался снова. В один из вечеров ожидания её оказались напрасными, не пришёл он. Несколько дней спустя, прочла она в местной газете статейку о неком злодее по имени Ролан Дюпре, арестованном в ходе неудачного налёта на банк Монса, речь шла о нём. И если бы не повстречал я её в тот же день в Галереях, не направил бы на путь морали и истины, то она, вне всякого сомнения, продолжала бы посещать тюрьму Монса, носить апельсины своему горячо любимому проходимцу, оставившему ей собаку, из пристрастия к романтике простив и терпеливо дожидаясь его… К счастью она познакомилась со мной и для неё всё переменилось. От страсти своей она не отступилась, отнюдь. В начале я не переставал удивляться, когда слышал от неё, будто предстоит ей починить фрак Тотора в Стеенверке, сорочку короля пекарей в Вормхуте, матросскую блузу рыбака в Форт-Мардике, раздающему в Кесной леденцы Пьеро Бемберло воротничок, шляпу состарившейся сироте Бинбина из Валансьена, шейный платок Рауля из Годваерсвельде, шиньон старушке Юлии — заступнице бельгийской, а ещё нос Зефа Кафуньетта, но, понемногу, пообвыкся, и мы вместе над этим всем потешались. Иногда и я мотался с ней, то туда, то сюда. Пережил минуты необузданной радости, когда настала моя очередь узнать потаённое великанье нутро и мы, помогая приютившей нас монументальной соучастнице отплясывать, переплелись в воздушном пузыре счастья. Отчего все великаны, женщины и мужчины, носят юбки? Да для того, чтобы влюблённые могли в них хорониться, становясь единым целым, так-то вот. Единое то огромно, до самых облаков! И парил я подхваченный дуновением поэзии, укрывающей порой всё вокруг, и предметы, и жесты, сияющими нимбами. Как и в то раз, когда на площади деревушки с неведомым названием, в пушистой тишине, приютившейся на коньке подвешенной между небом и туманом беседки, заиграл вдруг духовой оркестр. Среди всполохов того волшебства не сумел я разгадать, что истинная звезда празднества таится в утробе сотворённого из полотна, бумаги и ивовых прутьев великана. И радовался за неё, ринувшуюся в объятия демона музыки, вовсе не помышляя о драме, но уже ступая в неё одной ногой. Что ж, устремление её сего сословия достойно, наивно думал я, не ведая ничего о её музыкальном прошлом. И, в меру скромных своих возможностей, пытался помочь — расколол небольшую копилку, дабы оплатить запись недорогого диска в местной студии, которая, по правде говоря, выдавала «на гора» лишь нечто, достойное внимания семьи или же, в лучшем случае, ближайших друзей. Я, тем не менее, в игру ту вступил по своей воле и в тайне всему верил, изо всех сил желал ей успеха. Для её же блага и ещё, чтобы убедить, что шанс тот ей дал я, а потому покидать меня у неё резона нет. Павший под чарами индивидуальности Шарли малый, занявшийся одновременно аранжировкой, оркестровкой и инструменталом для записи на почитаемых им дисках в 45 оборотов, работал почти что за так. Он изъявил лишь желание подписать контракт, в должном порядке и по полной форме, так чтобы в случае успеха причитался бы ему некий процент от добычи, что, другими словами, стало бы достойным плодом его артистического участия. Имя его стояло рядом с Шарли, исполнительницы, и моим, с трескучей приставкой «продюсер». Церемоний-то сколько! И всё из-за диска с сотню штук числом, публично выпущенным которому не бывать никогда. Но мы-то в него верили, накрепко. То уж чудом представлялось, что диск вообще существовал… Он, конечно же, нуждался в защите, в продвижении: Шарли звонила во множество фирм звукозаписи Брюсселя, добилась нескольких встреч, всякий раз оставляла свой диск. И ждала… ждала лихорадочно, что кто-то отзовётся, ждала напрасно. Ей говорили, нужно мол упорствовать, произведению дескать нужна доработка, но она на верном пути. В общем, болтовня да и только… Моей единственной и, пожалуй, лучшей акцией рекламного характера стала отправка диска некому, весьма, впрочем, популярному исполнителю итало-бельгийской породы, уроженцу сих мест, в надежде умаслить его ссылкой на собственный же, не менее тяжкий дебют в местной школе. «При вашей длинной руке, да стоит вам только какого-нибудь печатника, сицилийского, как и вы роду-племени, пальцем поманить…» Ответа я так и не получил. Не то звезда никогда песен не слушал, не то рука его была иной, нежели я себе представлял, длины. Вынужден сегодня допустить, что неудачным, скорее всего, оказалось содержимое диска. Задетая за живое, обиженная провалом, не желавшая принимать никаких доводов, кроме разве что посредственности качества записи, скисла моя Шарли. Злоба, с какой пела она теперь, граничила с агрессией, что приводило в замешательство всех слушавших. Стало совершенно очевидным, что желает она свести счёты с целым миром и, в частности, с тем «бездарным и жалким, кому доверила она свою карьеру», то есть со мною. Ей говорили, что ищет она, мол, козла отпущения, пробует, дескать, освободиться от старой, нанесённой ей ещё в той, в «до моей» бытности раны. Я же попросту под руку попал. Понемногу, но вместе с тем и неумолимо, стали проявляться в ней перемены. От прежней поэтичной выдумщицы, одаривавшей меня самыми нежданными причудами, оставалась в ней одна лишь, в буквальном смысле, мания вскарабкиваться на деревья, а то и на опоры электропередач. Да, да, представьте себе, так и тянула её к себе высота, макушки, они вызывали в ней восторг. Проходя мимо какого-нибудь дуба или каштана, не могла она не высмотреть, откуда берутся те лучики света, что образуют ауру вокруг их крон. Как-то вечером, когда возвращались мы в Ситэ огибавшей центральную часть деревушки грунтовой дорогой, остановилась она под Т-образной опорой линии высокого напряжения. Безлунное небо похоже было на бескрайнюю залежь угля, неисчерпаемую, кой-где искрящуюся, меж отсветов на угрюмых тучах переливавшуюся всеми мыслимыми и немыслимыми оттенками черноты. Подняв палец в сторону проводов, сказала мне: «Слушай». Навострив уши, я и в самом деле расслышал некий шелест, приглушенный и в то же время ясный, этакое дуновение, несущее в себе многие звуки, голоса, нечто напоминающее вздохи. Словно там висела невидимая магнитная лента с записью радиопередачи из какой-то другой галактики, удалённой на несколько тысяч световых лет от нашей. «Биг Бен тикает и звёзды поют, слышишь?» Конечно, слышал, и её пояснением потрескиванию возникшего вокруг провода под напряжением в дюжину тысяч вольт поля взволнован был. Поэтизируя вслед за нею, готов неистовствовать и далее, но она, не внимая моим предостережениям, принялась вдруг карабкаться по металлическим перемычкам и, оказавшись на средине вышки, не иначе как в десятке метров надо мной, уселась там. Болтала ногами по-над пропастью минут десять, хотелось, видите ли, ей звёзды послушать с близкого расстояния. Спустившись же, сунула руки в брюки и слова не обронила, до самого утра. Я для неё просто не существовал — ни вечер весь, ни ночь напролёт. Что совершенства она жаждала, я понимал и готов был им упиться вместе с нею, летал бы с ней, позови она меня. Но вместо того, и в который уж раз, объявила, будто нет к тому у меня способностей, что ли, или это, вроде как, выше моих сил.
Желая на злючку походить, коготки выпустила — не подойдёшь. Голос мой, грубее наждачной бумаги и заунывней голоса подхватившего насморк муэдзина, в пору любви ко мне, может и показушной, относимый ею к разряду sexy, теперь уж не трогал её. По прошествии некого времени очевидным стало, что я боле не пуп земли, коим оставалась для меня, с тех самых пор, как я впервые окунулся в чистые воды её глаз, она. Когда же мне было объявлено, что решила она искать счастье своё в Париже без меня и уходит, я поступил скверно. Я почувствовал себя в одночасье одураченным, обольщённым и оставленным тет-а-тет с младенцем, по её настоянию народившимся, имя которому любовь и до которого нет ей больше дела, и вот… Двумя годами ранее на ярмарке в честь Святой Анны, в Монсе, желая просто приколоться, выиграл я в тире бейсбольную биту. Так вот, взял я ту самую биту, да всё у нас и расколошматил, не тронув, уточняю, и волоса с её головы. Не в крошево, нет, но так, чтобы переложить свою боль на предметы к ней нечувствительные. В клочья разодрал и сертификат, удостоверявший её право собственности на звезду. Ну да, не смейтесь… я подарил ей звезду, которая была и есть, и которая официально в её честь названа именем её. То не шутка, есть в Женеве фирма, официальная, занимается поименованием анонимных звёзд. Стоит услуга недорого, даже я осилил. Платишь лишь за то, что о том просто знаешь, вот и всё. Ну хорошо, может то было и жульничеством, да малая толика романтики никого ещё не сгубила. Я не насильник, знаю точно, но привела она меня к краю — я будто взбесился, кружась с битой в руке, что твоя пьяная мельница, и был я о ста рук. Пустота, даже та получила своё, по чину своему, уверен, следы ударов моих, с непростительной и бесполезной яростью запечатлённой в них, витали в воздухе. Мало помалу я всё же начал ориентироваться и цели стал выбирать хладнокровнее. По началу, виолончель, пара крепких ударов по корпусу! Боже, что я несу, по резонатору, конечно же, прямо по эфам. Затем по грифу, посередке, чтоб струны полопались, по колкам, по завитушкам, вот вам, и в завершение разборки по деке! Будто врасплох застигнутому в объятиях скатившейся в адюльтер изменницы меломанки сопернику наподдал, она не перестаёт на моих глазах обнимать и ласкать его, тот в удовольствии исторгает из себя вздохи, хрипит в экстазе, а это становится для меня не выносимым. Тут в зеркале себя сердобольного, с дубиною этой в руках заметил. И, прежде чем самому там, в зазеркалье, оборонительную позу занять, со всей дури звезданул собственное отражение в лоб. Из надбровья моего засочилась кровь, да не столь обильно, как мне того хотелось бы. Наконец, изорвал все отснятые в пору увлечения ею «подмостками» фото, и лишь одной из них гнева моего удалось избежать, той, что Пьеретте показывал. Тут же выбросил в окно всю её одежду, пока она за ней спускалась, та успела исчезнуть. Ко мне она так и не поднялась, я же словно барбитурата хлебанул. По свершению всего того, в целом доме шуму наделавшего подвига, отвели меня в госпиталь, отдохнуть. Вышел оттуда я быстро, дня через три и с тремя наложенными швами.
То, как я её, неблагодарную, любил, было чистой воды сумасшествием. Любил же я её так, что не мог позволить себе заснуть и после того, как она уж мирно сопела в моих объятиях — страшился минутной утраты ощущения связующей меня с ней чувственной нити. Малейшего желания не было у меня мыслить о чём-то ином, пусть даже и приятном, но её не касаемом. Не было вокруг ничего, кроме мечты, я держался её даже во сне и не было в целом мире той силы, что могла бы вырвать меня из неожиданно возникшей реальности, простиравшейся за пределами всяких там утопий. А когда я, не взирая на все усилия, затихал-таки в объятиях Морфея, то вроде как приходил в себя и тут же вновь любил её. Любил, едва коснувшись губами чашки кофе, вроде бы поданой по возвращении из долгого, в вечность, путешествия и любил поболе, чем накануне, беззаветно любил. Я был и всё ещё остаюсь одним из тех, кто быстро привязывается и надолго остаётся у воображения в плену. Не растерял я тягу к любви, не было в том у меня перерывов на обед, выходные и праздники… Не о пустяках говорю… хотя не утверждаю, что счастье моё более среднего, да только несколькими месяцами ранее, несколько, между полуночью и часом ночи мелькнувших секунд, думал я именно так. В эйфории пребывал, торжество любви со своею Шарли праздновал, когда вдруг в нашей обнажённой действительности смел объявиться звонок телефона. В отличие от Саша Гитри я, если звонят, бегу на зов. «Алло, вам чего? Сосед с первого этажа… который час, знаете? Жене вашей плохо, вы новенькие? Но, я не доктор! Ах, вам нужен телефон доктора! Но почему об этом нужно просить именно меня? Вы меня в Галереях видели, у входа на табличке моё имя и, к счастью, в справочнике тоже? Это вы сказали «к счастью»… Но, и телефон доктора в справочнике могли бы поискать… Хотели, чтобы не дорого и чтобы не очень далеко… Хорошо, хорошо, одну минуту». И как был, в чём мать родила, напялив лишь что-то на ноги, отправляюсь листать блокнот, в обновлённых на днях очках от дальнозоркости… Видно-то как! Вот уж радость, так радость! Нипочём теперь эти длинные, извивающиеся черви!
Потаённо и неумолимо, однако, небо над моею головой, куда как в зеркало жаворонки смотрелись, ржавчина пообглодала да побила, вновь я сконфужен, бескрыл, стою перед непроницаемой, матовой, без малейшего отблеска стеной и без малейшего проблеска надежды — Шарли недоступна, никаких знаков любви не исходит от неё. И встречи наши после долгой разлуки, до сих пор праздниками слывшие, как-то поблекли и растеряли нежное прежде буйство своё. Хотя совсем ещё недавно, опьянённые мистическим и вместе с тем плотски призёмлённым счастьем, кувыркались мы по крутым и пушистым берегам пруда, а тела и души наши тонули в бездне, в ночном небе цвета индиго астральными силуэтами своими подобно водяным лилиям вырисовывали мы тающие во времени извивы и арабески, и хотелось нам, чтобы это продолжалось вечно, тогда как… тогда как снова оказывались на каменистом и пустынном ложе, ощетинивавшимся колючками нашим недоразумений. В завершение всего стал я для неё несносен. Всё во мне приводило её в отчаяние: и походка, и голос, и даже само присутствие моё. Если б могла, убежала бы безо всякого предупреждения. Оставалась со мной, но постоянно меня же и избегала. Запиралась в ванной, единственно укромном, недоступном вниманию моему уголке и оставалась там часами, в особенности по выходным, когда я не работал. Иногда позволял я себе непрошенный визит в этот её изолятор, она нехотя отрывалась от потрёпанной своей книжонки и, будто милостыню, бросала в мою сторону уставший взгляд, затяжкой сигареты подавляя вздох досады. Из чего явствовало, что я её расстраивал. Часами напролёт не отрывалась от чтива. И даже вовсе не притрагивалась к своей виолончели. «Бисер свиньям», — говорила она. В последнем из запомнившегося сидит она в пустой ванной, поперёк её. Небрежно собранные в пучок взъерошенные волосы, некоторые из завитков свисают на лоб и щёки, подчёркивая прекрасный донельзя овал лица. На ней одна из моих сорочек (что всё ещё наивно принимается мной как поощрение), пуговки вверху не застёгнуты и на прелестной округлости, укрытой молочного цвета кожей, нежной и волнующей, можно увидеть крохотного ныряющего дельфина, наколотого со стороны сердца. И доходит до меня — моря ей не хватает. Длинные, обнажённые ноги её покоятся на борту посудины с беспечной грацией, и у меня малейшего сомнения не остаётся: передо мной плененная сирена, и следует мне свободу ей вернуть.
Когда вернулся я из госпиталя домой, Шарли, конечно же, там не было. Увидав теперь, на холодную голову, чем обернулись для виолончели мои гнев и отчаяние, останки от неё решил я выбросить вон. Но вовремя одумался. Части инструмента, резонансный ящик, т. е. обе деки и обечайка, гриф, колки, струны друг за друга всё ещё цеплялись, виолончель, похоже было, сдала свои позиции и слегка съёжилась. Инструмент я, склеив одно с другим, восстановил. Вещь бесхозную покрасил в голубой цвет и выставил в плексигласовом ящике, убрав из него полки. Тем самым, я тогда, сам того, так сказать, не ведая, выразил уважение в адрес Армани и Ива Кляйна. Эффект во всяком разе вышел наилучший. Не доставало лишь сюиты № 1 соль-мажор Баха… так, я тот диск снова и купил. Касаемо прочего, пришлось заём в банке взять и поменять мебель и прочую порушенную мною утварь, телевизор там, кофеварку электрическую, тостер, холодильник, утюг, вентилятор, и я на это пошёл. Не дерзнул воспользоваться десятью процентами скидки, обещанными дисконтной картой Галерей (откуда уход мой остался никем незамеченным), лишь бы тамошние злые языки не смогли отвести по сему поводу душу. Рискуя уплатить дороже, заполучить всё у конкурента, где меня никто не знает, предпочту. И обоям досталось, по заслугам попали под обстрел, по стенам опустевшего любовного гнёздышка вдребезги разлетелись несколько бутылок красного вина. Похоже на панцирь великана Роршака, знаете ли, с огромными пятнами, природу коих всяк пусть толкует по личному усмотрению. Согласно чему и причислен будет то ли к сумасбродам, то ли к блаженным. Моё сумасшествие в тот раз всего три минуты длилось и закончилось. Несколькими днями позже казалось мне, что всё минуло; наивен и доверчив, думал поняла, насколько любима мною и вернётся, мол, ко мне. Матушка моя повторяла: «Ставить на стол цветы не забудешь, счастье-то и вернётся». Ставил. Ждал. Долго ждал. И только теперь понял, права матушка — счастье моё всё ещё в пути… Шарли хотела бы прийти на мою годовщину. Кто ей мешает?
Розарио изъявил желание сопровождать меня в центр психиатрии. Прибыли туда мы часам к десяти. Нам салютуют отборные лучи не так давно вставшего, весеннего солнца. «Добрый знак» — приободряет меня Розарио. Я же, на самом деле, вовсе не ведаю, на что надеяться и чего ожидать. Если та панк-девица с фото и есть моя Шарли, значит всё ужасно, но я получу её, по крайней мере, живой. Если же то не она, возможны любые варианты, вплоть до наихудших. «Могла меня и позабыть, совсем», — мелькнула эгоистичная мысль. Влезаем на крыльцо кирпичного, покрытого извечно висевшей в воздухе здешней округи грязью строения. Розарио спрашивает номер палаты всё ещё маловероятной Шарли. Похоже, придётся подождать, Розарио должен кое-что разузнать. Чуть погодя, к нам выходит молодая и приветливая докторша, Мишель, психолог, под белым халатом джинсы, упругая спортивная походка, ободряющий взгляд. Предлагает проследовать за нею, щедро делясь с нами радужной надеждойразузнать о таинственной, очаровательной, не припоминавшей даже собственного своего имени, в павильоне для реабилитации, куда мы и направляемся часами что-то наигрывающей на пианино девочке. Добавляет, будто в связи с этим можно предположить, что у той музыкальное прошлое. «Точно, в яблочко», — мелькнуло у меня в голове. Пересекаем крытый похожими на клочковатые стариковские бороды кронами парк и останавливаемся перед небольшим, сплошь увитым плющом домиком. Психиатр просит нас обождать. Ладони мои со страху вспотели и замёрзли. Вышла Мишель одна, но знаком дала понять, чтобы мы обошли павильон. Там, внутри, она. Волосы, в сравнении с фото, отрасли и лоб наполовину укрыт белобрысой чёлкой. Похудевшие щёки придают облику решимость зека, …но это она. Потерявшаяся из виду, но вновь обретённая, прекрасная моя. На выстланном плитами дворике серьёзно и прилежно играет в классики, невнятно бормоча какие-то, внезапно всплывшие в памяти из того далёкого, нежного, детства считалки. Она ощутила наше присутствие и остановилась. Ко мне был обращён удивлённый, но не признающий взгляд. Я не шевелился, докторша ещё по дороге сюда резких движений советовала не делать. Девушка приблизилась ко мне и улыбнулась так, как когда-то Чарли Чаплин в Огнях города отвечал на улыбку молодой героини, оплатив спасшую ей жизнь операцию, но та — Виржиния Шеррилл ту роль исполняла — узнала, что он нищий, а не принц, о котором мечтала. Она смерила меня с головы до пят и в глазах её, в нескольких сантиметрах от моих, увидел я огонёк искренней радости, подёрнутой вуалью бездонной печали. Пальчики её ласково скользнули по моей щеке и остановились на моих губах. За молчанием, вечностью показавшимся, последовали её слова: «С днём лоздения», и вернулась она к своим квадратикам. Розарио, докторша и я, мы посмотрели друг на друга, не говоря ни слова. Молодой психиатр сделал грациозный разворот, и мы поняли, что для первого раза этого более чем достаточно. На лице моём замер протест, но настаивать я не стал. Возвращаемся в регистратуру, я подтверждаю, что это действительно Шарли Эрман, родившаяся 20 марта 1960 года в Лаетем-Сен-Мартин, где и поныне её мать проживает, и оставляю им телефон мадам Эрман. Уже в машине Розарио спросил, знаю ли я, чего хотела она сказать. Я ответил, мол не осмелился поверить, что она поздравила меня с днём рождения, апрель же на дворе. А сам потрясён был догадкой, что запоздалое то поздравление оставалось для неё единственной ниточкой, связующей с затерявшимся прошлым, с музыкой: мы снова оказались как прежде вместе — я, она и её музыка. И я готов снова выступать единым фронтом. Через открытую дверь кабинета, расположенного в самом дальнем конце коридора и поперёк его, так что сливались они в букву Т, рассматривал я в задумчивости клепсидру[20] семейства Легэ на другой оконечности долгой перспективы, открывавшей мне вид на вход и возможных визитёров. Только вот утром тем не было в мыслях у меня и намёка на радушие; мой разум заполняла невинно зародившаяся с лепетом Шарли надежда. Не заметил, стало быть, я и того, что за мной подсматривает Франсуаз. Из-под тишка. Глаза, лоб и клок её волос во втором из четырёх, чередовавшихся по длине коридора дверных проёмов составляют часть визуального моего поля. Голос её, слащавый, но и инквизиторский, возвращает меня на землю. — Жюльен! Где же он, мой Жюльен? О чём это он думает, мой Жюльен? И приближается, и уже облокачивается в моём дверном проёме, но не проходит его, что само по себе ново, поскольку обычно, без жеманства, одаривает поцелуем, и я соглашаюсь, обрывая тем самым возможное, само по себе обременительное вторжение. — О чём думаю? — повторяю, словно застуканный на адюльтере. Ох, уж эти женщины, ох уж эти их антенны — реагируют даже на цвет небес, на интонацию, на едва различимую суету глаз, что и случилось тем утром со мной. Но я не ответил, а она не настояла. В половине первого за мной зашёл Розарио. — Пока — бросил я Франсуаз, минуя её кабинет. — Ты не обедаешь со мной? — Несколько дней назад приехала с Сицилии одна из моих кузин, просится в гости. — А до выходных это подождать не может? — Она проездом, должна ехать дальше, в Англию, там тоже родственники. Отец твой отпустил меня до трёх часов. — Отпустил, так отпустил. Не вошло бы это в привычку, — добавляет властно, чего в ней раньше не замечалось.
На въезде в Манаж, где находится центр психиатрии Святого Бернара (святые в округе весьма востребованы), тормозим у цветочника: «Небольшой букетик, пожалуйста», — покупаю Шарли анютины глазки, она обожала их неброскую красоту. Двигаемся вдоль ржавого цвета стены, целиком и полностью заслонявшей собой находившееся за ней учреждение, пока не упирается та в фасад одного из боковых корпусов. Огибаем цветистые клумбы, слегка сглаживавшие чувство тюремного гнета со стороны крепости, крашенной в тот же пламенно охряный цвет, что и непреодолимая её ограда. Приветствуем пару пасущихся в загоне ланей и попадаем на центральную аллею, бегущую к главному входу. Прошу Розарио обождать меня в машине. Осмелюсь уточнить, это мятая, серого цвета Пежо 403, ведаю — она его ничуть не смущает. Дежурная в регистратуре подсказывает, что Шарли в парке и, знающего маршрут, оставляет меня следовать туда одного. Вижу её издали — в белом платье, с зонтиком от солнца в руках сидит на скамье под цветущей вишней. Будь я Ренуаром, тут же принялся зарисовывать сей шедевр, но у меня и Поляроида-то паршивого, чтобы увековечишь этот старомодный и хрупкий, полный поэзии образ, с собой нет. Она, заметив меня, улыбается с прежней, как и некогда нежностью, и я понимаю, что улыбка с трудом пробивается сквозь переполнявший её, вызванный прописанными пилюлями дурман. Протягиваю фиалки, а она, едва взглянув на них, хватает букет, бросает оземь, топчет его и убегает. Выкрикиваю её имя — спохватывается, застывает на месте, оборачивается, бросает в мою сторону взгляд и, почти без паузы, вновь бежит к своему корпусу. Провожаю её взглядом, беспомощным и отчаявшимся. Возвращаюсь к поджидавшему меня в машине Розарио. Тот преспокойненько листает досье «Потрошителя», сличая показания подозреваемых и ранжируя их шансы на невиновность в сей день. Приглашаю его пройтись до кафетерия, в котором не продохнуть от явившихся в гости и постояльцев из клиники, тем самым, давая время Шарли вернуть себе безмятежность маленькой девочки, выряженную зачем-то, без всякого её на то ведома, во взрослое платье. Едва мы присели, как некий малый лет тридцати, или около того, протянул в нашу сторону скрюченную руку. Смотрел он куда-то поверх наших голов и пулял в нас, как из пулемёта такие слова: «Бездействие — бездействие — бездействие — норма — норма — норма». И затем ушёл. Несколько минут спустя пришел, видимо, черёд улыбчивого Квазимодо, вознаградившего нас каскадом подмигиваний, похлопыванием по плечу и кисловатым возгласом: «Всё будет хорошо»! «Ну, да, спасибо» — отвечаю ему. Смотрим мы с Розарио вокруг с недоверием жалостно, сознавая надобность срочного исхода Шарли из этого мирка, в котором всяк ожидает своего Годо. Чувствую, что готов впасть в детство, лишь бы быть понятым моей школьницей, заблудшей в мир взрослых. Возвращаюсь в приёмный покой. Провожая меня к Шарли, дежурная рассказывает о приходившей утром матери её. Мадам Эрман пыталась помочь, без особого, правда, успеха что-то там ей вспомнить. Единственным, вырвавшимся из уст теребившей подол собственного платья шалуньи словом, стало застенчивое «мама». Не имея сил справиться с собой во время той сюрреалистичной очной ставкой, мать её ретировалась уже несколько минут спустя. Мы проследовали вдоль жёлтой линии, ведущей от корпуса неврологии к бункеру с бронированной дверью. Сопровождавшая меня сестра набрала нечто вроде кода Сезама и мы очутились в коридоре, где разгуливали призраки молодых женщин с дикими глазами, устремлявшимися на меня при моём с ними сближении. Чувствовал я себя весьма стеснительно. Одна из них подошла ко мне с улыбкою, словно две близняшки похожею на ту, которой получасом раньше, с тем же безразличием одарила меня Шарли. Она склонилась передо мной, что-то вроде бы сорвала, протянула мне пустую руку и сказала: «Это тебе». Сопровождавшая меня медсестра встала между нами. — Оставь мсье в покое, не утомляй его своими глупостями. Девушка продолжала, настойчиво глядя мне в глаза: — Ты отказываешься от них? А я собрала их для тебя. Не совсем уверенно, но я всё же протянул к ней руку и схватил предполагаемую розу; казалось мне тогда, что то была роза. Живущая на полном пансионе цветочница добавила: «Красивая, правда? Не теряй!» Храню её по сей день и часто спрашиваю себя, а не разыгрывала ли нас та, кого принимали мы за полоумную, вызов бросая из своего, превосходящего наш разума. Я-то подыгрывал и в глазах её идиотом не представал, а может и… Чего она ждала от меня? Соответствовал ли я себе самому, внешнему? Не решила ли потом: чокнутый ведь он — цветок взял, которого на самом деле не было, я же взял его? Может, следовало ситуацию ту оценивать мне по примеру верных последователей Декарта, что есть мочи кричавших при виде всем набившей оскомину отсебятины типа восьмерки лошадей, караваном выходившую из-за одинокого кактуса: «Вот! Перед вами феномен искажения, то бишь сжатия пространственно-временного континуума!» Я же, смеюсь ли, плачу ли при том, остаюсь таки хорошим зрителем. Что бы там ни было, а медсестра походя раздаёт указания: «Мишель, хватит рисовать. Женевьева, пора в койку». Детский сад… только возраст средний около двадцати с небольшим, втрое больше, чем следует. Подхожу к палате Шарли — келья монашеская. Та сидит на койке, рассматривает фото. Попутчица моя поясняет, мол мать это ей принесла. Шарли протягивает фото мне, улыбается снова и говорит: «С днём лоздения», и добавляет: «Олан». Я не понимаю, но это кажется мне и неважным. Смотрю на фото. Снято поляроидом. Один из тех великанов, что носила Шарли. Кажется то была Бетье, школьница со светлыми косичками и в красной юбке. Рядом улыбающаяся Шарли, прижавшись к молодому человеку — длинные кудри, бородка «а ля мушкетёр». Вынужден признать: то ли Олан, то ли Ролан…
По возвращении, уже в машине, в сердце будто шуруп ввернули. От Розарио то не ускользнуло: — Могу помочь чем-то, деревня? — Не знаю пока, может быть. Подумать надо. — Что, всё не просто? — Да, уж покруче, чем ты думаешь, и сомнение во мне монументальное. Может жизнь обходится гнусно и со мной, раз насмехается над последней надеждой, за которую удалось ухватиться мне на дне пучины, куда я рухнул, раз делает из неё посмешище, рискуя обратить раз и навсегда в отраву, в последний роковой удар ножа. — Ну, вот что, если фразу эту ты сам выдумал, тебе книги писать нужно. — Да, хорошо, если только выживу. — Хватит, слушай! Она поправится. — Не сомневаюсь. — Хорошо, а в чём проблема? — Не знаю, ничего не знаю. Всю дорогу, до самого Эн-Сент-Мартина, едем слова не обронив. Почти за норму принимаю и участие со стороны небес, будто из огромной корзины вываливших на наши головы крупные, с бильярдный шар градины. Неясно слышу лишь проклятия Розарио в адрес всех, рай населяющих святых, с Господом Богом, Иисусом Христом и Мадонной вместе взятых, отправленных под горячую руку, куда подальше. В голове у меня полный сумбур. Нейроны, все как один, аж вспенились, замкнувшись на одном вопросе: «Неужто спутала она меня с этим своим задрипанным Арсеном Люпином?» Нужно было, чтоб в сердце воцарился покой. Я должен был выяснить, но выяснить что? Пьеретта видела Шарли в Эн-Сент-Мартин первого ноября, с цветами. У кого день рождения в тот день? У меня! Ролан, он родился всё же не в один день со мной. Себе самому я чаще всего говорю, Бога мол нет, лишь бы не знать, что на столь бестактную шутку тот способен. С вокзала ль, на вокзал ли шла Шарли? А цветы? Их мне она несла или же они были ей подарены? Но, если этот некто подарил букет, отчего же он ей позволил уйти пешком, одной, через неспокойный такой квартал? Другой вариант: она хотела подарить тот букет кому-то, кого в тот день не нашла. Я же был дома… И кому ещё, кроме меня по всей округе, могла прийти в голову столь приятная мысль на её счёт? Вот тебе и «с днём лоздения, Олан», чего же тут непонятного.
Вечером я, как и было объявлено мной Розарио, ужинал с Франсуаз. Столик заказан был ею в Локанда Гарибальди, итальянской траттории при бегущем в Манаж шоссе, в нескольких километрах от центра Святого Бернара, в котором несколькими часами ранее пришлось мне вновь увидеться с Шарли. Воистину случаются денёчки, когда жизнь ваша пускается в пляс. Франсуаз улыбчива, любезна, предупредительна была до тех самых пор, пока я под rigatoni ai quattro formaggi, на мой вкус всё же дрябловатое, не дал ей понять, что сегодня остаться у неё не смогу. Тут же стала она насмешливой, потребовала немедленно ей рассказать все новости о моём кузене с Сицилии. На воскрешение в памяти алиби, ссылка на которое утром позволила отсутствовать мне среди дня, потребовалось несколько секунд. — У него всё хорошо… — Отчего же ты не привёл его с собой, ему что же, неловко? — Ему с Розарио хорошо и полицейские истории он любит, вот и ужинает с ним. А спать ко мне придёт, не на улице же его оставлять, задерживаться потому не смогу; надо, хотя бы немного, о нём позаботиться и мне самому. — Ну, конечно, понимаю. На десерт что-нибудь закажешь, Жюльен? Себе она попросила одно маленькое zabaglione, один кусочек torta di mandorle и ещё tiramisu. Я посмотрел на неё недоумённо: — Но, Франсуаз… — Что, мой маленький Жюльен? Нужно же чем-то всё компенсировать. — Будь же, наконец, благоразумной… — А ты, ты-то таков, мой Жюжю? Пренебрегаешь мной тени ради, воспоминания для. — Да о чём ты? — Ладно уж, Жюльен. Не продолжай, не то совсем запутаешься. И, взвизгнув да охнув при виде в линейку выставленных перед нею метрдотелем Джузеппе всех трёх десертов, сознавая при том всю пародийность собственной схожести с приютским дитя, пухлое это создание свои полные слёз глаза опрокинула в мои, отбросило вилку и, запустив в пирожное пальцы, принялось обжираться. Мне стало стыдно. Не за неё — за себя. А что мне оставалось, честным быть? Я пытался… не захотела она понять. Сноровисто упаковала меня, да в мою же мнимую любезность. Не могла, верно, догадаться обо всех тех планетах, что таскал я за собой, и которые тяготели ко мне, а уж о той, на которой я в тот момент находился, менее всего. В полной наивности слушал я её и улыбался тому, как она чего-то ждёт, чем и обезоруживал. Мы являли собой два прислонённых, никогда не переплетавшихся одиночества. Да, так оно и было. Высадила Франсуаз меня на въезде в Сите. Поднимаясь к себе в студию, принимаю решение чистосердечно объясниться с ней, как только смогу при том смотреть на неё незамутнённым глазом. Теперь же, хрусталики мои позапотевали, следовало как можно быстрее проветрить их, дабы не разлетелись они в куски от удара о ближайшую, реальностью брошенную в голову мою мостовую.
Следующим утром Франсуаз не явилась в офис. Отец её сообщил, что наконец-таки решилась она на утренний спортивный моцион. Записалась на курсы гимнастики и аэробики, о чём я ей сообщил тем днём, как увидел анонс в местной газетке; на фото признал я в инструкторе одного из своих однокашников по выпускному классу классической гимназии. По-видимому, прискорбное поведение моё накануне и заставило принять её тяжкое это решение. Был я уверен, что вдобавок ко всему вообразила она, будто отсутствие огонька в моём к ней отношении увязано с внешним её видом, хотя по правде сказать не придавал тому я никакого значения. Уверяю, что не влюбился б сильнее, будь у неё и осиная талия. Никогда вопросом этим не задавался, не было у меня желания по этому поводу напрягаться и в тот день. От обязанностей своих по работе не отвлекался я вплоть до обеденного перерыва — в общем водовороте событий на меня возлагалась роль главной «антенны». Лишь три звонка пропустив, снимал трубку, так было условлено. Сам звонил в том же духе — таковым был код опознания. Двойной агент триумфально сообщил мне, что Фернан должен, мол, остаться довольным, затем витиевато изложил географические координаты автомобильной аварии, с тремя трупами, случившейся на территории подвластной Легэ. Имена и адреса были мною тут же записаны. Затем я обратился в главную клинику региона, к самой мадам Клод, но не к той, о которой вы сразу же подумали, хотя повседневные хлопоты этой парочки отличались друг от друга также мало, как и их имена. Список пациентов, кому маячило вскоре лишиться своих коек и притом, конечно же, вовсе не улыбалось выздоровление, матрона из регистратуры мне таки дала. Делал я всё так, будто низости хлопот сих не сознавал. Тем оправдывал их, что, дескать, и до меня существовали формальности, что следую правилам, мол, и не более, и что, наконец, мирок этот сдобрен Фернаном весь целиком, и потому из объятий его улизнуть не смеет. Патрон относительно выписываемых счетов, особливо касаемых фурнитуры и услуг, проявил как всегда неуступчивость. В тех редких случаях, когда он соглашался на кредит, предполагаемый бенефициар опутывался системой выплат, вдвое превышавшей в итоге сумму, рассчитанную изначально. «Увидим, кто скорее износится» — пошучивал он. И не допускал в платежах малейшей заминки. К несостоятельному должнику в тот же день являлся с визитом хотя бы один из пары снюхавшихся с ним судебных приставов. Превосходный образчик взаимовыручки между стервятниками! За каких-нибудь пару-тройку тысяч бельгийских франков тут же следовало наложение ареста на имущество. После ухода из фирмы Розарио, «отслеживание упавших зёрен» переложил Фернан на меня, используя всё те же «прагматические», как он их «назидательно» величал, методы. Тем днём, чего прежде со мной не приключалось, щепетильность моя уступила желанию моему о сомнениях, ночь напролёт не дававших мне ни глаз сомкнуть, ни думать. Решил я противиться тому до тех пор, пока не пригласит меня Розарио ко мне же на вечеринку, чтобы объявить то, что казалось всё более и более неизбежным.
Я хорошо усваиваю уроки — с ходу обучился гробы на двенадцатилетних малышам нескольких месяцев от роду всучивать. «Ангелочкам простор нужен», — вздыхал Фернан под носом у отчаявшихся и на всё соглашавшихся родителей. Как-то раз, некого стручка возрастом лет под девяносто, усопшего на поводу у Паркинсона, не удавалось нам выпрямить в подобранном для него шикарном, модели Пале Руаяль, исполненном из акажу, гробу, в котором тот занимал лишь половину места. Безошибочно верный пассаж тому Легэ подобрал тут же: «Ничего, ничего, черви щекотать примутся, так будет куда ноги вытянуть, для облегчения». Даже если в последнюю ту пору и подпустил в юмор свой Фернан бемоли, по некому предчувствию должно быть, это не помешало ему отпустить при виде в метр с полтиной ростом и почти такой же ширины почившей беспощадный свой комментарий: «Нужно будет поразмыслить об изготовлении гробов для близняшек!» Ну, не гений ли, этот Фернан. Не опускаюсь до столь низкопробного цинизма, но сознаюсь, что и самому, в ситуациях неожиданных, не удавалось обуздать некоторых своих неуместных острот, явного вреда усопшим, правда, не причинивших. Как в тот раз, к примеру, когда были мы на кладбище и упрятывали в склеп останки некого, некогда летавшего подполковника. Сосредоточенно и чинно, без какой либо нарочитости заслушав строгие аккорды «Прощания с оружием», под которые удерживаемый двумя мощными верёвками гроб исчез в могильном проёме, присутствие продефилировало мимо рвущейся над героическим авиатором в последний полёт дубовой кабиной самолёта. Оформленную подобным образом крышку гроба венчала форменная фуражка. По устоявшейся традиции из корзины полной еловых лапок, заготовленных для сбрасывания на гроб, первую взял старший по званию. Чтобы получше всё рассмотреть, ему пришлось довольно низко согнуться. Случилось так, что его ветка встала рядом с фуражкой торчком. Следовавший за ним понял для себя, что делать надо именно так и не иначе, и попытка его была успешной. Ему подражал третий, а тому следующий и пошло, поехало… В итоге фуражка целиком скрылась под еловыми ветками. Я наблюдал их со стороны, видел как от напряжения закусывали они языки, потешался над нескрываемым довольством тех, кому это сделать удавалось, и не мог оставаться серьёзным, когда кто-то, кем брошенная ветка рядом с совсем уж погребённым головным убором торчать не желала, с досады лупил кулаком правой руки по ладони левой и… наоборот, если был левшой. Лишь однажды не удержался я от смеха, за что и прошу у вас прощения. Как-то раз, при выносе тела настолько узкой оказалась лестница, что нам, то бишь Фернану, двум родственникам покойного и мне, гроб пришлось нести почти вертикально. Вся масса тела пришлась на стенку в изножье, и под его напором та не устояла — ноги усопшего сомкнулись вокруг шеи Фернана, со всей предосторожностью ощупывавшего ступени под собой всякий раз ступнёй, прежде чем стать. Закричал Фернан так, будто удав его обнял. — Вот про то и говорят: «на … сел и ноги свесил», — решился заметить я патрону, комизм ситуации в кои-то веки, так и не оценившему.
В обед Франсуаз игнорировала меня, не пришла попрощаться и в конце рабочего дня. После того, как Фернан взял меня к себе, случилось это впервые. Придя домой, ощутил я надобность свежего воздуха и отправился с очередным визитом к деревьям парка, не исчезавшим из жизни моей, будто пустили они в моей судьбе корни. Прибыв на место, оставил я велик на стоянке и отправился в пустынные для уже сумеречного времени аллеи. Компанию составила мне лишь пара любителей бега: атлетического сложения мужчина, в сером фланелевом костюме и синей лентой вокруг шапки светлых волос, нарочито осаждавший свой аллюр с тем, чтобы чувствовала себя на высоте молодая женщина, розовый фуксин которой с трудом сдерживал рвущуюся наружу плоть. Дабы от своего Пигмалиона не отставать, потела она, словно клубника замерзшая. Признал я в ней Франсуаз, меня вроде как и не заметившую. Она делала первые шаги, удалявшие её от меня и по-своему, кило за кило, высвобождавшие из себя. Я не знал, обернётся ли это печалью для меня, потому как был уже далеко.
Когда вечером меня позвал Розарио, я уже для себя решил, что с Роланом Дюпре встречусь во что бы то ни стало, пусть даже в день его рождения. Так того требуют интересы Шарли. Я себя в том окончательно убедил, что восстановление душевного равновесия её стоит дороже неких посягательств на мою гордость, над чем и полагалось мне философски возвыситься, проявить себя господином важным и благородным. Преждевременно и бесполезно делать выводы из того, что могло быть лишь недоразумением, составленном в калейдоскопических призмах, в которые превратилась память Шарли. Однако, стоило только другу моему Коломбо спросить меня притворно небрежным тоном про день моего рождения, тут же и почувствовал я в руке своей кончик нити целого клубка, который не хотелось мне разматывать — трагикомическая история получалась, водевиль дешёвый выходил из-за недоразумения схожести дат появления на свет двух воздыхателей нерешительной героини. Представьте, Розарио с поднятой рукой, в ней кончик нити. Вновь, и вас только ради, переживаю тот момент, когда лезвие его ножа вошло в моё сердце. Розарио: — Скажи-ка, а ты в каком году родился-то? — В 1956. — Ага, а Ролан в 1954. — С чем его и поздравляю. — Тебе, старина, благодарить его следует. — Благодарить? Хрена ему! — В конце-то концов, что же это за словечки такие у простого и столь застенчивого малого. — Прельщает меня не простота, а оригинальность и исключительность, ирония судьбы, если угодно, но лишь когда та бросает вызов обыденности. Месяц рождения того, кто отправил меня на Голгофу? — Ноябрь, видишь ли… Если не ошибаюсь, у тебя тоже, нет? — День? — Второе… (и неуверенно: «А у тебя?») — Не лицемерь, тебе отлично известно, что я тоже родился второго ноября! — Ну, я же тут не при чём, Жюльен. — Хорошо, Розарио, извини… это я так. — Истинный дар твой в благодарности желающим помочь тебе корешам. — Продолжай в том же духе. — Ты же рассердишься. — Не скажешь же ты мне, что… Розарио меня перебивает: — А вот и да! — Нет! Только не в Сите, под каштанами! — Однако, это так. Но, дома разные… — Что за прелесть! — На самом деле, он уроженец Стеенвоорда, север Франции, там и проживал до призыва в армию. Затем шатался, там и сям, с перерывами на вынужденный отдых во встречавшихся на его пути тюрьмах — пару недель в одной, месяц в другой, — пока не добрался до кассы банка Женераль в Монсе, где, как теперь известно, и опростоволосился из-за неопытности шайки, в ряды которой затесались даже несколько девиц. — Девиц? Не говори об этом… — Ничего я и не говорю; про девиц, так, на всякий случай. — И когда же он обосновался в Сите? — За несколько месяцев до последнего ареста, в июне 1984-го. — А в Сите почему? — Видишь ли, со списком его судимостей снять апартаменты в Хилтоне наверное нелегко. — В Сите живут и… весьма приличные люди. — Так то оно так… да только проходимцев этих защищая, себя, смотри, не сгуби. Заметь, что он там не долго жил, потому как в кутузке три года провёл. — Когда это было, только точно? — С 17 октября 1984 по 16 января 1985, это точно, три месяца отхватил к сроку за попытку побега. Несколько секунд висела тишина. — Жюльен, ты где? — И что потом? — Никаких вестей, затаился где-то… Ты же ведь рассказывал, если мне память не изменяет, будто он носил великанов. Может, всё ещё там, отличнейшая норка… Просмотри календарь карнавальных гуляний. — Не упущу я этого, Розарио. Чао и мерси!
Точнее представлять я стал, сколь жёсткой и циничной может быть реальность. Подталкиваемый охватившей меня не выдуманной паранойей, пришёл я к болезненному выводу, что на самом деле пряталась Шарли у меня. В тепле объятий моих урку своего ждала. Оборвала все свои связи, по меньшей мере с виду, чтобы сбить с толку элиту сыска. Решилась на разлуку со своим рецидивистом, отлеживавшимся в укромном месте, дабы напустить тумана на поляны. Отчего же пряталась она на самом деле? В налёте на Женераль участвовала? Роль её какова? Не она ли сидела за рулём того, после включённой директором банка сирены троих в масках поджидавшего джипа? К тому же, на ней и кража трусиков, а пословица гласит — кто трусики смыкает, тот и джип умыкает. Настолько плачевным было моё состояние, что не сумел я драму сию принять всерьёз, как и оценить дешёвого юмора её. Перед нами, что же, новые Бонни и Клайд? А что, если это Ролан дал указание Шарли уйти в молчанку? Но, по отношение к чему? Осталась ли у неё связь с бандой? Но тогда об ужесточении приговора подельнику была она в курсе и поздравлять с годовщиной могла не его, но лишь меня. Возможным оставалось всё: и самое безобидное, и наихудшее. Притом неумолимей и очевиднее становилось мне иное, истинное объяснение: сносила она меня, сколько смогла, такого вот, прямо противоположного её угрюмому избраннику, меня не сюрпризного, книге открытой, которую при желании не составляло труда дешифровать, подобного. Не удержалась, хрустнула, не смотря на удобное алиби, которым представлялся я для неё. Предпочла убрать меня из своего поля зрения, хотя когда-то, в начале, и вызывала в ней скромная персона моя некоторую симпатию. Крепилась вплоть до сентября 1986-го, в нескольких днях от ранее означенной даты освобождения Ролана Дюпре. Что же делала она до появления своего? Не жила ли она в квартале со своим мушкетёром уже тогда, до знакомства со мной? Почему не знал о том я? Сите должен был вопить о чуде при появлении в его замызганных стенах такой красоты. Правда, я ни с кем не разговаривал. Мне не оставалось ничего, кроме как разыскать Ролана Дюпре. Уж он-то в курсе того, что с эфемерной нашей вдохновительницей приключилось? Во всяком случае, матушка, на этот раз ошиблась ты, туда, где поставил я букет цветов, счастье моё не вернулось…
И вот уж в какой-то там — энный раз я у дверей квартиры 12С, без особой веры во что бы то ни было, вроде как бы по привычке, не помышляя, что мог наступить тот самый день Х, когда я менее всего был готов к встрече. Я уже даже забыл, что нажатие кнопки звонка может спровоцировать открывание двери и был до глупого обескуражен, когда всё это случилось… на моих глазах. Он высокого роста. Неумолимая сила исходит от него. Бицепсы его, обтянутые закрученными рукавами бледно голубой джинсовой рубашки, принуждали к мыслям о ветках дуба, на которых можно было имена ножами вырезать. Рваный рубец на левой надбровной дуге явно свидетельствовал о бедах, пережитых им ранее, а в спокойствии его угадывалась готовность бесстрашно встретить все те, что остались на будущее. Взгляд его, особой стальной синевы, от земли отрывал, как если бы сам он за отворот пиджака ухватил. Мушкетёрской бородки, той что носил он на фото, показанном мне Шарли, теперь не было. Русые волосы его убраны были назад, а при вопросительном кивке головы, которым встретил он меня, метнулись ему на плечо конский хвост. Правильные черты лица его, особенно вкупе с этой косичкой, словно были калькированы с одного из персонажей комиксов: Бака Дэнни, а то и самого Рика Оше. Обнаружив на соломенном коврике онемевшего от неожиданности придурка, решил тишину прервать он самолично: — Кто ты такой, знаю. Где Шарли? — Я и пришёл вам об этом рассказать, — залепетал я, глядя в ответ. Мне приходит на память история о ковбое, сломя голову вернувшемся в салун, откуда только что убыл, и рыкнувшем на всю округу: «В зелёный цвет коня моего кто выкрасил?» Облокачивавшийся о стойку бара верзила распрямляется во все свои два метра и с высоты той отвечает: «Ну, я… а что?» — «Второй слой нанести надо бы», — гнусавит в ответ ковбой, заикаясь. Что ни говори, а жизнь штука весёлая. Время второго слоя, мсьё Дюпре, подоспело. Шарли ваша, второго пласта любви вашей импозантной дожидается. И я выкладываю всё, что знаю о Шарли, чего не знает, по-видимому, мсьё Ролан из Стеенвоорда. Тот довольствуется лишь одной не допускающим возражения тоном сказанной фразой: — Едешь со мной! — Воля ваша, — ответил я. Мне, верно, ничего другого и не оставалось… Он сдёрнул с вешалки черную кожаную куртку. Следуя за ним к машине я заметил, что пса в комнате всё же не было. Добравшись до своего, конечно же, чёрного Golf GTI, он заискивающе открыл мне дверцу, бросив при этом: — После тебя, нарост на рогах моих! С места он тронулся спокойно. Первые метров сто тишину прерывали лишь скромные мои подсказки, как проехать к центру психиатрии. Будто прочитав мысли мои, пока задавался я вопросом об уровне его ненависти ко мне и зарезервированном для меня по этому поводу счёту, он, не глядя в мою сторону, заявил: — Я знаю, Шарли жила с тобой… но ты или кто другой, мне ж всё равно кого с пальмы-то трясти. Вот те раз, я же присказку эту где-то слышал уже, подумалось мне. — Ты же так, пустое место, под руку подвернулся, вот и всё. Важно то, что к моему выходу должна она была быть здесь, а её не было. И если я доберусь до мерзавца, который довёл её до того состояния, что ты тут описал, ему предстоит провести счастливейшие четверть часа своей жизни… если сможет. Конечно, всякий раз, когда тебя называют пустым местом, это… доставляет удовольствие… с другой стороны, я вовсе не сомневался относительно природы доводов Ролана в мой адрес при противлении моём, продефилировавшими в мозгу, как наяву. — Ты её колотил, — добил он меня, — так доложили. — Да нет же, я и волоса с её головы не тронул. «Лжец!» — подумал я сам про себя. Знал бы он, как любил я ласкать эти золотистые волны волос её, долго долго. Но, будьте уверены, мсье Дюпре, что со своей стороны я вернул вам ваше добро в тот состоянии, в котором вы его найти и надеялись, и даже может быть в лучшем — она могла сделать с ним что-то и сама, не считаясь с моим мандатом смотрителя. — А скорая зачем приезжала? — Да, ко мне. Барбитурата наглотался, после того, как о зеркало в ванной головой ударился. — Барбитурата… как баба какая! Ну и ты тип… лучше уж выстрел в голову. — Извините меня, мсье Дюпре, но не было у меня под рукой винтовки, вот и стрелял чем мог, в то время собственной своей башкой. Тирада моя таки заставила его улыбнуться. По приезду в центр Сен-Бернара, я предложил ему, что подожду, дескать, его в холле у регистратуры. — Э нет, пойдёшь со мной. И устроились мы оба на парковой скамье, словно давние приятели. Не делили мы с ним, что называется краюху хлеба, но делили одну девицу, а двух мужиков не очень сильно это сближает. Шарли, увидав нас перед собой, приняла то без всякого удивления, словно ждала обоих. — Олан! Юльен! Снова сомнение. Видимо, нужно ей присутствие второго, чтобы она наконец меня признала, чтобы снова я для неё засуществовал, но в правильном контексте, то бишь сателлитом Ролана. Или же память её со времени моего последнего, с неделю тому, визита, что весьма кстати, улучшилась, и прилив сознания её выбросил на пляж со времён перенесённого шока в бескрайности его блуждавшую хрупкую лодчонку, с именем моим на борту. Ролан принял её в свои объятия и нежно обнял. Я не осмелился сделать то же. Может оттого, что она выше меня… А может оттого, что тот туман, через который видела меня она, приглушавший оставленные мною дурные о себе воспоминания, чувствовать меня принуждал отделявшую её от меня дистанцию. Или же, ещё одно, казавшееся мне прекрасным толкование, потому как, смутно догадывался я, что участвовавшие во встрече персоны были не теми, кого ждали. Иначе говоря, то была не та Шарли, которую знал я прежде, — сам же был лишь зыбким, внезапно вынырнувшем из поблекшего прошлого фантомом. Не важно, подумалось мне, он выиграл. Удрученный и пристыженный, я направился от них прочь. — Эй, ты куда? Ты же не бросишь её теперь, когда она так нуждается в тебе? — Как так? — спросил я, сбитый с толку. — Теперь вы же здесь. Оставив Шарли возле скамьи, он отвёл меня в сторону. — Ей ты нужен, без тебя она не выкарабкается. Я не верил ушам своим. — Она же всё сделала, чтобы сбежать от меня. — Ты хоть не дёргайся… с тобой у неё хоть метка есть. А я укореняться не умею. — Она будет вас искать. — Не в том состоянии, в котором она теперь.
Мне подумалось, что ему-то удобно оставить её «выздоровление» на меня, с тем чтобы потом меня же себе за спину и отодвинуть, но ответил как лицемер: — Наберитесь терпения, она станет прежней, ей уже много лучше, нежели когда я её видел в прошлый раз. — Это тебе терпение надо. — Вы всё бросаете? — А что бы ты сделал на моём месте? — Я не оставил бы её ни на секунду. — Ну и радуйся, это-то ты сделать сможешь. Теперь я уже совсем ничего не понимал. — Когда к ней сознание вернётся, она же примется вас разыскивать, бросит меня и бросится опять вдогонку за вами. Так прямо ему и сказал, пускай не думает, будто я больший идиот, чем есть на самом деле. — Там видно будет, сам с ума не сойди. — Я же не собака, я не могу привязаться к ней ещё раз и смотреть потом, как она в очередной раз уходит. Да и не смогу я, после того, что она со мной сделала, сердце перед ней раскрыть. — Никто тебя и не заставляет. И тишина. — И потом, думаешь, мне она ничего не сделала, я, думаешь, не страдал? Думаешь, когда в объятиях твоих утешалась, мне в радость было? Время всё по местам расставит. Ты займёшься ею, поможешь стать самой собой. Может, придётся тебе при том и пальцы кусать, потому как остаток иллюзий утратишь, так, по крайней мере, у неё хоть выбор будет. — Вы-то чем рискуете? И снова тишина… — Тем, что она меня забудет во второй раз. — Но она и меня может снова позабыть. — Ну, вот видишь, мы и квиты: шансов у тебя себе её вернуть как и у меня, столько же, если взяться за дело. — Вернуть её? Но, я никогда её не завоёвывал, вы же ею управляли как роботом, на расстоянии. — А вот тут ты ошибаешься, бедолага, тебя-то она по-настоящему ценила. Не знаю, чего уж там сделал ты, но приглянулся ей. Ведь речи не могло быть о том, чтобы я её из виду потерял, так нет, она решила ж всё по-своему, и мне долго пришлось дожидаться, поверь мне. Я даже чуть было не решил, уж не в раю ли ты с ней. А потом узнал, что она и тебя кинула. Правду говорил он или разглагольствовал? Как бы там ни было, но я снова духом воспарил. — И вы её больше не любите, — посмел сказать я. — Речь не о любви, но о разуме и выживании. Я хочу, прежде чем что-то надумывать, в её настоящие глаза взглянуть, а настоящие глаза свои только с тобой сможет она себе вернуть. Это-то ты мне и должен, даю тебе на то не больше двух лет. — Постойте, а что если и третий есть? Где была она между тем днём, когда ушла от меня и 2 ноября? Не у матери, я проверил. Вам это известно не было, но оба мы, и вы и я, родились в один день, 2 ноября и той же ночью на неё напали. — Да, знал я об этом, только как может это влиять на причину нападения? — Вы тоже знали об этом? Так вы не мало знали обо мне. Догадываюсь, что вы также знали, для кого был букет, который Шарли несла в день нашего рождения. — Для тебя он был. — Так я же у себя был, не мог я её упустить. — Кто-то ей сказал, что тебя там нет. — И кто же? — Одна женщина, ты ей нравился, ещё одной, и что ж ты такого делал, что все они в ноги тебе падали? — Давайте… потешайтесь! — Она думала, что если Шарли снова обоснуется у тебя, это разожжёт мой гнев. Ревнив очень я. — Да о какой женщине вы говорите? — Я тебя лучше знаю, чем ты думаешь. Умеешь ты воспользоваться ситуацией, у меня терпения твоего нет. Знаю, что уважаешь её, что не насмехаешься над ней. — А вам-то откуда это известно? — Да уж знаю… — По любому, всё это в прошлом. Нынче другим я занят, работа у меня, женщина другая. — Ну и ну! Издеваешься? — Да о чём вы, в конце то концов? — О том, что мне моя матушка рассказывала. — Ваша мать? Да, что вы тут мне плетёте, никакой вашей матери я не знаю. — А Пьеретта? — Пьеретта ваша мать? — Ну да, что в томтакого? И перестань ты выкать, красавчик. Так вот и выведал я, что Пьеретта, мадам Дюпре, спасла меня от преследований своего сына, шкуру бы с меня снявшего, узнай он, что Шарли вернулась ко мне. По доброте душевной? О том я и помыслить не осмеливался. Сказочка её о найденном в ванной бумажном кораблике казалась весьма забавной, но версия сына была, по правде сказать, убедительней. Пьеретте изначально был поручен уход за псом и поиск Шарли… в моих объятиях, следует полагать. Белая и пушистая! Пришлось ей скрытно за мной следить и ждать, что сам я отыщу след избранницы сердец — моего и не выходящего из тюремных застенков сына её. В день, когда впал я в детство и принял Эн за почтовый ящик, она, как бы невзначай, прогуливалась в нескольких десятках метров от моста Энкьетюд[21] и, из любопытства, подобрала снесённый к берегу бумажный мой кораблик. Жесту моему нелепому, едва ли не ребяческому, государство должного внимания не уделило — остался он вне значимости. Одна лишь Пьеретта извлекла из того выгоду — пользуясь соседством, решила лицом к лицу со мной сойтись загодя. Но, уступив природному обаянию моему и нащупав во мне короля танго, чувственная мадам Дюпре привязалась ко мне. Оля-ля-ля! «Эй! Дёрни себя за волосы», — скажите мне. Что ж, верно, как и вы, очень сомневался я предмету иных резонов для интереса Пьеретты к невзрачной персоне моей, по крайней мере, при первой встрече, потому и продолжил поиск более правдоподобного толкования происходящему в кинозарисовке моей, под названием Паранойя. Каждой ночью надумывал я очередную интригу. Засыпал опустошённым, но убежденным в том, что помешаю им осуществить корявые их планы. Назавтра снова обуревали меня те же невероятные бредни, что и накануне, и я, вновь и вновь, подвергал их сомнению. Непереносимо! Мало-помалу убедил я себя в истинности такого сценария — великодушную мою поставщицу ризотто озадачили поиском какой-либо квартирки под некие грязные делишки, а всё к тому необходимое укрыли у меня! Припомнил я и случай один, списанный мною в ту пору на обосновавшихся в Сите бродяг. Однажды вечером, ближе к концу года, нашёл я свою дверь взломанной. Красть ничего не стали, а собак спустили на голубую виолончель, разбили вдрызг, а всё, что от неё осталось, по косившему под паркет линолеуму разбросали: а не спрятано ли, мол, что у неё внутри? И никакой надобности слыть Коломбо вовсе нет, связь между визитом тем загадочным и ограблением Галерей и без того установить легче лёгкого: я же работал там и были у меня ключи от служебного входа, злодеи покупками заниматься смогли ночь напролёт. Объявилась у них возможность обновить гардероб свой, музыку на класс hi-fi сменить, да и телевизоры тоже. Из великодушия, видно, вспомнили они и обо всех друзьях своих. И про припасы съестные не позабыли, оргию устроили, вынуждено, с икрой и под фуа-гра. И дульциней своих побаловали, из звёздной моей коллекции белья «Незабвенный ужин в канун Нового года» понабрали для них всего и всякого; лишь одна эта пожива впятеро превышала стоимостью годовой мой оклад. Нагрузил, в общем, дед Мороз ночных клиентов тех со всей присущей ему щедростью. Пресса же рассуждала о пособничестве изнутри. А что если на самом деле шайке Ролана, сам того не ведая, я помог? Что, если в виолончели своей прятала Шарли ключей моих превосходный дубликат, свободного времени для изготовления коего было у неё предостаточно? Что, если в первое то ноября сама она с цветами и явилась и лишь за тем, чтобы вернуть ключи обратно? Последнюю эту гипотезу толковал я для себя с каким-то мазохистским удовольствием. Но, если всё случилось именно так, полиции не составит труда добраться и до меня. Как только осматривался я вокруг взглядом не столь мрачным, тут же говорил себе, что свидетельств участия банды Ролана в налёте на Галереи нет, и поражался надежде своей на то, что истинно в том виновным резвиться в альпийских лугах оставалось недолго. По мне, так в том сомнении куда как больше пользы. Устав от всех этих совпадений и допустимости различия в их толковании, удерживавших меня в подвешенном меж двумя совершенно отличными друг от друга правдами состоянии, решился мало-помалу я начать новую, отличную от прежней жизнь. Выжидал просто-напросто, когда тому случай представится.
И вот, наконец, жалована мне гуманная миссия — возвращение Шарли к разуму. Но какому? К так называемой нормальности? Той, что рано ли, поздно ли, но дозволит следовать путём, предначертанным всем прочим? Которая заставит о ней говорить, как «о во всём» согласной и сговорчивой девчонке? И когда она вернёт себе утраченный тот разум, он, что же, и сердце ей вытащит прежнее из того, но наново обретённого прошлого? Как можно из амнезии в жизнь вывести? Каков же тот шок, что может вызвать обратный щелчок, за которым снова в руках нить прежней жизни, как если бы ту никогда и не теряли? Как в паршивом кино, герой которого забывает вдруг о долгих скитаниях по безвестности и, как бы по мановению волшебной палочки, обретает вновь память в том её состоянии, в котором та была на момент потери всех прежних вех, самого себя, самой сути существа своего. Хватит ли мне времени, терпения подготовить её к «возвращению в себя саму», до минимума сведя «уборку» в её голове? Не должно ли подушки повсюду разложить для мягкости падения во вновь обретенную реальность? Пока ещё мы не в ней, но то, что имя моё слетело с губ её всего-то через неделю, позволяло мне надеяться и одновременно с тем бояться, что для облачения в старую, истинную личину много времени ей не понадобится. Не встретит ли Шарли меня проклятиями, гневно требуя убраться из её жизни в ближайшие же дни? Как бы там ни было, а обожаемая дурашка наша поправится и поймём мы, как поступать нам с правдой той, что явится пред нами на ковёр, да не такой уж и приглядной, какой мы её ожидаем, может статься. А Ролан? Он-то, что за игру разыгрывает? Что-то не пойму я, крал он её или не крал? Стоит ли верить мне показному благородству его?
Прогнувшись перед наказом, я и Шарли помогать принялся из-под палки. Как же мне теперь до центра добираться? Не мог я злоупотреблять ни дружбой Розарио, ни Пежо его; у него и без того дел не в проворот, мясника вот нужно разыскивать. И, уж тем более, раз поездки свои хотел сохранить в тайне, не смел я задействовать катафалк. Что до велика, так на нём туда, да обратно — все три четверти часа, и на Шарли у меня несколько минут лишь остаётся. К счастью, то, что я, нет не барщиной, но огорчением называл, небу было угодно свести до минимума, потому как центр Сен-Бернара оказался в двухстах метрах от вокзала в Манаже и всего-то две остановки пригородным поездом от Эн-Сент-Мартина. Еду вторым классом, мне не до шика. На первой же остановке заходит пожилой мужчина. Все места заняты. Он ко мне и просит, скорее даже настаивает, чтобы я место уступил. Осмеливаюсь заметить ему, что под оказание знаков уважения по возрасту подхожу не я один. Намекаю, в частности, на сидевшего напротив меня ретивого, полагавшего, что являет собой пример исполнения гражданского долга, солдатика. Старикан вздыбился и, призвав в свидетели весь вагон, заявил, что молодой тот солдат, мол, бельгиец и к тому же в своей собственной стране. Нос старика, видимо, натаскан на чужестранцев! Мне бы ему возразить: так мол и так, «я по-французски не хуже вашего говорю», но вместо того подавленно снимаюсь с места. Да и сэндвич мне сгрызть пора, да и добрался я уже, а значит у меня для протеже моей целый час времени, которым располагал я ежедневно в обеденный перерыв. Шарли, увидав меня одного, похоже удивлена. — Олан, — лепечет она, — доблый день, Олан. Вот те раз! Значит и р произносить правильно придётся ей заново научиться, говорю себе, мысленно закатывая рукава. Ролан исчез. Пьеретта, мамашка его заботливая, несколько недель уж не носит мне ризотто. Дитя на меня сбагрили, что называется. Ну, да это пустяк, я-то до конца пойду, жалобиться не стану. Просто слова «отвечать за других» смысл свой истинный обретут. Не совершу более ни единой, способной встревожить её глупости, пусть и придётся познать детский этот, со всей очевидностью отражавший смятение её разума лепет. Я вырву её из этого вторичного состояния с забитым тучами сознанием. И будь, что будет, но я готов стать для неё тем белым полотном, на котором смогла бы она по собственному разумению рисовать ли или малевать воспоминания, лишь бы те заняли в её сознании прежние свои места.
Не было у меня плана зондирования зыбучих песков, каковым являлся мозг Шарли. Вот и решил я идти к цели по наитию, роясь в предоставленных мне беспутной внебрачной сожительницей воспоминаниях с два годочка длинною. И принялся я обо всём справляться, толкования искал, фото какие-нибудь, слова, описания, в общем всё, что могло иметь отношение к ней. Даже журналы по психоанализу стал почитывать. В одном из них обнаружил соображение, согласно которому Шарли могла столкнуться с позабытым звеном из цепи неких имевших место в прошлом событий, что вызвало феномен supratemporalite, при котором одно действие не может быть совершено без воспоминания о другом, которое в свою очередь должно провоцировать первое. Я при том хотя бы новое слово узнал. Даёшь это самое supratemporalite! Речь на самом деле шла о новом обретении огня, с долгим трением куска твёрдой деревяшки о мягкую до тех самых пор, пока вырвавшаяся из глубины времён искра не станет пламенем. Разница лишь в том, что мне было ведомо о существовании у Шарли сознания, пусть и затуманенного, тогда как первому тому человеку мысль о терпеливом жесте, за которым явится огонь, пришла через указующий перст Господа. Мне нужна была консультация доктора Мишель, у которой на руках была история болезни Шарли. Укладывались ли в рамки назначенной ею терапии мною предпринятые хлопоты? Не шли ли они в разрез тому? Я изложил ей свои соображения, чем у неё лишь улыбку вызвал. Мне казалось, что Америку открываю, на деле же предлагал я самый обычный лечебный вариант, к которому она и сама склонялась. Просила уж даже мать Шарли принести ей всё, что могло бы быть значимым для того, чем оставалось сознание её дочери. Так что, мне предоставлялось явить свою волю полной мерой при непременном условии, что о своих хлопотах я стану извещать мадам Эрман. Усилия наши должны соответствовать друг другу и дополнять друг друга. С большим, нежели прежде усердием принялся я за изучение психоанализа, в частности шизофрении и нарушений памяти. Вечера напролёт не вылезал из местной муниципальной библиотеки. Познания при том мои, разумеется, оставались поверхностными и весьма нестойкими, но хотелось мне собственное своё мнение иметь. Я штудировал самого Фрейда, пытался разобраться, отчего же это Рейх[22], последователь его прямой, пришёл к противоречию с учителем и отошёл от того. Мне хотелось знать, кому я мог доверять. Так вот, могу сказать вам, что так и не смог избавиться от ощущения, что всё вычитанное мною касалось Шарли едва. Все те гримасы и искривления собственного я в борьбе с надо и сверх я, все эти отвергавшие любую ответственность за лишённое оснований содеянное сознание и подсознание отзывались во мне скепсисом. Ничего лучшего влечению всяким обычным явлениям имена ученых мужей приклеивать так и не надумали. Вы чешите низ живота по причине не то блох, не то нервного зуда, а вам говорят, что вы даёте волю courant orgonotique, что в переводе означает особую химическую реакцию в процессах подпитки либидо. И ничуть не меньше! Нет желания у меня педанта из себя изображать, да и термины эти все, по-настоящему не поняв их, прочёл я впервые в жизни и, тут же, конечно же, все их и поперезабывал бы, не сделай я пометок в своём дневнике. Однако, то, что касалось воссоздания перед «пациенткой» моей «словесных» картин и образов всяческих, должных вызвать внезапное прояснение её разрушенного сознания или же пробудить упрятанные в умерщвленной плоти эмоции, всё это казалось мне и рискованным и неадекватным. Чувствовал я, что истинную Шарли из хаоса заполнявших булькающую лаву её памяти мыслей может вызвать всего лишь одно некое слово или один единственный жест. Только, какое или какой из них верны? В котором из рыхлых пластов её бытия должно искать мне? В детстве ли, в девичестве ли, в бродяжничестве? Что бы и как бы там ни было, но единственно приемлемым вариантом лечения представлялись мне терпение, нежность и ребяческие забавы: считалки, шарады и прочие ребусы. Но достаточно ли сберёг я в себе той самой нежности? Я задумался и ответил себе искренно: нежности — да, а вот любви — не знаю. Вот только, как высказался про то Роланд, не о любви речь нынче шла, но об участии к попавшей в паутину умственного угасания. Лицо Шарли походило на маску уныния и страха. Даже улыбка и та не стирала душераздирающего сего выражения. И как вернуть ему прежние, разумные его черты?
В течение двух недель навещал я её ежедневно. Ни разу не дала она повода подумать, что ждала меня, что рада мне. Всякий раз встречала меня так, как если бы я вернулся из соседней комнаты, с непреходящей и обескураживающей апатией: «Доблый день, Олан!» И решил я схватить быка за рога, и взял в прокат виолончель. С благословения Легэ заимствовал я служебный катафалк, с открытой, по причине исключительности момента, крышей. Прибытие моё в Сен-Бернар обернулось, как вы сами понимаете, сенсацией! Особенно, когда вытащил я на свет божий виолончельный футляр, смахивавший на небольшой детский гроб. Только на сей раз дроги везли на себе радостную ношу. Вот я и перед Шарли. Она не говорит ни слова, но берёт виолончель, устраивается на единственном в палате стуле и пристраивает инструмент между колен. Протягиваю ей смычок, она прикрывает глаза… и взмывает. Узнаю сюиту № 1 соль-мажор Баха, которую она играет по памяти, всем существом своим играет. Так непередаваемо играла она у меня. Все затворницы пансиона слиплись у дверей, откуда выплёскивались ноты, заполняли собой коридор и перемешивались с зависшими в нём грёзами и кошмарами. Несчастные девы вглядывались в плывущую над ними музыку и провожали её взглядом вплоть до полуоткрытого окна, через которое та устремлялась наружу и взлетала к небесам. Ну да, всё это я излагаю вам по-своему, как мне на ум приходит. И вы вольны посмеяться над этими остолбеневшими в выразительной своей и молчаливой прострации несчастными. Мог бы я повествование и укоротить, удержаться, так сказать, от подробностей, изложить одну лишь суть. Но! Когда в воцарившейся вокруг тишине смычок её начертал последний завиток финального аккорда и прежде того, как вздрогнуть под непосредственными в проявлении своём аплодисментами сестёр своих по дурным привычкам, на превосходном французском успела она обронить: «Растренированы пальчики мои, слегка». — Да нет, же, — отвечал я ей глупо, но искренне, — это здорово было и очень трогательно. Она встала, уложила виолончель на бок, а сама прошла к постели и села на неё. Было уже поздно, взор её снова затерялся в небытие. Она улыбнулась мне и произнесла моё имя: «Шюльен». Меня пробрал озноб. Слово то стало последним вылетевшим в тот день из её прекрасных уст. Лечащая врач-психолог, полная впечатлений, проводила меня до выхода, и я поинтересовался у неё, не приспело ли время покончить с назначенным ранее препаратом Haldol, более известным под именем «таблеточная форма смирительной рубашки».
И с чего это я решил, что обидчиком Шарли был Фернан? Не знаю. Это, как любовь с первого взгляда, только наоборот, в общем, всего не объяснишь. Так же, как с верой в Бога, шансов оказаться правым — пятьдесят на пятьдесят, потому-то и лишь немногие отваживаются ставить на кон, под полуправду эту, свою жизнь. Прозрение апостола Павла случилось на пути в Дамаск, я же распознал в Фернане дьявола на красном светофоре. Вёл, как-то, наш катафалк я, шеф дремал на пассажирском сиденье. Разглядывая перекрёсток, с намерением проскочить его на зелёный свет, отметил я в поле своего зрения и профиль Легэ. На шоссе выбежала какая-то лицеистка в мини юбке, и лицо Фернана, зеленоватого отсвета и с налётом явной похоти, обернулось в мою сторону. Он ждал от меня поддержки ходу своих наигнуснейших мыслей, но я принял вид недотёпы, хотя и представил себе при том бесстыдные и пошлые его руки, руки инквизитора. Подумал я и о дочери его, о предначертанном ему кресте и понял, что человек этот неисправим, что не изгнан из него засевший в нём монстр и насильник, готовый к прыжку на всякую ослабшую, отчаявшуюся жертву, каковой, верно, была и Шарли в тот вечер, первого ноября. И припомнилось мне лицо Фернана утром того понедельника, следовавшего за памятными траурными выходными, с пьянкой моей от отчаяния, попыткой суицида отравлением газом и обжорством ризотто. Случилось это на следующий день за нападением, порушившим рассудок женщине всей моей тогдашней жизни. Память моя, будто объектив камеры, «наехала» на наклеенный поперёк щеки Фернана пластырь… Он скрывал не порез от бритвы, как мне тогда подумалось, а следы ногтей бедняжки Шарли. Нутром это я осознал, хотя доказать не смог бы никогда. В очередной раз я едва сдержал свой гнев, перешедший в тошноту. Легэ, заметив мою бледность, поинтересовался, всё ли со мной в порядке. «Малость притомился», — ответил я. А, совершенный во всех отношениях, шеф предложил уступить ему руль. Я же съёжился на пассажирском сиденье, представив себе Фернана повешенным на виселице и со ртом, набитым отрезанными гениталиями его. Чуть погодя получил Фернан первую из верёвок, что, должно быть, и довело его до кончины. Судьба порой выкидывает и не такие коленца.
Ролан куда-то запропастился и не скажу, чтобы мне его не хватало. Однажды, правда, мы пересеклись и я, желая его реакцию пронаблюдать, как бы уже при расставании, поведал ему о как бы странном случае, рассчитывая при том на его чутьё проходимца с чутким сердцем, от чего ему никак не удавалось избавиться. Как-то раз, при встрече в парке всё того же медцентра, собрался я уж уходить, потому как Шарли пора было возвращаться в палату, но она обернулась вдруг ко мне и сказала: — Постой, Фавли боится ствафнава мсье. И я рискнул задать вертевшийся на языке вопрос: — Ты что же, того, кто зло тебе причинил, знаешь? Вышло всё, похоже, неуклюже, и вся она как-то съёжилась, но сидевшая глубоко внутри неё девчушка всё же ответила, поглаживая животик: — Да, ствафный мсье… и квафное пятно, вот тут. Как вы, должно быть, заметили, режиссирует всё лишь случай, дерзкая креативность коего превосходит всяческое воображение. Ответ Шарли высветлил для меня одно воспоминание, им-то я с вами и поделюсь. Во времена нашей, как гласила о том вездесущая молва, помолвки Франсуаз Легэ навязала мне, как-то, визит к своей бабуле по отцовской линии, дабы представить той будущего, во всех отношениях совершенного муженька, каковым, видимо, я в ту пору ей ещё представлялся. Бравая дамочка потчевала нас меню из исторического прошлого своего сыночка, в общих чертах, с моих слов, вам уже знакомым. Когда же мы раскланивались, она уж на пороге прошамкала вдруг: «Д’э туди сю к’ем джамбо оро дель шанс, иль а ен’гросе тас де вэнь’сю панс!», что означало: «Я всегда знала, что моего мальчика ждёт удача, не даром же на животе у него большое винное пятно видно». Не могу передать кисловатости её смеха, оттенявшего ту тираду. Тогда анатомической сей детали не придал я никакого значения, но стоило Шарли перепоручить мне воспоминание об одной единственной примете своего обидчика, как мозг мой обволокло тяжкой кровавой тучей.
С позволения руководства заведения забрал я Шарли на воскресную прогулку. Розарио уступил мне для того свою машину. Странно, и весьма, оказаться вдруг наедине с той, кого столь долго дожидаешься без дозволения ни в объятия свои принять, ни перед кем тревогу да отчаяние в одиночестве ночном не отвести. Ирония судьбы, вряд ли иначе, но надобность во мне была лишь для того, чтобы пособить ей вновь обрести ту самую трезвость ума, которая вновь потребовала бы от неё моего изгнания. Ну, что ж, сказал я себе самому, старая это всё история, теперь же речь о том, как запутать возможного её обидчика. У меня в голове был чёткий план. Я знал, что обедать Фернан завёл в привычку в некой укромной загородной харчевне Фезандри, на берегу пруда во Вьё Марэ. По прибытии на место, я оставил машину на огибавшей пруд дорожке в нескольких метрах от белого, увитого диким виноградом фасада. Красота, да и только. Мы прошли во дворик. Там стоял Мерседес Фернана, точь-в-точь такой же, как и виденный Пьереттой, и в который садилась Шарли. Теперь же, она на него даже не взглянула. Бойца нашего обнаружили мы за столиком на террасе, в окружении матери и нескольких приятелей. Незаметно я и указал Шарли на Легэ. Одет тот был в троакар, сидел склонившись лицом к тарелке. Она, пристально вглядываясь в него, направилась в его сторону. Я уж было подумал, что она подойдёт к самому столику, но Шарли остановилась в нескольких шагах, продолжая разглядывать его. Я же осторожно схоронился за фонтаном, оживлявшим обветшалую романтичную обстановку, лучшего места не нашлось. Не стану утверждать, что Фернан не догадывался о присутствии Шарли. А если всё было и не так, не думаю, что он признал бы её, настолько не походила она на ту панкетку с ирокезом, на которую он, должно быть, напал. Секунд двадцать спустя, Шарли отвела взгляд и возвратилась ко мне, глаза её всё это время оставались недвижными. Удалились мы скрытно, как и вошли. В машине, прикрыв обеими ладошками лицо, она принялась вдруг дрожать. «Злой мсье, удалил Шарли». Сомнений у меня больше не оставалось.
Разумеется, абсолютным доказательством вины всё это, как заметил Розарио при возвращении ему его авто, не являлось. Он заявил о слабости аргументации, с его слов покоившейся единственно на интуиции, да на вольном, за уши притянутом толковании возникшего в воспалённом мозгу умом тронутой девицы воспоминания. Ну, да, говорил он мне, именно этими её беспощадными словами в любом суде любой адвокат защиты любому прокурору рот-то и заткнёт. Только и сам Розарио, он же по рукам и ногам связан с Легэ, сам же во множестве, да на грани фола оказывал тому мелкие услуги, пусть всякий раз и оказывался безоружен перед его юмором… весьма, отметим мы, сомнительного свойства, однако.
Однако, ручеёк предположений моих обрёл тем временем уверенность, поскольку Пьеретта плеснула на мельницу мою целой рекой, пусть то и была Эн. По весьма тонким намёкам понял я, что мадам Дюпре тайно практиковала старейшее из ремёсел. С возрастом, едва приметным, зародилась в ней тяга к респектабельности. Не в состоянии изменить жизнь кардинально, взялась она за роль распорядительницы. В каком-то смысле в том преуспела — годы службы по увеселению человечества, занятия репутации пускай и сомнительной, но в некоторых подобных заведениях и содержания весьма вычурного, флуоресцирующий товар которых во множестве своём отбрасывает на мостовые Бельгии манящий интригой цвет индиго, даровали ей ореол власти. Основное владение, вотчина её, оплаченная с её же грудей испариной, обзывалась Blue Night. Располагала мадам и постоянной резиденцией в респектабельном Морланвельце, прямо против замка Маримонт. В поросший каштанами Ситэ, где в своё время сама преуспевала и куда, благодаря связям, от суеты и лишних глаз сына-гангстера припрятала, являлась она лишь с тем, чтобы собаку покормить, не пожелав в собственном доме ту держать, да за мной, как я понял, присмотреть. Но, и бывая в Ситэ лишь наскоком, Пьеретта щедрым сердцем своим расположила-таки к себе одну из соседок, напоминавшую ей о былом славную Джузеппину, дамочку в черном манто, о грустном финале которой я вам рассказывал. Принявшая участие в похоронах бедняжки, признала Пьеретта в Фернане преданного посетителя известных апартаментов призванной тем днём на высший суд. Так-то вот, дорогой наш Фернан. Тогда же вечером, сидя у меня, поинтересовалась она, что это за тип сидел на пассажирском сиденье катафалка. Я ответил, что то, мол, был мой патрон. Предпочёл расплатиться, не дожидаясь весточки от щеголявшего безденежьем вдовца. — О, как это мило с его стороны, — заметила она. — Таков уж он, грязный этот развратник. — Вы его знаете? — А как же! И поведала она мне о некоторых неочевидных извращениях нашего Мефисто, в том числе и о его привычке душить раздатчиц удовольствия, и те порой были вынуждены брыкаться и вопить, взывая к его разуму, настолько вживался он в свои патологические фантазии, обуреваемый страстью. Похлопывая себя по животу, повествовала она мне и об одной неудачной затее его, в которой тот стал жертвой одной из присланных ею в загородный дом к нему девиц. Фернан очень любил пошалить. Той ночью, он приковал щедро оплаченную по такому случаю партнёршу к изголовью медной кровати. В мини плавках, имитировавших шкуру леопарда, влез он на нормандский шкаф, откуда хотел сигануть на матрас, освободить красавицу и радость той доставить. Но, трах, бабах! Крыша проломилась, и оказался Фернан внутри шкафа, запертого снаружи на ключ, тот в замочной скважине торчал. Девица недвижна, Фернан со сломанной ногой наверх выбраться не смог. Парочка тот ещё концерт задала, но… дом, по желанию самого хозяина, оказался на отшибе, дверца же шкафа — на редкость прочной. Случилось то вечером… в пятницу, прислуга же явилась… лишь поутру… в понедельник. Правда, выходные, проведённые с полным воздержанием от пищи, застольной и сексуальной, никому пока что вреда не приносили… — И давно это было? — Да, несколько уж лет прошло. После того я его из виду потеряла, потому как воспитанницы мои слышать о нём не желали, даже за двойную плату. И потом, им это всякий раз стоило трусиков — маньяк забирал их с собой, в коллекцию. Если хочешь знать, я вычеркнула его из списка, потому что этот пройдоха от раза к разу требовал кошечек всё моложе и моложе, и, когда обозначилась граница сознательного возраста, тут уж их согласие перевалило за мои полномочия, там уж полиция нравов замаячила. И Пьеретта рассмеялась. Пускай и я не с неба свалился, но сей штрих из биографии Фернана (а представление о ней я уже имел — Франсуаз об инцесте, к чему не год и не два отец её принуждал, мне уже поведала) заставил-таки и меня содрогнуться от ужаса.
Лёгкие недомогания следовали у Легэ одно за другим, но так, что семейный врач в точности не понимал, чему их приписывать. У него случались «перебои» со сном, страдал он ими не год и не два. Самым безобидным из возможных суждений о том забавном феномене было то, что не утомлял он своего хозяина. А с некоторых пор, не без помощи всё того же прогресса, проблема его кое-как разрешилась — в изголовье кровати смонтировали ему кислородную маску, на гибких шлангах и со всей причитавшейся для неё автоматикой. С трудом перенося поначалу, он в конце концов пообвыкся и вновь обрёл безмятежный сон. Так что, причиной упадка стало нечто иное. Естественно, в ход дел предприятия настойчиво принялась вмешиваться Франсуаз, не взирая при том на курсы гимнастики. Повсюду, да такую насадила она власть, что оказался я крепко накрепко к креслу своему приклеенным. Голос её обрёл уверенность и звучал презрением, особенно когда произносила она итальянское имя моё — Джулиано, но с ударением по-французски, на последнем слоге, Джулиано-о! Всякий раз хотелось мне при том пнуть её ногой в зад, а в особенности, когда являлся этот её Жан-Ги, чтобы увезти на уроки физического воспитания. Хм, гимнастка, как бы не так! С каких же это пор тренер учениц на дому забирает? Не знаю, стоит ли мне сожалеть о тех временах, когда она, ласкаясь, угощала меня чашечкой кофе, теперь в нём, конечно же, было мне отказано. Беду свою воспринял я смиренно, убеждая себя, будто, исполнив обязательства перед Шарли, прозрел, и, тем самым, дал добро на достойный исход своей гордости… италийского крестьянина. Только чуял я, что со дня на день обстоятельства могут заставить меня отмахнуться от всякой логики и отступить перед набухшей во мне импульсивности. Я ясно ощущал, что при Легэ-дочери карьерные шансы мои сводились к нулю, потому как понимал, что проделки милейшего Жан-Ги направлены на всё более глубокое внедрение под юбку мадмуазель Легэ, а вместе с тем, несомненно, и в фирму. Э-эх! Раньше, до того как с Weight Watchers[23] на алтарь кокетства столько-то кило с самой себя было ею жертвовано, она мне больше нравилась. Наверняка, те кило, перемешавшись с тысячами тонн плоти, утерянной всеми бельгийскими толстушками, пошли на возведение мола вдоль побережья Северного моря, где и предстоит мне отныне давить на педали своего вело в поджидавшей меня круговерти ностальгических воспоминаний о былом. В голове же своей страницу ту я уже перелистнул — прощай, Франсуаз Легэ. Выглядел Фернан всё хуже и хуже, дух его явно пал. Как и все вокруг, мог ли я о том что-либо говорить? Спал он при зажженном свете и вполуха, ожидал обещанного ему фатального удара, ночи напролёт продумывал уловку за уловкой, что в могилу его могли бы свести. Миновав все ловушки, он кое-как, часто уж с первыми проблесками рассвета, и засыпал. Вот и той драматичной ночью, пережив настойчивые атаки со стороны совести, верно, полагал он вернуться в постель. А Ролан, он что же, просто бахвалился, обещая заставить пережить неприятную минуту того, кто приговорил нашу Шарли к бесконечной ссылке в анахронизм детства? Может быть, может быть… Прав ли был я, своими подозрениями насчёт Легэ с ним делясь? А Розарио? Он что же, посмел прослушать столь обстоятельное обвинение моё в адрес бывшего своего патрона и отреагировал на него никак, или как-то вскользь? Заумным и волнительным языком оповещений об опасности Фернан баловался регулярно, инспектор же Беллясе почитал за удовольствие перелагать его на понятный всем лад. И что же, сицилийскому нашему шпику не ведомо толкование того, что было им же и состряпано? А не пришло ли ему тут же на ум, что среди жертв «прагматизма» Фернана фигурировал и собственный его кузен, сын брата матери его, который в шестидесятые годы был выдворен на Сицилию с юной женой и всеми, связанными в узлы пожитками? Бедолага не смог выплатить долг заведению Легэ, подбившему того на самое шикарное из имевшихся вариантов погребения бедного папаши, погибшего при взрыве рудничного газа. А мать Розарио, она что же не обучила сына каким-нибудь сицилийско-мафиозным обычаям, щедро сдобренным лучшими из порчи? Со времён разбитой фарфоровой чашки я знавал её, как способную на весьма странные поступки. Разве вендетта, в противоположность спагетти, не то блюдо, что употребляют холодным? И было ли во всем этом что-то действительно сицилийское? Если же нет, то как объяснить разграбление сада на вилле Легэ, ставшее предвестником неминуемого несчастья, о чём я совсем недавно вам рассказывал? А то нападение, когда патрона просто-таки за ухо укусили, а это, вы ж понимаете, почти что: «Фернан, ты скоро умрёшь», — его кому приписывать? А с чем рифмовать ту козью голову, что найдена была им у дверей своей виллы; голова была срезана не только по шее, но и вдоль промеж глаз так, чтобы лишь профиль окровавленный при этом оставался. «Ты не человек, Фернан», — как бы блеяла бедная коза. И это не всё… почему это какой-то незнакомец, присев в кафе Тишина за один с ним столик и глядя ему прямо в глаза, с явным вызовом облизывал лезвие своего ножа? Все эти, вместе взятые, изъявления чьей-то воли подтолкнуть Фернана к выходу, все эти сводящиеся к одной и той же идее остроты, разве они не сказались в конце концов на нормальном ходе событий? Не могли ли они, к примеру, как-то ослабить одну из ножек ничего не ведавшего стула, призванного к соучастию в эксперименте, сколь извращённом, столь и опасном же? Юрий Геллер, знаменитый в семидесятых годах иллюзионист, гнул ложки на расстоянии, не касаясь тех руками, одним усилием воли, как он утверждал. Конечно же, то был трюк, но ложки-то гнулись. Может, в нашем случае то же самое произошло. Поди ж ты, узнай…
Известный закон омерты, помимо всего прочего, гласит — нарушившему честь, случись тому избежать и официального, и приватного правосудия, обязательно предусмотрит судьба инструмент мести, по большей части маскирующийся под друга. И потом: «Коли знаешь врага своего, ты сперва воспламени его, а затем уж гаси!» Только, вот, о каком друге речь-то теперь идет? Обо мне? Подумать только! С моей стороны это было бы… ну, очень неблагодарно, я всем Фернану обязан — он меня поддержал, зятем стать предложил, дело своё мне передать собирался и так всё устроил, что у Шарли на меня причин сердиться не оставалось.
Ужас перед сим мечом Дамокла, он что же, был единственной причиной показушного заката здоровья Фернана или как? А мог ли этот один лишь нутряной, неподконтрольный, непреходящий, прыгающий из мрака предвестницей судьбы и всякий раз наотмашь бьющий страх привести к непроходимости артерий по причине отложений на их стенках самого неприятного из холестеринов, стрессовых? Даже будучи вдалеке от рассвета молодости своей, он всё же мог страстно в неё влюбиться, да так, что, по случаю, и похитил её… Перемножьте-ка шестьдесят три года возраста на пристрастие к вкусной трапезе при отменной выпивке, припомните ставшие совсем недавно известными нам регулярные визиты к этим вроде бы врачевательницам и вы без труда поймёте, что трепещущее его бытие не должно обходиться без лёгкой одышки на подъёмах и может позволить себе несколько экстрасистол невзгод, замыкавших порочный круг и вскармливающих собою первобытный страх. Так не был ли Фернан по-любому приговорён? Возможно судьба и в самом деле решила, что так тому и быть, изменчивой той судьбе, столь искусной выдумщице, лик свой скрывающей под личиной то случая, то фатума, неотвратимости или же незадачи, ни малейшего труда не стоило над беднягой Фернаном подтрунить, подставив тому шаткий стульчишко. Шутка такая же бестактная, что и захлёст веревки. А прислать верёвку на вроде предписания кому-то пойти на ней и повеситься, это-то что за примитив, что за варварство-то такое?! Впрочем, и в том я уверен, Фернан утешился бы, узнай он, хотя бы и посмертно, что вскорости будет явлен миру и невольный автор невинного промаха, вызвавшего у него закипание в мозгу. Объяснение пришло в виде письма фирмы «Мебель от Дюжарден». Прежде всего директор её приносил извинение за причинение возможных неудобств, обусловленных имевшей место определённой путаницы. При том ещё и требовал возвращения партии верёвок, ошибочно высланных по месту жительства Фернана. Когда же мы, я и Франсуаз, возвращали эти верёвки, наткнувшись на них в сараюхе с садовым инвентарём, мсье Дюжарден-сын пояснил нам, что речь шла о сбое в работе автомата, считывавшего почтовые индексы. Не будем забывать, что Фернан, сбывая гробы, официально носил статус торговца мебелью. Вот отчего патрон мой и получал один образец веревочных качелей за другим, пока не пришла, на конец, целая коробка их, правда, заказанная каким-то торговцем розницы. Увы и ах, только, вот, даже если бы тот, скажем так, неразумный автомат (не говорить же нам про автомат, что тот разумом наделён) хранил бы в памяти своей адрес коммерсанта на самом деле имевшего отношение к предмету, то и тогда бы ни за что не ведал, что одна из пустяковых его команд, квалифицированная к тому же как «досадный сбой», спровоцирует сдвоенную отправку, а та в свою очередь приведёт к драме, о чём мсье Дюжарден весьма сожалел. Отнесём же недоразумение сиё на счет одной из ошибок в сфере информатики, совершенно новой действительности, делавшей в ту пору лишь первые свои шаги.
В глубокой скорби препроводили мы Фернана к последней его обители. Мы — это Розарио, Ролан (получив уведомлёние о кончине, тот не смог упустить случая припомнить небезызвестный роман Вернона Салливана, сиречь Бориса Виана «Я приду плюнуть на ваши могилы»), Франсуаз, чуть поодаль Жан-Ги, Легэ мадам, Фирмэн и я. Ну, да, как же без меня, я же весь этот погребальный обряд и оркеструю, роль дольщика исполняю. Одной лишь Шарли не достаёт, она не закапывала палача своего и не обронила посему нескольких, по-детски жалостных слезинок. Фирмэн проделал отличную работёнку, удалось ему стереть с лица Фернана гримасу голой правды о повешении и вместо неё смастерить тому посмертную маску, в которой смотрелся дорогой наш патрон задумчивым и лукавым, едва не готовым попотчевать нас одним из неотразимых своих афоризмов по поводу несчётности числа путников в мир иной, почтивших за честь указать туда дорогу и ему. Гробы Легэ обожал эбеновые, неизменно держал один в витрине. Отдавало шиком и состоятельностью. Бывал несказанно счастлив, найдя приобретателя, потому как и для самого те являлисьвесьма серьёзным обременением. И теперь ещё слышу его возглас: «Этот мертвяк, вот он-то толк в жизни знал!» Помнили мы о его преференциях и вняли чаяниям его — ютился Фернан, о чём и мечтал, в гробу чёрном. Пусть распорядитель, засверливая углубление для заливки восковой печати, и опешил слегка, опилки-то при том сыпались белые. Эбеновое дерево оказалось фальшью, каналья Фернан! И скольким же это клиентам всучил ты подобные ларцы драгоценные, ведая цену, которую платил сам при покупке, в то время как мне известна была лишь их заоблачная отпускная? Но, вот попался и сам ты на свою же удочку. Не было у тебя времени в этот раз, чтобы самолично отверстия те засверлить и тщательно их тут же зачернить, пряча аномалию сию. И близко не знавший тебя распорядитель тот решил, что обманули-то тебя! Шляпка с вуалью на Франсуаз не пропускала ни одного из тех чувств, что она с достоинством хранила лишь для себя самой. Плакала ли она? Несомненны были лишь слёзы опиравшейся на её руку бабушки, скатывались те в обилии достаточном, чтобы залить и грудь наследницы, да так, что в глазах на редкость жидкой публики церкви святого Мартина выглядело всё глубокой семейной печалью. Не выразила ль разве она горесть свою чрез огромный венок, лента которого золотом букв кричала всякому, кто хотел услышать: «Незабвенному отцу моему… Всё в невысказанном!» Бравый кюре в заупокойной мессе, сопроводив ту хвалебной и пламенной речью, призвал увековечить память Фернана подобием бриллианту чистой воды, в смысле деловой добросовестности и человеколюбия. Не он ли, дескать, перешёл в мир божественного света в момент исправления неполадки света обыденного? Разве притом не пнул ногою своею сам Господь Бог того? Почтенный малый решительно ничегошеньки не знал о роли, сыгранной куда как более обыденной ногой столь же обыденного стула. Мы же, то бишь весь клан Легэ, нашли Фернана вовсе ранее нам неведомым и были столь растроганы, что хором зашлись в судорожном кашле, не взирая на сочувственное присутствие помощника мэра, двух-трёх зевак, некоторых родственников, полицейских в цивильном и малом числе, да нескольких озабоченных поставщиков, свидетельствовавших перед мадмуазель Легэ своё присутствие, дабы та не позабыла о них в предстоящем ей руководстве предприятием. Все мы затем оказались в кафе Тишина и выпили за добрую память о Фернане Легэ. Фернанд умер, да здравствует Фернан! Через час с небольшим матушка Легэ заседание закрыла. Франсуаз, Фирмэн и прочая родня последовали за ней, мы же пожелали им не падать духом. И вот, за столом осталась лишь странная троица — жандарм Розарио, вор Ролан и я, конспиратор. Про таких говорят, рыбак рыбака видит издалека. Как бы сообща смаковали мы ликование во исполнение долга, хотя каждый в отдельности сознавал преобладающую роль самого Фернана в приближении собственной же кончины. Каждый сокрушенно сказывал, каясь в грехах, о скромном своём участии в невинной травле Легэ. Мы клялись друг другу более не прибегать к шуткам с последствиями столь же непредвиденными, сколь и досадными. Дабы излишне не удивлять итак уж украдкой посматривающих на нас клиентов из-за чрезмерной пламенности только что озвученного нами раскаяния, мы принялись за импровизацию посмертной, особым родом состряпанной хвалы своей жертве, словно бы с нами же и сидевшей. Один из нас со стаканом пива в руке объявлял громко, так чтобы слышно было всему кафе, некий обращённый к Фернану тост. В то же самое время двое других едва слышно продолжали его, и всё вместе должно было звучать в рифму. Вот что из этого получалось:
громко — Бывал он мужчиною бравого вида, тихо — Да прятал помойку костюмчик из твида, хором — За тебя, Фернан! громко — Слыл славным он, прямым и честным, тихо — Свиньёй, однако, был, повеса, хором — За тебя, Фернан! громко — С рожденья до кончины, тихо — Беспутствовал скотина хором — За тебя, Фернан! Давай, ещё по одной; веселись, кто как может… громко — Ты ушёл, не бросив нам и тихого прощай тихо — Баба с воза — пони легче, старый негодяй, хором — За тебя Фернан!
Вот видите, ничего ж скверного. И никаких нотаций, заметьте, просто чокнулись с Фернаном, и всё тут. После третьей бутылки Gueuze Lambic[24], предложил я компаньонам своим по печали наведаться в охотничий домик искусного грабителя нашего. Так уж он обожал этих своих козочек, телок, не очень-то диких гусынь и не слишком говорливых пав, что в частном музее своём должен был хранить что-нибудь трофейное, отчего визит наш туда мог стать, если и не доказательным, зато познавательным хотя бы. Незачем, думаю я, уточнять вам, что адрес побочной той резиденции дорогого нашего без вести пропавшего сообщила мне Пьеретта: дом 19, по улице Ласточек. Трогательно-то как! И вот, снова мы, правда уже на другом берегу пруда, во Вьё Марэ, откуда видна мне вывеска Фезандри.
Присутствие на похоронах Ролана нас, меня и Розарио, по меньшей мере удивило. Однако, тот доходчиво втолковал нам, как случившаяся с Шарли беда тронула его. Потому-то ни за что и не хотелось ему, чтобы сорвалось предание виновника её земле. Он нам даже симпатичным едва не показался, столь рьяно предлагал познания свои к услуге в общем деле. Мы проходим шикарную, забранную в дерево кухню, и оказываемся в просторной комнате отдыха с состаренными потолочными балками и увешанными фаянсовыми тарелками с буколическими картинками стенами, выбеленными штукатуркой. По одну сторону комнаты устроена столовая с дубовым гарнитуром, по другую — канапе и пара кресел в коже цвета бордо, стоявших прямо напротив внушительного камина с экраном, дровницей, кремальером, на котором блистали медью сковороды, котелки и целое семейство кастрюль. Квадрат белого меха на мощеном провансальским камнем полу завершал убранство, в стиле «безыскусной деревни», тихого сего пристанища мсье Легэ. Заинтригованные слегка, мы переглянулись. «И это, что же, всё..?» — подумалось нам хором. Некая дверь привела нас в коридор с парой пристроившихся друг за дружкой комнат и ещё двух ванн. Первая из комнат классическим деревенским стилем своим, без всяких там надежд на какие-либо сюрпризы, как бы продолжала дом. Вторая же дверь открывала вход в совсем иной, в потаённый мир Фернана. Не оставалось ни малейшего сомнения, что мы оказались на театральных подмостках мерзостей его. Настенный бархат с оттенком фуксии отражением своим в огромном зеркале подкрашивал в розовое и потолок, и забранные в золочёные рамы плутоватые гравюры — фривольность сочилось здесь отовсюду. Гигантский телевизионный экран внушал доверия не более остальной меблировки. Выстроенные, словно на параде, на полке под видеомагнитофоном фильмы пятидесятых годов со всеми этими Бурвилями, Рему, Фернанделями, Габэнами и иже с ними, для пристойных показались нам слишком заумными. Что уж тут говорить об огромных размеров кровати со шкурами, обозревать которую не мог я, не припоминая рассказанную Пьереттой анекдотическую историю, и потому виделась она мне лишь машиной для истязаний. Тут же ютился импозантный и крепкий, как тюремная дверь, пленивший Фернана нормандский шкаф. Ну, не полная ли скотина? Со всяческой предосторожностью и с помощью подвернувшейся под руку металлической проволоки Ролан ловко извлёк на свет божий все его секреты. Мы знали, что мерзавец наш тяготел ещё и к фетишу, стало быть, и добытые им в боях трофеи следовало искать повсюду. За дверцами шкафа по одну сторону висели несколько костюмов, по другую громоздилась стопка выдвижных ящиков. Один за другим мы их и открыли. В первом, нисколько не удивившись, обнаружили мы кассеты с выразительными надписями и наклеенными фотографиями оголивших все свои прелести девиц. Во втором лежали разные инструментарии, живописать их я поостерегусь, но вы сможете найти это во всяком настырно зазывающем к себе клиентов секс-шопе. А третий, вот уж сюрприз, так сюрприз, забит женским исподним — тут тебе и трусики, и лямочки, и лифчики. Со всей очевидностью, мсье прослыл знатоком, вроде меня, в бытность мою продавцом тонкого белья, хотя большинство из лежавших передо мной моделей отпугнули бы стыдливых моих клиенток материнского роду племени. На глазах у остолбеневших партнёров я опустошил ящик с диковинами прямо на кровать. Боже ж мой! Не уж-то есть женщины, способные всё это носить? Вопреки моему протесту, Розарио, всё ещё пребывая в эйфории от Gueuze Lambic, тут же запал на ярко красные трусики с чёрным пояском и разрезом по середке. Пускай на сей момент рядом с вами и лишь некий давнишний уголовник, да экс иль может быть и будущий могильщик, но, всё ж таки, мсье инспектор, ведите себя, пожалуйста, прилично. И средь всей этой кучи сиреневых, чёрненьких, розовых, полосатеньких под тигра или зебру, в перьях и прочая, явился нам крохотный кусочек нежной, деликатной, поэтичной ткани — трусики La Perla, цвет персиковый, модель 052–030, размер 38. Уже вечером вернулись мы на кладбище, отдать Фернану последние почести. На одну из перекладин креста из черного порфира, торжественно торчавшего в его семейном склепе, те крохотные трусики La Perla мы и нацепили.
И остался я наедине с величавой Шадиёй. Сохраняя собственную значимость, разглядываю потолок, тупо всматриваясь в завитки лепных розеток. — Так вы… Я живо перебиваю её: — Практикуюсь в похоронных обрядах. — Пьеретта говорила мне, что вы ещё… и деревья голубые рисуете, я их обожаю. Такие Арман Гийомен великолепно рисовал, и Ротлюф, и Кирхнер, немецкие экспрессионисты. Я ошалело, во все глаза смотрю на Шадию. — Вы что же, живопись любите? — У меня диплом по истории искусств. — А как же… здесь-то вы оказались? Она не ответила, как бы в шутку, «случайно». — Очарована Тулуз-Лотреком, как-то встретиться с ним хотелось, а где, как не в подобных домах, могу я его сыскать? Вот те на, ещё и ясновидящая, думал я, потупив взгляд на сплетённые на своих же бедрах руках. — Да, ладно, шучу. Я из Алжира сбежала, там, как вы знаете, женщине незачем много знать и, уж тем более, западное искусство, оно там считается вообще сатанинским. — А всякое сатанинское есть… — присоединилась к нам приплывшая с фужерами и шампанским Пьеретта. — Сатана! — отвечал я. — Пьеретта, вы несносны. — Здесь, в Бельгии, — продолжала Шадия, — хоть я и кабила, родом из Джуджура, для всех останусь лишь иммигранткой из Магриба, как и прочие пригодной только для работы на кухне, да для танца живота. Два года удостоверения личности дожидаюсь, но власти отказывают мне в статусе политической беженки. А отсутствие разрешения на постоянное проживание сказывается в проблемах повседневного быта. Жильё снимаю и плачу за него намного больше, чем соседка по площадке, бельгийка, потому что не приходится мне терпеть неудобств присутствия у себя под боком африканки. А мне нужно ещё и проблему с работой решать. Вот я и собрала для себя воедино две задачи: мадам Дюпре по доброте своей взяла меня к себе как танцовщицу, но числюсь я у неё как кухарка — властей это больше устраивает. Так и забавляюсь, в ожидании лучшего. Вскоре, кстати, я для вас и станцую. — Для меня? — Смотри, он краснеет, что за прелесть, — заметила Пьеретта Шадии, и та удалилась. — Она с нами не выпьет? — Нет, она же мусульманка. И не бойся, здесь она только танцует, но последний танец, если захочешь, может оставить за тобой. И тихо напела, из Далиды: «Оставь последний танец для меня…», подняв свой бокал. Я ей подыграл: — За вас! — Счастливого дня рождения! — Очень мило с вашей стороны вспомнить о том, но это будет завтра. — Я знаю, но завтра день поминок, не правда ли забавно… — Но вместе с тем и день рождения вашего сына. — Да, да, я помню, но не будем об этом. Сегодня вечером — ты мой сын. Собрав всё своё мужество в кулак, я бросился в атаку: — А ведь вы уже несколько месяцев шпионите за мной. — Месяцев… не совсем обычных. — Не один ли чёрт? — Сказано же: «любящий да последует за мной», я за тобой и иду, потому что люблю очень, не то всё бы давно бросила. А поскольку была прислугой у тебя, то всё к твоей лишь пользе и делала. — Так, по-вашему, я должен почитать за счастье, что стал предметом вашего внимания? — Вот именно, малыш, и у меня вопреки всему впечатление сложилось, будто я… ну, очень во время постучалась в твою дверь, помешав тебе большую глупость сотворить. — Да, ну! Только, я что-то ничего не припомню. — Ну, да! Ищи дураков! Ах, в какую передрягу ты без меня вляпался бы, с газом-то? — Да, небось, и с сыном вашим? — А вот теперь в самую, что ни на есть точку, и приходится его терпеть, дружок. Тридцать лет уж, как он навлекает на меня одни лишь неприятности. Какую ж кучу сверхурочных часов пришлось переработать мне, чтобы заплатить за его достойное, как у принца какого-нибудь, образование… Так нет же, ему нужно было всё испортить. Прогулы, рядом личности какие-то подозрительные, враньё и всё, что за ним следует, у него в крови это, что ли, часто спрашивала я себя. Я могу лишь смутно догадываться, кто его отец, столько воды утекло с тех пор, а я так не нашла времени взять реванш и сбагрить ему мальчугана. — А Дюпре, он-то кто? — Муж, мой покойный муж, Морис, упокой душу его, Господи. Он был с севера Франции, знаток вин, торговал их за рубеж, разъезжал… Дорога-то его у меня и стибрила, слишком надегустировался однажды. Поводом к разладу у нас было лишь его презрение к итальянским винам, которые он без разбору сливал в бочку с помоями. Меня это доводило до кипения. Тем не менее, веришь ли, всегда у нас водились хорошие вина. Надеюсь, ты помнишь — сассикайя, брунелло ди Монтальчино, тиньянелло. Но французы-то эти, с их самомнением, они же никогда не опустятся до того, чтобы пить иностранное. Потому-то и вина у нас были отменные, иначе просто и быть не могло. Так-то вот. Стоит только откупорить бутылочку хорошего вина, и кино никакого не надо. — Он занимался Роланом? — Пытался, да только бездельник уже катился по наклонной, когда мы с Морисом познакомились. — А вы никогда не думали, про удел матери, что он особый и, скажем, в том именно и состоит, чтобы дать кому-то толчок к первому шагу, а тут всё же свой сын. — Порой я сомневалась, что он действительно мой сын… думала, нянечка в роддоме невзначай могла, мол, и подменить. Ладно, кончаем разглагольствовать. Да, это мой сын, ну и что? Это не удерживает его от грязи, ты же вот, славный малый. — Не такой уж и славный, не преувеличивайте. — Ты знаешь ещё кого-нибудь, кто сподобился бы доверить вонючей речке любовное письмо, сложенное корабликом? — Это всего лишь глупость, тайна моя от меня же самого. — Замечу тебе, всё же, что посланник твой в сотне метров от места спуска на воду оказался задержанным останками зонта, откуда я его, по любопытству своему, и высвободила. — Я не надеялся, что он уплывёт далеко. — Как бы не так! Ты рассчитывал-таки разыскать ту брюзгу, что ткнула моего сына в дерьмо, к словам не цепляйся, а потом и с тобой такое сотворила. — Вы не любили её, оттого в мой день рождения и перехватили, чтобы она ко мне не пришла… — Я не католичка, чтоб дивиться тому, как и куда она ходит, не отчитываясь о том в исповедальне. У неё была одна мыслишка в голове, да не совсем для тебя симпатичная, это в глаза кололо. — А вы, значит, её на путь истинный наставили. — Так, не моя в том вина, что на неё напали, добра девица не станет шляться по улице в такой час, да в первую попавшуюся машину, будь то даже Мерседес, залезать. — Но, что же ей оставалось после того, как вы ей наплели, будто меня нет. — Повторяю: она учинила бы тебе беду! — Вы за ней следили? — Не совсем, но видела её за лихой работёнкой. И потом, тихо же кругом было, день всех святых, как ни как, возвращалась я рано. Увидеться хотелось с тобой, материнский инстинкт не иначе, в самый раз пришла: газ выключить, ризотто предложить… — Отчего же потом на след навели, подсказав, что была она здесь, в день моего рождения, вечером? — Потому, что Ролан хотел её найти, были у него, поверь, на то свои причины. — А в виолончели что было? — А там что, что-то было? Тишина… — Если ты так думаешь, значит у тебя на то есть причины… вот и додумывай сам. Снова тишина. Я продолжаю: — Был ключ какой-то… — Ключ? Ну, что ты, малыш. — Вот что, не стройте из себя незнайку. Теперь — всё уж в прошлом, можете говорить. — Всё равно не знаю, о чём ты говоришь. — Так вы не противоречили, когда говорили мне, что в виолончели что-то есть. Не говорите, будто не знали, что там была копия моего ключа от служебной двери Галерей, с помощью чего сын ваш и смог взять кассу между Рождеством и Новым Годом, выставив меня как бы соучастником, тем самым. — Минутку, парень, тут всё на кино какое-то смахивает. Откуда ты взял сказку эту про кассу? Начнём с того, что рождество Ролан в кутузке отмечал. И потом, раз уж хочешь знать и успокоиться, так я это, за изумрудом, приходила, он, чтобы только мне насолить, ей его подарил, а та ничего лучшего не удумала, как жевательной резинкой приклеить его к ерунде, за которую струны натягивают… штука такая, как бишь её… — Струнодержатель. — Как скажешь! А я пупок себе чуть не надорвала, пока украшение своё нашла. — И не говорите, её виолончель, да она настоящим вещмешком была. — Ты уверен, что не выдумал всю эту историю с ключом? — Может… Помолчали. Потом: — А что, правда это враки? — Клянусь своей и сына придурка головой. — А вы к нему, всё же, привязаны. — Смотри-ка, допёр. Так вот, вернув любушку её посланнику, я кое-какие неприятности от тебя отвела, да и некоторые из возможных разочарований. — Любовью, Пьеретта, не покомандуешь, а Шарли …втюрился я в неё, и потом, одной иллюзией больше, одной меньше, какая разница… Может мне бы и удалось её исправить, урезонить — не такой уж она и плохой, как вы рассказываете, была… — Всё так, малыш, продолжай мечтать. — Встречались вы с ней в ту пору, когда она была с Роланом? — Не так, чтобы уж… я, как могла, старалась этого избегать. Ей с моим сыном, с повесой и придурком этим хорошо было, сам знаешь: рыбак рыбака видит издалека, а по мне, так она всё равно — дыркой от бублика была. Музой его дурной стала. Только банк в Монсе ей в любом случае ни к чему. Поверь мне, не для тебя она, …только бы жизнь поломала. — И что же, то стало бы хуже её отсутствия? — Так просто ты бы не выпутался. — Это по-вашему. И вновь тишина. — Похоже, знавали мы разных Шарли, погорим же о некой девчонке. — Хватит! Чтобы своего добиться, она и в овечку превратиться могла. — Ну да, а волк Легэ погрыз её в своем Мерседесе. — Ты-то в этом уверен? — Да, только доказать не могу. Умер он, ну и бог с ним. Сделал вид, будто вешается, да благополучно и повесился. — Вот те раз, больно суров ты к нему. Скажи на милость, не помог ли часом слегка? — Мы лишь наставляли его на путь истинный. — Кто это мы? — Преданные друзья. Тишина. — Пьеретта, были ли вы счастливы? — А вот это хороший вопрос. Мне его впервые в жизни задают… он мне удовольствие доставляет, я бы даже сказала, он меня счастливой делает. Одному из журналистов, спросившему, какие десять лет из жизни считает она самыми прекрасными, Анна Маньяни, мне это так нравится, ответила: те, что между двадцать девятым и тридцатым годом. Каково, а! Надеюсь, те самые прекрасные десять лет я ещё не жила, а не то не пойму, чего это ради явилась я в эту долину слёз. Ну, хватит, пригласи-ка лучше меня на танго… И вот я уже в роли идальго, обнимаю по девичьи гибкую Пьеретту и плыву с ней сквозь заполнивший Тёмную Ночь, неподвластный времени голос Карлоса Гарделя, в редком ныне Mi Buenos Aires querido. Мелодия оккупирует всё вокруг. Застенчивое по началу, танго понемногу прихорашивается, шаг за шагом расцветая и распускаясь всё новыми и новыми нюансами, и так до тех пор, пока, подобно идеальному осмосу, не перемешивает гармоники музыки с нашими эго и не сотворяет из того совершенную, иначе и не скажешь, пару, жалованную полупристойной грацией с берегов Рио де ля Плата. И в quebradas en cortes, в кошачьей грациозности «па», вибрирует, брезгливо отмахиваясь от потомства, пространство между нами, а из глаз в глаза, её и мои, всполохи перескакивают. Она танцевала, словно в те, вместе с несколькими болезненными разочарованиями ещё не сбежавшие, прежние двадцать лет. Я, я просто снова танцевал… с мамой и счастлив был, совсем по-глупому. Подёрнутому оцепенением оку присутствующих мать и сын представлялись танцующими по дорожке, усыпанной звёздами обоюдного счастья. Вечеринка текла своим чередом. Все кресла были теперь заняты пышущими здоровьем, уверенными в себе мсьё. По всему, возможность близости смертного часа в этом году не омрачала их лики. Они развязно болтали и шутили с постоялицами, подобранными для них, казалось мне, по географическому принципу. Я посматривал на них через пушистые завитки дымков Коибас[25], чьи искусно сориентированные огоньки вырисовывали в воздухе затейливые голографические абрисы. В голове моей вертелся вопрос, как же встретят они Шадию… волновался почему-то я за неё. Ближе к одиннадцати в гостиную просочились раскачивающиеся под перестук дарбуков[26], назойливо-томные стенания скрипок, переносивших нас, как я предполагаю, куда-то в Кабилию. Шадия появилась в наряде усыпанном блёстками изумрудов, дарившем жадному взгляду ставших лишь на вечер холостяков обещание сокровищницы услад, обостряемое налётом тайны, исходившей от её едва прикрытого, плавно льющегося в арабесках тела богини. Взгляд свой она тут же остановила на мне; один я заметил его, почувствовал самой глубиной души так, что вздрогнул. Чувства переполняли меня, я понимал: танцует она лишь для меня, услада даруется мне, прочим оставлена работа. Между нами возник тайный сговор и стало неважным, что переходы её от столика к столику сопровождались истеричными посвистами спровоцированных ею самцов, если вдруг шёлковым шарфом свивалась она вокруг кого-то из них или же, изогнувшись навзничь, касалась головою колен какого-нибудь состарившегося и впадавшего при том в транс волокиты — танцевала она для меня одного и никто не смог бы меня в том разубедить. Если же глаза её и находили украдкой мои, то единственно с тем, чтобы удостовериться, что ничего из проделанного ею не ускользнуло от моего внимания. Один лишь раз приблизилась она к моему столику, посотрясала передо мной, как бы подтрунивая, всем напоминавшими гремучих змей, во всём вторившими ей в танце руками и нарочито удалилась, подчеркнуто шаловливая и насмешливая; предпочтения ни чуть, но я принц её и властитель, позволявший низам пьянеть от созерцания её красоты, покуда та не скрылась за служебной дверью. Пьеретта всё видела. — Дружище, тебе достался счастливый билетик, впервые она, танцуя, улыбалась. — Вы так думаете? — спросил я, лицемеря. — Она на меня даже не взглянула. — Тебе, малыш, очки нужны! — У меня уже есть, я в них читаю… — Только, верно, не в душах. — Браво, Пьеретта, вы и стихами, при желании, готовы говорить. — Обычно в ней боль какая-то живёт, она её за безразличием прячет, но я то знаю, как страшно газели бродить перед пожирающими глазами львов. Тебе бы каждый вечер приходить, нужную среду бы создавал. Я поднялся. Пьеретта накрыла мою руку своей: — Она ушла уже. — Да, я в туалет, — ответил я, почувствовав себя уличённым. — Ну, конечно, — усмехнулась она в ответ.
К полуночи ей стало понятно, что мне уже лучше бы откланяться. — Я провожу тебя, малыш. Она подала знак какому-то малому, болтавшему в вестибюле со здешней матроной. — Погоди, Пьеретта, может мне ехать с этим мсье одному, я ему всё подскажу. — Тогда ему придётся дважды проделать этот путь. Нет уж, я еду с вами. Высадили они меня в Ситэ. — Спасибо за всё, Пьеретта, вечер удался. — Великолепно, впервые вижу свет в твоих глазах. Спокойной ночи, Жюльен! — Спокойной ночи, Пьеретта! Мсье…
Что бы там ни было, а по случаю все умирают, по воле жребия, так сказать: восседает где-то там демиург сказочный и судьбы наши, будто кости игральные, на ковер безразличия своего мечет. Случается, умирают по ошибке: пристроившейся на весах провидения былинки малой достаточно, когда в злобе оно пребывает или… вообще в отсутствии. А что сказать об умерших «отбросах» общества, гонимых, что те зачумлённые из средневековья — с обрывком бечевки от сдувшегося шарика последней надежды в руке? Кто-то умирает, даже не осознав, что на самом деле никогда и не жил-то; припомните-ка пучеглазых африканских детей, прильнувших губами к иссохшим грудям истощённых своих матерей. Случается и так умирают: обрывает рассеяно рука лепестки с ромашки — любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмё… и всё. Я бы в твоих объятиях предпочёл умереть. Да вот будешь ли ты рядом, чтобы в последнем моём вздохе услышать тебе одной сказанное: «я тебя люблю»? При всём при том понятно мне, что не знаю я, кому задать насущный этот вопрос; смею утверждать — рядом со мной ни души. Времени — половина первого, в этот раз частным порядком возвращаюсь с кладбища; украшал цветами могилку родителей. Сестру встретил, она тоже одна была. По случаю, заглянули в Тишину — выпить по чашке кофе, да что-то из того давнего, где мы пока ещё сиротами не были, вспомнить. Так хорошо нам стало — наобещали друг дружке теснее, как прежде, общаться, не веря тому, ни я, ни она, по-настоящему. Расстались с обычным: — Пока, Жюльен, с днём рождения тебя! — Ну да, пока… Аурелию поцелуй. На площади перед мэрией ко мне пристал какой-то парень с микрофоном, второй прятался за камерой. Телевидение! — Браво, мсье, мы уже несколько минут за вами идём и рады сообщить, что грустнее и мрачнее вас нам в этот благословенный день печали снять не довелось. Мы малость сомневались, кому из вас предпочтение отдать: вам или ещё одной жертве кораблекрушения, женского, правда, роду племени — та всё птицам крошки бросала, называя их по именам, но всё же у вас вид помужественней и понатуральней, хотя и более отрешенный. Так что, вы выиграли! Как вас зовут, уважаемый мсье? Кросе… Жюльен Кросе… Да вы, так же как и я, Альфредо Бельтрами, итальянских корней! Знаю — имя ваше означает «крест» и, простите за вольность, замечу, что несёте вы и то и другое, и имя, и крест свой, чудо как… ха-ха-ха. — И что же я выиграл? — спрашиваю недовольно. — Прямо сейчас — право ответа на вопрос, ну, а за ответ правильный — сюрприз. Ну же, мсье, возьмите из шляпы теперь билет, выигрыши в ней роскошные. Поди узнай, отчего поддался я гипнозу того глаза, что следил на могиле за мной и ласково теперь всматривался в меня. Отчаяние моё, конечно же, было глубже, чем я его себе представлял и я покорно сунул руку в шапокляк. «Дуракам везёт», как говорится. Протягиваю билет взволнованному аниматору. — Ну… так вот, мсье Кросе, можете ли вы назвать исполнителя главной роли в фильме «Он и она», в котором двое возлюбленных назначают свидание на крыше Эмпайр Стейт Билдинга? Я машинально отвечаю: — Разумеется, Дебора Керр и Кари Грант; я этот фильм несколько месяцев назад по телевизору смотрел. — Достаточно, мсье Кросе, вы — не спите и вы… выиграли поездку в Нью-Йорк! Выдавливаю из себя: — Это шутка? — Да, нет же, синьор Кросе, новостной канал Теле улыбка в рамках компании совершенствования морали бельгийцев предприняла эту великолепную, гуманную и благотворительную акцию, при щедрой спонсорской помощи фирмы Дентостар, производящей зубную пасту для счастливых людей. Вы же счастливы, не так ли? — Что, что? — Да, мсье Кросе, счастливы, и счастливы оттого, что подобно Одиссею можете совершить прекрасное путешествие; вы едете в Нью-Йорк, на рождество и совершенно бесплатно! White Christmas in New York! Это вам подойдёт, вы незаняты, а с кем вы хотели бы поехать? Я взглянул на него в последний раз скептически и решил таки поверить ему. — Так, что… Бегло пробежав мыслями по балансу нынешнего своего положения, я пришёл к выводу, что глоток неведомого воздуха пошёл бы мне только на пользу. — Хорошо, я отбываю. — И с кем же, мсье? — Гм, один! — Черт возьми, ну конечно же, подобной удаче не обойтись без любовного перегара… Вы и в самом деле стоящий победитель! Ещё раз — тысячу браво, мсье. С надутой тем комплиментом в колесо полной грудью, я спохватился и со скромной улыбкой, за коей таились презрение и насмешка, поинтересовался: — Я тут подумал… есть у меня подружка… — Ваша подружка! Забавный, однако, эвфемизм в ваших устах, мсье Кросе. Но вы, конечно же, вольны властвовать в своих пределах.
Направляю стопы свои на улицу Кальвэр, не вполне ясно сознавая, что же со мной произошло. Вот я и у Легэ, да нет теперь здесь Фернана; этот-то уж точно поздравил бы меня с годовщиной. Думал ли он о том? Как бы то ни было, но к вящему моему удивлению вспомнила о том Франсуаз. Поздравляю, Джулиано! Что бы значило подобное возрождение её нарочитой заботливости? Понятным стало мне всё, лишь когда увидел я, как она пьёт — едва касаясь губами края бокала, с выражением притворного в глазах удовольствия, ожидавшего её вскорости якобы в качестве реванша. И я покорился судьбе, на всё мне было наплевать. Славно оставляя почести и слёзы причитающиеся по этому поводу усопшим ранее, по статистике в день поминовения почти не мрут, и, как бы, не желая тем самым «топтаться по чужим грядкам», не ущемляя то бишь чьих-либо прав. Но, однако, и на Рождество на свет божий младенцы толпой не валят. Так вот одно другим и уравнивается. Послеобеденное время прошло у меня в довольно спокойной работе, дававшей даже время помечтать о путешествии в Нью-Йорк, но не покидала меня мысль при том, что слишком уж всё хорошо и просто, чтобы не было в том пусть пустяковой, но загвоздки. Позже, довольный собой, отправился я в бывшее некогда любовным гнёздышко своё, в Ситэ. К десяти вечера уже не мог противиться желанию позвонить Пьеретте и рассказать ей о путешествии и о том, что собрался и её с собой, без её на то ведома захватить. — Нью-Йорк, ты себе представляешь меня в Нью-Йорке? — Это может перевернуть все наши о нас с тобой представления, отпразднуем Рождество в подлиннике, устроим настоящие парламентские каникулы… — Что ж, обсудим… ну, рубаха-парень… Хорошо, согласна, только с подружками по кабаре договорюсь. К тому же, может и мечту свою ухвачу, пусть какого-никакого, а миллиардера-то америкульского там всё ж таки и повстречаю, а?
Решил я, что не стану мучить себя вопросом, чем была занята Шарли после нашей размолвки вплоть до того самого вечера, в день моего рождения, что провёл я с двумя вздыхательницами. Это, увы, уже не могло что-либо изменить в теперешней её реальности, по сути робкой поступи, мелкими шажками, на ощупь, да по-над пропастью туманного прошлого своего. Всё я себе уяснил, ничуть того не желая, придя на встречу к ней. Середина ноября стояла, с чудной аки сам святой Мартин погодой, для увековечивания легенды о себе им же самим, видимо, и устроенной. Дверь мне отворила, и уж не столь холодно, как я того боялся, мать её. Она провела меня в сад, где я и нашёл Шарли, сидевшей за столом в компании трёх, наголо бритых молодых парней и девицы при волосах цвета мальвы. Про себя отметил, что все четверо были в грубых армейских сапогах, с повсюду натыканным пирсингом: в носу, ушах, бровях, в верхней губе… У девицы в каждом ухе по дюжине колец; к ним, на каждом из десяти совершенно разного цвета ногтей — по тщательно выписанному, маленькому цветку. Мадам Эрман приветливо беседовала с ними на голландском; она у дочери и посадку головы переняла: едва приметный наклон в очаровательной улыбке, но Шарли улыбалась лишь себе самой. Меня пригласили присесть к ним на чашку чая. Я был заинтригован диском в руках Шарли. Всё с той же бессмысленной улыбкой она положила его на стол. — Можно? — вежливо поинтересовался я, прежде чем взять его в руки. Сорокапятка. На фото обложки все четыре гостя, в том же нелепом обличии. Правда, там присутствовал и пятый персонаж: некая молоденькая блондинка, при вздыбленных волосах и чёрной чёлке, понуждавших к мысли о фотомонтаже, так уж та не соответствовала сидевшему перед моими глазами оригиналу. На фото была Шарли, и диск тот был записан ею. Из пёстрой смеси французского, английского и голландского с грехом пополам я себе уяснил, что после плотной осады множества «суперских» фирм и года, без малого, ожидания, зацепились партнёры за поверившую в них Sony Holland. Те им даже на радио батавов, знатоки истории так голландцев кличут, тест учинили и, бац! Приняты на ура! Бедняжка Шарли! Она и себя-то не припоминала, не то чтобы мечту, пусть уже и в явь обращённую — ну, так хотелось группе сюрприз ей преподнести, только сюрприз, да ещё какой! преподнесла им она… Чуть больше года тому назад она подсела к ним, напросившись на «баржа стоп» — то же, что и «авто стоп», только плывёшь на какой-нибудь идущем по каналам корыте — и пребывая в восторге от открытия, что они музыканты, предложила им себя на роль вокалистки. Её пение настолько их подкупило, что они уговорили её остаться и записать с ними пару песен, одну из которых написала Шарли. Они даже контракт по полной форме заключили. Шарли, как вы помните, только что меня оставившая и сблизившаяся вновь с матерью, ушла и от них. Совсем недавно один из них дал о себе знать и мадам Эрман рассказала ему обо всём, что стряслось с её дочерью. Она пригласила их затем и в Лаетхем, в неугасимой надежде вынудить затуманившееся сознание Шарли хотя бы к какому-то, пускай даже временному улучшению. Шарли приняла их с ангельской улыбкой; отныне та стала на любые вопросы единственным ответом. Как дела, Шарли? Какое у тебя платье красивое, Шарли! Сегодня дивная погода, не правда ли? И улыбается Шарли. В Heaven Taggers поняли серьёзность положения. Шарли солистка. Её раздирающий, берущий за душу голос, схожий по тембру с голосами Ким Кэрнис и Бонни Тейлор, вместе с необузданностью её натуры как раз и стали тем самым козырем, убедившим фирму грамзаписи сделать свой выбор. Угроза нависла не только над существованием группы, но и над отпечатанными обложками диска с пятым на них участником, погрузившимся в тишину. Первой на диске значилась песня с названием: «I want to bee free» и будила во мне некие воспоминания. В отчаянии от всего, на их головы свалившегося, приятели просили отпустить Шарли в поездку по тому же самому пути, каким добрались они в первый раз до Амстердама: взяв её на борт в Лувьере, баржа прошла по Центральному каналу до Самбры, из неё попала в Маас и, миновав Льеж, Визе и Маастрихт, поднялась до славного голландского порта, где многие матросы хотят «потанцевать». Мать заявила, что это ничего не даст. Она едва не вспылила на осмелившихся перечить ей юнцов; тем, видишь ли, не понравилось, как она отзываетсяо дочери. А что? Всё, как есть, и ей лучше знать, как с ней обходиться, и не время теперь ей бродяжничать. — Ну, а диск-то мы можем выпустить? Та махнула в их сторону рукой, вроде как давая понять: «Делайте, что хотите, только оставьте в покое мою дочь», и молодые люди, лет на сто за визит свой состарившись, ушли восвояси. Перед тем, как расшаркаться, позволил я всё же себе спросить у мадам Эрман, прекрасно, как впрочем большинство буржуа из Ганда, говорившей по-французски, не могли ли мы прослушать запись. Но, вместо ответа, она пошла и разыскала виолончель; ту самую, что купил я дочери её, забравшись в кредит, попал я тогда с игрушкой этой в полную задницу, и Шарли заиграла. Мать её на небеса воспарила. А я… ну, что я? Я среди беснующейся в восторге публики был и, как и все, устроил моей хард-рокерше, в одночасье ставшей звездой овацию. Сюита номер один соль мажор Баха; я её ещё как-нибудь услышу…
Диск вышел… в ранее отпечатанных конвертах. «I want to be free» имел международный успех. А вот продолжения, в силу обстоятельств, не состоялось; никакого тебе «follow up». В тот раз, впервые узнав в льющейся из радиоприёмника, записанной уже при мне песне голос Шарли, я подумал, что из другого мира явилась она. Того мира, что открылся ей по воле Сезама, но перед раскрытой дверью его застыла она, обессилев, и так и не войдя… в мир канувшей в прошлое мечты… позабытых, поразмётанных, что твоя листва по ветру, надежд из предшествующей жизни. Друзья её, те не устояли перед возможностью в него проникнуть. Видел я эти «Taggers» в одной из передач о поп-музыке. Безо всякого зазрения совести девица та, при сиреневых волосах, подражая и значит узурпируя, опошляла тот самый голос, самовольно вселяясь в него, выкрадывая то, что столько раз раздирало на части и пугало меня в эпоху моего непонимания, от чего Шарли хотелось освободиться. От себя самой, быть может? Что ж, тогда она во всём преуспела. «I want to be free». Вот и свободна она теперь, моя Шарли; плывёт, среди ускользающих воспоминаний своих… сама себе на уме…
Пересеклись мы с нею после годовщины моей всего лишь раз; Богу одному ведомо, где её носило. Не знаю, по какой такой стыдливости неуместной не расспросил её о Шадии. Я мог бы рассказать ей, что с тех пор, как впервые встретил её протеже, так перед глазами своими каждую ночь и видел ту, танцующей и недосягаемой; что во многом схожи лица их, её и Шарли; что вызвала она сейсмическое потрясение во мне, потому в кучу малу и перемешались выпуклости и впадины натуры моей, и из состояния каменного в состояние пламени перешёл я; что во снах моих она то следовала за мной, то бежала от меня. Я чуть было не написал ей, но воздержался, подумав, что было бы нетактично досаждать кому-либо, навязывая письмо, какое вовсе и не ожидается. Хлопоты сии допускают, что отправитель со стороны получателя обнаружит хотя бы минимум внимания, что претенциозно само по себе. С другой стороны, кто вам сказал, что новое то чувство, покров с которого вы срываете, большего стоит, нежели принадлежащее другому? Уважения оно не менее вашего достойно. Хотя, если письмо своё вы доверите реке, вы адресуете его не кому-то конкретно, а кому придётся. Тем самым, мадам, извольте считать, что вы не получили письма моего по причине крайней спешки моей, оттого и не отправленного почтою.
В половине девятого, как было то и оговорено, направляюсь к стойке Сабены. Я всё ещё не верю в эту победу и всё ещё ожидаю какого-нибудь подвоха, а тот… всё никак не наступает… — Привет, Пьеретта. Ты в форме? — Сам видишь, малыш! Но я здесь, чтобы сказать, что не еду с тобой, и пожелать тебе счастливого пути. — Да нет же, не правда это! — А вот и да… долго я прикидывала, как быть с твоим предложением, но рождественскую вечеринку в Тёмной ночи пропустить не могу; не поймут клиенты моего отсутствия. И потом, лучше меня никто не знает рождественских песен… если тебе понятно, о чём я тут говорю. Полагая, что доводы её для уклонения от моего роскошного приглашения весьма серьёзны, настаивать не стал. Хотя могла бы дать знать о том заранее, я бы предложил поехать со мной кому-нибудь ещё. Кому вот только, на самом деле? Единственным, кто пришёл на ум, был Розарио. Я опечалился и тут же улыбнулся, представив себе инспектора Беллясе в Штатах: Time Magazine, на первой странице, крупным шрифтом: «Новоявленный Эркюль Пуаро разоблачает мясника из Бронкса». — Жаль, а я уж представлял себе, как мы, задрав носы к небу, промеж небоскрёбов прогуливаемся. — Успокойся, — ответила она мне, обернувшись в сторону группы человек из двадцати, — ты не один, в выигрыше с десяток пар. Сглатываю удивление. — Здравствуйте, — бросаю в их сторону. — Здравствуйте, — отвечает мне весёлая компания. — Ну что? — шепчет мне на ухо Пьеретта, — уж не подумал ли ты невзначай, что Дентостар, эта паста удачников, устроила бы поездку только для таких, как ты типов?
Стюардесса от Дентостар, розовая с головы до ног, вручила мне билет. — Я свой возвращаю, — сказала Пьеретта. — Жаль, — снова пробурчал я в ответ. — Не сыпь мне соль на раны, — серьёзно отвечает она. Регистрация багажа у стойки F, начиная с девяти. Самолётом я летел впервые. Пьеретта, должно быть, чувствовала это, не оставляла до самого паспортного контроля, отстояла очередь на регистрацию и выпила со мной чашечку кофе. — Не дрейфь, они редко падают; это же просто такие большие птицы, а если что и случается, вопят о том на весь мир. Не то, что было с Морисом; когда он в аварию попал, то прав у него оказалось лишь на три строчки в Стеенвоордском Голосе Севера и только. Ей хотелось казаться бодрой. Пытаясь как-то разрядить атмосферу, рассказал я ей о случае с тележкой, стараясь походить на комика а ля Marx Brothers. Отнеслась ко всему она очень серьёзно и, видимо зная, что говорит, обозвала вора сукиным сыном. Ей, видите ли, было невдомёк, отчего это я не исполнил «гражданский свой долг» и почему ничего не сделал, чтобы того арестовали. Трудно было в ней что-либо предугадать. Юмор её никогда не проявлялся там, где его ожидали. Порой саму же её и смущали довольно невинные шалости, ею же и адресованные кому-то из посторонних, как если бы вершила она при том невероятнейшую нелепицу или полнейшую несуразицу. Потому и прибегала к любому из доступных смягчающих обстоятельств, только бы обелить себя, окончательно и бесповоротно, в собственных глазах. Или же, к примеру, верила она в судьбу, в жертвенность даже, потому и думалось ей, будто бы некоторые страждущие родились на тёмной стороне жизни, и вот им-то и выпало искупить, взяв на себя всё земное зло и, что она из их числа. Исходя из основной этой аксиомы, рассматривала она себя чуть ли ни святой, кому, из предлагаемых жребием убогих раскладов, достался лучший.
Боинг 737 был наполовину пуст. Место моё, 2С, находилось почти в проходе, в секции для некурящих экономкласса. Одна из бортпроводниц перед самым взлётом вежливо сообщила мне на ухо, что в связи с необходимостью сбалансировать нагрузку в салоне, некоторых пассажиров повышают в «классности». Как? Лететь первым классом? Да, не вопрос! Это я так, над собою мысленно подтрунивал. Не мог, в который уж раз, поверить ушам своим, хотя не имел при том и малейшего представления о разнице в уюте того и иного класса, и не без основания… А неплохо для крещения-то воздушного, сказал я себе, устроившись в новых своих апартаментах. И откуда свалился на меня этот нежданный вал удачи? Ну и ну! Поездка в Нью-Йорк, симпатичная эта замена салона; достаточно для поднятия духа, скажете вы, но не для того, чтобы в жизни что-то поменялось. Да подождите вы, я же не всё ещё вам рассказал.
Самолёт отрывается от земли и я лечу; в первый раз в жизни. В экономклассе плачет ребёнок, что и мешает мне как следует оценить ужасающую и вместе с тем очаровывающую мощь, поднимающуюся сквозь большие пальцы ног, вдоль этих самых ног, к животу, где и собирается эта силища, дабы впечатать вас в кресло, а потом тащить беспрепятственно на небосвод, чему и мешает-то один лишь пояс безопасности… Набираем крейсерскую скорость. Малыш горланит, краше не придумаешь. Надоедливый крик сосунка тонет в высоком рёве моторов сторонней и немного слабеющей гармоникой. Оборачиваюсь назад: строптивого младенца вместе с юной и невозмутимой мамашей перемещают в хвост самолёта, дабы не стеснять VIP головного салона. А что вы хотите, за это дорого уплачено… и мы можем себе позволить тишину в полёте. Нужно будет, бэби этого и парашютируют, в ближайшую детскую вместе с мамашей, если та вцепится в него, хотя на тот момент приходится усомниться мне в привязанности её к вопящему своему потомку. Уберегу вас от прочих идиотских мыслей, за семь с половиной часов лёту побывавших в тускло светящемся, шампанское тут не причём, мозгу моём. Как бы там ни было, но сели мы за полчаса до полудня по местному времени, и это значит, что шесть часов наших затерялось в никуда, и всё, тем временем надуманное, списано на антиматерию.
Вот и аэропорт ДФК, Джона Фицджеральда Кеннеди, терминал W. Американцы весьма радушны, очередь на личный досмотр — час какой-то, всего лишь. Потом гостиничная маршрутка, и мы на Уан Уик Экспрессвэй. Ритм поездке задаёт мелькание уличных указателей с белыми надписями по зелёному фону. Съезды на бульвар Ямайка, в Квинс, Флэшинг Мидоу, в аэропорт Ла Гуардия, Бруклин. Смотри-ка, кладбище рядом со свалкой; какое странное соседство. Наконец, появляются башни Манхеттена и, что бы там о том ни говорили, а впечатляет. Пересекаем Ист-Ривер. Где-то через час прибываем-таки в отель Американа, уровнем в три звезды; на седьмой авеню, рядом с Бродвеем. В огромнейшем холле с многочисленными стойками чувствуем себя крохотными и затерявшимися, словно опять прибыли в какой-то аэропорт. Каждый улетает в свой номер на сверхскоростном — до самых колен щёки оттягивает — лифте. Номер мой 3917-тый, на тридцать девятом этаже. Совсем другой мир. Кровати безукоризненны и доступны к назначенному часу. В комнате моей всё бирюзовых тонов: огромная постель, шторы, кресла, и всё наводит на мысль — профессией искаженную — о свечами украшенном своде в преддверии рая. Сияющая ванная комната готова потворствовать моим утонченным прихотям: кусочки мыла, шампунь, лосьон для тела — всё французское; зубная щетка, разовая бритва, фен — всё отменного качества, и я… воспринимаю это как само собой разумеющееся. «Ой, и получше бывает», — скажут знатоки. Плаза, Астория, Фосизонс, ЛеПьер… Согласен, но по мне, так всё это химеры, и я свой выбор оставляю за первым своим впечатлением. Мерси, Дентостар!
Общий сбор. Обед с группой. Парой слов, да просто взглядом перебросились, и вот уже победоносные счастливчики парами сидят, но не без исключения — некая светлая блондинка, так и не соизволившая снять свои огромные и ужасные чёрные очки. Была она одна и всем видом своим выказывала твёрдое желание таковой и оставаться. «Оно конечно, потому что, что ж!» — как говаривал когда-то мой пред голландского, мсье Дежелинк, коего я и приветствую, воспоминая. Стюардесса, та же, что и в Брюсселе, и всё также в розовом своём благополучии, сообщает программу нашего пребывания. Сегодня, после полудня, свободное время. Завтра с 10-и утра прогулка на катере по Гудзону и по Ист-Ривер; с заездом к статуе Свободы на Эллис Исланд. Сразу после обеда прогулка по 50-ой авеню с заходом в известный магазин игрушек Шварца, потом в Дональд Трамп Тауэр с его величественным холлом розового мрамора. Возможен шопинг. Вечером ужин, всей группой. 23 декабря прогулка по Уолт-Стрит, с визитами в Юнайтед-Нейшн Плаза и Всемирный Торговый Центр с парой его самых высоких небоскрёбов, отнявших корону первенства у Эмпайр Стейт Билдинг. В четыре часа по полудню — Мэдисон Сквер Гарден; идём на Биг Уила. Вечером общий ужин. 24-го, в канун Рождества, с половины третьего — визит в музей истории США; вечером праздничный ужин в отеле, группой. 25-го декабря до полудня прогулка по Бруклину, возвращаемся на Манхэттен и обедаем в Литтл Итали, после обеда Чайна-таун. Вечером ужин; группой, в отеле. 26-го декабря свободное время, в 17 часов визит в Рокфеллер-Центр, и там на каток. В восемь ужин, группой. 27-го декабря сбор в холле в 14.30, для отбытия в аэропорт Кеннеди. Вылет на Брюссель, рейс SN 552 в 18.50; в Завентем прилетаем 28-го декабря, в 8.10 по местному времени. Аплодисменты; из солидарности аплодирую и я, хотя и весьма удивлён — в программе ни одного музея искусств.
Чтобы и капли не упустить из предоставленной по прилёту свободы и поосновательнее ознакомиться с городом, решаю бродить наугад, шлёпать куда глаза глядят, петляя по нему допоздна, как можно дольше; лишь бы дыхания хватило, да под натиском сдвига во времени не пасть — не заснуть в шесть по местному, когда часы мои биологические полночь уж отмерят. Все улицы желты: нескончаемая, бананового цвета, петляющая у подножья билдингов лента — такси гуськом, одно за другим. Руки в брюки, равнодушно пинаю пустую банку из-под тушёнки. Новенькие мои туфли жалуются друг дружке на хозяина вандала, и я, сжалившись над ними, выискивая в отбросах что-то не столь жёсткое, выбираю сигаретную пачку и гоню её до самой Гринвич Вилладж. Географически я должен бы находиться в самом сердце именитой «деревни», бывшей у «битломанов» — в семидесятые — центром вселенной. Душа, однако, из неё вон ушла… если только не прячется в этом вот море… попкорна и помёта. Какой-то тип, отиравший стены, берёт меня на абордаж: — Эй, чувак! Хочешь чего-нибудь этакого? Он приоткрывает полу пиджака. И что из того следует? Делаю вид, что ничего не понимаю. Тот смотрит мне в глаза, бурчит: «О, нет!» и презрительно отворачивается от меня; видимо, не тот я человек и клиент, тем самым, и не его; сам на свой вопрос и ответил. Но как он о полной моей в данном деле непорочности догадался? Обидеться, что ли? Ухожу, вихляясь, в Манхеттен Исланд. Ныряю в Максвелл Плюмм — питейное заведение из тех, что со времён великой депрессии нелегально приторговывают спиртным и оружием — шоколадом горячим отогреться; на местном сленге понимают под этим и страстную негритянку. И приходит мне на память дама одна, восьмидесяти двух лет от роду, моя соотечественница, также конкурс выигравшая какой-то. Она поняла так, что призом ей стала поездка на шоколадную фабрику Лондона и, каково же было её удивление, когда очутилась она в первом ряду Палладиума на концерте рок-группы Hot Chocolate. С гордостью в голосе солист группы огласил о присутствии преданнейшей фанатки, «в сердце своём сохранившей ещё достаточно молодого задора, чтобы приехать из Бельгии специально для участия в первом концерте после долгого их турне по всей Европе». Публика устроила той овацию, все прожектора на неё. Она же, не понимая, что с ней происходит, поднялась, обернулась и пробежала ничего невидящим взглядом по залу. Первый, сочный, аккорд гитары, перестук ударника и… лавина децибел. Всё ещё оставаясь в лучах прожекторов, старушка в ужасе поднимает обе руки к ушам, срывается из своего первого ряда и старчески нетвёрдой походкой шествует по главному проходу к выходу, под свист и улюлюканье не одной тысячи юнцов. Реальная история — мне внук той самой дамы рассказал… на её похоронах. — Эй, деньжатами не богат? — слышу я… и здесь… Это мне… другой пешеход, разглядывающий мои, утренней свежести, башмаки. Я чуть было ни вручил тому искомую подённую плату, как в процесс вмешивается некая дама, в шляпе и при внушительной сумке, шитых, похоже, из национального флага. По-английски я не говорю, но донести до вас то, что из услышанной проповеди, как мне показалось, сам понял, могу. — Постыдились бы, юноша! Побираетесь! Рядом с такими-то домами! Это же жильё настоящих янки, они же в росписях самих Пола Дэвиса, Эдварда Хоппера и Нормана Рокуэлла. Какое декадентское представление оставите вы о нашей славной Америке симпатичному этому туристу! Пойдёмте-ка, друг мой, я отведу вас на пятую авеню, Уолл-Стрит, покажу башни-близняшки нашего Торгового Всемирного Центра. — Благодарю, мадам, но программой всё это уже предусмотрено, на завтра; лучше уж я здесь, на земле, обожду. И тут же одумываюсь; сохраняя верность своим привязанностям, осознаю, что и низвергнутый с трона парой более высоких гигантов Эмпайр Стейт Билдинг притягательность свою несравненную не утратил, и что если уж вам назначают свидание Кэрри Грант и Дебора Керр[28], то следует явиться и поприветствовать их, пусть даже и в мифическом присутствии. И вот я на свидании с самим собой, в давно назначенном месте на углу пятой авеню и 34-ой стрит, в монументальном холле; истинный Арт Деко — сталь и мрамор. Один я, как перст, это так; зато все хорошенькие женщины, выходившие из лифта на сто втором этаже не менее получаса, встречаются как бы со мной. Уж вы-то знаете, сколь привередлив я в подобных вопросах, так что ни с одной из них не пришлось мне отведать… тумаков их телохранителей. И качусь я снова вниз, с верою в будущее.
Ухожу, руки в брюки, брожу так с добрый час и оказываюсь в Центральном парке. Сказка, настоящая сказка! отдельные ветви, а не то и абрисы целиком сотен деревьев светящимися точками очерчены; подобного в таком количестве раньше мне видеть не приходилось. Устраиваюсь на скамье, поднимаю ворот пальто и погружаюсь в сон, чтоб наверняка оказаться в той, новогодней открытке. Растроган я и опустошён, и так мне хочется разделить волшебный тот миг с кем-то, кого любил бы я и кто, возможно, любил бы меня. Ну, да ладно, проехали. И всего-то шесть вечера, с удивлением отмечаю для себя. Так рано стемнело, а мне нужно по меньшей мере с четверть часа ещё убить. Решаю идти на север — к пятой авеню, через парк. Прохожих становится всё меньше. Небоскрёбы оказываются за моей спиной, и по правую руку, на фоне гаснущего неба, проступают фасады домов, более подходящих жилью размеров. Через несколько сот метров, у входа в торговый ряд поделок ручной работы, оказываюсь нос к носу со сказкой. Реальная джаз-банда, не липовая: троица чёрных и парочка белых. Вы не поверите, но выслушать их я единственный остановился, и меня для одного они и играли. И не возникало у меня никакого сомнения, что одному лишь мне и было дадено право уделить им несколько минут в тот час, когда любой, разбитый и изнурённый за день горожанин, если и мечтает, то разве что о своих привычных шлёпанцах, жене и любимой телепередаче; впрочем, всё как у нас, смею предположить. И, как по мановению волшебной палочки, все эти клаксоны, сирены скорой, грохот рокеров, истерия стадионов, взрывы, выстрелы, весь этот горловой хрип Нью-Йорка, посторонились и застыли… в почётном карауле перед её величеством Музыкой. Джаз-банда и Лист… рапсодия в шаге от часа икс и от поредевших, до неуловимости, такси; два завитка чудной партитуры в исполнении ласковых железяк, алый и нежно голубой, буквально подхватывают меня под руки и возносят за собою в небеса, поверх Манхеттена, влекут дальше к северу, к границам Гарлема. И вижу я висящий, с музыкальной той тучи, всю округу, белому человеку, проезжающему Бронкс Бриджем, сквозь нищету, срам и раскаяние, из Нью-Йорка в Вестчестер, на уикенд, в ссылку, за грань забвения… неприметную. Парой нот, явленных свету одной из тех железок, унесён я прямо в их логово, в их трущобы, в гетто, на их погост… …Где, на сто десятой, между Гарлемом и прочим миром, два парня, чёрный и белый, перебрасываются мячиком, и тот скачет то черной стороной, то белой. И руки подростков подхватывают его — черные белую, белые чёрную сторону — и так до тех пор, пока мяч не взрывается огнем… на утыканной осколками стекла и лезвиями ножей стене… в павшей на округу, во всем своем ужасе ночи… Какое-то такси отдаёт предпочтение знаку моей поднятой руки. Улыбчивый гаитянин, на засиявшем вдруг солнцем французском, даёт мне понять, что я здорово рисковал. В одиннадцать, я в своём номере; промахнулся с общим обедом, зато проглотил сэндвич с пастрами[29] по-гарлемски: первый в моей жизни, вкусней не едал. Перед тем, как уснуть, сколько-то минут смотрю через окно на выкрашенную иллюминацией в красный цвет иглу Эмпайр Стейт Билдинга, воткнутую в звёздное небо Нью-Йорка, будто значок «снайпера» в петлицу усыпанного блёстками смокинга. День у меня получился самый длинный и самый насыщенный в моей жизни. Принял душ я на рассвете, в квартире под номером 21 блока F, в засаженном каштанами пригороде Эн-Сент-Мартина, в Бельгии, в провинции Эно. Во второй раз душ я принял уже в номере 3917 отеля Американа в Нью-Йорке, в США. Разделяют две этих помывки двадцать четыре часа во времени и шесть тысяч километров пустоты. Попал я по-крупному.
Утром следующего дня сразу марафон; ни какой тебе раскачки. Надсмотрщица наша, пресекая всякое ротозейство и зырканье по сторонам, сбивает нас в стадо. Здесь нам положено вибрировать в унисон, по команде «cheese» фотографу улыбаться: самые разные бельгийские журналы поездкой нашей собираются наполниться. Как же тяжела шкура победителя, и до чего же муторно всё время афишировать счастье своё от тамошнего пребывания. Да, нам дозволено городом этим дышать, сердца его биение слышать, но чувствуем мы себя при том в клетке, за невидимой, не позволявшей влиться в вены его стеной. И ничего, что желаем мы задержаться у чего-то, в программу пребывания не включённого. К примеру, мне по душе было бы пропустить по стаканчику вон с тем чёрным, что весь вечер напролёт напевал возле нашего отеля блюз, и голова его как бы не сходила с некого несуществующего экрана, толкая доверху заваленное светящимися лампочками ландо. В извивах затерянных улочек, куда Дентостару, этой пасте счастливчиков проникнуть не дано, угадывается фантасмагорическое зрелище, прекрасно вторившее скрытному безумию, отыскавшему себе место между поэзией и кошмаром. Это то же самое безумие, что не отпускает меня во всё время пребывания в Мэдисон Сквер Гарден, куда нас привели полюбоваться на Биг Уил. Никто из нас не знал, что же это за звезда такая, собиравшая в знаменитом том дворце спорта по пятнадцать тысяч зрителей. Скоро нас просветили. Биг Уил, это такой большой вездеход с четырьмя ведущими колёсами. Эти самые колёса, они огромные, куда как больше кузова, а значит метра с два в высоту, не меньше; и ширина у них, как у катка дорожного. Потому и название Биг Уил, большое колесо значит. И этот монстр, как какой-нибудь бонсай, сохранивший изначально могучие ветви свои, взгромождается на обычные автомобили и крушит их, всмятку сминает. А диктор подгоняет их воинственными кличами, и публика в истерике скандирует их марку, вопит что есть мочи, когда и сам этот Биг Уил атакован сзади соперником тоже впечатляющего веса, но с колёсами смешного, рядом с его, размера. Удары, срежет железа сминаемых кузовов, скручивающихся под колёсами терминатора усиливают хаос пошлой этой подделки конца света. Но Биг Уил остаётся победителем в любой, даже самой сомнительной передряге. Как и сама Америка, что и очевидно. Это Америка римских арен, одуревшая от мощи, большим пальцем долу понуждающая Нерона, водилу Биг Уила, безжалостно плющить, квасить вставшие на её пути дорожные кареты: вот она какая, эта Америка. Жалею, что явился поприветствовать её. Оглядываюсь на свою группу. Вижу, эйфория как зараза. Одна лишь блондинка остаётся невозмутимой, она всё ещё не соблаговолила снять свои чёрные очки. Нахожу её более привлекательной. Говорю себе, что должно быть несколько преувеличиваю символизм влияния этого спектакля для неугомонных детей и их родителей, на котором нам довелось присутствовать.
Направляемые медоточивой нашей матроной и неприметным её кнутом, послушно придерживаемся оговоренной программы, хотя от избытка свежих впечатлений и ощущений нас едва ли не воротит. Мы имели право на удивление и восхищение, а из-за сдвига по времени и на помутнение разума, и на одышку. Но, не взирая на ветер и хляби, на ускользающую из-под ватных наших ног землю, мы всё же сохраняли улыбку; Дентостар мог гордиться нами. Я-то эмоции, может только для меня и значимые, пожинал дважды: сначала в Бруклине, затем, позже, и в Маленькой Италии, что на краю Манхэттена. Гул улицы, торговцы её, разносчики, таксисты, официанты, домохозяйки и домработницы с вечной их суетливой озабоченностью, подростки на великах, это окликающее всех и вся на любых, бытующих в Италии наречиях столпотворение ощущалось мной столь родным, но виделось таким ирреальным, что чудилось мне, будто всё вокруг есть ни что иное, как фильм Витторио де Сика с моим в нём участием. Подавший нам эспрессо Лавацца гарсон, точно из нашенских, голосом Доменико Модуньо пояснил мне, что хотя он здесь уже и с десяток лет, а знает «по-американски» всего несколько слов, потому как среди итальянцев просто и нет нужды знать больше. Зато вот американцам, если хочется вкусно пожрать, не плохо бы названия заманчивой гастрономии «макаронников» получше знать. Что-то припоминая, задаюсь вопросом, кем стал бы здесь я, выбери в своё время далёкую эту Америку отец мой, как сделали многие приятели его. И приходит мне на память одна из его любимых присказок — «накудыкинойгоре». Так отвечал он мне, всякий раз широко улыбаясь, когда приносил подарок и слышал мой вопрос, где ж это он его купил. Звучало оно для меня загадочно, туманно, некой абракадаброй, чем я, не требуя большего, и довольствовался. И вот, через двадцать лет, некое смутное озарение завело меня в Бруклин, где и услыхал я его от какого-то, едва выговаривавшего с жутким своим прононсом пару-тройку американизмов, итальянского служки. Волшебное место, пещера Али Бабы, о чём когда-то рассказывал мне отец, было на самом деле здесь, на четвёртой или пятой авеню. Американская мечта с итальянским акцентом. Накудыкинойгоре! Чао, приятель! Буона фортуна! И буона Италия!
Не засиделся я на странном том сборище, где за каждым столом сидел Дед Мороз. Представьте себе их, числом с двадцать, бранившихся друг с дружкой из-под клееных бород, толкавшихся и пихавшихся в проходах промеж своих клиентов, коим перевалило за тридцать. Но однако ж, даже рискуя показаться умственно отсталым, продолжал я верить в их подлинность. И со временем было мне воздано, в плане всё той же, не весть откуда взявшейся удачи, что с некоторых пор сопутствовала мне. Санта Клаус, американская версия великодушного друга и доверенного лица всех детей, одарил-таки меня самым роскошным из презентов. Но не спешите, речь о нём пойдёт в следующей главе…
Фланирую мимо удивительной современности древнего Египта, пробегаю сквозь средневековье, вильнув лишь в период итальянского Возрождения. С час уж минуло наверняка, пока не наткнулся я, нос в нос, на юного эфеба, в бронзе литого жаром гения Родена. Это на пересечении главной галереи, по которой шёл я, и боковой, под прямым углом от неё уходившей, заставленной шутовскими скульптурками. Обхожу импозантного мальчишку и попадаю в зал, фисташковые стены коего предоставлены Мане. В смежной с ней, по правую руку, комнате глазам моим предстаёт первое, воистину ослепляющее зрелище — божественный Матисс в соседстве с потрясающей чистотой линий Модильяни. На противоположной стене висят Картёжники Сезанна, рядом Пшеничное поле с кипарисом Ван Гога. Такое обилие красоты и на столь малом пространстве заставляет шалить меня, как ягнёнка, я в шаге от рыданий из-за душившего меня счастья. Новый порыв экстаза, теперь перед Мечтой и Завтраком слепого Пикассо. Каждая из выставленных картин стоит того, чтобы внимание уделялось лишь ей одной; весьма подошла бы возможность каждый день являться сюда и часы напролёт любоваться одной из них, чего они и заслуживают. А тут и Моне. Клод Моне, французский импрессионист, гласит небольшая табличка. Череда картин: Четыре дерева, Парламент, Утро над Сеной, Руанский собор, потом оборачиваюсь и глазу моему во всём великолепии своего размера предстают изумительные Кувшинки, из серии набросков к Плакучим ивам; датированы 1915–1919 годами. Water Lilies: подтверждает табличка под ней. Вот сюрприз, так сюрприз: посреди зала скамья, несомненно, для посетителей подобных мне: с тонкой психикой, легко впадающих в обморочное состояние. Скамья свободна. Расслабляюсь на ней, перевожу дух. Скажу вам, что год тому назад, взбунтовавшись против Франсуаз и постоянных её приставаний, съездил я в Париж, с тем лишь, чтобы взглянуть на знаменитые лилии из не менее известной Оранжереи, но на месте узнали мы, что те недоступны — музей был закрыт на ремонт. Знак свыше, не иначе; мадмуазель Легэ не из тех женщин, кому близки мои мысли и чаяния. Едва справился я с острым желанием погрузиться телом и душой в омуты пруда Живерни[30], в красоту их, сотворённую из смеси тончайшего из оттенков голубизны, ловко отделенного от густоты сирени, сочной зелени только-только распустившейся листвы и нескольких пятен алого кармина, как мне, прямо в ухо, нежный женский голос произнёс: «Не могу ли и я с тобой туда нырнуть?» Я обернулся и нос к носу столкнулся с Шадиёй. В руке держала она светлый парик и жуткие чёрные очки. Тут уж я решил, что важные свои послания в Эн стану отныне отправлять лишь почтой.
А союзницу свою, Пьеретту, вернувшую мне уверенность в себя, предам ли я? «Дело» она продала, хотя подозреваю, что кое-что всё же приберегла (так, мелочь, копейки, но эти инвестиции устоят при любой моде и против любых финансовых потрясений, так что не стоит таким пренебрегать). Как великодушная, но в этот раз вовсе не заинтересованная «посредница» в стряпне счастья для двух, пусть с её слов и созданных друг для друга существ, пожелала она укрыть нас под своим крылом и даже соучаствовала в воодушевлении нашем. Отправив Шадию за мной в Нью-Йорк, подселив славную сию представительницу берберского племени в квартиру мою в Ситэ, а вместе с ней и присущие её природе нежность и страсть, убедившись что херувимчики никуда отсюда в ближайшее время не сбегут, мадам Дюпре, в кои то веки, смирилась с тем, что деревья бывают и голубыми, и фиолетовыми, и красными… любыми, лишь бы в том был толк. Даже некоторую сумму нам пожаловала; пополненной из кубышки Шадии, хватило нам её, чтобы открыть свою художественную галерею… Скромную. Пьеретта настоятельно советовала нам убраться из здешних мест. Монс и Шарльруа не подходили, они казались ей излишне местечковыми. Навела справки у проверенных своих клиентов, весьма подивившихся разговорам о живописи. Совет был один и тот же — если что-либо и предпринимать, то только в Брюсселе; тот становился столицей Европы. Не познай я головокружительного перемещения в Нью-Йорк, этого перенесения в другую страну, как из деревни какой-то в столицу, я бы испугался. А так я согласился, с одним условием: осуществления одной старой моей мечты. Хотелось мне экспозицию в Ситэ организовать; прощальный, так сказать, подарок мой. Я и теперь слышу то, что и как ответила мне Пьеретта: — Послушай, малыш, я что-то не въезжаю. Что ты собираешься в Ситэ выставлять? Показывать нечего, да и они, как бы, без лоска этого обойдутся. — А мы ничего и не станем выставлять, картины они принесут. — Кто это они? — Жители Ситэ. — Ну и ну, парень, ты бредишь… ты вообще себе представляешь… — Отличная мысль — перебивает Шадия, — красивая и смелая. Пьеретта смотрит ей глаза в глаза. — Ты только посмотри… теперь они оба против меня. А что мы с этого поимеем? — Ничего, — отвечаю, — а вот обойдётся нам это в несколько тысяч франков, только их нельзя сравнить с тем удовольствие, которое мы им подарим. — Послушай, — это Пьеретта мне говорит, — ты в Брюсселе-то, надеюсь, не станешь из себя Дон Кихота корчить, а не то: мухи отдельно, котлеты отдельно. — Мухи… котлеты… не смешно, — отвечаю ей, с улыбкой. — Я серьёзно, голубчик мой. Нечего меценатов из себя корчить, или как там называют тех, кто содержат артистов, у которых в кармане ни гроша? Что, я не права? — Верно, Пьеретта, знаю, что мы без средств, но уверяю, такое не повторится. И вот, ещё что, прессу уговорите; заполучим на эту затею громкий отклик, и это уже настоящий трамплин. — А вот в этом есть резон, мальчик мой… — Не забывайте, что помимо любви к искусству, за мной числится ещё и торговля нижним бельём; я же как бы бухгалтер, по образованию-то. Тендер в мэрии мы выиграли, конечно же, не без помощи Пьеретты. В середине марта были напечатаны афишки о «семейной», в некотором смысле, экспозиции в Ситэ. Мы просили всех, кому это было интересно, мужчин, женщин, детей, приносить свои произведения до 15 мая в ратушу. Вернисаж 1-го июня 1989 года. Нам хотелось, чтобы всё случилось до начала каникул, потому как и из нищеты Ситэ, ценой огромных жертв, чаще тягостными и долгими переездами в совершенно раздолбанных машинах, но уезжали иммигранты на побывку в родные места, повидать близких. Нежданная опека в лице помощника бургомистра придала проекту официальный статус и сыграла на чувствах самих кандидатов на звание художников. Стены домов Эн-Сент-Мартина были оклеены нашими афишками. И нам, не спровоцировав нечто-то вроде революции, невмочь было втолковать окрестным жителям, что в экспозицию допущены лишь жильцы квартала каштанов. Вынуждены были согласиться мы принимать любую картину, если автор её сдавал с нею вместе анкету, в которую заносил имя своё, адрес, возраст и род занятий. В результате картины большей частью сгруппировались вокруг того или другого из истинных, ставших откровением шедевров.
Меж тем, Пьеретта приметила в Брюсселе на бульваре Жака вместительный, насквозь продуваемый ветрами ангар, по старой вывеске на котором, в виде раздолбанной колымаги с названием Old Ladies, можно было предположить, что ранее в нем укрывался цех автосборки. Состояние «никомуненужности», в котором тот гноили ни первый год, подтверждалось и смехотворной платой, спрошенной с нас за его аренду. То было славное местечко: высоченные стены на площади в пару сотен квадратных метров, опоясанные антресолью с ведущей к ней симметричной лестницей; выглядело всё это почти что величественно. Мы довольствовались тем, что стены выбелили, а выступы покрыли синевой электры. Художественная законченность помещения виделась нами достаточно убедительной. Подходил к концу февраль 1989-го. На свет явилась наша галерея, мы окрестили её Голубой виолончелью, в залог признательности, вам известно кому, даже не смотря на некоторую по этому поводу сдержанность Пьеретты. На скорую руку подремонтированный оригинал, чьё имя носило и заведение, восседал в витрине. Ведь это же он счастье нам принес! Отныне помыслы наши были устремлены на то, чтобы наполнить весь его объём красотой, вдохнуть в него душу и получить от него отдачу; к этому взывала Пьеретта, и я пообещал ей забыть о меценатстве. В былые времена вечерних прогулок по Эн-Сент-Мартин пообвыкся я с громадою размеров типажей современного искусства, безымянностью художников и скульпторов, недоступных и неприкасаемых, пусть и от мира сего. Мы же остановились на авторах не столь заметных, деяния которых казались нам интересными и обречёнными на признание ценителями в будущем. Среди них, фотограф один, итальянец; приковал он к себе моё внимание и пленил мою чувственность. Он представлял миру предметы обихода такие, как ложка, к примеру, или же тарелка с супом, кофейник, ломоть хлеба, яйцо в скорлупе, какой-либо плод, пепельницу, карандаш, зубную щётку, самое в общем-то обычное, но в чёрно-белом изображении. И я не знаю, какой такой хитростью, каким же приёмом подсветки он пользовался, может специальным каким-то способом чернения, только контуры предметов казались притом подрисованными чёрным карандашом, что придавало их формам неожиданной реальности. Обыденные эти предметы, увеличенные до размеров два на два метра, обретали некую загадочную ауру и смотрелись, как бы, впервые. Координаты фотографа этого я отыскал: звали того Анжело Боски, обитал он в Варезе, в Ломбардии. Предложил ему взять на месяц нашу галерею в полное своё распоряжение и разделить в конце вырученное с продаж, не давая друг другу никаких гарантий. Мы взяли на себя рекламу, транспортные расходы и кров. Обычная рутина для видавших виды устроителей экспозиций нам, новичкам, казалась за гранью риска. Доселе в Бельгии он не выставлялся и был на седьмом небе от перспективы распахнуть для себя страну Магритта и Дельво[31]. Интересовало его лишь одно — достаточно ли у нас на фасаде места для фото в четыре на три метра. Мне хотелось всё обмозговать, он настаивал: во что бы то ни стало нужно задать ритм, заинтриговать всякого проходившего мимо, для того и прибегал он к заранее проверенному приёму: выставлял фото некого незнакомца, но из местных, и одну лишь голову, но размером в четыре на три метра. Для того и собирался он явиться за несколько дней до открытия, чтобы отыскать подходящую физиономию, снимок сделать, портрет вылепить и вывесить. Я ему обещал, что сделаю всё согласно его пожеланиям, на том и порешили. С пятьдесят картин в светлых деревянных рамах, так же как и пара сотен каталогов были доставлены в Брюссель грузовичком. Сам фотограф приземлился в Завентеме пятого апреля, встречал я его вместе с Розарио. Анжело Боски знакомству с инспектором Беляссе был рад и выказал одобрение моему выбору. Всё было вроде бы как чин чинарём, мне всего-то и хотелось, чтобы фронтон наш украшала голова моего друга, но Розарио не мог взять в толк, чего от него нужно. Пришлось объяснять, что выпало ему принести мне удачу, и он таки согласился польщенный, но обеспокоенный, лишь с трогательной застенчивостью спросив: — И что станут болтать, если кто-то меня узнает? — Что ты лучший в мире сыщик! В нескольких городских газетах разместили мы неброское объявление; я понимал, что проку в том на грош. Небольшие афишки запестрели и на дверях некоторых бистро.
Пятью днями позже проводил я первый в жизни вернисаж. Открытие оказалось сдержанным: с пару десятков любопытствующих, якобы интересующихся, явились к поданному, как того и требовали правила приличия, шампанскому и закускам. Вместе с нашими друзьями и друзьями Пьеретты собралось человек с пятьдесят; прочее так себе, ничего примечательного. Одна лишь рожа инспектора Беляссе, огромная и лукавая, притягивала внимание пассажиров трамваев, всей армии автомобилистов и пешеходов, оказавшихся на бульваре генерала Жака между десятым апреля и десятым мая 1989 года, обсуждали, строили какие-то догадки, прикидывали, что, да как, и даже заключали пари. Розарио становился министром и киноактёром, раскаявшимся мафиози, нефтяным магнатом, главным тренером по футболу, ученым, ресторатором, а то и вовсе художником, и не знаю, кем ещё. Признавали в нём даже самого Анжело Боски, и никто не принял его за сыщика. Как бы там ни было, но люди шли, пускай хотя бы и затем, чтобы спросить, что же это за башку мы выставили. Одна дамочка даже сообщила нам, что типа этого знает: он, дескать, её сосед и, мол, в жизни своей не сотворил ничего такого, что делало бы ему столько чести. Тем самым, заполучили мы постоянно обновляемую хохму: ежедневно Розарио доставалось от нас новое обличие, побывал он и в швейцарской гвардии при Папе, а при сорванных тормозах нашего воображения докатился и до трансвестита. А люди, раз уж заходили, то непременно замечали и выставленные внутри отличные снимки домашней утвари огромных размеров, какой им не доводилось видеть её ни разу в жизни. Нельзя было не заметить, что они приятно удивлены! Да это же искусство! И так всё просто? А красиво-то как! Кто-то восходил и до вопросов о цене, а поскольку та не являлась такой уж неприступной, дней через пятнадцать на всех были прикреплены красные победные кружки — всё было продано. Пронюхав, куда со второй недели подул ветер, я вызвал Анжело Боски; скептически восприняв итоги первого дня, он тут же после открытия выставки уехал домой. Тремя днями позже, тот же грузовик доставил нам очередные пятьдесят снимков. Следующим после десятого мая днём получил я огромное удовольствие, сообщая фотографу, что ему не предстоит приезжать и забирать непроданное; просто ничего не осталось. Он отказывался, по началу, верить своим ушам, а затем предложил мне стать эксклюзивным представителем его по всей Бельгии. Согласие своё я дал, и до сей поры в Голубой виолончели постоянно выставляются фото Анжело Боски. Пьеретта уверяла, что никогда и не сомневалась в том, что я родился под счастливой звездой. Шадия же, та что-то говорила про мой нюх. Розарио приписывал успех притягательной силе своего взгляда. Ему от Анжело Воски достались два снимка: кисточка для бритья в пене и пепельница с дымящимся окурком. А в награду получил он и свой портрет, размером метр на метр.
Нежданный этот успех позволил нам приобрести несколько и настоящих полотен. Навещая Шарли у её матери, открыл я для себя студию в Лаетеме[32], собравшую в начале века под своей сенью множество талантливых бельгийских живописцев; тут тебе и импрессионисты, и кубисты, и экспрессионисты. Я даже в местный музей заглянул и приобрёл там каталог. Пусть такие художники школы, как Констан Пермеке и Густав де Смет, мне, новичку выставочного бизнеса, были и не по карману, зато прочие, из обожаемых мной: Ван де Вустейн, Фриц Вандерберг, Альбейн ван дар Абель, Флорис Йесперс, продавались по вполне приемлемым ценам. Мы взяли с полтора десятка их полотен, но одни они выставку ту, конечно же, не оправдывали; пришлось уйти в формат выставки-продажи. После подписания всех требуемых притом обязательств, дали анонс в профильные журналы типа Искусство Бельгии, чтобы забить в его, то бишь искусства, уютном, но и без того уж донельзя переполненном пейзаже местечко. Анонс состоял из подборки хвалебных отзывов о первой экспозиции, об оригинальности и даже дерзости, с какой та была устроена; отмечалось и качество выставленных на ней фотоснимков. Владельцам работ Латемской школы Голубая виолончель предлагала доверить их ей для показа и продажи. Недоверие, требование личных данных, чуть ли не родословной и ещё бог знает какие экзекуции — мы прошли через всё. Но позиций своих не сдали: мы не увиливали от вопросов, играли с открытыми картами. Некоторым из коллекционеров, закрывшим глаза на этот наш эксперимент, видимо, понравилось всё: работ этак с двадцать нам было доверено, и среди них, Крестьяне на отдыхе, Констана Пермеке. Одно из лучших его произведений — дуновение красоты, краски божественны — истинный шедевр. Тёртые торгаши как бы и проглядели её, потому как картина была не самого широкого круга известности, да и манера письма у автора, по мнению этих придирчивых знатоков грубовата, будто долотом долблена или же ножом вырезана. На манер резцов по дереву, украшая стены в домах зажиточных фламандских богатеев. Одна из несносных цеховых склонностей указывать, мудрёные сентенции, что всякому художнику отведён на работу плодотворную некий срок, а остаток жизни уходит на поиски и страсти-мордасти. А я вот взял да и влюбился в полотно это, маслом на холсте писаное, в размер метр шестьдесят с чем-то на метр десять, в девятнадцатом году, в Англии. И теперь вот, млея от восторга перед шедевром Пермеке, говорю себе самому, что нет никаких веских доводов в оправдание мнения, что картины подобного уровня должны услаждать взоры одной лишь элиты общества. И я — выходец из гетто, но мне кажется, что кожей воспринимаю их. Я реагирую на них, как дитя предместья каштанов, в очередной раз досадуя от имени всех тех, кто лишён доступа к прекрасному, часто созидаемому великими мастерами в условиях такой же нищеты, как у них самих. И не во имя сопричастности к невзгодам их хочу я показать этим «отбросам общества», что произведения искусства и им предназначены, что и их глаза в равной степени с прочими имеют право гравировать на своей сетчатке ту красоту. Курсы рисунка и истории живописи, которые я в своё время брал, дозволили мне ознакомиться с некоторыми секретами мастеров живописи, узнать побольше об используемых ими красках, умении их смешивать, о весьма индивидуальной технике мазка каждого из художников, подборке ими того или иного растворителя, способного по их прихоти ускорить или же замедлить высыхание масла. И при всём притом говорю вам, что из почтения перед его величеством Искусством воздержусь от самолюбования. Нет у меня способности на идею оригинальную, но я справляюсь на отлично с репродукцией великих полотен… если они мне нравятся; условие это непременно. Не хочу прослыть имитатором, пусть даже и известным, на манер тех их творящих, что превратили это ремесло в доходную коммерцию. Обожаю Крестьян на отдыхе, зачаровывают они меня. Так вот, есть у меня мечта одна — ознакомить с ними ровню мою из Ситэ. Безо всякой задней, дурной мысли позволил себе я удовольствие порисовать их, с любовью и почтением покопировать; всего лишь из почтения к великому их создателю. И вот мало-помалу идея та, о ней в самом начале я уже напоминал, принялась пощекатывать моё сознание, да так в нём и застряла. Потому и решился я на откровение и сомнением своим поделился с вами по той же причине: работы-то свои как подписывать, своим именем или Констана Пермеке? Второй вариант, как вы сами понимаете, может и к признанию правомочности проступков подтолкнуть, а не то и преступлений даже. Эх, да что же это я вам такое говорю! Вот, слышу уж от вас: «Как? Потчевал часами нас неким чтивом и всего-то лишь затем, чтоб к дурацкому вопросу этому подвести? Да плевали мы на тебя, твоя это проблема, бумагомарака ты этакая! Ты же только что бодренько набалтывал, что не задумываясь и безо всякой там щепетильности мужика в могилу подтолкнул; простой и примитивный ты сторонник смертной казни, вот и всё. А тут, видишь ли, добродетель перед нами с этой подписью под какой-то там мазнёй разыгрывает…» Ладно, хорошо, не сердитесь! Позвольте вам всё объяснить. Имеете вы полное право ха возмещением издержек к моему издателю обратиться, а можете ещё мою книгу злейшему вашему недругу сбагрить, если я вас не смогу переубедить. Для начала, поверьте мне, что я против смертной казни непоколебимо. Это, во-первых! При поимке, так сказать под горячую руку, я смог броситься бы на того монстра, что повинен в смерти дорогого мне существа, но если бы от меня потребовали, уже после вынесения приговора, врубить электрический стул под ним, я бы отказался. Я хочу сказать, погибни тот монстр сам в автомобильной катастрофе при переезде из одной в другую тюрьму, не заплакал бы. В общем, с Фернаном Легэ приключился несчастный случай по пути его следования в назначенную уже ему «тюрьму», к презрению и ненависти, которые плодил он вокруг себя при существовании своём. И уж осуждён-то был он, как ни крути, а более или менее во время; врача его о том можете спросить. Ну, и при всём моём почтении к вам, хотелось бы всё-таки заметить: точной копии мазни в оригинале не сотворить, это уж, как два… В общем, что бы там ни было, но все, так меня и не покинувшие, знайте: картина моя, то бишь моя версия Крестьян на отдыхе, укрытая белым саваном, почивает в моей мастерской — обращенная к северу, в ней идеальное освещение, часть нашей комнаты. А поразмышлять, я в конторе уединился… Так что теперь, когда мнение ваше подсозрело, отошлите мне свои соображения: станут они для меня, уверяю вас, большим подспорьем. Клевавший сэндвич воробей пролил мне на душу бальзам; невинность, с какой он пользовался случайно посланным, укрепила меня в сумасбродной моей затее и… выставлю-ка я своего Пермеке в Ситэ. Оригинал же, копию ли… При всей своей скромности, всё же вас уверяю: копия отменна, а обман… ну, что обман… да и не откроется он. Пошлой лжи не будет, не стану я бывшим соседям своим совать под нос мешанину из уважения и презрения в виде копии, пусть и прекрасно исполненную. Как бы сам я, откройся мне подобный подвох, на их месте реагировал? Предательство ещё раз пережить? А они, при врожденной скромности их, оценят ли доброе намерение моё? Поди-ка ты, узнай… Вот и думаю, вот я всё ещё и размышляю, и время как бы застыло, чтобы дать мне, наверное, возможность верное решение принять. Что ж, подождём несколько дней ещё… И вот, восьмое июня; после открытия выставки в Ситэ минула неделя. Несколько сотен работ получили мы, одна другой выразительнее, неожиданнее, новей: тут и цветной карандаш и акварель, грифель и гуашь, пастель и размывка, акрил и масло. И в самой разной технике написания. И при том — ни тебе конкурентов, ни призов, ни какого-либо воздаяния… Сколько букетов, солнца, домиков в цветущих садах получили мы от детей! И шахты, шахты… с отвалами пустой породы и брошенными клетями, и черные, измордованные лица с выпученными от напряжения глазами… в назидание подросткам. Сколько помыслов и надежд, сожаления и обиды умещалось на малых кусках полотна, картона, простой бумаги… Многим не хотелось ударить в грязь лицом, вот и пробовали по простоте душевной воспроизвести где-то виденные рисунки и картины… Кто-то заявлял о себе, подобно Дюбуффе или же Шессаку, не ведая о их существовании, в примитивной манере. Что не ведали, так то и к лучшему; сохраняли притом природную непосредственность свою… С кисти выходцев с юга Италии, Сицилии или же Калабрии, стекала на полотна ностальгия по горячо любимой в юности, выжженной их земле, проступала на них утыканными оливами лужайками и обвитыми опунцией оградами, сложенными из дикого камня, а поодаль, за ними, проглядывали размытые, как и в их памяти, очертания родных деревушек… Потомки североафриканских племён манили вас за собой в узкие, извивавшиеся в коричневом, как сами они, сумраке душной ночи улочки и предлагали освежиться у колодца, воду из которого при тусклом свете рыжей луны доставали скрытые под паранджой, стройные женщины… А ещё, редко правда, встречались те, кому дорога абстракция, и ничуть не менее интересные; и конечно же, все заслуживают, чтобы перед загадочными их посланиями головы чьи-то склонялись… Таггеры[33] и те, рискуя быть опознанными, за руку оказаться пойманными, доверили всё же нам свои доски, с мятущимся на них, вырвавшимся из плена пенящегося аэрографа рисунком; необузданно вопящий их колорит, словно беспощадно острые, в бархат упрятанные когти клеймили истинных виновников беспросветного их жития-бытия… Будто только и ждали всеми отвергнутые творцы нашей выставки, чтобы выплеснуть наружу глубоко припрятанные, тщательно скрываемые чаяния свои. Искусства в Ситэ оказалось больше, чем я мог себе представить, но местный обыватель осмелился вдруг извлечь его из тайников своей стыдливости; там, с осторожной оглядкой на посторонних, в страхе за его кажущуюся извне посредственность, надиктованную повседневностью, сберегалось оно… И каковым бы ни был избранный стиль, какой бы не оказалась сноровка того или иного художника, но главным во всех тех творениях предстояло желание сигануть в приоткрывшуюся дверь, с вершившимся за ней обретением достоинства, ухватиться за шанс жить иначе, отринуть с себя грубый отказ общества — того, что являлось главным успехом, как, впрочем, и главной причиной недолгой жизни нами затеянного. Экспозиция та оказалась щедрой на разнообразие этноса, обернулась празднеством самых невероятных и неожиданных оттенков радости, надежды, страдания явившихся со всех сторон света homos sapiens; снопом конфетти, кляпом вогнанный в глотку ничтожности жизни, на которую были осуждены, и которой теперь показывали они средний палец… Нам понадобилось два дня на то, чтобы развесить картины на стенах подъездов нескольких домов; даже коридоры первых этажей пришлось задействовать. Первого июня, в пять вечера, началось шествие в искусство; не то, что составляет предмет наживы, что копят, распихивая по сейфам Швейцарских банков, а самовыражение души, объявление её на свои права. Небеса приняли нашу сторону; в тихий тот вечер сам мэр, в сопровождении собственного же зама по культуре открыл выставку, произнеся возле блока F речь. Он поблагодарил всех участников, оказавшихся во много большем самого оптимистичного ожидания числе, и сотрудничавшим в проекте волонтёров. Его похвалы удостоились и местные, якобы приложившие немало усилий для сближения аборигены, с чем те и согласились. И всё это по его, дескать, убеждению, являлось жестом доброй воли, предвещавшим ничто иное, как всеобщую выгоду и тесное братство в самом недалёком будущем. Меня он представлял не иначе, как отважным зачинщиком данной выставки и, как только стихли аплодисменты по меньшей мере половины всех обитателей нашего предместья, я был заснят бок о бок с представителями местной власти. Так вот и нарождается эта самая слава… Толпа рассеялась по окрестным домам и тот ещё концерт начался: «Ах, ох… так это ты рисовал… а это ты видел… ну, совсем неплохо», после и вовсе уж — «так вы из Ситэ? что-то я никогда не пересекался с вами, заходи-ка к нам на чашечку кофе»… В том-то и был успех, и радовались все тому; над безразличием появился переброшенным мост, и сходился клан с кланом, и страхи одного разбивались о страх другого, и плелись притом узелки добрососедства, и так просто стало вокруг… И лишние эти, ненужные никому, чумные люди «из-под каштанов» ощутили себя востребованными и чтимыми, и не случилось ни единого инцидента, и не отмечено ни малейшего акта вандализма… В раме состаренного дерева царили, будто на троне восседали Крестьяне на отдыхе Пермеке; её я на стене против входа в блок F, то бишь мой закрепил. Чем не солнце? Всяк очередь к ней занимал, в лучах её чудной красоты погреться. Перед подобным, порой и неуклюже, да всякий раз искренно выражаемым изумлением, любому, даже ранее и сомневавшемуся в том, становилось очевидным, что искусство, явленное от Бога, проникнуть может в душу каждого, и что его восприятие привилегией лишь посвященных отнюдь не является. Я упивался счастьем других и сопричастностью моей клану хозяев, радушием своим гордящихся, и о той лишь осторожности, уступая которой, мы каждый вечер уносили Пермеке к себе, сожалел. Теперь-то я знаю, что во всё время проведения выставки могли мы безо всякого риска оставлять его на месте. Длиться та должна была месяц, но её пролонгировали, ad libitum[34]. Все, как один, высказывались, что наилучший эффект картины производили именно там, где их и видели. Я уверен, что и через пять лет оставались бы они на своих местах, и только при этом множились бы числом своим. Будто по мановению волшебной палочки, власти припомнили некогда ими же обещанное улучшение условий жизни в Ситэ, и за несколько последовавших месяцев жильё местное было заново подкрашено, со стен его исчезло граффити, вновь заработали лифты, заасфальтировали пешеходную зону, у детей вдруг появились игровые площадки. В общем, жизнь стала налаживаться, и все в Ситэ твёрдо в то уверовали, и никто вновь разочарование испытать не согласился бы. Моя ставка оказалась удачной; в местной, да впрочем, и в центральной прессе гвалт по поводу имевшего места стоял отменный. Случилось нечто и из ряда вон. Художники Латемской школы незаметно как-то так, но увлекли за собой в Голую виолончель и своих почитателей. Штурмом галерею притом, конечно же, не брали, но успех её мало-помалу рос. Начали мы и первые сливки с затеянной под лозунгом Искусство в массы акции снимать; пресса отмечала и не единожды, цитирую, «…блестящую идею директора Голубой виолончели создать что-то этакое…». Пришлось на три их вещицы красное конфетти наклеивать, продано мол уже; не то, чтобы очень, но всё же лучше, чем ничего. Крестьяне на отдыхе служила нам рекламой, манила и соблазняла, но выставленная на неё цена могла бы и в более престижной, чем наша, галерее ненормальной показаться. Промеж уровнем картины и местом её презентации многие, несомненно, отмечали с трудом допустимую неувязочку. Однако, не так уж важен и вид ларца, коли в нём драгоценности покоятся. Вот и заприметили ту драгоценность, да и положили на неё глаз некие пройдохи, пожелавшие заполучить её, ни гроша не заплатив. Минувшей ночью под прикрытием аварии, устроенной в электросети сведущими специалистами, всё и свершилось. Случись, что система охраны наша стала бы им не по зубам, и то не помогло бы: подонки, с утончённым, кстати, вкусом, стащили одних лишь Крестьян на отдыхе, вырезав картину из рамы ножом. Пьеретта, подавленная происшедшим, отметила, что прочие картины со всей очевидностью не стоящим внимания барахлом представлялись им. По страховке сумма возмещения ущерба, конечно же, существенно превосходила заявленную стоимость шедевра. Правда, страховщики всегда и на всё смотрят по-своему; так что времени, затребованного на проведение различных экспертиз, необходимых им для выплаты хотя бы первого из причитавшихся сантима, вполне хватало и жертвам — на прикрытие своей лавочки. Пьеретта, явившаяся к нам как раз к разбору полетов, не могла взять в толк спокойствия моего: — И это всё, на что ты способен, когда на носу у тебя похороны? — Делаю, что могу; трудно, знаешь ли, Пьеретта, корчить постную мину, без мало-мальски подходящей тому причины. — Так… и чем же тебя теперь можно достать по-настоящему? Может тут вот, прямо у твоих ног, с приступом сердечным шлепнуться? Думаешь, история эта на пользу нам? Да нас засмеют… А страховщики, думаешь они раскошелятся, не пытаясь все потроха из тебя до того выскрести? Изо всех последних сил борюсь с нарастающей во мне волной безудержного хохота. Шадия вполглаза наблюдает за мной, оставаясь заинтригованной. В курс дела о копии Пермеке я её ввёл, обсуждал с ней и доводы в пользу показа в Ситэ ненастоящего полотна. И благословила она тогда меня от чистого сердца на тот шаг, и покорился я доводам её, и состоялся потому в Ситэ показ Пермеке, пусть и поддельного, и оказался тот выше всех похвал. Становлюсь серьёзным, насколько могу: — На самом деле, мы не станем посмешищем. Ни в глазах клиентов, ни перед страховщиками. Потому что о злоключениях наших никого оповещать не станем. Пьеретта при этом вопит во всю глотку: — Да как же это так! Да кто же это возместит нам утрату дрянной этой картинки? Впрочем, она вовсе не нравилась мне… Боже ж ты мой, ну когда же ты надо мной смилостивишься? — Постой, Пьеретта, позволь-ка мне всё доложить по совести. Никогда ещё я не был так горд собой… — Ну, вот… он, вдобавок ко всему, и гордится ещё собой! А у тебя крыша часом не поехала? — Да нет же, Пьеретта, вовсе не поехала, и право гордиться собой у меня есть, потому как со своим талантишком смог-таки крупных спецов одурачить; не усомнились они и на миг в том, что великолепный, выставленный у нас Пермеке не подлинник, а всего-то лишь копия, лично мной, моей рукой выполненная подделка. Подлинной в ней одна лишь рама была, а настоящие Крестьяне всё это время у нас, в Ситэ, отдыхают. Все думают, что им пришел каюк, и никому дрянная та мыслишка, что их просто-напросто… спать уложили, в голову не пришла. Отсюда и мораль: не всё вору впору. И отдельная реплика тем из вас, кто дочёл всё, до конца. Спасибо вам за те мысленные послания, что я временами улавливал, телепатически; весьма и весьма помогали они мне не забросить начатое…
Пьеретта взглянула на Шадию; та со своим «Inch’ allah» на улыбающихся устах простерла руки к небу, и из груди троицы, соучредителей Голубой виолончели, безудержно рванулся едва сдерживаемый мною смех, сыпанул рикошетом от стены в стену, из картины в картину, так что вскоре уже все персонажи с полотен Латемской школя зашлись в хохоте…
Эпилог
…Десять минули, как один день… Фернана уж никто и не вспоминал, поговаривали лишь о его дочери, перенявшей бразды правления отеческим промыслом. Помогая, подставил ей свои плечи уморительный Фирмен. Да Жан-Гийом Мёнье, старый мой школьный приятель, для многих из нас просто Жан-Ги; тот, сделав будущей супруге своей её уменьшенную копию, сдал затем и экзамен на допуск к профессии, диплом по технике погребения получил, а то как же — компетентные органы теперь весьма суровы к злоупотреблениям. Могло показаться, что до нового того законодательства любой и каждый на том лишь основании, что схоронил ближних своих, мог самопровозгласиться «спецом похорон и погребений». Ничуть не бывало! Я? А что я, я исключение… теперь очень всё переменилось, посмотрите-ка на Жан-Ги. Франсуаз стала красивой, цветущей женщиной. И на здоровье… куда и подевались те, утерянные ею тридцать кило! Мне ли, право, о них печалиться! Как и прежде предприимчивая, воодушевляемая своим Жаном-Ги, конечно же, решилась на возведение целого похоронного комплекса, о чём ещё папаша её мечтал; на целом гектаре девственной землицы, давно скупленной предусмотрительным Фернаном… в двух шагах от кладбища. Планы те существовали уже при нём, а как же! Всё — в духе преданности его величию и его, господина Легэ, экспансии; во всей округе и ныне ничто не могло свершиться у мёртвых, чтобы не урвал с того наживы своей Комплекс Легэ — величественный этакий супермаркет, от горизонта и до горизонта. Даже морг для усопших, и тот с кладбища переехал сюда, потому как Фернан здесь и камеру морозильную предусмотрел. Вынужден так же был снять шляпу перед конкурирующими ораторами и кюре: те из рук Легэ SA питались и зело усердными слыли, хотя и не имели посвящения в сан. Гробы, могилы, склепы, погребения, сожжения, венки — всё у Легэ в продаже, всё можно взять в наём. Здесь же и страховое агентство отыщется, пожелай вы устроить похороны с шиком; наследники Легэ тут же в оплату их ввяжутся, оплату же, начав взимать ещё при жизни вашей, растянут затем до самой вашей смерти, что позволит им втрое взвинтить изначальную смету. Неплохой расклад, правда?Пьеретта с Розарио познакомилась; эта сводня и содержательница публичного дома разом хрустнула под натиском остроумия, хладнокровия и философии повидавшего жизнь копа — взаимная тяга крайностей друг к другу. Я оформил им членство в Tango Club, они сразу же попали в такт и тут же двинули в общем направлении, дымя от желания разобраться, кто из них двоих в большей степени не может обойтись… без другого. Розарио, тот страдал от многолетней нехватки нежности, тогда как Пьеретта хранила ту тоннами. Похоже запас хорошего, он никогда не заканчивается. Розарио приобрёл крохотный карманный фонарик и включал его всякий раз, когда хотел опробовать на Пьеретте какую-либо шутку. Если вам выпадет удача скоротать с ними вечерок (это прямо напротив парка Маримонт, в квартире мадам Дюпре Сантини, которая может статься, а почему бы и нет, мадам Беляссе), вы услышите их беседу, непременно переходящую в тишину, изредка прерываемую вздохами и возгласом: «Ох и достал он меня… но как же я его люблю, этого инспектора моих…». Ролан испарился и лишь время от времени легкой тенью во взгляде Пьеретты пробегает. Полагаю, что содержат его в какой-либо клетке на солнышке; может в Форментера, на Болеарских островах. Слышал я, что мать его хлопочет о поездке в те края, то ли на отдых, то ли по делам… Мог бы и Розарио, поразмыслив и даже рискуя вызвать семейное неотвратимое цунами притом, облегчить всё же дорожку того к социальной реабилитации.
Пока же, зная о резавшем всех, кого не попади, мяснике, наш Коломбо предпочитает не высовываться. Отойдём-ка, пока не поздно, в сторону и мы как гласит слоган сепаратизма. Вот и Бельгия, странное животное — спереди голова петуха, сзади льва, а самой задницы то и нет, и отсюда все её болячки. Всевозможные педики смакуют эти подробности, а в плотную ту вуаль с удовольствием кутается убийца жителей валлонского Брабанта. Брюссельцы обрюсселиваются, чего давно уж Брель и констатировал. И теперь град сей стал стольным для всей сорвавшейся в вираж Европы. Но ничего, как-нибудь выкарабкаемся… Улыбайтесь, вас снимают…
Сам я всё там же, в искусстве. В память об отце и корнях остаюсь итальянцем, итальяшкой… немножко, конечно, и как некий вызов. Мне понятно, что образ Сицилии никогда не станут отделять от её мафии; несмотря на тысячи и тысячи достойнейших её представителей, не желающих более и слышать о ней. Тех же судей, продолжающих борьбу с этим ужасным злом, без боязни заступающих на места недавно павших… Я хочу славить Сицилию мою; да, сицилиец я. Голубая виолончель переехала в Саблон, теперь я не Кроссе, а Родес-Сент-Женез, и всё это просто шик. Могу признаться, что обрёл завидное положение. Ко мне съезжаются отовсюду: приобрести что-либо или же что-то предложить, из картин. Всего достиг за счёт нескольких дерзких, многих поразивших сделок. Все они когда-то и кем-то уже совершались, но не у нас; я же их лишь повторил, причём чисто. После выставки в Ситэ, принялся я устраивать артистические happenings, и в самых неожиданных, что ни на есть местах. Пьеретту, перво-наперво, вниманием удостоил, в парке Маримонт, как раз напротив её, провёл выставку живых полотен; среди них Завтрак на траве Моне, Мулен де ля Галет Ренуара, Снятие с креста Рубенса, Девочка на шаре Пикассо. Работал только с классикой и, тут же невероятный успех, у толпы. Продавал фото только что вот созданных мною живых композиций и репродукции оригиналов тех же мастеров. Пьеретта была тронута; удовольствие на её лице заметил бы и слепец. Всё это подвигло меня к развитию начатого, и уже в более амбициозных вариантах: работало имя теперь моё и никаких тебе там налогов. Вот и воздвиг я на заброшенных заводах и шахтах гигантские тотемы, и зашагали там у меня стада овец под опекой голых пастухов. Подобрано подходящее музыкальное сопровождение, и вот уже критики распознают в том таинства острова Пасхи — каков вкус, а? Загнав в клетки толпу, а экскурсантами на свободе оставив обезьян, я вызвал восторг защитников живой природы; да какой? Чтобы сотворить нечто из ряда вон, бросил вызов одному художнику, о ком всегда, впрочем, отзывался лестно, вызвав того на ринг. Поле боя соорудили прямо посреди моей галереи, сам матч начался за час до открытия выставки работ того самого художника, ловко мною подготовленного: публика пировала! Мой противник выступал в перчатках красного цвета, мои были, как наша виолончель, голубые; закончился бой вничью, мнение на тот счет вынесли единогласное, мы с тех пор очень дружны. В одной из упраздненных церквей я футбольные ворота поставил; перед ними — коленопреклоненные натурщики в черном, в шляпах с округлым верхом и с кейсами, как у Магритта, скандировали, вознеся руки в небеса, невнятные заклинания. Посмеивались, сквозь слёзы, католики, курила фимиам левая пресса… Не опасаясь эпатажа, понаделал я в стенах дыр и представил на всеобщее обозрение пустые их проемы, уверяя всех, что это осознанно новая форма искусства. И принял участие в торгах, для дураков, неистово критикуя всё, что сам и предлагал. Я искусством торговал и веянием эпохи, в этом же искусстве, прослыл… Сестра моя, Сарина, время от времени навещает меня с той самой, обаятельной Аурелией, ставшей уже теперь очаровательной, не позабывшей, однако, своего «птичьего» дядюшку девушкой; балую я их обеих, без ведома отца, продолжавшего утверждать, что так и не удалось мне оставить службы у Сатаны, коль скоро продолжаю продавать похотливые эти и зловонные картинки. Да благословит его Господь! Что до сатаны, то восемьдесят девятый год стал и впрямь его; дебют моей карьеры совпал с лучшим из времён: низвергая рекорды, полыхали цены, и я много продавал. И пускай в девяностом эйфория та уже шла на спад, успехи мои стали столь впечатляющими, что я прошёл в ту, в высшую, категорию, где тыкать уже недопустимо. Была у меня ещё одна мечта, такая же, впрочем, сумасбродная, как и прочие, и рассчитывал я урвать ту мечту не без помощи Шадии, палочки-выручалочки моей. Хотелось мне лет этак через несколько купить, как бы венчая нынешнюю свою карьеру, пусть и самое крохотное, но настоящее полотно Клода Моне; из тех, что написаны им между пятнадцатым и двадцатым годами. Да вы его знаете, это же те самые прелестные кувшинки; они же и зовутся так же как та чаровница, которой отдано четыре года моей жизни: Нимфея — её имя. Ну, так хотелось мне ей его подарить!.. Слышу, как мурлычет она приевшуюся, наивную детскую песенку «Pandi, Panda» Шанталь Гойи[35], но поёт ту песенку на свой лад, и с другими словами:
По возвращении в Бельгию стало понятно, что наряд в повседневном контексте носить совершенно невозможно: выйди она, и сама по себе красавица из красавиц, да ещё в этаком наряде — бархат цвета бордо, синий, словно майская ночь шелк, тончайшее кружево и вышивка — тут же стало бы очевидным, что либо она из иного времени, либо платье её шито к постановке некой античной пьесы. Но, не тут-то было, так просто муженька её из седла не вышибешь: пожелав, ни с чем не считаясь, потрафить жене в исполнении её желания воплотиться в избранный образ, под торжества в честь её снял он в наём великолепный замок ЛяЮльп[37]. Когда же сотни с три приглашенных на празднество — мужчины все в сомбреро, женщины в мантильях — собрались воедино, по парадной лестнице с великолепными мраморными ступенями вышла навстречу к ним… нереально правдоподобная Фрида Кало. То был красивейший из праздников, на каких мне довелось бывать; увеселения готовились лучшими из бельгийских мастеров своего дела. И будто рентгеном пронизало гостей, всех до единого, исходившими от супругов лучами счастья — любили они один другого и могли позволить себе о том заявить. Да пребудут они во благе, и хотелось бы мне, чтобы все влюблённые на Земле имели такие же права, на праздник в честь народившихся в их душах чувств. Искренно желаю того. Опасаясь возможной сумятицы в ваших сердцах, спешу заверить вас, что Шадия стала, конечно, моей женой, не взирая на то, что и запоздало узнала о том, и несмотря на довольно скромное место, отведённое ей в повествовании моём; надеюсь, что у меня ещё хватит времени написать о ней целую библиотеку, поскольку она того заслуживает. Свадьба наша шумела под перекличку, в любви и согласии, дарбук[38] и мандолин; обещали мы хранить лучшее из культурных наших истоков. Согласно их традиции юноша, по имени Моххамед, завязал пояс свадебного платья невесты в узел, и светилась Шадия счастьем и страстью, чем с момента знакомства и одаривала меня… непрестанно. Унаследовала она от природы незаурядную сердечную чуткость, о чём мне прекрасно ведомо было, понимала меня с полуслова, и не могла она не согласиться с моей затеей устроить и для Шарли гуляние, схожее с тем, с «мексиканским» — в память о времени, когда скрашивала она тусклое прозябание моё. Как знать, может нужен был и ей тот волшебный аршин, чтобы измерить любовь, мной обещанную, небом дарённую. Именно так, упавшую к ногам с небес и, потому едва правдоподобную. И покинула всё же она меня, не сомневаюсь я в том ничуть. Одно лишь добавить могу, сделал я для неё, всё что смог, с оговоркой, правда… я предлагал ей всякую ерунду, а вот те два года, что она не покидала моего сердца, вот они-то и стали роскошным подарком мне. Когда-нибудь соберу я под окнами её в хоровод всех тех великанов, от Рёц-папаши до Митье с Бетье, лишь бы извлечь из глубин оглохшего нутра её улыбку, да излить на трещины разума её бальзам. Возьмутся те великаны за руки и споют песенку, и подхватит песенку она, коверкая слова… к детству навсегда приговоренная малышка…
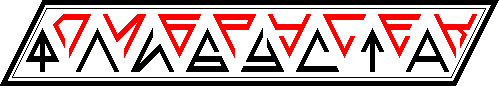
Последние комментарии
1 день 11 часов назад
1 день 16 часов назад
1 день 17 часов назад
1 день 19 часов назад
1 день 20 часов назад
1 день 21 часов назад