Другая сторона [Альфред Кубин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Альфред Кубин ДРУГАЯ СТОРОНА
Часть первая. ПРИГЛАШЕНИЕ
Первая глава. Визит
1
Среди знакомых моей юности был один удивительный человек, история которого вполне достойна быть извлеченной из мрака забвения. Я приложил все усилия к тому, чтобы восстановить хотя бы часть необычайных событий, связанных с именем Клауса Патеры, и изобразить их с достоверностью, подобающей очевидцу. Но странное дело: в то время как я добросовестно фиксировал свои впечатления, в мое описание незаметно вкрались сцены, при которых я не присутствовал и, более того, о которых не мог слышать ни от одного человека. В дальнейшем вы узнаете, какие причудливые феномены воображения одно присутствие Патеры вызывало в самых обычных людях. Этому его влиянию, вероятно, и следует приписать мое загадочное ясновидение. Кто хочет найти более рациональное объяснение — пусть обратится к трудам наших новомодных знатоков человеческих душ. Я познакомился с Патерой лет шестьдесят тому назад в Зальцбурге, когда мы оба поступили в тамошнюю гимназию. Он был тогда невысоким, хотя и широким в плечах мальчуганом с самой заурядной внешностью, если не считать головы античных пропорций с красивыми кудрями. Но, боже мой, мы были тогда обычными сорванцами, и какое дело было нам до внешности? Тем не менее я должен заметить, что и доныне мне — старому человеку — памятны его большие, чуть навыкате, светло-серые глаза. Но кто из нас в те времена думал о «потом»? Через три года я перешел из гимназии в другое учебное заведение и со временем почти перестал видеться со своим прежним товарищем, а позднее наша семья переехала в другой город, и я на много лет потерял из вида всех, кого знал в Зальцбурге. Пролетело время, и с ним моя юность; чего я только не пережил, и вот мне уже за тридцать, я женат и подвизаюсь в качестве рисовальщика и книжного графика.2
Мы жили в Мюнхене, когда одним туманным ноябрьским вечером мне сообщили в приходе незнакомого посетителя. — Войдите! Посетитель вошел. Это был — насколько мне удалось разглядеть его в сгущающихся сумерках — человек самой обыкновенной наружности, который поспешно представился: — Франц Гауч! Вы позволите мне занять у вас полчаса времени? Я кивнул, предложил ему стул и попросил принести нам лампу и чаю. — Чем могу служить? — И если поначалу я был равнодушен, то уже в следующую минуту сгорал от любопытства, а под конец его рассказа пребывал в изумлении, ибо услышал от него приблизительно следующее: — Я пришел к вам с рядом предложений. Говорю не от своего лица, а от лица человека, которого вы, возможно забыли. Зато он вас прекрасно помнит. Этот человек владеет неслыханными — по европейским понятиям — богатствами. Я говорю о Клаусе Патере, вашем школьном приятеле. Пожалуйста, не перебивайте меня! Благодаря удивительному стечению обстоятельств Патера стал обладателем одного из крупнейших состояний в мире и после этого приступил к осуществлению одной идеи, которая, впрочем, требует практически безграничных материальных средств. Патера вознамерился основать царство грез! Дело весьма запутанное, и я постараюсь изложить его суть сколь можно короче. Сначала была приобретена подходящая территория — в три тысячи квадратных километров. Треть этой земли — высокие горы, остальное — равнина и холмистая местность. Большие леса, озеро и река придают этой маленькой стране живописный вид и расчленяют ее на естественные ареалы. Там были построены город, деревни, фермы: необходимость в этом возникла сразу, поскольку даже первоначальное население насчитывало до двенадцати тысяч. А теперь в царстве грез обитает около шестидесяти пяти тысяч душ! Он сделал маленькую паузу и глотнул чаю. Не на шутку заинтригованный этим вступлением, я почти машинально произнес: — Продолжайте! И узнал следующее: — Патера питает глубокую неприязнь ко всему прогрессивному. Подчеркиваю: ко всему, и прежде всего в области науки. Прошу принять мои слова буквально, ибо в них заключается основная идея царства грез. Страна опоясана высокой стеной и защищена от возможных нападений надежными укреплениями. Вход и выход открыт через единственные ворота, что удобно для контроля над перемещениями людей и товаров. В царстве грез, которое служит убежищем для тех, кто недоволен современной цивилизацией, обеспечиваются все материальные потребности людей. Нет, властитель этой страны далек от мысли создать утопию, этакое «государство будущего»! Но, по крайней мере, тамошние жители ни в чем не знают нужды. Вообще же цели этой затеи менее всего связаны с заботой о материальных ценностях, населении и отдельных лицах. Нет, ничего подобного!.. Я вижу, вы недоверчиво улыбаетесь, но поверьте: мне нелегко описать обычными словами то, к чему в действительности стремился Патера, создавая царство грез. Для начала замечу, что каждому, кто находит у нас приют, это было предрешено от рождения либо дальнейшим раскладом судьбы. Необычайно развитые органы чувств, как известно, позволяют их обладателям постигать индивидуальное бытие в его тончайших взаимосвязях, которых для людей заурядных, за исключением редких мгновений, попросту не существуют. И вот эти то, так сказать, несуществующие вещи и составляют квинт-эссенцию наших устремлений. Непостижимая основа сущего — вот чему в конечном счете отдают все свои помыслы и устремления люди грез, как они сами себя именуют. Обычная жизнь и царство грез во многом противоположны, и именно это различие так затрудняет мою задачу. А потому, если вы спросите: так что же, собственно, происходит в царстве грез? Как там живут? — я буду вынужден промолчать… Я могу вам обрисовать лишь поверхность, в то время как сущность человека грез состоит как раз в том, что он стремится в глубь. Все у нас устроено таким образом, чтобы жизнь была как можно более одухотворенной. Обычные радости и печали современников чужды нашим мечтателям. Да и может ли быть иначе? — ведь у нас совсем другие оценочные критерии. Сущность нашего замысла точнее всего, пожалуй, можно было бы определить словом «настроение». Наши люди переживают исключительно настроения, или, лучше сказать, они живут исключительно настроениями; вся внешняя жизнь, которую они строят, сообразуясь со своими желаниями и в как можно более тесном взаимодействии друг с другом, служит лишь исходным материалом. Разумеется, мы заботимся о том, чтобы этого материала у нас было в достатке. Но при этом мечтатель верит только в грезу — в свою грезу… Греза является у нас предметом заботы и поощрения; разрушить ее было бы равносильно государственной измене. Отсюда строгая проверка лиц, которых приглашают принять участие в нашем общем деле. Ну, а теперь, чтобы не тратить лишних слов… — тут Гауч отложил сигарету и, глядя мне прямо в глаза, произнес: — Клаус Патера, абсолютный властелин царства грез, уполномочил меня передать вам приглашение переселиться в его страну! Последние слова мой гость произнес чуть громче и подчеркнуто официальным тоном. А теперь этот человек молчал, и я — вместе с ним. Я был почти уверен в том, что передо мной сумасшедший, и едва скрывал свое волнение. Как бы невзначай я переставил заправленную керосином лампу подальше от гостя, затем удалил от него циркуль и тонкий гравировальный ножик — острые, опасные предметы… Ситуация была решительно скверной. При первом упоминании о царстве грез я подумал, что кто-то из знакомых решил надо мной подшутить. Но, увы, этот проблеск надежды исчезал по мере того, как гость продолжал свою речь, и в течение вот уже десяти минут я судорожно перебирал в уме свои шансы. Я знал, что при общении с душевнобольными безопаснее всего сделать вид, будто соглашаешься с их навязчивыми идеями. И все же! Я отнюдь не силач, с сущности я хрупкий, слабосильный человек. А передо мной — этот массивный Гауч с корректной физиономией асессора, в пенсне и со светлой эспаньолкой… Примерно такие мысли одолевали меня в тот момент. Мне следовало что-то сказать, ибо мой посетитель ждал ответа. В случае вспышки бешенства я, на худой конец, всегда мог задуть лампу и незаметно выскользнуть из комнаты — благо я прекрасно в ней ориентировался. — Да, да, конечно! Я в восторге! Мне только нужно переговорить с женой. Завтра, господин Гауч, вы получите мой ответ… Я говорил успокаивающим тоном и медленно поднялся. Но мой гость, даже не пошевельнувшись, сухо проговорил: — Вы неверно истолковалои наше нынешнее положение, и я нахожу это вполне естественным. Скорее всего, вы вообще мне не верите — если только волнение, которое вы пытаетесь скрыть, не говорит об еще худших подозрениях на мой счет. Нет, уверяю вас — я вполне здоров. Все, что я вам сообщил, это чистая правда, хотя в нее и трудно поверить. Но, может быть, вы успокоитесь, если взгляните вот на это. При этих словах он извлек из кармана небольшой пакет и протянул мне. Я прочел на нем свой адрес, сломал почтовую печать и вынул гладкий кожаный футляр серо-желтого цвета. Внутри оказалась живописная миниатюра — очень впечатляющий поясной портрет молодого мужчины. Каштановые локоны обрамляли лицо с античными чертами; большие светло-серые глаза смотрели прямо на меня — несомненно, это был Клаус Патера… За все без малого двадцать лет, что мы с ним не виделись, я почти не вспоминал о своем школьном товарище. И при взгляде на этот портрет, очень точно передававший сходство, огромный временной интервал словно сжался в моем сознании. Передо мной возникли длинные, желтые коридоры зальцбургской гимназии, я словно воочию увидел старого школьного швейцара с его почтенным зобом, едва замаскированным тщательно ухоженной бородкой. И еще я увидел себя, стоящего среди других учеников, а рядом с собой — Клауса, стесняющегося своей жесткой фетровой шляпы, навязанной ему сумасшедшим вкусом усыновившей его тети. — Откуда у вас этот портрет? — спросил я, внезапно охваченный радостно-любопытным настроением. — Я вам уже это сказал! — отозвался мой собеседник. — И ваш страх, похоже, исчез, не так ли? — добродушно улыбаясь, продолжал он. — Но ведь это же абсурд, шутка, розыгрыш! — со смехом вырвалось из моих уст. В этот момент господин Гауч уже казался мне вполне нормальным и почтенным человеком. Он задумчиво помешивал ложечкой свой чай. Конечно же, это был розыгрыш, и как-нибудь позже я обязательно выясню, кто его подстроил! Во всем виновато мое воображение, причем это уже не в первый раз. Как я мог так сразу принять порядочного человека за сумасшедшего из-за какой-то нелепой истории? В былые времена я непременно сделал бы ответный ход, придумал бы что-нибудь еще похлеще. Как быстро, оказывается, мы стареем! Но как бы то ни было, мне стало легко и радостно на душе. — Надеюсь, в портрет-то вы поверили? — заговорил Гауч. — Жизнь вашего приятеля, который на нем изображен, была насыщена самыми разнообразными приключениями. Закончив еще несколько классов латинской школы в Зальцбурге, он в возрасте четырнадцати лет сбежал из дома и принялся бродяжничать по Венгрии и Балканам в обществе цыган. Через два года он попал в Гамбург, где сменил свое тогдашнее ремесло дрессировщика зверей на профессию моряка, нанявшись юнгой на небольшой торговый пароход. На нем он попал в Китай. Судно в числе многих других стояло на рейде в Кантоне: все они привезли рис и соевые бобы, чтобы предупредить ожидавшееся подорожание. После разгрузки пароходу пришлось задержаться в гавани еще на несколько дней, так как товары, предназначавшиеся для Европы, — человеческие волосы и фарфор — еще не были готовы к отправке. В эти скучные дни безделья Патера часто бродил по окрестностям и во время очередной прогулки спас пожилую знатную китаянку, едва не утонувшую в одном из каналов местной реки. Стоявшие на берегу слуги — они же почти все не умеют плавать — только заламывали руки и отчаянно вопили, не осмеливаясь прыгнуть в бурный, мутный ноток. На счастье рядом случился ваш друг, который, будучи первоклассным пловцом и ныряльщиком, не мешкая бросился в воду и после короткой борьбы со стихией вытащил потерявшую сознание даму на сушу. Ее привели в чувство. Она оказалась супругой одного из богатейших людей на земле. Когда ее мужа, немощного старца, принесли на берег в паланкине, он молча обнял молодого спасителя. Патеру привели в их большой загородный дом. О чем они там беседовали, я не знаю, но в конце концов господин Хи Ен, у которого не было прямых наследников, усыновил молодого европейца и оставил его у себя. Через три года, о которых нам известно лишь то, что Патера предпринял несколько путешествий в неведомые, внутренние области Азии, мы застаем его скорбящим по своим приемным родителям: Хи Ен и его супруга скончались в один день. Наследник стал обладателем неслыханного, баснословного богатства… — И вот тогда пришла очередь царства грез, — подхватил я, окончательно развеселившись. — Идея решительно нова, и если вы позволите, я предложу ее одному из своих друзей-литераторов — из нее может выйти неплохая вещица. Могу я вам предложить? — с этими словами я протянул ему сигарету. Гость поблагодарил, озабоченно вздохнул и тут же совершенно безмятежным тоном заметил: — Сдается мне, что вы действительно принимаете меня за шутника или фантазера. Но, в конце концов, я пришел не убеждать вас в реальности царства грез, а с тем чтобы пригласить вас от имени своего высокого покровителя. Покуда я выполнил свою миссию. И даже если вы по-прежнему мне не верите, то я, по крайней мере, сделал все, что было в моих силах, передав вам портрет и приглашение. Весьма возможно, что в ближайшее время я приду к вам с новыми поручениями. Гауч встал и отвесил полунебрежный поклон. Должен признаться, что серьезный тон его последних слов никак не вязался в моем представлении с образом мошенника. А этот футляр в моих руках — ведь он же был настоящий! Снова открыв его, я обнаружил не замеченный мною ранее кожаный кармашек, а в нем картонную карточку со словами, написанными от руки: «Если хочешь, приезжай». И вновь передо мной тихо, словно во сне, возник образ из давно минувшего прошлого. Да, именно таким разбегающимся, четким и в то же время неуклюжим и слишком крупным был почерк моего друга — отчаянным, как назвал его один из наших учителей. Правда, эти три слова были начертаны более уверенной рукой, но все-таки это был тот же почерк. Внезапно мне стало не но себе: как холодно смотрело на меня это красивое лицо! В его глазах было что-то кошачье. Моя недавняя веселость вмиг улетучилась, на душе стало смутно и неуютно. Гауч еще стоял у двери и ждал: он, верно, заметил мое волнение, потому что разглядывал меня очень внимательно. Мы продолжали молчать.3
В сущности, ни один человек не властен над своим темпераментом, который определяет все его жизненные проявления. При моем, выраженно меланхолическом, радость и печаль всегда находились в тесном соседстве. С ранних лет я был подвержен сильнейшим перепадам чувств. Этот своеобразный нервный склад, доставшийся мне от матери, был для меня источником величайших радостей и самых горьких страданий. Я упоминаю об этом единственно для того, чтобы моему читателю было легче понять мое поведение во многих последующих ситуациях. Я должен признать, что Гауч представлялся мне теперь человеком, достойным полного доверия. Мне стало ясно, что он действительно как-то связан с Патерой и что в его рассказе о «царстве грез» есть доля правды. Быть может, я просто не так понял, воспринял его рассказ чересчур буквально? Мир велик, и мне уже встречалось немало курьезных явлений. Патера, бесспорно, очень богат, и речь, вероятно, идет о некоей причуде, порожденной сплином, о дорогостоящей и масштабной затее капризного миллионера. Мне как художнику такое объяснение казалось вполне логичным. Повинуясь внезапному порыву чувств, я протянул Гаучу руку: — Извините меня, пожалуйста, за недоверие, но теперь мне многое стало понятнее. Ваш рассказ заинтересовал меня. Не могли ли вы рассказать мне что-нибудь еще о моем школьном друге?
Я снова пододвинул ему стул. Гость сел и очень вежливо произнес:
— Разумеется, я готов рассказать вам более подробно о царстве грез и его таинственном повелителе.
— О, я — весь внимание!
— Двенадцать лет тому назад мой нынешний принципал оказался в горах Тянь-Шаня — их еще называют Небесными, — что расположены в китайской части Центральной Азии. Он занимался там главным образом охотой на редких зверей, которые встречаются только в тех местах. Он мечтал добыть персидского тигра — причем тот его подвид, который отличается относительно небольшими размерами и длинной шерстью. Местные охотники указали ему следы, и как-то под вечер он начал преследовать зверя.
С помощью проводника-бурята ему вскоре удалось настичь тигра, но прежде чем Патера успел выстрелить, потревоженный хищник сам бросился на него. Азиат вовремя отскочил, а Патера был сбит с ног. К счастью, проводник, выстрелив почти в упор, разнес тигру голову. Патера был вынужден надолго задержаться в горах, залечивая израненную руку. За ним ухаживал некий старец, глава удивительного племени синеглазых горцев. Это племя — в нем насчитывалось не более сотни человек — отличалось от соседей намного более светлой кожей. Затерянные среди чисто монгольского населения, отрезанные горами от мира, они не смешивались с соседними племенами и сохранили странные, таинственные обычаи, о которых я, к сожалению, не могу рассказать вам подробнее. Как бы то ни было, достоверно известно, что Патера был принят у них и настолько заинтересовался этим племенем, что перед отъездом сделал им богатые подарки и пообещал как можно скорее вернуться. Старейшины сопровождали его на немалое расстояние, и, говорят, прощание было обставлено весьма торжественно. Наш господин был глубоко этим тронут. Через девять месяцев он снова приехал в эту местность — на этот раз навсегда. Среди сопровождавших его лиц находился знатный китайский мандарин и целая группа инженеров и геодезистов. Вблизи селения синеглазых друзей нашего господина разместился многолюдный лагерь. Местные жители встретили гостей с большой радостью. Я знаю это со слов одного своего знакомого инженера, который до сих нор живет в царстве грез. Развернулась бурная деятельность, в результате которой были установлены границы будущего владения и приобретена обширная территория. Царство грез раскинулось на нескольких тысячах квадратных километров. Досказать осталось немного. Целая армия рабочих-кули трудилась денно и нощно под руководством европейских специалистов. Господин Патера непрерывно подгонял их. Уже через два месяца прибыли первые дома из Европы, все — старинные и обжитые. Они поступили в разобранном виде; их собирали и устанавливали на подготовленных фундаментах. Конечно, многие недоуменно качали головами, глядя на потемневшие от времени и копоти стены… Но золото лилось рекой, и все делалось так, как того хотел господин. Все шло как по маслу. Спустя год Перле, столица нового государства, выглядела уже примерно так, как сегодня. Все племена, прежде заселявшие эту страну, подались в другие места; остались одни синеглазые.
Гауч сделал паузу, и я не удержался от вопроса:
— И все же я не понимаю — по какому принципу Патера подбирал дома?
— Я и сам этого не знаю, — продолжал он. — Но все это были старинные постройки, иные настолько ветхие, что, казалось, не могли иметь никакой ценности, в то время как другие выглядели почти как новые. Прежде они были разбросаны по всей Европе. Эти каменные и деревянные строения, свезенные отовсюду — повелитель заказывал каждое из них в отдельности — вероятно, обладают в его глазах какой-то особой ценностью, а иначе зачем бы он стал тратить такие сумасшедшие деньги на их перевозку?
— Но, во имя неба, сколько же денег у этого человека?!
— Если бы я знал! — меланхолично ответил Гауч. — Я служу у него десять лет и за это время отсчитал за покупки, компенсации, перевозки и прочие цели где-то около двухсот миллионов марок. Но такие же агенты, как я, живут во всех уголках света. И судить о богатстве Патеры сколько-нибудь точно не может никто, кроме него самого…
Я даже застонал:
— Милостивый государь, я верю вам, но ничего не понимаю. Все это так загадочно! Но рассказывайте, рассказывайте! Как там живут?
— Постараюсь вам кое-что объяснить. Рассказать обо всем, конечно, невозможно, у нас на это нет времени. Кроме того, я проживаю там не постоянно, но лишь от случая к случаю. О чем конкретно вы хотели бы услышать?
Меня, разумеется, интересовали эстетические вопросы, и Гауч поведал мне то немногое, что было ему известно об отношении к искусству в царстве грез.
— Музеев или картинных галерей как таковых у нас нет. Художественные сокровища не собираются в специально отведенных для них местах, зато по отдельности вы можете встретить ценнейшие произведения искусства. Они так сказать, составляют часть нашего повседневного обихода. При этом я не помню, чтобы была приобретена хотя бы одна картина, статуя или какой-либо иной предмет искусства, созданный после шестидесятых годов минувшего столетия. Попутно хочу заметить, что несколько лет назад я лично отправил туда целый ящик превосходных голландцев — в том числе два полотна Рембрандта. Сам Патера интересуется не столько искусством, сколько древностями вообще, хотя, разумеется, он знает толк в высоком стиле. Как вам известно, он даже приобретает целые архитектурные ансамбли. Но и это еще не все! Обладая невероятной памятью, он помнит почти все старинные предметы, находящиеся на территории Германии. И мы, его агенты, скупаем их по его поручению. Мы регулярно получаем списки требуемых вещей с подробнейшим описанием их внешнего вида, а также сведениями о том, где и у кого они находятся. Затем эти предметы — нередко приобретаемые за огромную цену — отправляются в Перле. Приходится много работать, — подчеркнул он. — Мне самому непонятно, откуда Патера черпает такие подробные сведения. Я состою у него на службе много лет и вроде бы уже должен был ко всему привыкнуть, и все-таки не перестаю удивляться… Он собирает с одинаковым упорством как действительно ценные вещи, так и явную рухлядь. Трудно сосчитать, сколько раз мне приходилось рыться в подвалах и кладовках почтенных бюргерских домов или одиноких горных хижин в поисках какого-нибудь старого хлама. Нередко хозяева даже не подозревали о том, что у них сохранилась та или иная вещь: колченогий стул, старое кресало, курительный прибор, часы-яйцо или что-нибудь в этом роде. Иногда вещица оказывалась настолько невзрачной, что мне отдавали ее задаром, еще и со смехом. Но порой приходилось попотеть, так как хозяева утверждали, что искомого у них нет. Потом, конечно, все находилось. Пройдошные крестьяне, как правило, имели с этого неплохую выгоду… Да, работы у меня по горло. Не далее как на минувшей неделе я отправил партию старинных клавиров. Некоторые из них были затерты до дыр.
— Ах, я так люблю старые вещи, — вставил я.
— Безусловно, тамошняя жизнь придется вам по душе. У нас есть все, что нужно для жизни: хорошая еда, никакого сравнения с той гадостью, которой обычно потчуют путешественников на Востоке; люди живут благоустроенно, нет недостатка в приятных и умных собеседниках. К вашим услугам всегда найдется хорошая кофейня. Чего еще можно пожелать?
— Вы правы! — с жаром откликнулся я. — Простой, налаженный быт — этого мне вполне достаточно. А народ? Что за люди там живут?
Агент прокашлялся, сверкнул стеклами пенсне и продолжил:
— Верно, я еще не рассказал вам о людях. Что ж, среди них, как и везде, встречаются замечательные личности!
— Например?
— Ну, во-первых, образованное, почтенное бюргерство, затем многочисленное чиновничество. Нельзя не упомянуть и военных: очень симпатичные, многие в офицерских званиях. Далее, чтобы не забыть, большое количество оригинальных ученых и, наконец, люди свободных профессий — художники, литераторы и так далее, как и везде…
— И прежде всего — мой друг, сам повелитель страны, — перебил я.
— О, с ним вы будете видеться не часто. Патера слишком занят, он перегружен работой. Вы же понимаете — такая ответственность! Разумеется, все это люди, которые хорошо вписываются в целое, — продолжил он прерванный мною рассказ. — На вас, насколько мне известно, выбор пал потому, что некоторые из ваших рисунков произвели впечатление на господина. Как видите, вас там уже знают… А упомянутая мной строгая изоляция от внешнего мира необходима, чтобы сохранить в должной чистоте образ нашей жизни, ее своеобразный стиль. Благодаря умной политике нашего повелителя до сих пор действительно удавалось не допускать в страну ничего чуждого…
Я восторженно внимал пояснениям гостя, в душе уже решив принять приглашение. Ведь меня как художника там ждал богатейший материал. Какая же слабая, ненадежная штука — человеческое сердце! Если бы в тот миг, когда во мне зародилось это решение, я имел хотя бы отдаленнейшее предчувствие того, чем это для меня обернется, я бы отказался от приглашения и, возможно, был бы сегодня другим человеком…
— Извините меня, пожалуйста, за недоверие, но теперь мне многое стало понятнее. Ваш рассказ заинтересовал меня. Не могли ли вы рассказать мне что-нибудь еще о моем школьном друге?
Я снова пододвинул ему стул. Гость сел и очень вежливо произнес:
— Разумеется, я готов рассказать вам более подробно о царстве грез и его таинственном повелителе.
— О, я — весь внимание!
— Двенадцать лет тому назад мой нынешний принципал оказался в горах Тянь-Шаня — их еще называют Небесными, — что расположены в китайской части Центральной Азии. Он занимался там главным образом охотой на редких зверей, которые встречаются только в тех местах. Он мечтал добыть персидского тигра — причем тот его подвид, который отличается относительно небольшими размерами и длинной шерстью. Местные охотники указали ему следы, и как-то под вечер он начал преследовать зверя.
С помощью проводника-бурята ему вскоре удалось настичь тигра, но прежде чем Патера успел выстрелить, потревоженный хищник сам бросился на него. Азиат вовремя отскочил, а Патера был сбит с ног. К счастью, проводник, выстрелив почти в упор, разнес тигру голову. Патера был вынужден надолго задержаться в горах, залечивая израненную руку. За ним ухаживал некий старец, глава удивительного племени синеглазых горцев. Это племя — в нем насчитывалось не более сотни человек — отличалось от соседей намного более светлой кожей. Затерянные среди чисто монгольского населения, отрезанные горами от мира, они не смешивались с соседними племенами и сохранили странные, таинственные обычаи, о которых я, к сожалению, не могу рассказать вам подробнее. Как бы то ни было, достоверно известно, что Патера был принят у них и настолько заинтересовался этим племенем, что перед отъездом сделал им богатые подарки и пообещал как можно скорее вернуться. Старейшины сопровождали его на немалое расстояние, и, говорят, прощание было обставлено весьма торжественно. Наш господин был глубоко этим тронут. Через девять месяцев он снова приехал в эту местность — на этот раз навсегда. Среди сопровождавших его лиц находился знатный китайский мандарин и целая группа инженеров и геодезистов. Вблизи селения синеглазых друзей нашего господина разместился многолюдный лагерь. Местные жители встретили гостей с большой радостью. Я знаю это со слов одного своего знакомого инженера, который до сих нор живет в царстве грез. Развернулась бурная деятельность, в результате которой были установлены границы будущего владения и приобретена обширная территория. Царство грез раскинулось на нескольких тысячах квадратных километров. Досказать осталось немного. Целая армия рабочих-кули трудилась денно и нощно под руководством европейских специалистов. Господин Патера непрерывно подгонял их. Уже через два месяца прибыли первые дома из Европы, все — старинные и обжитые. Они поступили в разобранном виде; их собирали и устанавливали на подготовленных фундаментах. Конечно, многие недоуменно качали головами, глядя на потемневшие от времени и копоти стены… Но золото лилось рекой, и все делалось так, как того хотел господин. Все шло как по маслу. Спустя год Перле, столица нового государства, выглядела уже примерно так, как сегодня. Все племена, прежде заселявшие эту страну, подались в другие места; остались одни синеглазые.
Гауч сделал паузу, и я не удержался от вопроса:
— И все же я не понимаю — по какому принципу Патера подбирал дома?
— Я и сам этого не знаю, — продолжал он. — Но все это были старинные постройки, иные настолько ветхие, что, казалось, не могли иметь никакой ценности, в то время как другие выглядели почти как новые. Прежде они были разбросаны по всей Европе. Эти каменные и деревянные строения, свезенные отовсюду — повелитель заказывал каждое из них в отдельности — вероятно, обладают в его глазах какой-то особой ценностью, а иначе зачем бы он стал тратить такие сумасшедшие деньги на их перевозку?
— Но, во имя неба, сколько же денег у этого человека?!
— Если бы я знал! — меланхолично ответил Гауч. — Я служу у него десять лет и за это время отсчитал за покупки, компенсации, перевозки и прочие цели где-то около двухсот миллионов марок. Но такие же агенты, как я, живут во всех уголках света. И судить о богатстве Патеры сколько-нибудь точно не может никто, кроме него самого…
Я даже застонал:
— Милостивый государь, я верю вам, но ничего не понимаю. Все это так загадочно! Но рассказывайте, рассказывайте! Как там живут?
— Постараюсь вам кое-что объяснить. Рассказать обо всем, конечно, невозможно, у нас на это нет времени. Кроме того, я проживаю там не постоянно, но лишь от случая к случаю. О чем конкретно вы хотели бы услышать?
Меня, разумеется, интересовали эстетические вопросы, и Гауч поведал мне то немногое, что было ему известно об отношении к искусству в царстве грез.
— Музеев или картинных галерей как таковых у нас нет. Художественные сокровища не собираются в специально отведенных для них местах, зато по отдельности вы можете встретить ценнейшие произведения искусства. Они так сказать, составляют часть нашего повседневного обихода. При этом я не помню, чтобы была приобретена хотя бы одна картина, статуя или какой-либо иной предмет искусства, созданный после шестидесятых годов минувшего столетия. Попутно хочу заметить, что несколько лет назад я лично отправил туда целый ящик превосходных голландцев — в том числе два полотна Рембрандта. Сам Патера интересуется не столько искусством, сколько древностями вообще, хотя, разумеется, он знает толк в высоком стиле. Как вам известно, он даже приобретает целые архитектурные ансамбли. Но и это еще не все! Обладая невероятной памятью, он помнит почти все старинные предметы, находящиеся на территории Германии. И мы, его агенты, скупаем их по его поручению. Мы регулярно получаем списки требуемых вещей с подробнейшим описанием их внешнего вида, а также сведениями о том, где и у кого они находятся. Затем эти предметы — нередко приобретаемые за огромную цену — отправляются в Перле. Приходится много работать, — подчеркнул он. — Мне самому непонятно, откуда Патера черпает такие подробные сведения. Я состою у него на службе много лет и вроде бы уже должен был ко всему привыкнуть, и все-таки не перестаю удивляться… Он собирает с одинаковым упорством как действительно ценные вещи, так и явную рухлядь. Трудно сосчитать, сколько раз мне приходилось рыться в подвалах и кладовках почтенных бюргерских домов или одиноких горных хижин в поисках какого-нибудь старого хлама. Нередко хозяева даже не подозревали о том, что у них сохранилась та или иная вещь: колченогий стул, старое кресало, курительный прибор, часы-яйцо или что-нибудь в этом роде. Иногда вещица оказывалась настолько невзрачной, что мне отдавали ее задаром, еще и со смехом. Но порой приходилось попотеть, так как хозяева утверждали, что искомого у них нет. Потом, конечно, все находилось. Пройдошные крестьяне, как правило, имели с этого неплохую выгоду… Да, работы у меня по горло. Не далее как на минувшей неделе я отправил партию старинных клавиров. Некоторые из них были затерты до дыр.
— Ах, я так люблю старые вещи, — вставил я.
— Безусловно, тамошняя жизнь придется вам по душе. У нас есть все, что нужно для жизни: хорошая еда, никакого сравнения с той гадостью, которой обычно потчуют путешественников на Востоке; люди живут благоустроенно, нет недостатка в приятных и умных собеседниках. К вашим услугам всегда найдется хорошая кофейня. Чего еще можно пожелать?
— Вы правы! — с жаром откликнулся я. — Простой, налаженный быт — этого мне вполне достаточно. А народ? Что за люди там живут?
Агент прокашлялся, сверкнул стеклами пенсне и продолжил:
— Верно, я еще не рассказал вам о людях. Что ж, среди них, как и везде, встречаются замечательные личности!
— Например?
— Ну, во-первых, образованное, почтенное бюргерство, затем многочисленное чиновничество. Нельзя не упомянуть и военных: очень симпатичные, многие в офицерских званиях. Далее, чтобы не забыть, большое количество оригинальных ученых и, наконец, люди свободных профессий — художники, литераторы и так далее, как и везде…
— И прежде всего — мой друг, сам повелитель страны, — перебил я.
— О, с ним вы будете видеться не часто. Патера слишком занят, он перегружен работой. Вы же понимаете — такая ответственность! Разумеется, все это люди, которые хорошо вписываются в целое, — продолжил он прерванный мною рассказ. — На вас, насколько мне известно, выбор пал потому, что некоторые из ваших рисунков произвели впечатление на господина. Как видите, вас там уже знают… А упомянутая мной строгая изоляция от внешнего мира необходима, чтобы сохранить в должной чистоте образ нашей жизни, ее своеобразный стиль. Благодаря умной политике нашего повелителя до сих пор действительно удавалось не допускать в страну ничего чуждого…
Я восторженно внимал пояснениям гостя, в душе уже решив принять приглашение. Ведь меня как художника там ждал богатейший материал. Какая же слабая, ненадежная штука — человеческое сердце! Если бы в тот миг, когда во мне зародилось это решение, я имел хотя бы отдаленнейшее предчувствие того, чем это для меня обернется, я бы отказался от приглашения и, возможно, был бы сегодня другим человеком…
4
В этом месте необходимо упомянуть, что как раз в том году я был близок к исполнению одного из своих самых заветных желаний. Я говорю о путешествии в Египет и Индию, которое прежде откладывалось по материальным соображениям. Теперь же моя жена получила небольшое наследство, и деньги предполагалось употребить на эту поездку. Но, как всегда случается в жизни, все вышло иначе, чем мы думали. Когда я рассказал о наших планах Гаучу, он тут же высказал мою собственную мысль: — В таком случае вы просто измените маршрут путешествия и вместо Индии поедете в страну грез! — А моя жена? Не могу же я поехать без нее! — Мне было поручено пригласить ее вместе с вами. Если я прежде об этом не упоминал, то делаю это сейчас. У меня оставались еще кое-какие сомнения, и в первую очередь то, что из-за своей слабой конституции моя жена могла не выдержать тягот долгого путешествия. — Об этом можете не беспокоиться, — тут же заверил меня посредник. — Ситуация со здоровьем у нас как нельзя лучше… Перле расположен на той же широте, что и Мюнхен, но климат столь мягок, что даже самые нервные люди через короткое время начинают чувствовать себя превосходно. А ведь большинство жителей страны грез ранее принадлежали к постоянным пациентам санаториев и клиник. — Это другое дело, тогда я согласен! — и я радостно потряс ему руку. — Теперь что касается путевых расходов… — он быстрым взором окинул комнату и предупредительно заметил: — Я думаю, небольшое пособие вам не помешает? Лукаво улыбаясь, я сказал: — Если бы вы мне добавили, скажем, тысячу марок, то почему бы и нет? Агент только пожал плечами, достал чековую книжку, черкнул несколько слов и протянул мне листок: это был чек рейхсбанка на сто тысяч марок.5
Когда мы слышим о чем-то необычном и далеком повседневности, в нас всегда остается некоторое сомнение. И слава Богу, что это так. Иначе мы служили бы объектами для потехи любому искусному рассказчику или отъявленному лгуну. Однако факты убеждают намного сильнее слов. Так было и в данном случае. К этому моменту Гауч успел завоевать мое доверие. Но когда я увидел эту фантастическую цифру — для меня целое состояние — и взял в руки чек, мне стало как-то не по себе. Меня охватила дрожь, и со слезами на глазах я пролепетал: «Досточтимый сударь, извините меня, но я даже не знаю, как вас и благодарить. Это такие огромные деньги! Впрочем, я не то хотел сказать. Видите ли, когда человек всю жизнь стремится к сказке, и она вдруг сбывается, это мгновение нельзя назвать иначе как великим и прекрасным! Я пережил его сегодня по вашей доброте, и примите за это мою благодарность!» Так или примерно так я выразился, будучи не в силах сдерживать переполнявшие меня чувства. Гауч-как мне показалось, он был взволнован не меньше моего — ответил в самых деликатных выражениях: «Я только исполняю свой долг, милостивый государь. И если я доставляю вам этим радость, то поверьте: мне это столь же приятно, как и вам. И не стоит меня благодарить, ибо я действую от имени более высокой инстанции. Еще бы я хотел вам посоветовать молчать о том, что вы сегодня услышали. Не рассказывайте об этом никому, за исключением, разумеется, вашей жены. Я, правда, не знаю, к каким последствиям может привести нарушение принятых у нас правил. Но могущество Патеры велико, и он хочет, чтобы царство грез оставалось тайной». — В таком случае, не было ли с вашей стороны необдуманным посвящать меня в такие подробности? Вы же не могли знать, как я к этому отнесусь? заметил я. — Не совсем так, сударь. Я знал, что вы согласитесь на эту поездку! С этими словами он пожал мне руку и повернулся к двери. — Час поздний, мне пора. Я приду завтра в это же время, чтобы дать вам все необходимые инструкции, связанные с дорогой. А вы поговорите с супругой и не забудьте засвидетельствовать ей мое почтение. Доброй ночи! Он вышел. Те десять минут, пока я ждал возвращения жены с покупками, показались мне вечностью. Мне необходимо было высказаться, поделиться услышанным, мне был нужен собеседник… И вот она здесь… Попытка сделать ей приятный сюрприз, конечно же, не удалась, так как она сразу прочла возбуждение на моем лице. Мой удивительный рассказ она выслушала с большим вниманием, но все же не могла удержаться от язвительного вопроса: — А ты в своем уме? — И даже очень, любовь моя. Я тоже принимал Гауча за плута или сумасшедшего, пока он не убедил меня в своей порядочности и благородстве. И я победоносно выложил свой козырь — чек. На нее, как до этого на меня, он произвел большее впечатление, чем слова; правда, она посоветовала мне с утра сходить в банк и проверить, не фальшивый ли он. Потом мы принялись обдумывать путешествие и все, что с ним связано. — Ага, портрет, покажи-ка его мне! Ее реакция была совершенно неожиданной… Внимательно изучив его, она откинулась на спинку стула и растерянно прошептала: — Ты действительно считаешь, что мы должны туда ехать? Этот человек мне не нравится. Не знаю, почему, но его вид меня пугает… Она была готова заплакать. — Что ты такое говоришь, деточка? — смеясь, я обнял ее. — Это же мои старый друг Патера, милый, славный человек. Если он тратит свои деньги столь причудливым образом, то за это я ценю его еще больше. — А не лучше ли было бы сперва навести более подробные справки? — Я уж не знаю, чего ты хочешь, но за своего друга я ручаюсь. Завтра мы узнаем, настоящий это чек или нет, а царство грез представляется мне грандиозной идеей. В конце концов, ведь мы же собирались ехать в Индию! Почему ты не хочешь, чтобы я получил еще большее удовольствие? Последние слова прозвучали почти как упрек. Я стал успокаивать ее, и она наконец признала мою правоту, назвав свои опасения преувеличенными. — Тебе наверняка там понравится. И потом: ты только представь себе, какое вдохновение я там обрету. А деньги — разве это не великолепно? Она снова оживилась, успокоилась и тут же перешла к обсуждению практических вопросов, связанных с переселением. Я же, напротив, чувствовал себя почти что гражданином страны грез и предавался игре воображения. При этом я то и дело поглядывал на портрет и чек и даже немного влюбился в эти предметы… … Когда мы, наконец, заснули, уже брезжил рассвет…
6
За час до открытия касс я уже был в банке. В обмен на чек я получил толстый пакет трижды пересчитанных кассиром купюр. И как только я взял в руки свое сокровище, то чуть не бегом бросился к экипажу, чтобы скорее доставить деньги в безопасное место. Дома меня ждало письмо от Гауча. В нем он приносил мне свои извинения, сообщая, что не сможет прийти из-за новых неотложных поручений. Он настоятельно советовал нам не мешкать с отъездом ввиду предстоящих зимних штормов на обоих морях, которые нам придется переплывать. Письмо завершалось пожеланием удачи. Был приложен маршрут: Мюнхен — Констанца — Батум — Баку — Красноводск — Самарканд. Там нас будут ждать на вокзале, и в качестве удостоверения своей личности я должен буду продемонстрировать портрет Патеры. Ликвидация нашего хозяйства была делом несложным. Все приготовления к далекому путешествию благодаря энергичному содействию моей жены прошли гладко и просто. Все это время я находился в приподнятом настроении. И все же в последний день, который мы провели в нашей старой квартире, меня охватило чувство тоски. Не знаю, как это бывает у других, но мне больно расставаться с любимыми, обжитыми комнатами. Здесь мною было прожито несколько лет, которым отныне суждено оставаться лишь воспоминанием. Я подошел к окну: на улице было темно и по-осеннему холодно. Извне доносился приглушенный гул большого города. Мне стало по-настоящему тяжело на сердце, и я долго смотрел, не отрываясь, на ночное небо. Оно было сплошь усеяно крошечными звездами.
… А затем мою шею обняла любящая рука…
Почти весь следующий день — это была пятница, и мы собирались ехать вечерним поездом — мы провели в привокзальной гостинице. При мне уже были два билета на Восточный экспресс до Констанцы. Случайно встреченным знакомым я на прощание сообщил, что мы едем в Индию. В девять часов вечера мы уже сидели в поезде.
Ликвидация нашего хозяйства была делом несложным. Все приготовления к далекому путешествию благодаря энергичному содействию моей жены прошли гладко и просто. Все это время я находился в приподнятом настроении. И все же в последний день, который мы провели в нашей старой квартире, меня охватило чувство тоски. Не знаю, как это бывает у других, но мне больно расставаться с любимыми, обжитыми комнатами. Здесь мною было прожито несколько лет, которым отныне суждено оставаться лишь воспоминанием. Я подошел к окну: на улице было темно и по-осеннему холодно. Извне доносился приглушенный гул большого города. Мне стало по-настоящему тяжело на сердце, и я долго смотрел, не отрываясь, на ночное небо. Оно было сплошь усеяно крошечными звездами.
… А затем мою шею обняла любящая рука…
Почти весь следующий день — это была пятница, и мы собирались ехать вечерним поездом — мы провели в привокзальной гостинице. При мне уже были два билета на Восточный экспресс до Констанцы. Случайно встреченным знакомым я на прощание сообщил, что мы едем в Индию. В девять часов вечера мы уже сидели в поезде.

Вторая глава. Путешествие
1
В этом месте я позволю себе слегка ускорить темп своего рассказа: путевые впечатления мой читатель найдет всюду, причем куда более красочные нежели те, на которые способно мое перо. То, что поездка по железной дороге — это целая беда, знает каждый. Начиная с Будапешта уже стал заметен легкий азиатский колорит. За счет чего? В интересах этой книги я не хочу обижать Венгрию. Слава богу, к тому моменту, когда мы прибыли в Белград, я уже не хватался каждые десять минут за грудь, чтобы проверить, на месте ли мое сокровище. Зачем показывать окружающим, где ты хранишь свои деньги, даже если дело происходит в Сербии? Обычно путешествие в поезде раздражает меня. На этот раз все было значительно лучше. Правда, мы ехали со всеми возможными удобствами. Я предавался светлым мечтам и радовался, что впереди у меня будет столько удовольствий. Вот если бы еще моя жена была хоть чуточку повеселее. Но, к сожалению, она все время лежала, была задумчива и жаловалась на головную боль. Но когда позади остался Бухарест, даже я был на пределе. Две ночи в вагоне, пусть и с удобствами, в конце концов, тоже не пустяк. На последнем отрезке пути мы испытывали те же ощущения, что, верно, испытывают дикие звери в клетке. Когда рано утром за окном показалось Черное море, мы уже давно стояли в коридоре, готовые к высадке. При первых лучах солнца мы прибыли в Констанцу. Шумная перебранка из-за багажа… Пароход, который должен был доставить нас в Батум, принадлежал австрийской компании «Ллойд». Он был чистым и комфортабельным, что было особенно важно для моей жены. Горячая ванна окончательно привела ее в чувство после железнодорожной маеты. Она наслаждалась прекрасной погодой и морем. Я стоял на юте и смотрел на исчезающую вдали землю… Европа! Скоро берег превратился в узенькую полоску. Но потом и она скрылась из вида. Напряженно всматривался я в том направлении, и мне еще долго казалось, что я вижу сушу. По настоянию моей жены я очень сдержанно вел себя с попутчиками. И должен признаться, что она была совершенно права! Когда кто-то, подобно мне во время этого путешествия, всецело проникнут одной идеей, — как легко он может выдать свою цель! А это в моем случае могло бы иметь самые неприятные последствия. Когда Гауч брал с меня слово молчать, он явно не шутил. Изменника не пустили бы в царство грез и заставили бы вернуть деньги, а это никак не входило в мои планы. Поэтому я был скуп на слова, что, впрочем, давалось мне без труда. На борту не было ни одного немца, а других языков я не знаю. Все свободное время я размышлял о царстве грез, воображая себе самые фантастические вещи. Такое настроение преобладало в течение всего плавания, и только пересадка на поезд нарушила мою идиллию. Моя жена, напротив, была приятно удивлена тем, насколько просторными оказались русские вагоны. Эх, Россия! Эта страна была по мне: огромная, пышная, девственная, но при этом обеспечивающая путешественнику полный комфорт — лишь бы только у того позвякивали деньги в кошельке. Богачи вроде нас в любой стране чувствуют себя как дома. Я от души желал царю многая лета и гордился теми каплями славянской крови, что текли и в моих жилах. Это благоприятное впечатление от Российской империи не в последнюю очередь было вызвано неожиданно быстрым прохождением паспортных и таможенных процедур. Через неделю после отъезда из Мюнхена мы были в Красноводске. За нами осталось Каспийское море. Мы пересекли его на русском судне за несколько часов. Такой грязной посудины я еще не видывал. Мое мнение о царе переменилось в худшую сторону. Но в одном я был вынужден отдать ему должное: Кавказ, — точнее, та его часть, что попала в поле нашего зрения, — воистину прекрасен! Между тем путешествие начало меня утомлять. Не ахти какое удовольствие — сидеть целыми днями в тесноте купе, пусть даже при этом ты имеешь возможность увидеть полмира. Какого черта, я хочу двигаться! По мере нашего продвижения вглубь Азии те, кого мы видели из окон поезда, все более начинали походить на сброд. Мы ехали через пустыню, прямо на Мерв. Оазисы — справа и слева. Непривычные блюда предоставляли удобную возможность испортить желудок. Но я не нуждался в их помощи, поскольку мое избыточное курение вызывало тот же эффект. Жаль, что я не считал выкуренных на пути от Мюнхена к Мерву папирос. И теперь передо мной вплотную встал табачный вопрос. Да, мой табак! Разложить его между страницами книг было идеей неплохой, но неосуществимой на практике. Поставленный в тупик, я попросил жену предоставить мне для контрабандистских целей ее прическу. При этом я имел в виду нечто вроде шиньона высотой с Пизанскую башню, но получил решительный отказ. Наилучшее решение, как это всегда бывает, пришло последним. Правда, пришлось изрядно попотеть, зато надувная дорожная подушка была набита до отказа. Это было как раз то, что надо! Я молился на нее, я не сводил с нее глаз. Мне нужен был именно мой табак, русский для меня слишком крепок, у меня свой, индивидуальный вкус. То, что, пожертвовав несколькими рублями, я мог бы сэкономить уйму труда, даже не пришло мне в голову, — ведь обычно я ездил как нищий! Но скоро содержимое подушки должно будет иссякнуть, и что тогда? Я тупо взвешивал возможности спасения. Что ж, будем надеяться на страну грез, ведь Гауч выглядел вполне заслуживающим доверия. И я вновь буквально растворился в мыслях о будущем. Между тем моя жена чувствовала себя превосходно. Чем больше длилось путешествие, тем она становилась свежее. По ее словам, она постепенно привыкала. Мне это казалось странным. Но в то же время я испытывал чувство восхищения ею, смешанное с завистью. В Мерве мы сделали короткую остановку. На одном из боковых путей стоял товарный поезд, в котором несколько вагонов были заняты металлоломом и прочей рухлядью. «Может быть, это уже товары для Перле? — думал я, пристально всматриваясь в них. — Товары для страны грез!» Моя жена начала беспокоиться обо мне. Ей не нравилось, что я витаю в облаках, предаваясь упоительным размышлениям о будущем. — Ты лишаешь себя всей радости путешествия. Неужели все необычное, новое, эти экзотические наряды и тому подобное нисколько тебя не интересует? Раньше ты даже во время коротких вылазок не расставался со своей тетрадью для эскизов, а теперь почти не глядишь в окно. Она вздохнула — и, конечно, она была права. Но я ничего не ответил. Терпеть не могу эти женские вздохи. Тогда она погладила мою руку. — Какие бы радужные перспективы ни сулило нам будущее, нельзя же вот так полностью отрешаться от реальности. Я подошел к окну купе. На вокзале царила пестрая суета. Представители самых разных наций — рослые грузины, греки, евреи, русские в соболях, татары, узкоглазые калмыки, даже немцы — все мелькали здесь. В глаза наблюдателю бросались тысячи интересных вещей. Тут торговались и спорили из-за пушнины, там вышагивали турки, сопровождаемые женами в чадрах, один армянин назойливо предлагал мне фрукты и впридачу совал пакет шафрана. Куда мне это все? Суматоха усилилась. Настало время отправления. В хвосте поезда грузили массивные рулоны шелковой ткани. При подъеме каждого очередного рулона раздавалось какое-нибудь энергичное восклицание. Мне все время слышалось что-то похожее на немецкое «черт!». Красивый человек в красной черкеске — видимо, офицер, — попрощался со своими товарищами. Он поднялся в соседнее купе. Уже сгустились сумерки, и эта сцена — как и многие другие — происходила при свете трех больших вокзальных фонарей. Чрезвычайно живописная картина! Наш поезд тронулся. Я еще сумел различить груду бочек, высившуюся в конце перрона. Я помнил их со времени отплытия из Баку — ими провоняло все судно. — Тебе нравится, милый? — раздался голос. — Убеждаюсь в достоверности путевых очерков, — отозвался я сухо.2
Этой ночью я чувствовал себя отвратительно. В то время я был большим охотником до приключений. Но с условием, чтобы они были настоящими, чем-то из ряда вон выходящими, ни на что не похожими. Почти непрерывная десятидневная езда, естественно, изрядно меня вымотала. У меня было прескверное настроение. Я ворочался в постели и брюзжал. «Царство грез — подвох, вот увидишь! — говорил я жене. — Нас завезут в какое-нибудь труднодоступное горное гнездо, где мы будем обязаны восхищаться Патерой и любым его дерьмом единственно потому, что он богат! А лично мне без разницы, богат человек или нет. Да и денежки наши разлетятся в один миг, я уже это чувствую. У них там, наверное, такие цены, что сумма, которой нас снабдили, как пришла, так и уйдет». Я был не в духе, полон глубокой безнадежности и разочарования. Мы продвигались все дальше на Восток, а окружающий мир, несмотря на восточный колорит, выглядел точно таким, каким я мог представить себе его, не выходя из дома. «И что же ждет нас дальше? — рассуждал я. — Горстка вилл и домов,колония для иностранцев, парк. И ради этих небесных красот я должен был до полусмерти укататься по железным дорогам?!» Жена попыталась меня утешить, как могла. — Если нам не понравится там, мы просто вернемся домой, — заметила она. — По-моему, у нас еще не было поводов для плохого настроения. — Агент был изрядным пройдохой; такому типу, как он, надо было сразу указать на дверь. Почему ты меня не предостерегла? — тянул я свое. — А деньги? — смеясь, спросила она. — Только, прошу тебя, не говори мне больше о деньгах. Когда человек богат, как Патера, он не пожалеет и миллиона, лишь бы только находиться в обществе приличных людей. Зевнув, я повернулся к жене спиной. Женщины никогда нас не понимают. И уже сквозь сон я услышал, как моя спутница заметила: «Не слишком ли ты переоцениваешь наше общество?» Я мудро воздержался от возражений. Звук шагов нашего соседа, выходившего из вагона, известил меня о том, что мы прибыли в Бухару. Ранний рассвет погожего дня. Из окна купе мне были видны тюрбаны и каракулевые шапки. Дальше, как мне показалось, мы двигались гораздо быстрее. То ли отцепили часть вагонов, то ли нас присоединили к новому локомотиву. Во всяком случае, уже во второй половине дня мы достигли Самарканда. Я бодро вскочил на ноги. Снаружи открывался восхитительный вид: пустыня — которой я уже был сыт по горло — превратилась в роскошную зеленую долину. Несмотря на ноябрь, было лишь чуть прохладно. Здесь и там виднелись группы верблюдов и лошадей с их потешными голенастыми детенышами. Меня не оставляла мысль, что я нахожусь рядом с колыбелью человечества. Здесь можно было встретить представителей, наверное, пятидесяти народностей, пусть и не всегда в лице их наиболее типичных образцов. Здесь пролегали древние великие торговые пути. Уже Александр Великий… но хватит, это не путевые заметки. Я сгорал от нетерпения и с любопытством смотрел из вагонного окна то в одну, то в другую сторону. И вот — вдали, действительно, стало что-то вырисовываться. Раскинувшаяся на большом пространстве масса домов, минаретов, церквей — Самарканд! Самарканд! Голубые и зеленые черепицы крыш пестро переливались на солнце, и по мере приближения разноцветье все возрастало. Мною невольно овладело ощущение счастья, хотя мне по-прежнему не давал покоя вопрос: в чем же будут заключаться разочарования? Ведь нас ждало нечто абсолютно неизвестное. При въезде в Самарканд мое настроение стало более прозаичным. Когда мы вышли из вагона и принялись осматриваться, к нам приблизился человек. Помесь восточного пруссака с армянином, определил я про себя. — Господин Гауч известил нас о вашем прибытии! — легкий поклон — беглый немецкий. — Куда нам теперь идти? — спросил я умеренно приветливым тоном. Снова вежливо поклонившись, на этот раз и моей спутнице, он представился: — Куно Эберхард Теретатян, агент. У вас есть что предъявить мне? Мысленно увенчав себя лаврами за свое превосходное расовое чутье, я протянул метису футляр с портретом, который не выпускал из рук, наверное, уже с полчаса. — Благодарю, этого достаточно. В вашем распоряжении три свободных часа. Сейчас — два, а в пять колонна отправится в путь. Я предлагаю вам отдохнуть под моей крышей и подкрепиться. Пока мы разговаривали, несколько носильщиков, здоровенных как медведи, по его знаку погрузили на тележку наш багаж и укатили ее. Мы зашагали рядом с господином Теретатяном. От экипажа, который нам хотели навязать, мы отказались. — Теперь уж лучше пешком! Как далеко отсюда вы живете? — Добрых полчаса ходьбы, сударь. — В таком случае, ради бога, вперед!3
Я полагаю, всем известно, как выглядят восточные города. Они точь-в-точь как наши, только абсолютно восточные. Вкривь и вкось продвигались мы по площадям и улицам, то и дело наталкиваясь на сценки из «Тысячи и одной ночи». Через полчаса вокруг стало спокойнее — по-видимому, мы достигли окраины города. Наш провожатый остановился перед одним домиком и объявил: — Вот мы и пришли! Мы проследовали в комнату на первом этаже. Багаж уже был доставлен. Я заметил его во дворе. Превосходный обед в уютном помещении на устланном коврами полу окончательно расположил меня в пользу нашего хозяина. Этот второй агент Патеры был еще учтивее первого, почти до подобострастия. — Что нового в стране грез, господин Теретатян? — благодушно поинтересовался я, когда мы покончили с инжиром, чтобы приняться за виноград. — Ничего нового, ровным счетом ничего! Разве что театр. Но о нем вы, конечно, уже знаете? — В первый раз слышу! — воскликнул я, снедаемый любопытством ко всему, что было связано со страною грез. — Новая затея повелителя! Здание закончено уже месяц назад. На прошлой неделе мне пришлось изрядно поломать голову над тем, как доставить туда несколько вагонов инвентаря — кулис, задников, старых париков. А это вам придется оставить здесь, милостивая государыня, — отнесся он к моей жене, указав на сверкающую новизной кухонную плитку, которую она как раз в этот момент внесла со двора. Но она не расслышала его слов, потому что засмотрелась на играющего во дворе ребенка. — Что вы имеете в виду? — воскликнул я и легонько пихнул жену в бок. — К сожалению, таков наш порядок! — соболезнующим тоном пояснил он мне. — Буквально на днях — одна оперная певица — она пришла в бешенство, когда я стал перебирать ее гардероб. Лучше последуйте моему совету, и вы избавите себя от многих неприятностей. Без слов, с расширенными от удивления глазами я слушал этого человека. — Но это мои вещи, — раздраженно заметил я. — Уверяю вас, сударь: ваши опасения беспочвенны. Никто у вас ничего не отнимет, ни одна ваша вещь не пропадет. Можете не волноваться. — Почему бы нам на время не оставить вещи здесь? — обратилась ко мне жена. — В течение нескольких дней мы вполне можем обойтись самым необходимым. А потом твой друг велит доставить наши чемоданы. Обрадованный этой неожиданной поддержкой, агент принялся уговаривать меня. — Да вот и та оперная певица теперь довольна. Ведь господин едет не в глушь, через два дня он найдет в Перле все необходимое. — Как два дня? Я не ослышался? Судя по карте, туда как минимум неделя пути! — моему удивлению не было предела. — Значит, сударь не вполне разобрался в маршруте — с едва заметной улыбкой возразил наш полуармянин. — Даже при условии частых остановок дорога занимает не более трех дней! — Так что же все-таки мы можем взять с собой? — осведомилась моя жена. — Наш агент по Баварии должен был проинструктировать вас на этот счет, сударыня. Согласно нашим правилам, с собой можно провозить только подержанные вещи. — Хлама мы не держим! — у меня уже лопнуло терпение. — Я сказал «подержанные», а не «поломанные». — Пусть делает как знает! — вмешалась моя жена. И обратилась к нему: — Не угодно ли вам, сударь, проверить наш багаж? Мы вышли на двор и безропотно предоставили наши чемоданы для досмотра. Табачную подушку я на всякий случай не выпускал из рук. Агент тщательно изучал содержимое каждого предмета багажа. Это надо было видеть! Фотоаппарат с принадлежностями был немедленно отложен в сторону; за ним последовал бинокль — превосходная вещь, а при виде бритвенного прибора этот тип снисходительно бросил: «Ради бога!» Несессер моей жены он перерыл сверху донизу. Что касается одежды, то здесь агент, казалось, испытывал некоторые сомнения. Когда очередь дошла до моего дорожного пальто новейшего фасона — предмета моей гордости, — он заметил: «Его вам конечно, придется отдать в переделку! Не следует бросаться в глаза!» Но когда этот болван добрался до белья моей жены и хотел уже запустить в него пальцы, я возмутился: «Это остается с нами!» Столь же строгой ревизии были подвергнуты и книги, но мои прелестные старинные безделушки остались со мной. «Ничего вашего не пропадет… не пропадет!» — беспрерывно повторял господин Теретатян с озабоченным видом. При этом ни одна мелочь не ускользала от его взгляда. «Теперь все нормально». Он низко поклонился. Между тем на часах уже было четыре. В оставшийся час я купил в Самарканде еще несколько вещей взамен, так сказать, конфискованных. Я приобрел великолепный старинный самовар — не столь практичный, но более красивый, чем наша плитка. Когда я вернулся, две вместительные повозки с огромными колесами уже стояли наготове. В каждую было запряжено по верблюду. Я с сомнением глядел на этот жалкий транспорт.
— Вы поедете с комфортом, внутри постелены одеяла. Проводник — надежный человек, и ему дано указание исполнять все ваши желания.
Увидев внутри несколько больших корзин с провиантом, я был просто тронут и, не скупясь на изъявления благодарности, потряс руку нашего хозяина. Во главе поезда ехал верхом на гривастой лошадке проводник, низкорослый киргиз. При каждой повозке — по одному погонщику, позади — двое слуг в желтых шапках и темных кафтанах. Так мы и ехали. Приключение, которого я так давно ждал, началось.
В оставшийся час я купил в Самарканде еще несколько вещей взамен, так сказать, конфискованных. Я приобрел великолепный старинный самовар — не столь практичный, но более красивый, чем наша плитка. Когда я вернулся, две вместительные повозки с огромными колесами уже стояли наготове. В каждую было запряжено по верблюду. Я с сомнением глядел на этот жалкий транспорт.
— Вы поедете с комфортом, внутри постелены одеяла. Проводник — надежный человек, и ему дано указание исполнять все ваши желания.
Увидев внутри несколько больших корзин с провиантом, я был просто тронут и, не скупясь на изъявления благодарности, потряс руку нашего хозяина. Во главе поезда ехал верхом на гривастой лошадке проводник, низкорослый киргиз. При каждой повозке — по одному погонщику, позади — двое слуг в желтых шапках и темных кафтанах. Так мы и ехали. Приключение, которого я так давно ждал, началось.
4
Город уже давно исчез из поля зрения, но по-прежнему был виден мавзолей великого Тимура. Его фиолетовый купол отчетливо вырисовывался на красочном фоне закатного неба. Спутница у меня под боком походила на мешок со свисающей из него головой. Она боролась со сном и в ответ на мои реплики бормотала что-то неразборчивое, так что вскоре мне пришлось оставить свои попытки разговорить ее. В нашем покрытом защитным тентом экипаже царила темнота. Ландшафт становился все скуднее, каменистее; окрестности утопали в по-осеннему бледной зелени. Если меня не одолевали новые приступы раскаяния в предпринятом нами рискованном шаге, то единственно потому, что у меня на это не было сил. Мы с женой были чересчур утомлены. В унылых зеленоватых сумерках мимо то и дело проплывали голые деревья, кактусы и солончаковая растительность. Повозка покачивалась мерно и ритмично. От головы поезда доносилась протяжная жалобная мелодия. «Такую можно извлечь только на каком-нибудь крошечном инструменте…» — подумал я и почти сразу заснул. Все мы — странники, все без исключения. Так было и так будет всегда, покуда живо человечество. От древнейших кочевых народов до нынешних туристов, от разбойного набега до современной исследовательской экспедиции, — независимо от мотивов, человек продолжает странствовать. Пешком, верхом, на колесах, с помощью пара, электричества, бензина — независимо от средств, человек продолжает странствовать. Иду ли я в гостиницу или совершаю кругосветное путешествие — я странствую. И точно так же странствуют все животные, перемещаясь то в одну, то в другую сторону. Сама наша старушка Земля показывает нам в этом грандиозный пример. Движение, закон природы! Каким бы усталым ты ни был, ты должен следовать ему и не останавливаться… Подлинный покой настает лишь тогда, когда наши странствия закончены. И на самом деле все с нетерпением ждут этого момента — только никто себе в этом не признается. Многие этого даже не знают. Иные из нас, кто уже отходил свое и больше не хочет странствовать, или лежит, больной, в постели, или просто не в силах передвигаться, все же путешествуют в своем сознании, в воображении, и часто уходят далеко, далеко… но стоять на месте — о нет, такого не бывает! Один раз я проснулся. Снаружи сиял свет луны. Мы сделали остановку у резервуара с водой — я слышал, как поили животных. Моя жена лежала с скрытыми глазами, выражение ее лица было очень серьезным. «Хорошо, что ты спишь, — подумал я, — завтра утром встанешь свежей». Мне показалось, что мы находимся в горах. Когда повозка тронулась с места, я снова заснул, предвкушая скорое прибытие в царство грез. И после этого я не просыпался очень долго. Внезапно я ощутил какую-то перемену. Колеса больше не катились. — Мы на месте. Вы долго спали! — кто-то похлопал меня по ноге. Я ничего не хотел знать, я еще не совсем проснулся и лежал не шевелясь. Моя женушка, которая уже была на ногах, запела голосом сирены-соблазнительницы у меня над ухом: — Вставай, мы приехали, мы — в царстве грез! Я беспомощно пролепетал: «Да, да, уже иду!» — но сам продолжал лежать. Так уж я устроен. Рядом с повозкой раздался чей-то полуофициальный голос. Мне стало неловко, и, окончательно стряхнув с себя сон, я выбрался из экипажа. В первый момент я ничего не разглядел: все вокруг было затянуто серой мглой. Лишь в нескольких местах ее разрезал мутный свет фонарей. Сделав шаг вперед, я едва не налетел на повозку, показавшуюся мне огромной. А перед ней топталось чудовище с неясными очертаниями — это оказался верблюд. Мои глаза стали постепенно привыкать. — Прошу подойти ближе! — прозвучал мощный голос. — Ваш багаж в порядке; предъявите удостоверение! Голос принадлежал рослому бородатому мужчине в темном мундире и форменной фуражке. Мы стояли у низенького блокгауза, тускло освещенного несколькими фонарями. Служащий вернул мне портрет и велел нам поскорее проходить в ворота, чтобы не опоздать на поезд. — Какие ворота, какой еще поезд? — удивился я и практически на ощупь двинулся дальше. — Эй, тут не пройти! — услышал я голос проводника. И только теперь я различил во мгле огромную, бесконечную стену. Она словно выросла из темноты. Какой-то человек с фонарем обогнал нас и высветил большую, темную дыру. Это были ворота в царство грез! Приблизившись, я не мог не поразиться их колоссальным размерам. Мы вступили в какой-то туннель, стараясь держаться как можно ближе к проводнику. И тут случилось нечто удивительное: когда я прошагал уже изрядное расстояние под этим сводом, меня внезапно охватило незнакомое отвратительное чувство. Оно исходило из затылка и пронизывало весь позвоночник; у меня сперло дыхание, сердце почти перестало биться. Я беспомощно оглянулся на жену — она тоже была бледна как мел, смертельный ужас отражался на ее лице; дрожащим голосом она прошептала: — Мне никогда не выбраться отсюда. Меня же вдруг охватил прилив свежей силы, и, не произнеся ни слова, я протянул жене руку.Часть вторая. ПЕРЛЕ
Первая глава. Прибытие
По ту сторону ворот царила кромешная тьма. Туман больше не давил на грудь, веял теплый ветерок. Впереди раздавались свистки и какой-то размеренный лязг. Затем из темноты возникло несколько красных и зеленых сигнальных огней. Мы подбежали к невысокому зданию. Человек с фонарем объявил: «Это станция, мы успели в самый раз!» В кассе нам выдали билеты второго класса до Перле. Как нам объяснили, первая поездка была бесплатной. Мы вышли на безлюдный перрон. Машинист дал свисток к отправлению, и нас буквально втолкнули в поезд. «Мы поедем в третьем!» — воскликнул я, надеясь увидеть там больше, чем во втором, который был пуст. Когда мы поднимались в вагон, я почувствовал, как мне сунули в руку что-то тяжелое. — Это деньги, они выдаются каждому новоприбывшему! — прозвучало уже издали. Я положил деньги в карман. После нескольких бесплодных попыток локомотив, наконец, сдвинул поезд с места. Скорость была весьма умеренной, еще более умеренным — масляное освещение вагона, которое к тому же отчаянно чадило. Оглянувшись, я различил гигантскую стену, возвышавшуюся черной громадой на фоне ночного неба. «Словно крепостной вал», — подумал я, с интересом глядя в окно. Стена постепенно растворялась в темноте. Местность, через которую мы ехали, я почти не разглядел. Огни нашего поезда выхватывали из темноты лишь общие очертания деревьев, кустов, будок сторожей. В общем, все было, как в обычной ночной поездке. С наружной стороны поезда к нам вошел проводник. — Ваши лампы противно пахнут и чадят, человеку может стать плохо! — сказал я ему. — До сих пор подобных жалоб не поступало! — А долго ехать до Перле? — Два часа. В полночь мы будем там. — Вы не могли бы порекомендовать нам отель? — Разве что «Голубого гуся». Мелкие гостинички, которые еще здесь остались, вряд ли вам подойдут. Он сказал это очень услужливо и снова скрылся в темноте. На нескольких станциях я обратил внимание на длинные навесы с высившимися под ними горами ящиков и других грузов. Во время одной из остановок моя жена купила корзиночку с холодным ужином и бутылку вина. Я не задумываясь рассчитался теми деньгами, которые мне сунули. И только теперь мы с удивлением заметили, что в кармане у меня были гульдены и крейцеры — а также цилиндрик золотых монет. Моя жена была поглощена своими мыслями. Вероятно, у нее не выходило из головы то, что мы пережили в воротах. Ах эти сверхчувствительные натуры! Давно уже пора успокоиться. Двое рабочих сели в вагон и равнодушным тоном переговаривались друг с другом. Когда они на следующей остановке собрались выходить, один из них кивнул мне как старому знакомому. Мне он тоже показался знакомым. В какой бы части света ты ни находился, тебе везде встречаются одни и те же лица. А вообще я ему позавидовал. Он уже мог выйти на воздух, а я еще должен был задыхаться в масляном чаду. Какое счастье, что осталось уже недолго! Очень невеселая поездка. Незадолго до Перле поезд пересек заболоченную пустошь. Потом он стал замедлять ход и наконец остановился. Я выглянул в окно: мы приехали! Но и здесь обстановка была не слишком оживленной. По другую сторону вокзала дремали одинокие дрожки. Мы разбудили кучера и велели ему везти нас в гостиницу «Голубой гусь». Я с любопытством рассматривал улицы, по которым катился наш тряский экипаж. — И это — Перле, столица царства грез? — я не мог скрыть своего разочарования. — То же самое можно увидеть в любом нашем захолустье! — произнес я, полный брезгливости и разочарования, и указал на какое-то неказистое, обшарпанное строение. Движения почти не было. Лишь изредка попадались прохожие. На освещении здесь явно экономили — всего-то по газовому фонарю на каждом перекрестке. Несколько раз я готов был воскликнуть: «Этот дом я уже где-то видел!» Моей жене тоже многое казалось знакомым. «У нас, по крайней мере, — мрачно заключил я, — никогда так не экономят на освещении». Экипаж остановился. Отель был отнюдь не первого разряда, но более или менее чистый и уютный. Я заказал чай. Номер оказался просторным и хорошо обставленным. Правда, меблировка выглядела несколько эклектично. Над кожаным диваном висел большой портрет Максимилиана, императора Мексики; над кроватью красовался Бенедек, несчастный генерал Кениггреца. «Как этот-то попал сюда?» — не смог удержаться я от вопроса, когда в номере появилась горничная. Кто десять дней не видел нормальной постели, тот поймет, что в эту минуту она была для нас дороже всех грез на свете. — Мне нравится, что здесь дует такой теплый ветерок, — заметила моя жена, после чего осмотрела и похвалила постели. Я уже лежал на дорогой перине и, зевая, откликнулся: — Но, похоже, это единственное, что может здесь радовать. День был уже в разгаре, когда я внезапно обнаружил, что добрую минуту лежу с открытыми глазами. Комната с красными обоями? Да, теперь я… верно… Я, художник такой-то, лежу в кровати отеля в столице страны грез, а рядом со мной спит моя жена. Свежие, полностью выспавшиеся, мы поднялись и совершили утренний туалет. Я сходил с ума от нетерпения в ожидании того, что нам предстояло увидеть. Позавтракав, мы вышли из отеля. День был пасмурный.Вторая глава. Творение Патеры
Здесь я прерву нить моих личных впечатлений, чтобы сообщить своим читателям некоторые сведения о стране, в которой мне было суждено провести почти три года. Передо мной день ото дня раскрывалась весьма примечательная ситуация. Но последние, глубинные причины и мотивы происходящего навсегда остались для меня тайной; поэтому я буду лишь бесстрастно фиксировать то, что почерпнул из своих собственных впечатлений и сообщений других жителей страны грез. Мои соображения о разных сторонах тамошней жизни разбросаны по всей книге; возможно, иные из читателей найдут более приемлемые объяснения. В общем и целом здесь все походило на Среднюю Европу и в то же время разительно отличалось от нее. Да, здесь были город, деревни, сельские угодья, пашни, река и озеро, но небо, простирающееся над страной, было неизменно хмурым; здесь никогда не сияло солнце, никогда на ночном небе не появлялись луна или звезды. Облака нависали над самой землей однообразной массой. В ветреные дни она, бывало, колыхалась, как студень, но всегда оставалась на месте. Один ученый, профессор, которого я еще не раз буду упоминать, связывал эти густые облачные образования с обширными болотами и лесами. Так или иначе, но за эти годы я ни разу не видел солнца. Поначалу я сильно страдал от этого — и подобное происходило со всеми новоприбывшими. Иногда посреди облачного образования появлялась светлая область, несколько раз — особенно в последний период моего пребывания в стране — на город падало несколько бледных косых лучей, но такого, чтобы солнце победоносно прорвалось сквозь тучи, не было ни разу. Ни разу. Нетрудно представить, как при этом выглядела земля с ее лугами и лесами. Сочная зелень отсутствовала, здешние травы, кусты и деревья были бледно-оливкового, зеленовато-серого оттенка. Все, что на моей родине сверкало яркими красками, здесь было приглушенным, матовым. Если в большинстве ландшафтов основное настроение создается голубизной неба и желтизной земли, а другие цвета представляются лишь вкраплениями, то здесь преобладали серый и коричневый. Главной прелести — пестроты — не было в принципе. Да, страна грез выглядела гармонично, ничего не скажешь. Барометр неизменно показывал «пасмурно», но воздух по большей части был теплым, как в день нашего приезда. Столь же мало отличались друг от друга и времена года. Пять месяцев весны, пять месяцев осени; продолжительные сумерки знаменовали собой короткое жаркое лето, постоянный полумрак и редкие хлопья снега — зиму. Северную границу страны образовывал массивный горный хребет, вершины которого были вечно затянуты туманом. Горы круто переходили в равнину; в них брала свое начало главная водная артерия страны: река Негро. Мощными каскадами низвергалась она со скального уступа. Разливаясь вширь на выходе из узкой долины, река лениво влачила свои воды, имевшие поразительно темную, почти чернильную окраску. Там, где поток описывал широкую плавную дугу, и был основан Перле, столица страны грез. Сумрачно и уныло вырастала она на этой голой земле, не радуя глаз ни разнообразием красок, ни прихотливостью форм. Можно было подумать, что она так стоит уже много столетий. На самом деле история ее не насчитывала и дюжины лет. Основатель этого города не хотел нарушать суровость пейзажа. Здесь не возводили кричащих новостроек; правитель придавал большое значение гармонии и заказывал старинные дома из разных частей Европы. Ни один из них не выбивался из общей картины; отобранные с безошибочным чутьем, согласно единому замыслу, они идеально вписывались в целое. На момент моего прибытия город насчитывал около двадцати двух тысяч жителей. Чтобы читатель мог хорошо ориентироваться в городе, что я считаю необходимым для понимания нижеследующих событий, я приложил к книге небольшой план столицы. Из него видно, что Перле разделялся на четыре основные части. В вечно задымленном Вокзальном квартале, некогда разбитом на болоте, располагались служебные здания, архив и почта. Это был неуютный, скучный район. К нему примыкал так называемый Зеленый город, резиденция богачей. Затем Длинная улица, средоточие деловой жизни города. Здесь жило среднее сословие. Ближе к реке эта улица носила выраженно деревенский характер. Между ней и горой втиснулся четвертый квартал — Французский, насчитывавший всего четыре тысячи жителей: романцев, славян, евреев. Он пользовался дурной репутацией. Разношерстное население ютилось в старых деревянных домишках. Эта часть города с ее закоулками и грязными трущобами отнюдь не украшала Перле. И, наконец, над всей столицей возвышалось, как бы довлея и господствуя над ней, чудовищное строение непропорционально больших размеров. Высокие окна угрожающе смотрели вдаль и вниз, на людей. Опираясь на пористую, выветрившуюся громаду скалы, здание простиралось бесформенной массой до центра города, где находилась большая площадь. Это был дворец — резиденция Патеры.
На севере — горы, на востоке — река, на западе — болота. Если город еще и мог расти, то лишь в южном направлении. И действительно, там, рядом с кладбищем, еще оставалось большое незастроенное пространство: поля Томашевича, названные так по имени их покойного владельца. Но все строительные затеи шли насмарку. Здания превращались в руины еще до того, как их подводили под крышу. Среди них бросалась в глаза заброшенная печь для обжига черепицы, напоминавшая огромную гробницу какого-нибудь фараона или ассирийского царя. А на другую сторону реки европейцев вовсе не допускали. Там лежало предместье, небольшое поселение со своими особыми привилегиями. О нем пойдет речь в отдельной главе.
Из него видно, что Перле разделялся на четыре основные части. В вечно задымленном Вокзальном квартале, некогда разбитом на болоте, располагались служебные здания, архив и почта. Это был неуютный, скучный район. К нему примыкал так называемый Зеленый город, резиденция богачей. Затем Длинная улица, средоточие деловой жизни города. Здесь жило среднее сословие. Ближе к реке эта улица носила выраженно деревенский характер. Между ней и горой втиснулся четвертый квартал — Французский, насчитывавший всего четыре тысячи жителей: романцев, славян, евреев. Он пользовался дурной репутацией. Разношерстное население ютилось в старых деревянных домишках. Эта часть города с ее закоулками и грязными трущобами отнюдь не украшала Перле. И, наконец, над всей столицей возвышалось, как бы довлея и господствуя над ней, чудовищное строение непропорционально больших размеров. Высокие окна угрожающе смотрели вдаль и вниз, на людей. Опираясь на пористую, выветрившуюся громаду скалы, здание простиралось бесформенной массой до центра города, где находилась большая площадь. Это был дворец — резиденция Патеры.
На севере — горы, на востоке — река, на западе — болота. Если город еще и мог расти, то лишь в южном направлении. И действительно, там, рядом с кладбищем, еще оставалось большое незастроенное пространство: поля Томашевича, названные так по имени их покойного владельца. Но все строительные затеи шли насмарку. Здания превращались в руины еще до того, как их подводили под крышу. Среди них бросалась в глаза заброшенная печь для обжига черепицы, напоминавшая огромную гробницу какого-нибудь фараона или ассирийского царя. А на другую сторону реки европейцев вовсе не допускали. Там лежало предместье, небольшое поселение со своими особыми привилегиями. О нем пойдет речь в отдельной главе.
 Теперь о населении. Оно набиралось из весьма специфических типов людей. Элиту среди них составляли лица с ненормально высокой чувствительностью. Еще не окончательно подчинившие себе психику человека навязчивые идеи вроде мании коллекционирования, графомании, игорной страсти, гиперрелигиозности и всех тех бесчисленных форм, в которых обнаруживает себя начальная стадия неврастении, были словно созданы для страны грез. Среди женщин была широко распространена истерия. Массы также подбирались по признаку отклонения от нормы или однобокого развития: великолепные экземпляры бахусопоклонников; несчастные, находящиеся в разладе с самими собой и миром; ипохондрики, спириты, отчаянные задиры, пресыщенные, смутьяны, ищущие покоя старые авантюристы, фокусники, акробаты, политические изгнанники; даже объявленные в розыск за границей убийцы, фальшивомонетчики, жулики и тому подобные субъекты удостаивались милости господина. При определенных обстоятельствах основанием для приглашения в страну грез могло даже служить какое-нибудь бросающееся в глаза физическое уродство. Отсюда — множество огромных зобов, вислых носов, гигантских горбов. И, наконец, здесь жило немало людей, на чей характер наложили свой отпечаток жизненные неудачи. Далеко не сразу научился я распознавать глубочайшие нюансы характеров, которые здесь нередко проявлялись в самых обыкновенных, на первый взгляд, поступках.
Среднее количество населения колебалось между двадцатью и двадцатью четырьмя тысячами, постоянно пополняясь новоприбывшими. Прирост от рождаемости был незначительным: детей здесь не жаловали. Считалось, что их ценность никоим образом не компенсирует связанных с ними неудобств. Согласно бытовавшему здесь мнению, на них только уходят деньги, причем зачастую и в зрелом возрасте, они неохотно и нечасто возвращают долги, почти никогда не бывают благодарны родителям за подаренную им жизнь и, напротив, нередко склоняются к мысли, что этот дар им навязан. Таким образом, радость от детей ни коем случае не перевешивает связанных с ними хлопот. Да, они забавны и непосредственны, но это не может служить достаточным стимулом, чтобы взваливать на свои плечи заботы о воспитании. Здесь жили изменчивым настоящим, а не смутным будущим, от которого нет прока никому из живущих. Иметь детей — это значит еще больше расшатать свою нервную систему, а для женщины — преждевременно постареть. Один ребенок — это максимум, что себе позволяли местные жители, за исключением тех случаев, когда семья была многодетной еще до переезда сюда. (На единственном примере семьи с девятью детьми я подробнее остановлюсь позже ввиду его исключительности). К тому же мало кто из обитателей страны грез годился на роль отца или матери.
Осталось сообщить некоторые сведения об административной системе, без которой не может обходиться ни одно государство. В стране была собственная небольшая армия, исполнявшая свои обязанности с огромным энтузиазмом, превосходно организованная полиция, главной сферой деятельности которой был Французский квартал, и, наконец, уже упоминавшаяся таможенная служба. Общее руководство всеми этими инструментами государственной власти осуществлялось из архива занимавшего длинное приземистое здание, — то самое, что бросилось мне в глаза сразу по приезде. Серо-желтое, пыльное и сонное — одним своим видом оно вызывало энергичную зевоту. Здание это стояло на центральной площади и служило официальной резиденцией правительства. Отдельные части города были связаны между собой рельсовым путем; проходимые, хотя и густо поросшие травой дороги тянулись до отдаленных долин в горах.
В большинстве своем жители страны грез когда-то были немцами. На их языке можно было объясниться как в городе, так и среди крестьян. Другие национальности были представлены гораздо меньшим количеством людей.
Думаю, я рассказал все, что относится к этой главе, которая служит лишь общим фоном для дальнейшего повествования.
Теперь о населении. Оно набиралось из весьма специфических типов людей. Элиту среди них составляли лица с ненормально высокой чувствительностью. Еще не окончательно подчинившие себе психику человека навязчивые идеи вроде мании коллекционирования, графомании, игорной страсти, гиперрелигиозности и всех тех бесчисленных форм, в которых обнаруживает себя начальная стадия неврастении, были словно созданы для страны грез. Среди женщин была широко распространена истерия. Массы также подбирались по признаку отклонения от нормы или однобокого развития: великолепные экземпляры бахусопоклонников; несчастные, находящиеся в разладе с самими собой и миром; ипохондрики, спириты, отчаянные задиры, пресыщенные, смутьяны, ищущие покоя старые авантюристы, фокусники, акробаты, политические изгнанники; даже объявленные в розыск за границей убийцы, фальшивомонетчики, жулики и тому подобные субъекты удостаивались милости господина. При определенных обстоятельствах основанием для приглашения в страну грез могло даже служить какое-нибудь бросающееся в глаза физическое уродство. Отсюда — множество огромных зобов, вислых носов, гигантских горбов. И, наконец, здесь жило немало людей, на чей характер наложили свой отпечаток жизненные неудачи. Далеко не сразу научился я распознавать глубочайшие нюансы характеров, которые здесь нередко проявлялись в самых обыкновенных, на первый взгляд, поступках.
Среднее количество населения колебалось между двадцатью и двадцатью четырьмя тысячами, постоянно пополняясь новоприбывшими. Прирост от рождаемости был незначительным: детей здесь не жаловали. Считалось, что их ценность никоим образом не компенсирует связанных с ними неудобств. Согласно бытовавшему здесь мнению, на них только уходят деньги, причем зачастую и в зрелом возрасте, они неохотно и нечасто возвращают долги, почти никогда не бывают благодарны родителям за подаренную им жизнь и, напротив, нередко склоняются к мысли, что этот дар им навязан. Таким образом, радость от детей ни коем случае не перевешивает связанных с ними хлопот. Да, они забавны и непосредственны, но это не может служить достаточным стимулом, чтобы взваливать на свои плечи заботы о воспитании. Здесь жили изменчивым настоящим, а не смутным будущим, от которого нет прока никому из живущих. Иметь детей — это значит еще больше расшатать свою нервную систему, а для женщины — преждевременно постареть. Один ребенок — это максимум, что себе позволяли местные жители, за исключением тех случаев, когда семья была многодетной еще до переезда сюда. (На единственном примере семьи с девятью детьми я подробнее остановлюсь позже ввиду его исключительности). К тому же мало кто из обитателей страны грез годился на роль отца или матери.
Осталось сообщить некоторые сведения об административной системе, без которой не может обходиться ни одно государство. В стране была собственная небольшая армия, исполнявшая свои обязанности с огромным энтузиазмом, превосходно организованная полиция, главной сферой деятельности которой был Французский квартал, и, наконец, уже упоминавшаяся таможенная служба. Общее руководство всеми этими инструментами государственной власти осуществлялось из архива занимавшего длинное приземистое здание, — то самое, что бросилось мне в глаза сразу по приезде. Серо-желтое, пыльное и сонное — одним своим видом оно вызывало энергичную зевоту. Здание это стояло на центральной площади и служило официальной резиденцией правительства. Отдельные части города были связаны между собой рельсовым путем; проходимые, хотя и густо поросшие травой дороги тянулись до отдаленных долин в горах.
В большинстве своем жители страны грез когда-то были немцами. На их языке можно было объясниться как в городе, так и среди крестьян. Другие национальности были представлены гораздо меньшим количеством людей.
Думаю, я рассказал все, что относится к этой главе, которая служит лишь общим фоном для дальнейшего повествования.
Третья глава. Будни
1
Первым, что бросилось нам в глаза, была до смешного старомодная одежда горожан. У так называемых «культурных людей» эта особенность была выражена в большей степени. — Эти люди носят платье своих родителей и родителей своих родителей, — с улыбкой сказал я жене. Совершенно несовременные гнутые цилиндры, пестрые жилеты, плащи-крылатки — так одевались господа. Дамы щеголяли в кринолинах, странных, забытых прическах, чепчиках и шалях. Все это походило на маскарад. Но и мы приковывали к себе всеобщее внимание, а потому через несколько дней были вынуждены подстроиться под общий стиль. Моя супруга обзавелась изящным полукринолином, я с достоинством носил фрак в талию, цветастый жилет с широким вырезом и стоячий воротничок на манер шестидесятых годов прошлого века. На дальнейшие уступки я уже не соглашался. Тесные остроносые сапоги, которые мне упорно навязывали, я решительно отверг. Впрочем, привыкнуть к этим переменам во внешнем виде оказалось легче, чем можно было ожидать. Уже очень скоро я и сам стал смотреть на костюмы, в которых прибывали новые поселенцы, с некоторым удивлением. В тот первый день моя единственная забота заключалась в том, чтобы как можно скорее снять подходящую квартиру. Уступив желанию своей жены, считавшей, что мы должны устроиться подальше от жутковатового дворца, я стал подыскивать жилище ближе к окраине города. О том, чтобы снять одну из хорошеньких вилл в парковом районе, не могло быть и речи. В результате мы трижды прошлись взад и вперед по Длинной улице, пока мое внимание не привлек двухэтажный особняк средней величины с эркерами. У меня создалось такое впечатление, будто я знаю его с детства. «Вот то, что мы ищем! — вскричал я, указывая на дом. — Мы будем жить на втором этаже!» Моя спутница была поражена моей категоричностью. «Откуда ты знаешь?» — спросила она, насмешливо улыбаясь. Для моей уверенности и вправду не было никаких оснований, я просто знал это — и все. К счастью, я оказался прав, там действительно сдавалась квартира из трех комнат и кухни. Владелец парикмахерской на первом этаже, он же управляющий домом, провел нас наверх. Комнаты выглядели уютно и зазывающе, обстановка была изящной, цена — умеренной. Уже после полудня мы вселились в квартиру.
Дом принадлежал доктору медицины Лампенбогену.
В тот первый день моя единственная забота заключалась в том, чтобы как можно скорее снять подходящую квартиру. Уступив желанию своей жены, считавшей, что мы должны устроиться подальше от жутковатового дворца, я стал подыскивать жилище ближе к окраине города. О том, чтобы снять одну из хорошеньких вилл в парковом районе, не могло быть и речи. В результате мы трижды прошлись взад и вперед по Длинной улице, пока мое внимание не привлек двухэтажный особняк средней величины с эркерами. У меня создалось такое впечатление, будто я знаю его с детства. «Вот то, что мы ищем! — вскричал я, указывая на дом. — Мы будем жить на втором этаже!» Моя спутница была поражена моей категоричностью. «Откуда ты знаешь?» — спросила она, насмешливо улыбаясь. Для моей уверенности и вправду не было никаких оснований, я просто знал это — и все. К счастью, я оказался прав, там действительно сдавалась квартира из трех комнат и кухни. Владелец парикмахерской на первом этаже, он же управляющий домом, провел нас наверх. Комнаты выглядели уютно и зазывающе, обстановка была изящной, цена — умеренной. Уже после полудня мы вселились в квартиру.
Дом принадлежал доктору медицины Лампенбогену.
2
Так мы стали полноправными обитателями города грез. С каждым днем — во всяком случае, в течение первых месяцев — я все больше убеждался в безосновательности своего изначального предположения, будто здесь все обстоит так же, как у нас. Со временем я и вовсе забыл родину. В стране грез настолько быстро привыкаешь к самым невероятным вещам, что вскоре перестаешь удивляться чему бы то ни было. Я вовсе не планировал устраиваться на работу, но она нашла меня сама. Мне просто не дали опомниться. А именно: на третий день к нам заявился один чрезвычайно вертлявый господинчик. — Я — издатель и редактор «Зеркала грез», лучшего из здешних иллюстрированных журналов, у нас собственная типография! — выпалил он скороговоркой. — Здорово, что вы здесь, такого, как вы, мы ждали давно. Кастрингиус, наш лучший сотрудник, в последнее время несколько сдал, и мы вынуждены заполнять наши страницы репродукциями старинных гравюр, которые мы покупаем в Перле и перепечатываем. Кстати, вот наш последний номер, — он продемонстрировал мне журнал. — Город Кохем на реке Мозель, министр Бойст в кругу семьи, индеец в боевом оперении — разве это красиво? разве это мечтательно? разве это интересно? — вскричал он раздраженно и угрожающе потряс журналом. — Нет, дорогой мой! — он принял задумчивый вид и вытер пот со лба. И неожиданно выложил на стол уже готовый контракт, где не хватало только моей подписи. Условия были следующие: четыреста гульденов в месяц в течение всего года, независимо от того, даю я материал или нет. Это было довольно забавно, подобных договоров я еще не видывал. Разумеется, я без раздумий нацарапал свою фамилию; в царстве грез такого рода решения принимались легко, никто особенно не раздумывал. Все жили только сегодняшним днем. Зато теперь у меня была постоянная работа, я состоял художником при известной газете и тем самым уже что-то собою представлял. А в этой стране не было ничего важнее, чем что-то собою представлять — все что угодно, хотя бы даже вора или мошенника. Мой редактор деловито развинтил свою трость. Она была полой; рукоятка одновременно служила стаканчиком, куда он налил мне из трубки отличного шнапса. «За наш уговор!» — многозначительно произнес он. — Я жду от вас чего-нибудь броского — такого, что щекотало бы нервы! Я хочу увеличить тираж! — добавил он оптимистически. Затем с бесконечно довольным выражением лица взял договор, попрощался и, пританцовывая, скрылся за дверью в своем костюме в черно-белую клетку.3
Прибывающий в царство грез не сразу замечал, что здесь тебя на каждом шагу пытаются надуть. На первый взгляд, здесь торговали и покупали так же, как это заведено повсюду. Но то была лишь видимость, смехотворная видимость. Вся система финансовых отношений была «символической». Никто никогда не знал, сколько он имеет. Деньги приходили и уходили, их брали и снова отдавали; здесь все были немного фокусниками, и я тоже со временем освоил не один отличный трюк. Главное — нужно было иметь хорошо подвешенный язык. Наплести партнеру с три короба считалось верхом предприимчивости. Вначале меня пугала та легкость, с какой люди грез поддаются внушению, но волей-неволей мне пришлось с этим примириться, и со временем я научился принимать плоды своего и чужого воображения за действительность. Переходы от удачи к невезению, от бедности к богатству и наоборот происходили здесь намного быстрее, чем в остальном мире. События сменяли друг друга с ошеломляющей быстротой. Но даже когда все шло кувырком, ощущалось присутствие сильной руки. В самых непостижимых на вид обстоятельствах угадывалось ее тайное влияние. Именно благодаря ей все держалось, не скатываясь в тартарары. Нас всех охраняла высшая сила, или высшая справедливость, для которой не существовало никаких тайн и которая возвращала все на свои места. Если человек отчаивался, если он не видел выхода из нужды, он возносил ей молитву. Эта безграничная власть с ее столь же безграничным интересом ко всему и вся присутствовала повсеместно; ничто не ускользало от ее всевидящего ока. В нее твердо верил любой житель страны грез, все остальное казалось ему эфемерным.4
Теперь я на ряде примеров покажу, как у нас было принято вести дела. В один из первых дней нашего пребывания в Перле я решил купить план города. Я заглянул в одну из антикварных лавок на нашей улице — кажется, ту, что находится рядом с магазином Макса Блюменштиха. — План города? Новые еще не поступили. Возьмете предыдущее издание? Долгие и тщательные поиски среди оленьих рогов, люстр и старых шкатулок ничего не дали. Наконец приказчик принес уродливую чернильницу из литой бронзы. — Возьмите это, она наверняка вам понадобится! Вы непременно должны ее купить, она вам просто необходима! Всего семьдесят два гульдена! Он говорил томным, вкрадчивым голосом и использовал все свое искусство убеждения. Я дал ему гульден и получил не только чернильницу, но еще и маникюрные ножницы в придачу. Все новички стремились обратить такое положение вещей себе на пользу, но быстро раскаивались в своей опрометчивости. Высшая справедливость была неумолима: наспех сколоченное богатство улетучивалось в мгновение ока. Механизм этого был прост: те, кто считал себя хитрее других, должны были платить безумные цены за самые необходимые продукты питания; в противном случае их забрасывали почтовыми требованиями. Если они их игнорировали, происходили еще худшие неприятности — например, болезни, лечение которых стоило фантастических денег. Откуда-то возникали кредиторы, у которых ты в жизни ничего не брал, и требовали назад свои деньги. Если ты пытался что-то возразить, они тут же приводили свидетелей. Таким образом, все снова приходило в равновесие в полном соответствии с принципом «здесь взял, там потерял». Невидимый математик не терпел, когда его пытались обхитрить. Как только я усвоил эту норму, все пошло на лад. Уже через четырнадцать дней к нам явился лакей в ливрее. Его господин — он назвал какое-то громкое имя — с нетерпением ждет пять купленных рисунков. Ему поручено забрать их у меня. Что оставалось делать? Я упаковал пять моих лучших листов, присовокупив к ним вежливое извинительное письмо. О том, куда они отправились, я не имел ни малейшего представления. Я ежедневно посещал расположенное наискосок кафе. Однажды, когда я вернулся домой, жена продемонстрировала мне огромную корзину с отборными овощами, спаржей, цветной капустой и сочными фруктами, а также двумя куропатками. — Это все я купила на рынке. Угадай, за сколько? — торжествующе спросила она. — Ну и за сколько? — Всего за двадцать крейцеров! Тогда я решил быть откровенным и признался, что в кафе за коробку восковых спичек с меня только что взяли пять гульденов. Сегодня ты был с деньгами, завтра — без. Но и тогда не стоило отчаиваться. Просто надо было делать вид, будто ты что-то даешь. При случае можно было даже рискнуть вообще ничего не давать. Результат был, в сущности, всегда один и тот же. Здесь фантазии были реальными фактами. Странное заключалось лишь в том, как подобные представления могли одновременно возникать во многих головах. Люди сами внушали себе то, что им хотелось. Хочу привести типичный случай. Благополучный отец семейства в одно прекрасное утро просыпается в убеждении, будто он полностью обнищал. Его жена рыдает, знакомые сочувственно качают головами. Вот уже является судебный исполнитель, чтобы описать имущество, дело доходит до продажи собственности с молотка, бывает, что новый владелец дома вселяется в тот же день, грузчики переносят самую необходимую утварь в какой-нибудь убогий, жалкий домишко. А через месяц глядишь — все опять довольны, так как за это время несчастному вновь улыбнулась удача. Знатные люди, разумеется, утопали в роскоши, но поскольку излишества, как известно, причиняют не меньше страданий, чем нужда, то им никто особо не завидовал. Поэтому какой-либо особой классовой зависти не наблюдалось. Каждый занимался своим делом, предавался своим радостям и печалям. Если тех и других было поровну, человек оставался довольным; здешние жители любили свою страну и свой город, невзирая ни на какие превратности судьбы. Я спокойно рисовал для «Зеркала грез» и между делом предпринял несколько тщетных попыток добиться аудиенции у моего друга Патеры. Каждый раз возникало то или иное препятствие. То мне заявляют, что господин загружен делами и никого не принимает. То сообщают, что он в отъезде, — нашел же время! Наконец я узнал, что пропуск на аудиенцию можно получить в архиве. Я отправился туда. Виновато осознавая себя нарушителем спокойствия, я прошел через украшенные гербами ворота. Привратник спал. Я решил, что сориентируюсь без его помощи, и проследовал в просторную приемную. Там сидело десять-двенадцать чиновников. Добрых четверть часа меня вовсе не замечали, словно я был невидимкой. Наконец один из них недовольно спросил меня, зачем я пожаловал, но не стал ждать ответа и продолжил прерванный разговор со своим соседом. Другой, более благосклонно настроенный, повернулся ко мне и осведомился о цели моего прихода. Его желтое, помятое лицо прорезали суровые морщины, он сделал пару затяжек из своей длинной трубки, показал ею же на соседнюю комнату и сказал: «Там внутри!» На двери значилось: «Не стучать!», а «там внутри» спал человек. Да-да, кроме шуток, мне пришлось кашлянуть три раза, прежде чем на его лице, застывшем в выражении глубокой задумчивости, появились какие-то признаки жизни. Затем он скользнул по мне величаво-презрительным взглядом и скрипучим голосом произнес: «Что вам угодно? Где ваша повестка? Какие документы у вас при себе?» В отличие от своих немногословных соседей за дверью он буквально забросал меня справками: «Чтобы получить разрешение на аудиенцию, вам нужно предъявить, кроме ваших свидетельств о рождении, крещении и образовании, еще и школьный аттестат вашего отца и свидетельство о прививках матери. Слева по коридору, в комнате № 16, вы должны представить сведения о вашем имущественном положении, образовании и имеющихся наградах. Характеристика на вашего тестя желательна, но не обязательна». Затем он снисходительно кивнул, снова склонился над столом и принялся писать — как мне удалось разглядеть, сухим пером. Я стоял в полной растерянности. Счастье, что меня еще не заставляют показать все погашенные счета. Робея, я пробормотал: «Боюсь, что я не смогу представить все эти документы. Единственное, что у меня есть, это заграничный паспорт. Я прибыл сюда по личному приглашению Патеры, моя фамилия такая-то». Произнося последнюю фразу, я даже не подозревал о той реакции, которую она вызовет. Грозный чиновник буквально подпрыгнул на месте. — О, мы давно вас ждем! Я сейчас же проведу вас к его превосходительству! Теперь он был сама обходительность. Два человека в одном — возможно ли такое?Мне этого было не понять! Началось бесконечное странствие по безлюдным коридорам, канцеляриям, где при нашем появлении испуганно вздрагивали, по пустынным залам и кабинетам, заваленным до потолка папками и подшивками. Наконец мы очутились в огромной приемной, где сидели самые разношерстные посетители. Моего провожатого и меня сразу впустили в своего рода святая святых. Его превосходительство сидели в полном одиночестве и ждали. Несчастный чиновник, несмотря на свои подобострастные поклоны, был немилосердно отчитан и выдворен за дверь. Его превосходительство был весьма знатным господином. Это было видно уже по той обстановке, что его окружала. И не только по ней, но и по его внешности. Его одежда, к примеру, была обильно расшита золотом, на груди красовалась целая коллекция всевозможных орденских ленточек. В дополнение к ним ее пересекала широкая красная лента. Были ли на его мундире еще какие-либо атрибуты власти, я не могу сказать наверное. Вероятно, были. Но я их не разглядел. Мы остались одни. В отличие от других чиновников в здании архива, он был весьма приветлив. Меня даже поразила его любезность. Выслушав меня до конца, он поспешил меня заверить: «Ну, разумеется, почтеннейший! Вам будет немедленно выслано приглашение». Затем он поднялся и заговорил официальным тоном, словно обращаясь к аудитории: «Господа! Господа! В интересах общественного благоденствия и нашего престижа правительство признает за вами полную ответственность. Я обязуюсь представлять все ваши ходатайства перед высочайшей инстанцией. В вопросах благотворительности вы всегда найдете у меня должное внимание. Наша ближайшая цель — усовершенствование театрального дела. Я надеюсь на вашу деятельную поддержку. Опыт, накопленный нами в связи с легализацией некоторых заведений во Французском квартале, обязывает нас… господа… я убежден, что вы оцените мою искренность, если… если… если…» Оратор потерял свое красноречие и теперь смотрел на меня выпученными от изумления глазами. Чтобы избавить его от ощущения неловкости, я поспешил откланяться, не скупясь на изъявления благодарности. В душе я не унес особого почтения к архиву и с тех пор не нарушал покой этого учреждения. То, что мне довелось в нем испытать, было, конечно, уделом одних новичков. На этом пути невозможно было достичь ничего положительного. Самые настоятельные прошения отсылались обратно под предлогом чисто формальных ошибок. Единственное, чего здесь можно было добиться со стопроцентной гарантией, это срыва всех планов. Да, мне действительно прислали пропуск на аудиенцию, но лишь затем, чтобы спустя некоторое время сообщить о его недействительности. Роль архива в стране грез была сугубо комедийной. Если бы его вдруг не стало, все продолжало бы идти своим чередом. Эти колоссальные скопления документов, скупленных во всех уголках света, не имели никакого отношения к царству грез. Будем называть вещи своими именами: Пропитанная бумажной пылью атмосфера этого заведения служила для выведения особого подвида Homo sapiens, вносившего свою лепту в пестроту целого. Подлинное правительство находилось совсем в другом месте. После опыта с архивом я на время оставил свои попытки добиться аудиенции, тем более что вскоре мое внимание было приковано к другим вещам.5
Дом, в котором мы жили, и по сей день стоит у меня перед глазами так ясно, словно я видел его на прошлой неделе. В первом этаже располагалась комната парикмахера, а в ней он сам — светловолосый, серьезный, начитанный человек, холостяк в золотом пенсне. Он страстно увлекался философией. Идеи сыпались из него, как из рога изобилия. Знания у него были дико путанные, и он охотно делился ими с другими. — Я много чего могу вам рассказать! — говаривал он, сверкая глазами. Бог ведает, что он во мне нашел, но я с самого начала пользовался его доверием. «Кант — это великая ошибка. Ха-ха! Разве можно все сводить к одной „вещи в себе“? Мир — это прежде всего этическая проблема, и меня никто в этом не разубедит. Видите ли, пространство, так сказать, ухаживает за временем: точка их соединения — настоящее — есть смерть, или, если вам угодно, божество, что, как вы понимаете, одно и то же. В центре всего — величайшее чудо воплощения: объект. Который, в свою очередь, есть ни что иное, как внешняя сторона субъекта. Это фундаментальные положения, милостивый государь; в них вся моя теория». — Да, вы истинный мыслитель, — уважительно заключал я в таких случаях. В таких вот эмпиреях он витал изо дня в день, и его парикмахерской грозило бы полное запустение, не будь у него Джованни Баттисты. Правда, это была всего лишь обезьянка, но зато какая! Необыкновенно одаренный и настырный зверек! Имея такого помощника, можно было спокойно заниматься этическими проблемами. Джованни овладел этим ремеслом с азов. Его талант проявился в тот день, когда он впервые самостоятельно взбил пену; наш парикмахер, найдя и в нем субъекта, не замедлил извлечь пользу из его ловких рук. Спокойное, быстрое и уверенное владение бритвой прославило Джованни на всю округу. По средам и субботам он даже посещал частную клиентуру. Довольно часто мы видели его трусящим с серьезным и деловым видом по Длинной улице. Будучи честнее и надежнее человека, он составлял подлинную душу этого заведения красоты. Единственное огорчало его хозяина: зверь мало смыслил в философии. — Вы стоик! — кричал цирюльник ему вслед после очередной продолжительной лекции. При этом он все-таки не терял надежды приохотить животное к более высоким материям. Должен сказать, что всякий раз, когда я вспоминаю свой первый год в царстве грез, на меня находит глубокая тоска. Тогда еще, в основном, все было хорошо; я даже считаю те дни одними из лучших в моей жизни. Под влиянием новых впечатлений работа шла легко. Во второй половине дня — где-то около пяти — я встречался со знакомыми в кафе. Там, сидя у окна, можно было следить за происходящим снаружи. Особого оживления на улице не наблюдалось, жители Перле предпочитали сидеть по домам. А в центре города вообще было на удивление безлюдно и пустынно. Но именно это однообразие уличной жизни давало определенное ощущение надежности и комфорта. Между тем я все глубже вникал в здешние обстоятельства. Я находил точки опоры, твердые устои среди царящей кругом неразберихи. В этом мне здорово помогали дома. Порой мне казалось, будто здесь не они существуют ради людей, а люди ради них. Эти дома были сильными, яркими индивидуальностями. Само их молчание было многозначительным. У каждого была своя особая история — надо было только запастись терпением и постепенно выведывать ее у старых построек. Дома сильно разнились по настроению. Некоторые испытывали обоюдную ненависть, видя друг в друге соперников. Среди них были угрюмые брюзги — как молочная напротив; другие производили впечатление нахальных и горластых — в качестве примера назову мое кафе. Если следовать этой аналогии, то дом, в котором мы жили, был старой раздражительной теткой. Окна косились недружелюбно и сердито. Злым, очень злым был большой магазин М. Блюменштиха, простодушной и жизнерадостной — кузница возле молочной, беспечным и легкомысленным — притулившийся к ней домишко речного смотрителя. Но моей любимицей была мельница, стоявшая с краю на берегу реки. Она располагала к себе всем своим видом: чисто выбеленная, с мшистой гонтовой шапкой крыши, из-под которой в направлении улицы тянулась толстая балка — точно добрая сигара. Правда, в районе слуховых окон выражение ее лица было несколько замысловатым и хитрым. Она принадлежала двум братьям. Или, может быть, это они принадлежали ей, как два сына — одной матери?
Я мог бы поведать еще о многом, будь я уверен, что мой читатель воспримет все эти довольно запутанные обстоятельства так, как мне хочется. Я, в частности, со временем пришел к выводу, что дома, стоявшие на одной улице, представляли собой как бы одну семью. Между ними могли происходить ссоры, но внешне они были дружны. Здесь, в сумрачном Перле, меня озаряли идеи, которые во внешнем мире я бы никогда не осознал с такой ясностью. Но подлинной глубины понимания я достиг лишь после того, как чудесным образом обострилось мое обоняние. Это произошло уже через полгода. Отныне мой нос определял все мои симпатии и антипатии. Я часами шатался по углам и закоулкам, принюхиваясь и присматриваясь ко всему, что попадалось мне на глаза. Передо мной открылся совершенно новый, неизведанный мир. Любой подержанный предмет делился со мной своими маленькими тайнами. Моя жена часто подсмеивалась надо мной, ей казалось комичным, что я глубокомысленно обнюхиваю какую-нибудь вещицу, книжку или табакерку. А я и впрямь стал почти как собака; я не могу этого точно объяснить, все дело было в механизмах восприятия — настолько тонких, что их не опишешь словами.
Начать с того, что по всему царству грез был разлит своеобразный запах, вполне определенный, но не поддающийся описанию. Иногда он усиливался, иногда почти пропадал. Там, где он присутствовал в наиболее концентрированном виде, его можно было бы примерно охарактеризовать как смесь запахов муки и вяленой рыбы. Его происхождение оставалось для меня загадкой. Куда более определенными были индивидуальные запахи предметов. Я тщательно анализировал их, при этом меня нередко охватывало непреодолимое отвращение. И я легко проникался неприязнью к людям, от которых исходил неприятный — с моей точки зрения — запах. Но в конечном счете все эти существа и неодушевленные предметы, оказавшиеся в одном месте по странной прихоти основателя, при всем своем многообразии вызывали ощущение какого-то непостижимого единства.
В этом мне здорово помогали дома. Порой мне казалось, будто здесь не они существуют ради людей, а люди ради них. Эти дома были сильными, яркими индивидуальностями. Само их молчание было многозначительным. У каждого была своя особая история — надо было только запастись терпением и постепенно выведывать ее у старых построек. Дома сильно разнились по настроению. Некоторые испытывали обоюдную ненависть, видя друг в друге соперников. Среди них были угрюмые брюзги — как молочная напротив; другие производили впечатление нахальных и горластых — в качестве примера назову мое кафе. Если следовать этой аналогии, то дом, в котором мы жили, был старой раздражительной теткой. Окна косились недружелюбно и сердито. Злым, очень злым был большой магазин М. Блюменштиха, простодушной и жизнерадостной — кузница возле молочной, беспечным и легкомысленным — притулившийся к ней домишко речного смотрителя. Но моей любимицей была мельница, стоявшая с краю на берегу реки. Она располагала к себе всем своим видом: чисто выбеленная, с мшистой гонтовой шапкой крыши, из-под которой в направлении улицы тянулась толстая балка — точно добрая сигара. Правда, в районе слуховых окон выражение ее лица было несколько замысловатым и хитрым. Она принадлежала двум братьям. Или, может быть, это они принадлежали ей, как два сына — одной матери?
Я мог бы поведать еще о многом, будь я уверен, что мой читатель воспримет все эти довольно запутанные обстоятельства так, как мне хочется. Я, в частности, со временем пришел к выводу, что дома, стоявшие на одной улице, представляли собой как бы одну семью. Между ними могли происходить ссоры, но внешне они были дружны. Здесь, в сумрачном Перле, меня озаряли идеи, которые во внешнем мире я бы никогда не осознал с такой ясностью. Но подлинной глубины понимания я достиг лишь после того, как чудесным образом обострилось мое обоняние. Это произошло уже через полгода. Отныне мой нос определял все мои симпатии и антипатии. Я часами шатался по углам и закоулкам, принюхиваясь и присматриваясь ко всему, что попадалось мне на глаза. Передо мной открылся совершенно новый, неизведанный мир. Любой подержанный предмет делился со мной своими маленькими тайнами. Моя жена часто подсмеивалась надо мной, ей казалось комичным, что я глубокомысленно обнюхиваю какую-нибудь вещицу, книжку или табакерку. А я и впрямь стал почти как собака; я не могу этого точно объяснить, все дело было в механизмах восприятия — настолько тонких, что их не опишешь словами.
Начать с того, что по всему царству грез был разлит своеобразный запах, вполне определенный, но не поддающийся описанию. Иногда он усиливался, иногда почти пропадал. Там, где он присутствовал в наиболее концентрированном виде, его можно было бы примерно охарактеризовать как смесь запахов муки и вяленой рыбы. Его происхождение оставалось для меня загадкой. Куда более определенными были индивидуальные запахи предметов. Я тщательно анализировал их, при этом меня нередко охватывало непреодолимое отвращение. И я легко проникался неприязнью к людям, от которых исходил неприятный — с моей точки зрения — запах. Но в конечном счете все эти существа и неодушевленные предметы, оказавшиеся в одном месте по странной прихоти основателя, при всем своем многообразии вызывали ощущение какого-то непостижимого единства.
6
Все, на что бы ни падал взгляд в царстве грез, было матовым и блеклым. Насколько далеко это заходило, я заметил однажды во время бритья. Джованни прислуживал со свойственной ему элегантностью, впечатление портило лишь состояние его бритв и медного тазика: они были совсем тусклыми. — Как это называется? — спросил я у парикмахера, который как раз в этот момент зачитывал мне трудное для понимания место из монадологии Лейбница. — Господин ассистент мог бы содержать эти принадлежности в лучшем состоянии. — То есть как? — спросил великий философ испуганно и удивленно. — Я думаю, что тазику следовало бы блестеть, а бритве — сверкать. — Да, но зачем? Пусть будет все как есть. Я избегаю нововведений. Чтобы поймать его на слове, я указал на зеркало и заметил: — Взгляните, оно-то ведь сверкает чистотой! Тут философия изменила ему, он явно находился в затруднении. — Ах, зеркало! — нерешительно, как бы в раздумье, он добавил: — Но зеркала вообще ничего не значат! По всей видимости, ему было неприятно говорить об этом. — Поверьте, я не хотел вас обидеть! — миролюбиво сказал я и покинул его заведение. И тем не менее! Жить среди этих потускневших от времени старых предметов было прекрасно, и я не колеблясь привожу здесь нижеследующее письмо. Оно полностью проникнуто моим тогдашним настроением. Кроме того, оно содержит описание странной традиции, предваряющей культ, о котором я еще буду говорить. Я имею в виду великие чары часов. Это письмо лежало в записной книжке, которая нашлась среди моего старья после гибели царства грез. В этой же книжке я обнаружил список священных предметов, в то время как остальные страницы были испещрены неразборчивыми записями, за исключением внутренней стороны обложки, где был помещен примерный план города с краткими пометками, которыми я пользовался для ориентировки в первое время. Письмо было написано мною на третий месяц моего пребывания в Перле. Это была моя первая попытка установить связь с внешним миром. Через два года я получил письмо обратно как не могущее быть доставленным «за ненахожденисм адресата»; конверт был полностью заляпан штемпелями и пометками. Письмо и записная книжка остаются единственными вещественными доказательствами из царства грез, которые я могу предъявить всем интересующимся.«Дорогой Фриц! Я — в царстве грез. Тебе это покажется невероятным. Но могу тебе посоветовать лишь одно: сразу по получении этого письма собери свои пожитки и приезжай ко мне. Перле — настоящий Эльдорадо для коллекционера, это не город, а музей; конечно, тут полно всякого хлама, но есть и бесподобные вещи. Не далее как сегодня я видел резной готический сундук, пару серебряных канделябров (шестнадцатого века!) и одну из тех чудесных бронзовых статуэток эпохи Возрождения (мальчик на быке работы нашего Челлини), о которых ты всегда мечтал. На прошлой неделе мы разглядывали восхитительный фарфор; о низких ценах я уж промолчу, потому что опасаюсь за твое здоровье. И тот, кто знает толк, встречает здесь подобные сокровища ежедневно и на каждом шагу. Вообще же здесь все только старинное, люди живут, как наши деды до революции, и чихали они на прогресс. Да, милый мой, мы очень консервативны, наши ремесленники — специалисты по починке и реставрации. В каждом пятом доме располагается антикварная лавка; здесь живут торговлей старьем. И архитектурных экстравагантностей ты насмотришься вдоволь: в том же дворце сочетаются по меньшей мере двадцать стилей. А еще разные забавные открытия! Не увидел бы собственными глазами — ни за что бы не поверил! Чтобы тебе стало понятным мое веселое настроение, расскажу тебе о последней забаве, какую я здесь наблюдал. Это так называемые великие чары часов. Итак, слушай. На главной площади города возвышается массивная серая башня вроде невысокой колокольни. Это — резиденция старинных часов, циферблат которых занимает верхнюю треть здания. Этот светящийся по ночам диск показывает обычное время, и все часы в городе и стране выверяются по нему. В этом не было бы ничего особенного, не будь у этой башни одного поистине странного свойства. Она обладает магической, невероятной силой притяжения. В определенные часы вокруг этой старой громады собирается толпа мужчин и женщин. Новичок замирает в удивлении и с интересом наблюдает за странным поведением этого сборища. Люди нервно переминаются с ноги на ногу, то и дело поглядывая на длинные ржавые стрелки. Когда спрашиваешь их, что происходит, получаешь рассеянные, уклончивые ответы. Но если приглядеться получше, можно заметить, что в основании башни находятся два небольших входа. К ним-то все и устремляются. Если толпа большая, люди образуют очереди, женщины и мужчины — первые боязливо, вторые ревностно — следят за порядком. По мере движения стрелок общее напряжение возрастает. Люди один за другим скрываются внутри, проводят там одну-две минуты и выходят с глубоко удовлетворенными, почти счастливыми физиономиями. Неудивительно, что это только подогревает любопытство. Но когда я спросил одного из своих новых знакомых по кафе, что все это значит, мне пришлось туго. Как оказалось, о таких вещах даже неприлично говорить, это все равно что расписываться в собственной глупости: „Усвойте раз и навсегда: это великие чары часов! Зарубите себе это на носу!“ Полученная отповедь усилила мое любопытство. Мое первоначальное предположение — что речь идет о какой-то достопримечательности, быть может, камере-обскуре или паноптикуме — отпало само собой. Собравшись с духом, я рискнул посетить башню сам, но меня ждало глубокое разочарование. Как ты думаешь, что я там увидел? Ни за что не догадаешься! Войдя внутрь, ты оказываешься в маленьком пустом помещении, частью покрытом загадочными рисунками, очевидно, символами. За стеной раздается мощное качание маятника. Тик… так, тик… так… По каменной стене стекает вода, она льется непрерывно. Я последовал примеру мужчины, вошедшего следом за мною, то есть уставился на стену и громко, отчетливо произнес: „Я стою здесь перед Тобой!“ На этом посещение башни заканчивается. Представляю, какое недоумение было написано на моем лице, когда я из нее выходил. Для женщин предусмотрен свой, особый вход, снабженный, как это делается во всем мире, соответствующей надписью. Но самое примечательное: с того дня, как я впервые посетил башню, она стала притягивать меня к себе все сильнее. Сперва это был как бы легкий толчок, который я ощущал, проходя через площадь, но с каждым днем мое волнение росло, меня неудержимо влекло туда. Одним словом, я поддался этому идиотизму, ибо сопротивляться было бесполезно. Теперь у меня уже это вошло в привычку. В городе есть еще и меньшие башни, устроенные по образцу главной. В селеньях каждый крестьянский двор имеет свои часы. Изо дня в день в определенное время я спешу к своим. Да-да, смейся надо мной. „Господи, я стою здесь перед Тобой!“Как видно из письма, тогда я еще пребывал в благодушном настроении. Теневые стороны жизни — те из них, которые уже к тому времени обратили на себя мое внимание, — я опишу в конце этой главы. Но прежде хочу сообщить кое-что относительно культа — или того, что я за него принимал.О живописи много говорить не приходится. Произведения искусства здесь ценятся главным образом как предметы обихода. Несколько полотен старинных художников разбросаны по разным местам. Единственное, что я видел, был написанный в темных тонах холст какого-то запоздалого представителя голландской школы. По-настоящему превосходные вещи Рюисдаля, Брейгеля, Альтдорфера, а также примитивы можно встретить только в домах богачей; банкир Альфред Блюменштих, местный Крез, директор центрального банка, владеет ценной или, скорее, бесценной галереей, в том числе Рембрандтом и подлинным Грюневальдом, о существовании которого никто не подозревает. Картина называется: „Семь смертных грехов пожирают Агнца“. Здесь не в чести веселые краски, рисунки расходятся гораздо лучше. Я устроился в журнал „Зеркало грез“: четыреста гульденов и удобные условия. Со своим единственным коллегой, рисовальщиком Николаусом Кастрингиусом, я пока еще незнаком. Если ты надумаешь приехать, я попробую пристроить в журнал и тебя. Не сердись, что на этом заканчиваю. С нетерпением жду встречи! Твой старый друг, гражданин страны грез и художник. P. S. Ты сможешь поселиться в каком-нибудь прелестном романтичном домике на окраине города; там у нас тихо, как в деревне».
7
Эта область столь же интересна, сколь и запутана. Мне так и не удалось проникнуть в нее до конца, даже впоследствии. Тем не менее я приблизился к решению некоторых загадок. И если мои изыскания дали отрицательные результаты — в том не моя вина, ибо некое враждебное влияние перечеркивало все мои усилия в этом направлении, и добытые сведения остались весьма скудными. Все великие мировые религии имели в стране грез своих приверженцев — в большем или меньшем числе. Но это была лишь видимость, мишура. Образованные люди признавались в этом сразу. Они были умны, свободны от предрассудков и не склонны к подчинению жестким иерархическим схемам. К тому же среди них было немало светлых голов. Но даже в них жила эта фаталистическая вера в изощренно справедливую судьбу, а вместе с ней — и всевозможные странные и смутные представления, над которыми здесь не разрешалось смеяться. Однажды я убедился в этом на собственном опыте. Еще в первой четверти года я познакомился в кафе с симпатичным молодым господином, бароном Гектором фон Бренделем. Приятный и простой в общении, весельчак, хотя несколько неврастеничный и капризный, но уж во всяком случае не дурак. Его легкая, сдержанная меланхолия расположила меня к нему при первой же встрече. С тех пор мы виделись ежедневно. — Вы здесь уже три года. Брендель, — сказал я ему однажды за столиком, когда мы остались в кафе одни. — Я непременно хочу выяснить одну вещь. Как я понимаю, здесь, в стране грез, существует какой-то тайный союз единоверцев, вроде ордена вольных каменщиков. Известны ли вам какие-нибудь подробности? Не могли бы вы хоть немного посвятить меня в эту тайну? Рассказать о ритуалах, обрядах? Он искоса глянул на меня, кашлянул и сухо спросил: — А что, собственно, вы заметили? — Да ничего определенного. Сама идея фатума не нова, но меня поражает то упорство, с которым здесь держатся за старомодный уклад жизни, отсутствие прогрессивных настроений, ну и еще кое-что. — Я рассказал ему о случае с парикмахером и медным тазиком. Он выслушал меня очень серьезно, медленно скрутил сигарету и, печально усмехнувшись, заметил: — Чтобы быть вполне откровенным — да, мой дорогой, за всем этим что-то стоит. Но, увы, я знаю ненамного больше вас. — И все же я был прав! — воскликнул я, хотя в глубине души испытал разочарование. — Но неужели вы-таки ничего об этом не знаете? Разумеется, если нужно, я буду молчать! Брендель несколько мгновений раздумывал, затем вполголоса произнес: — К некоторым вещам здесь относятся с благоговением, но я не знаю, много ли вам будет пользы от того, если я назову несколько местных святынь. — О, прошу вас, доставьте мне такое удовольствие! — попросил я, снедаемый любопытством. — Извольте: у нас особо почитаются яйцо, орех, хлеб, сыр, мед, молоко, вино и уксус. — Ага! — вскричал я радостно. — Гигиенический культ на основе желудка! Блеск! — Я не мог удержаться от легкой иронии. — А почему бы тогда заодно не чай, кофе и сахар? Брендель резко повернулся ко мне спиной и стал рассчитываться с официантом. Дверь кафе распахнулась под порывом ветра, внутрь ворвался теплый, сырой воздух, густо насыщенный специфическим ароматом страны грез. Брендель коротко попрощался и вышел, я проводил его взглядом через высокие тусклые окна. На улице стояли сумерки. Нет, зря я так пошутил. В результате я так и не выяснил, что хотел. В другой раз буду осторожнее. Разумеется, местная религия не могла исчерпываться одной едой и напитками. Вскоре я узнал, что священными также считаются волосы, рог, еловые шишки, грибы и сено. Даже конскому и коровьему навозу придавался некий высший смысл. Из внутренних органов почитались легкие и сердце, из животных — рыбы. Дубленые кожи тоже возводились в ранг священной тайны. Напротив, сталь, железо и разные сплавы оценивались прямо противоположным образом: они как бы символизировали опасности. Все эти подробности я почерпнул, общаясь с крестьянами и охотниками во время долгих прогулок по сельской местности. Я записывал все, что мне удавалось услышать от этих немногословных людей, но во избежание ненужных длиннот не стану приводить здесь полный список. Пожалуй, стоит упомянуть еще лишь об одном: в лесах и среди болот были глухие уголки, куда с наступлением тьмы не отваживался ступить ни один путник. Они пользовались дурной славой, и все стремились держаться подальше от этих мест. Возможно, мне бы не пришлось так долго блуждать в потемках, если бы я хоть раз взглянул собственными глазами на озерный храм. Это святилище — судя по тому, что я о нем слышал, — было настоящим чудом. От Перле до храма на озере был добрый день пути. Его окружали искусственные водные террасы и тихий парк. В храме, по слухам, хранились величайшие драгоценности царства грез. Он был так искусно возведен из благороднейшего материала, что у зрителя создавалось впечатление, будто храм парит в воздухе. Главный зал был выдержан в коричневом, сером и зеленом — любимых цветах Патеры. В таинственных подземных покоях стояли символические скульптуры. К сожалению, храм можно было посетить только раз в году, но и тогда необходимо было иметь хорошую протекцию. Поначалу я надеялся, что мое личное знакомство с Патерой обеспечит мне доступ в храм. Однако мой визит в нему все откладывался, а потом разразились события.
Возможно, мне бы не пришлось так долго блуждать в потемках, если бы я хоть раз взглянул собственными глазами на озерный храм. Это святилище — судя по тому, что я о нем слышал, — было настоящим чудом. От Перле до храма на озере был добрый день пути. Его окружали искусственные водные террасы и тихий парк. В храме, по слухам, хранились величайшие драгоценности царства грез. Он был так искусно возведен из благороднейшего материала, что у зрителя создавалось впечатление, будто храм парит в воздухе. Главный зал был выдержан в коричневом, сером и зеленом — любимых цветах Патеры. В таинственных подземных покоях стояли символические скульптуры. К сожалению, храм можно было посетить только раз в году, но и тогда необходимо было иметь хорошую протекцию. Поначалу я надеялся, что мое личное знакомство с Патерой обеспечит мне доступ в храм. Однако мой визит в нему все откладывался, а потом разразились события.
 Все мои попытки разузнать о подлинной религии царства грез оставались тщетными. С какой бы стороны я ни подступался к этой тайне, всякий раз я словно натыкался на некую невидимую преграду.
Однажды я был приглашен к банкиру Блюменштиху. У него было полно гостей и царило оживленное настроение. Хозяин дома получил награду за постройку новых купален и теперь шумно отмечал это событие.
Ужин закончился. Одни курили, другие уютно сидели за кофе и ликерами. «Здесь собрались самые почетные гости со всего Перле, и если я сегодня ничего не узнаю, то уже не узнаю никогда», — подумал я и отважно завязал беседу. Я рассказал о своих мучительных и бесплодных попытках познакомиться с подлинным культом людей грез. Слова мои звучали очень красиво, очень гладко: словно подгоняемые изнутри, скатывались они с языка. Наконец я решил, что уже достаточно убедил присутствующих в своей жгучей жажде знаний, и попросил их немного просветить меня. И тут же прикусил язык. Я все равно бы не смог больше говорить, так как у меня пересохло в горле. Все были безмолвны, смущены и подавлены, а двое пожилых почтенных господ с одухотворенными лицами в элегантных костюмах в стиле бидермейер предусмотрительно ретировались в соседнюю комнату, хотя на них-то я и возлагал все свои надежды. Выждав паузу, хозяин дома, поглаживая свои черные бакенбарды, сказал: «Молодой человек, вы уже бывали в предместье? При случае обязательно посетите это старое гнездо». Голос его прозвучал резко и наставительно.
У всех словно камень слетел с души. Наконец-то хоть один заговорил! С этого момента беседа вращалась вокруг самых нейтральных тем. Меня словно не замечали. Лишь мой редактор, сидевший тут же, умиротворяюще пробормотал: «Ах, эти художники, художники!»
Но меня это уже не спасло. Погруженный в глубокие раздумья, я направился домой. «Никогда не узнаю я правды!» — крикнул я в темноту.
Около башенных часов меня словно током дернуло. Быть может, все это как-то связано с великими чарами часов? Мои слова были восприняты как нечто неприличное. Иначе отчего бы вдруг все так смутились? Похоже, я опять выглядел как enfant terrible! Но какое ко всему этому отношение имеет предместье, эта старая деревенька за мостом, на которую всем было наплевать? Пустые отговорки! Но я раскрою этот обман, можете быть уверены! Я дал себе в этом слово и сжал кулак.
Все мои попытки разузнать о подлинной религии царства грез оставались тщетными. С какой бы стороны я ни подступался к этой тайне, всякий раз я словно натыкался на некую невидимую преграду.
Однажды я был приглашен к банкиру Блюменштиху. У него было полно гостей и царило оживленное настроение. Хозяин дома получил награду за постройку новых купален и теперь шумно отмечал это событие.
Ужин закончился. Одни курили, другие уютно сидели за кофе и ликерами. «Здесь собрались самые почетные гости со всего Перле, и если я сегодня ничего не узнаю, то уже не узнаю никогда», — подумал я и отважно завязал беседу. Я рассказал о своих мучительных и бесплодных попытках познакомиться с подлинным культом людей грез. Слова мои звучали очень красиво, очень гладко: словно подгоняемые изнутри, скатывались они с языка. Наконец я решил, что уже достаточно убедил присутствующих в своей жгучей жажде знаний, и попросил их немного просветить меня. И тут же прикусил язык. Я все равно бы не смог больше говорить, так как у меня пересохло в горле. Все были безмолвны, смущены и подавлены, а двое пожилых почтенных господ с одухотворенными лицами в элегантных костюмах в стиле бидермейер предусмотрительно ретировались в соседнюю комнату, хотя на них-то я и возлагал все свои надежды. Выждав паузу, хозяин дома, поглаживая свои черные бакенбарды, сказал: «Молодой человек, вы уже бывали в предместье? При случае обязательно посетите это старое гнездо». Голос его прозвучал резко и наставительно.
У всех словно камень слетел с души. Наконец-то хоть один заговорил! С этого момента беседа вращалась вокруг самых нейтральных тем. Меня словно не замечали. Лишь мой редактор, сидевший тут же, умиротворяюще пробормотал: «Ах, эти художники, художники!»
Но меня это уже не спасло. Погруженный в глубокие раздумья, я направился домой. «Никогда не узнаю я правды!» — крикнул я в темноту.
Около башенных часов меня словно током дернуло. Быть может, все это как-то связано с великими чарами часов? Мои слова были восприняты как нечто неприличное. Иначе отчего бы вдруг все так смутились? Похоже, я опять выглядел как enfant terrible! Но какое ко всему этому отношение имеет предместье, эта старая деревенька за мостом, на которую всем было наплевать? Пустые отговорки! Но я раскрою этот обман, можете быть уверены! Я дал себе в этом слово и сжал кулак.
8
Настало время рассказать и о теневых сторонах нашей жизни. Иначе у читателя может создаться впечатление, что в ней были только забавные эпизоды. Наряду с массой интересных впечатлений она приносила нам и много неприятностей. Начать хотя бы с дома, в котором мы жили: под нами жила старая дева, княгиня фон X. Она была уродлива как больная крыса и жутко сварлива. Эта тварь в особенности раздражала мою жену. Она была скупердяйкой, располагала большими деньгами, но вела столь замкнутую жизнь, что никто по сути ничего о ней не знал. Склоки доставляли старухе истинное наслаждение. Если после девяти вечера я еще ходил по комнате, она размеренно стучала в потолок, требуя покоя. Стоило ей увидеть, что мы спускаемся по лестнице, как она тут же принималась ворчать. Перед ее дверью неизменно стоял ряд мисок и кастрюль — для молока и тому подобных продуктов, которые приносили на дом. Однажды в темноте я нечаянно разбил глиняный горшок — и началось! Открытая вражда! Она пыталась очернить меня даже перед парикмахером. А тот, невзирая на свою философию, еще сохранял остатки сословного благоговения перед «высочеством». Но когда она перешла все границы и как-то раз оскорбила мою жену на лестничной клетке, я не выдержал и набросился на нее со словами: «Что бы вы о себе ни воображали, для меня вы не княгиня, а дерьмо!» Старая ведьма была ошарашена. Это немного помогло. Отныне, едва заслышав мои шаги, спесивая старуха исчезала в своих апартаментах. Один раз это произошло так быстро, что одна из ее латаных-перелатаных туфель осталась снаружи. Я отшвырнул ее ногой, и — к моему изумлению — вниз по лестнице со звоном покатились золотые монеты. «Взломщик, убийца!» — завизжала она и переполошила весь дом. Подобные истории происходили довольно часто и изрядно отравляли нам жизнь. Но еще больше хлопот доставлял нам «студент». Он занимал комнату на том же этаже, что и мы, и был горьким пьяницей. Лишенное выражения, испитое лицо, на каждой щеке по глубокому шраму, что придавало ему такой вид, будто у него было три рта. Зато его умственные способности едва ли дотягивали до одной трети человеческой нормы. Наш сосед вел ярко выраженный ночной образ жизни и постоянно ошибался дверью, когда, напившись в стельку, искал свое логово. Почти каждую ночь мы испуганно вздрагивали, заслышав его брань и стук в двери. Не счесть, сколько раз я отчитывал его за это. Но какой прок был нам от его извинений? Все оставалось по-старому. Только ради худого мира мы в конце концов смирились с неизбежным злом. Были и другие неприятности. Иной раз выдавались такие дни, что хоть вешайся. Приведу хотя бы несколько примеров: как-то рано поутру — в пять часов — к нам позвонил каменщик с ведерком замазки и мастерком и принялся с пеной у рта утверждать, будто ему поручено заделать окна в нашей квартире. В другой раз нам поздно вечером устроили серенаду. Перед нашей дверью собрался целый хор цыган; вероятно, произошла какая-то ошибка. К нам то и дело являлись посетители с разнообразными просьбами, нам приносили чужие вещи и не забирали их обратно. Как-то раз у нас целых четырнадцать дней пролежала посылка с выдержанными сырами. После того как я, наконец, вышвырнул ее за дверь, пришли три офицера и в резкой форме потребовали вернуть им сыр. В Перле было широко распространено попрошайничество по домам. Но случалось и кое-что похуже. Например, однажды вечером, уже в сумерках, несколько людей в черном приволокли к нам гроб. «Заказывали?» — вежливо спросили они. Моя жена чуть не упала в обморок. Впрочем, ко всем этим недоразумениям и вечному хлопанью дверями еще можно было как-то привыкнуть. Беда в том, что происходили намного более жуткие и необъяснимые вещи. Для помощи по дому мы наняли приходящую прислугу, пожилую женщину. У нее постоянно болели зубы, и я ни разу не видел ее без косынки. Она готовила очень хорошо и вкусно, что, впрочем, требовало не бог весть какого умения, если принять во внимание обилие превосходных, свежих продуктов на рынке. Но через несколько недель я готов был поклясться, что за ее старыми платьями скрывается совсем другая женщина; это была уже не наша прежняя служанка. Разумеется, я ничего не сказал об этом жене, но, к сожалению, у нее возникли те же подозрения.
— Слушай, — начала она однажды, — мне кажется, Анна красит волосы. Со вчерашнего дня она блондинка, а ведь прежде была брюнеткой.
— Я думаю, мы простим ей эту милую слабость! — с деланно беззаботным видом заметил я. Но мне и самому было не по себе, причем уже давно. Наконец наступил день, когда несходство стало вопиющим. Если накануне нас обслуживала рыжая особа средних лет, то сегодня на стол накрывала хлопотливая старуха с глубокими морщинами на лице. Моя жена в испуге прижалась ко мне, мы оба сидели, словно окаменев. «Но ведь на ней тот же самый платок?» — пролепетал я, глядя в расширенные от испуга глаза моей супруги. Мы шепотом обменялись своими наблюдениями; оказалось, что ее, как и меня, уже в течение месяца преследуют сильнейшие подозрения. «Нет, хоть бы даже она работала за десятерых, я не хочу ее больше видеть! Лучше буду все делать сама!»
Мне пришлось уволить Анну. Несколько дней я провел дома. Я условился с парикмахером, что Джованни Баттиста будет по утрам помогать за вознаграждение при уборке помещений. Все шло превосходно, моя жена подружилась с ученым зверьком; правда, приходилось следить за тем, чтобы он не приближался к моему рабочему столу — ибо он ощущал себя немного художником и непременно стал бы подправлять и улучшать мои работы. В той мере, в какой это было уместно, я тоже старался быть полезным, особенно по части закупок. Но когда этим занимаешься, нужно держать ухо востро, иначе ты принесешь домой черт знает что! Как это было в тот раз, когда я купил на базаре бараньи котлеты, причем очень дешево, и, придя домой, с гордым видом развернул сверток, — а там вместо мяса оказались мелкие гвозди и несколько мышиных хвостов. «Подменили товар, чтоб им пусто было!» — выругался я про себя.
Впрочем, ко всем этим недоразумениям и вечному хлопанью дверями еще можно было как-то привыкнуть. Беда в том, что происходили намного более жуткие и необъяснимые вещи. Для помощи по дому мы наняли приходящую прислугу, пожилую женщину. У нее постоянно болели зубы, и я ни разу не видел ее без косынки. Она готовила очень хорошо и вкусно, что, впрочем, требовало не бог весть какого умения, если принять во внимание обилие превосходных, свежих продуктов на рынке. Но через несколько недель я готов был поклясться, что за ее старыми платьями скрывается совсем другая женщина; это была уже не наша прежняя служанка. Разумеется, я ничего не сказал об этом жене, но, к сожалению, у нее возникли те же подозрения.
— Слушай, — начала она однажды, — мне кажется, Анна красит волосы. Со вчерашнего дня она блондинка, а ведь прежде была брюнеткой.
— Я думаю, мы простим ей эту милую слабость! — с деланно беззаботным видом заметил я. Но мне и самому было не по себе, причем уже давно. Наконец наступил день, когда несходство стало вопиющим. Если накануне нас обслуживала рыжая особа средних лет, то сегодня на стол накрывала хлопотливая старуха с глубокими морщинами на лице. Моя жена в испуге прижалась ко мне, мы оба сидели, словно окаменев. «Но ведь на ней тот же самый платок?» — пролепетал я, глядя в расширенные от испуга глаза моей супруги. Мы шепотом обменялись своими наблюдениями; оказалось, что ее, как и меня, уже в течение месяца преследуют сильнейшие подозрения. «Нет, хоть бы даже она работала за десятерых, я не хочу ее больше видеть! Лучше буду все делать сама!»
Мне пришлось уволить Анну. Несколько дней я провел дома. Я условился с парикмахером, что Джованни Баттиста будет по утрам помогать за вознаграждение при уборке помещений. Все шло превосходно, моя жена подружилась с ученым зверьком; правда, приходилось следить за тем, чтобы он не приближался к моему рабочему столу — ибо он ощущал себя немного художником и непременно стал бы подправлять и улучшать мои работы. В той мере, в какой это было уместно, я тоже старался быть полезным, особенно по части закупок. Но когда этим занимаешься, нужно держать ухо востро, иначе ты принесешь домой черт знает что! Как это было в тот раз, когда я купил на базаре бараньи котлеты, причем очень дешево, и, придя домой, с гордым видом развернул сверток, — а там вместо мяса оказались мелкие гвозди и несколько мышиных хвостов. «Подменили товар, чтоб им пусто было!» — выругался я про себя.
9
А еще эти звуки! Всю ночь напролет, с ума можно сойти! По ночам в наш район наведывались компании хулиганов и проституток из Французского квартала. Дикое ржание, свист, вой приближались к окнам и снова удалялись. Пьяные, выходившие из кафе, произносили пространные монологи и, обезумев от возлияний, выкрикивали страшные богохульства. К этому невозможно было привыкнуть! Любое слово, громко произнесенное вслух, отражалось многократным эхом от углов и выступов домов, вкривь и вкось стоявших вдоль улицы. Из центральных кварталов города доносились пронзительные выкрики; их подхватывали — то громче, то тише — и передавали дальше. Что это означало, я не знаю. Потом вроде бы все успокаивалось, но вскоре становились отчетливо слышны какие-то покашливание и хихиканье. Бродить ночью по улочкам Перле было сущей мукой. Для обостренных чувств здесь разверзались ужасающие бездны. Из зарешеченных окон и подвальных люков доносились невнятные стоны и стенания всех родов и оттенков. За приоткрытыми дверями раздавались сдавленные кряхтенья, так что невольно думалось, что там кого-то душат. А когда я боязливо спешил домой, мне вослед раздавалось улюлюканье, повторяемое на тысячу — нет, десять тысяч ладов. Ворота и подворотни разевали рты на спешащих прохожих, словно хотели их проглотить. Невидимые голоса завлекали путников на берег реки, магазин Блюменштиха злорадно посмеивался, молочную можно было уподобить скрытой западне, даже мельница — и та не оставалась в стороне, треща всю ночь без умолку. Преследуемый страхом, я не раз по пути домой прятался в кафе. А тем временем моя бедная жена в одиночестве трепетала дома. То у ней скрипел шкаф, то сам собой разбивался стакан. Ей казалось, что из всех углов комнаты раздаются зловещие шепоты; часто по возвращении домой я заставал ее в холодном поту и представляющей себе невесть что. Эти бессонные ночи губительно действовали на ее нервы, в скором времени ей уже повсюду мерещились движущиеся тени и призраки. И, наконец, этот запах, неопределимый и всепроникающий, который ты не только вдыхал, но и осязал всеми клеточками тела. В дневное же время все делали вид, будто ничего не знают; город был, как обычно, безжизненным, пустынным, недвижным.Четвертая глава. В плену чар
1
Однажды я вышел из кафе и поднялся к себе на этаж. Жена отворила мне дверь по условному стуку. Вид у нее был заплаканный и подавленный. На столе лежал кожаный футляр с портретом Патеры. — Почему он здесь лежит? Что-нибудь случилось? — Я его видела… да, вот его! — она говорила отрывисто и бессвязно. — Я пока еще не понимаю, в чем дело, но я не могла обознаться… Таких глаз нет больше ни у кого. — Прошу тебя, объясни все толком. Запинаясь и прерывисто дыша, она поведала мне следующее: «Возвращаясь с базара, я сразу свернула на Длинную улицу, — уже смеркалось, и я хотела скорее добраться домой. Вдруг у меня за спиной раздались торопливые шаги — это был фонарщик. Обгоняя, он случайно задел меня, тут же обернулся и тихо произнес: „Извините!“ Но подумай, какой ужас — это был твой друг Патера!» Последние слова она прямо-таки выкрикнула. Слезы катились у ней но щекам. Всхлипывая, она уткнулась лицом в мое плечо. Я и сам был испуган не на шутку, с трудом владел собой, но все же попытался успокоить ее. «Конечно, ты обозналась, — сказал я таким равнодушным тоном, на какой только был способен, — ты определенно обозналась. Сумерки… при неверном свете такое вполне могло случиться. И потом — неужели ты думаешь, что Патера, которому все здесь принадлежит, станет бродить по городу в образе простого фонарщика?» Мой голос звучал неуверенно, мне и самому было не по себе. — Ах, не говори так, ты делаешь мне только хуже! Его лицо было неподвижно, как восковая маска, а вот глаза!.. В них был тусклый блеск!.. Стоит мне о них подумать, как у меня мороз по коже! Ее руки горели и дрожали, я настоял на том, чтобы она пошла спать. Чтобы развеселить ее, я рассказал ей пару глупых сплетен, услышанных в кафе. Но мне так и не удалось отвлечь ее от мрачных мыслей. К тому же я и сам боялся. С каждым днем наша жизнь становилась все более бестолковой и утомительной. Несмотря на вкрадчивое однообразие дней, успокоения не было; мы не знали, что ждет нас в каждый следующий час. Царство грез уже сидело у меня в печенках. Разумеется то, что случилось с моей женой, было галлюцинацией. Ведь надо полагать, что у моего друга Патеры были более важные занятия, чем масленничные розыгрыши. Но даже и галлюцинация — это всегда предостережение, и в данном случае дали о себе знать измученные нервы.2
 Пришла пора рассказать о моем знакомстве с Николаусом Кастрингиусом. Не знаю, был ли я ему симпатичен. Потеряв место в «Зеркале грез», он стал вольным художником. Мне он показался весьма оригинальным и куда более обаятельным, чем де Неми и фотограф — двое его приятелей, с которыми он приходил в кафе. Кастрингиус не умел скрывать своих чувств: когда он завидовал или ревновал, это легко читалось у него на лице. Но именно поэтому он был совершенно не опасен, и светлые стороны его характера располагали к нему людей. Среди художников редко встречаются совсем уж скверные люди, небольшая подлость — это максимум, на что мы бываем способны. Работа наших ощущений не оставляет нам времени для пакостей покрупнее. В своих произведениях мы раскрываем свои души, так что каждый может видеть, какой дрянью при соответствующих обстоятельствах мог бы стать художник. Искусство — это предохранительный клапан!
Перед моим приездом в Перле творчество Кастрингиуса переживало период крайней упрощенности. Три-четыре линии — и картина была готова. Одну из таких он назвал «Величие». Основными сюжетами его работ были: Голова, Он, Она, Мы, Оно. Разумеется, фантазии не ставилось никаких пределов. Например, голова в цветочной вазе — и думайте об этом что хотите. Лишь когда мои работы получили резонанс, Кастрингиус счел себя вынужденным несколько изменить свою манеру. «Углублять сюжет: вот что главное!» — таков был отныне его принцип. И тогда стали появляться такие полотна, как «Безумный папа Иннокентий, танцующий кардинальскую кадриль».
Пришла пора рассказать о моем знакомстве с Николаусом Кастрингиусом. Не знаю, был ли я ему симпатичен. Потеряв место в «Зеркале грез», он стал вольным художником. Мне он показался весьма оригинальным и куда более обаятельным, чем де Неми и фотограф — двое его приятелей, с которыми он приходил в кафе. Кастрингиус не умел скрывать своих чувств: когда он завидовал или ревновал, это легко читалось у него на лице. Но именно поэтому он был совершенно не опасен, и светлые стороны его характера располагали к нему людей. Среди художников редко встречаются совсем уж скверные люди, небольшая подлость — это максимум, на что мы бываем способны. Работа наших ощущений не оставляет нам времени для пакостей покрупнее. В своих произведениях мы раскрываем свои души, так что каждый может видеть, какой дрянью при соответствующих обстоятельствах мог бы стать художник. Искусство — это предохранительный клапан!
Перед моим приездом в Перле творчество Кастрингиуса переживало период крайней упрощенности. Три-четыре линии — и картина была готова. Одну из таких он назвал «Величие». Основными сюжетами его работ были: Голова, Он, Она, Мы, Оно. Разумеется, фантазии не ставилось никаких пределов. Например, голова в цветочной вазе — и думайте об этом что хотите. Лишь когда мои работы получили резонанс, Кастрингиус счел себя вынужденным несколько изменить свою манеру. «Углублять сюжет: вот что главное!» — таков был отныне его принцип. И тогда стали появляться такие полотна, как «Безумный папа Иннокентий, танцующий кардинальскую кадриль».
 Художник снимал маленькое чердачное ателье во Французском квартале. В этой части города он мог жить сообразно своим склонностям. Там же он нашел и господина де Неми. То был изрядный свинтус — лейтенант пехоты, завсегдатай публичного дома мадам Адриенн. Его представления вращались исключительно вокруг тамошних занятий. Его разговоры в принципе не выходили за пределы этой темы. Его мундир никогда не бывал чистым, глаза вечно блестели хмельным возбуждением.
О фотографе я могу сказать немного. Это был длиннолицый белокурый англичанин, носивший бархатный сюртук и галстук-бабочку. Работал он по старинному, сырому способу с коллодиевой пластинкой и десятиминутной экспозицией. Впрочем, более современной техникой в Перле никто не пользовался. В остальном — он был немногословен и сам готовил себе ликерные коктейли.
Художник снимал маленькое чердачное ателье во Французском квартале. В этой части города он мог жить сообразно своим склонностям. Там же он нашел и господина де Неми. То был изрядный свинтус — лейтенант пехоты, завсегдатай публичного дома мадам Адриенн. Его представления вращались исключительно вокруг тамошних занятий. Его разговоры в принципе не выходили за пределы этой темы. Его мундир никогда не бывал чистым, глаза вечно блестели хмельным возбуждением.
О фотографе я могу сказать немного. Это был длиннолицый белокурый англичанин, носивший бархатный сюртук и галстук-бабочку. Работал он по старинному, сырому способу с коллодиевой пластинкой и десятиминутной экспозицией. Впрочем, более современной техникой в Перле никто не пользовался. В остальном — он был немногословен и сам готовил себе ликерные коктейли.
 Мы беседовали о театре. Я посетил его один-единственный раз. Давали «Орфея в царстве мертвых»; вся публика состояла из трех человек. Хотя играли хорошо, я чувствовал себя не в своей тарелке. Присутствие трех зрителей делало большой зал еще более пустынным. В этой пустоте музыка звучала жутковато. Актеры, казалось, играли для самих себя. Я сидел на галерке. Внезапно мне почудилось будто я сижу не в этом потемневшем от времени зале, а в старом, давно снесенном городском театре Зальцбурга. Когда мне было одиннадцать, он служил для меня воплощением пышности и величия. А теперь я видел одни голые деревянные скамьи, изношенные красные бархатные кресла и осыпающуюся штукатурку. Напротив сцены находилась большая мрачная ложа, над которой золотыми буквами было начертано — «Патера»! Мне постоянно мерещилось, будто в ее темноте светятся две точки, расположенные совсем близко одна от другой. Де Неми, который, по всей видимости, был вхож за кулисы, подробно рассказывал о неудачах театра. «Зачем нам в Перле театр? Нам и в жизни хватает театра!» — говорил народ и не ходил туда. В результате театр обанкротился. Оркестр был распущен, женские кадры низшего сценического уровня — хористки, балерины и пр. — постепенно перекочевали в дом терпимости; оставшиеся образовали варьете; денег на это дал Блюменштих. Де Неми буквально захлебывался от восторга, он бредил кафешантанами. Меня же эта тема почти не интересовала. Хозяин кафе ходил от столика к столику и приветствовал гостей глупым и хитрым смехом. Дойдя до играющих в шахматы, он остановился и посерьезнел. Между тем этот человек ничего не смыслил в шахматах, он был слишком ограничен! Я зевал и поглядывал в окно. У мельницы разгружали мешки с зерном. Я отчетливо видел обоих хозяев: один то и дело хватался за бока от смеха, другой мрачно глядел исподлобья. Оба одевались старомоднее остальных жителей города. Они еще носили сетки для волос и башмаки с пряжками, как в допотопные времена.
Мимо проехал экипаж. В нем колыхалась элегантная дама. «Вы ее знаете?» — толкнул меня локотем де Неми. — Это хозяйка вашего дома, госпожа докторша Лампенбоген!
Мы беседовали о театре. Я посетил его один-единственный раз. Давали «Орфея в царстве мертвых»; вся публика состояла из трех человек. Хотя играли хорошо, я чувствовал себя не в своей тарелке. Присутствие трех зрителей делало большой зал еще более пустынным. В этой пустоте музыка звучала жутковато. Актеры, казалось, играли для самих себя. Я сидел на галерке. Внезапно мне почудилось будто я сижу не в этом потемневшем от времени зале, а в старом, давно снесенном городском театре Зальцбурга. Когда мне было одиннадцать, он служил для меня воплощением пышности и величия. А теперь я видел одни голые деревянные скамьи, изношенные красные бархатные кресла и осыпающуюся штукатурку. Напротив сцены находилась большая мрачная ложа, над которой золотыми буквами было начертано — «Патера»! Мне постоянно мерещилось, будто в ее темноте светятся две точки, расположенные совсем близко одна от другой. Де Неми, который, по всей видимости, был вхож за кулисы, подробно рассказывал о неудачах театра. «Зачем нам в Перле театр? Нам и в жизни хватает театра!» — говорил народ и не ходил туда. В результате театр обанкротился. Оркестр был распущен, женские кадры низшего сценического уровня — хористки, балерины и пр. — постепенно перекочевали в дом терпимости; оставшиеся образовали варьете; денег на это дал Блюменштих. Де Неми буквально захлебывался от восторга, он бредил кафешантанами. Меня же эта тема почти не интересовала. Хозяин кафе ходил от столика к столику и приветствовал гостей глупым и хитрым смехом. Дойдя до играющих в шахматы, он остановился и посерьезнел. Между тем этот человек ничего не смыслил в шахматах, он был слишком ограничен! Я зевал и поглядывал в окно. У мельницы разгружали мешки с зерном. Я отчетливо видел обоих хозяев: один то и дело хватался за бока от смеха, другой мрачно глядел исподлобья. Оба одевались старомоднее остальных жителей города. Они еще носили сетки для волос и башмаки с пряжками, как в допотопные времена.
Мимо проехал экипаж. В нем колыхалась элегантная дама. «Вы ее знаете?» — толкнул меня локотем де Неми. — Это хозяйка вашего дома, госпожа докторша Лампенбоген!
 Он цинично рассмеялся, другие посетители тоже заухмылялись. Экипаж проследовал в направлении бань.
Я подозвал кельнера, чтобы расплатиться. Антон, мошенник первого ранга, хотел подсунуть мне в качестве сдачи негодные деньги — ассигнации Первой республики. Сегодня у него ничего не вышло, и он с наглой ухмылкой взял свои деньги назад.
Он цинично рассмеялся, другие посетители тоже заухмылялись. Экипаж проследовал в направлении бань.
Я подозвал кельнера, чтобы расплатиться. Антон, мошенник первого ранга, хотел подсунуть мне в качестве сдачи негодные деньги — ассигнации Первой республики. Сегодня у него ничего не вышло, и он с наглой ухмылкой взял свои деньги назад.
3
Мою бедную жену продолжали преследовать страхи. Она заметно побледнела, осунулась и при каждом слове, которое и адресовал ей без предупреждения, нервно вздрагивала. Так больше продолжаться не могло, и наш отъезд задерживало лишь то обстоятельство, что мне еще не удалось повидать Патеру. Без его специального разрешения об отъезде нечего было и думать. Десять моих прошений лежали в архиве, но я получил в ответ только несколько витиевато сформулированных отговорок-утешений: «В данное время года департамент аудиенций находится на каникулах». Или: «Просителя неоднократно уведомляли о том, что только нормальное, гражданское положение в обществе дает известные шансы на высокуюаудиенцию. Поскольку в данном случае мы не видим причин для отступления от установленной практики, он должен позаботиться о приобретении такового», и т. д., и т. п. Я исходил ядом и желчью и мечтал предложить своему другу тост за зловредную касту чиновников. «Они еще в этом раскаются!»… И еще одно мешало нашему отъезду домой: у нас пропали деньги! Пропали, словно испарились! От сотни тысяч не осталось ни пфеннига. — Вот мы и дожили, я давно это предвидел! — с горечью сказал я моей жене, когда узнал об этом. Бедняжка все равно бы ничем не смогла помочь, а потому я избавил ее от дальнейших сетований. Неважно, украли их у нас или нет, но деньги исчезли, и теперь мы могли рассчитывать только на мой заработок. Между тем подошел к концу второй год нашего пребывания в стране грез. Кошмары преследовали теперь мою жену и в дневное время. Окна нашей кухни выходили на двор молочной: в его центре был колодец, за которым виднелись двери хлева. — В этом колодце кто-то живет, — утверждала она. Ей постоянно чудились там странные шорохи и стуки. Я ничего такого не замечал. Но, чтобы сделать ей одолжение, я решил на всякий случай произвести разведку. Под предлогом того, что мне надо осмотреть молочную, я вызвал тугоухого привратника. С его несообразительностью я справился с помощью приличных чаевых. «Посмотрите, может, вам что и подойдет», — крикнул он мне в ухо и скрылся в своей каморке. Предоставленный самому себе, я мог спокойно приступать к своим розыскам. Бодрым шагом я миновал целую анфиладу слабо освещенных помещений. Здание глубоко уходило в землю, свет дня едва просачивался сквозь маленькие зарешеченные оконца. На длинных деревянных полках стояло множество плоских круглых посудин, по углам были расставлены огромные деревянные лохани. Все эти емкости были до краев заполнены молоком. Отдельная кладовая служила для хранения различной утвари. На стенах висела жестяная посуда, деревянные плошки, дощечки. Я тыкался в поисках выхода во двор, но вместо него попадал в еще более мрачные помещения, где над потухшими угольями висели огромные котлы. Резкий запах сыров ударил мне в ноздри. Ага, вот они где, воняют и слезятся, уложенные правильными рядами по размерам, — неаппетитная кладовая с затканными паутиной и плесенью стенами. Нет, это не может быть здесь — и я выбежал обратно. Но я уже потерял способность ориентироваться среди этого однообразия сыров, масла, сосудов с молоком. Окончательно заблудившись, я очутился в той части подвала, которая, по всей видимости, не использовалась вовсе. Здесь был низкий сводчатый потолок, с тяжелых крючьев свисали ржавые цепи. Я почти ничего не мог разглядеть, скользкий пол, похоже, имел уклон. Споткнувшись на склизких ступеньках, я машинально сделал несколько шагов вниз — и оказался в полной темноте. Глубокая ночь и ледяной подвальный воздух — где-то наверху хлопнула дверь. Слава Богу! — у меня нашлась пара спичек. В этот момент откуда-то издалека донесся шум. Он походил на стук кузнечного молота, но с ужасающей быстротой становился все отчетливее. При свете спички я увидел, что стою в каком-то коридоре. Меня обуял смертельный страх. «Бежать отсюда — бежать, и как можно скорее!» — было моей единственной мыслью. Я помчался, то и дело ударяясь головой о сочащиеся влагой стены. За моей спиной нарастал шум — гулкий ритмичный звук, напоминающий конский галоп. Мои спички вспыхивали и тут же гасли — сырой воздух не давал им разгореться. Грохот приближался — за мной, похоже, гнались. Наконец я отчетливо расслышал чье-то кряхтенье и тяжелое дыхание. При этих звуках меня охватил такой ужас, что я решил, что схожу с ума. Словно ошпаренный, я рванулся вперед, но тут силы изменили мне, и, близкий к обмороку, я рухнул на колени. Я беспомощно вытянул руки навстречу приближающейся опасности; на полу догорали мои последние спички. Топот был уже рядом — на меня дохнуло ледяным ветром, — я увидел белую истощенную лошадь и, несмотря на скудное освещение, разобрал, что животное находится в ужасном состоянии. Она была худа как скелет и с отчаянным усилием выбрасывала вперед свои копыта. Костистый череп был вытянут далеко вперед, уши прижаты, — в таком виде эта несчастная тварь промчалась мимо меня. Ее мутный, безжизненный взгляд встретился с моим — лошадь была слепа. Я услышал скрип ее зубов и, провожая ее глазами, разглядел истерзанный, окровавленный круп. Безумный галоп этого живого скелета не знал остановки. Я на ощупь направился вслед за затихающим топотом, потрясенный видом этого жуткого мешка с костями. Скоро впереди замерцал спасительный свет газовой лампы. Правда, я видел его как сквозь туман, ибо меня сковал нервный шок. Мой язык онемел, тело стало словно каменным. Придя в себя, я побрел на огонек. Передо мной выросла лестница… еще один огонек. Потом я услышал голоса людей и вступил в знакомое помещение. Это было кафе.
— В этом колодце кто-то живет, — утверждала она. Ей постоянно чудились там странные шорохи и стуки. Я ничего такого не замечал. Но, чтобы сделать ей одолжение, я решил на всякий случай произвести разведку. Под предлогом того, что мне надо осмотреть молочную, я вызвал тугоухого привратника. С его несообразительностью я справился с помощью приличных чаевых. «Посмотрите, может, вам что и подойдет», — крикнул он мне в ухо и скрылся в своей каморке. Предоставленный самому себе, я мог спокойно приступать к своим розыскам. Бодрым шагом я миновал целую анфиладу слабо освещенных помещений. Здание глубоко уходило в землю, свет дня едва просачивался сквозь маленькие зарешеченные оконца. На длинных деревянных полках стояло множество плоских круглых посудин, по углам были расставлены огромные деревянные лохани. Все эти емкости были до краев заполнены молоком. Отдельная кладовая служила для хранения различной утвари. На стенах висела жестяная посуда, деревянные плошки, дощечки. Я тыкался в поисках выхода во двор, но вместо него попадал в еще более мрачные помещения, где над потухшими угольями висели огромные котлы. Резкий запах сыров ударил мне в ноздри. Ага, вот они где, воняют и слезятся, уложенные правильными рядами по размерам, — неаппетитная кладовая с затканными паутиной и плесенью стенами. Нет, это не может быть здесь — и я выбежал обратно. Но я уже потерял способность ориентироваться среди этого однообразия сыров, масла, сосудов с молоком. Окончательно заблудившись, я очутился в той части подвала, которая, по всей видимости, не использовалась вовсе. Здесь был низкий сводчатый потолок, с тяжелых крючьев свисали ржавые цепи. Я почти ничего не мог разглядеть, скользкий пол, похоже, имел уклон. Споткнувшись на склизких ступеньках, я машинально сделал несколько шагов вниз — и оказался в полной темноте. Глубокая ночь и ледяной подвальный воздух — где-то наверху хлопнула дверь. Слава Богу! — у меня нашлась пара спичек. В этот момент откуда-то издалека донесся шум. Он походил на стук кузнечного молота, но с ужасающей быстротой становился все отчетливее. При свете спички я увидел, что стою в каком-то коридоре. Меня обуял смертельный страх. «Бежать отсюда — бежать, и как можно скорее!» — было моей единственной мыслью. Я помчался, то и дело ударяясь головой о сочащиеся влагой стены. За моей спиной нарастал шум — гулкий ритмичный звук, напоминающий конский галоп. Мои спички вспыхивали и тут же гасли — сырой воздух не давал им разгореться. Грохот приближался — за мной, похоже, гнались. Наконец я отчетливо расслышал чье-то кряхтенье и тяжелое дыхание. При этих звуках меня охватил такой ужас, что я решил, что схожу с ума. Словно ошпаренный, я рванулся вперед, но тут силы изменили мне, и, близкий к обмороку, я рухнул на колени. Я беспомощно вытянул руки навстречу приближающейся опасности; на полу догорали мои последние спички. Топот был уже рядом — на меня дохнуло ледяным ветром, — я увидел белую истощенную лошадь и, несмотря на скудное освещение, разобрал, что животное находится в ужасном состоянии. Она была худа как скелет и с отчаянным усилием выбрасывала вперед свои копыта. Костистый череп был вытянут далеко вперед, уши прижаты, — в таком виде эта несчастная тварь промчалась мимо меня. Ее мутный, безжизненный взгляд встретился с моим — лошадь была слепа. Я услышал скрип ее зубов и, провожая ее глазами, разглядел истерзанный, окровавленный круп. Безумный галоп этого живого скелета не знал остановки. Я на ощупь направился вслед за затихающим топотом, потрясенный видом этого жуткого мешка с костями. Скоро впереди замерцал спасительный свет газовой лампы. Правда, я видел его как сквозь туман, ибо меня сковал нервный шок. Мой язык онемел, тело стало словно каменным. Придя в себя, я побрел на огонек. Передо мной выросла лестница… еще один огонек. Потом я услышал голоса людей и вступил в знакомое помещение. Это было кафе.
4
Моего появления никто не заметил. На улице уже смеркалось, зажглись фонари. Сидя за одиноким столиком в глубине зала, я пытался собраться с мыслями, разобраться в увиденном и избавиться от неприятного чувства головокружения. Но я недолго оставался в одиночестве. Ко мне подсел почтенный пожилой господин в белом шейном платке. — Здесь, кажется, поспокойнее, — улыбаясь, заметил он. Я не ответил; у меня в голове по-прежнему царил полный сумбур. Спустя некоторое время мой визави произнес мягким, участливым голосом: «Вы пережили это впервые и, конечно, сильно потрясены». Лишь теперь я разглядел его как следует: от всего его облика исходили дружелюбие и доброта. — Что вы имеете в виду? — устало спросил я. — Встряску, что же еще! Оглядитесь по сторонам! — и он описал рукой полукруг. Тут только до меня дошло, что в кафе творится что-то неладное. Несмотря на обилие посетителей, здесь было на удивление тихо. На всех лицах застыло выражение усталости и растерянности. «Да, а что же случилось?» — мне снова стало страшно. — Да вы только посмотрите на людей! Впрочем, теперь это уже позади. Мой собеседник внушал мне доверие, он был безобидным и располагающим к себе. — Увидев вас, я сразу понял, что вы впервые пережили этот ужас! — он вздохнул. Посетители сидели тихо, погруженные в себя, некоторые перешептывались. Кое-где уже раздавались отдельные фразы в полный голос… Посреди зала были сметены в кучу осколки посуды. Оба шахматиста напоминали деревянных кукол, казалось, они были зачарованы друг другом. Я попросил моего собеседника хотя бы немного просветить меня относительно столь странного поведения окружающих, ведь я ничего не знаю. Судя по его седым локонам, которые так шли к его печальным и даже немного комичным глазам фантазера, ему было далеко за шестьдесят. — Вы ведь не так давно в этой стране — по крайней мерс, не так много лет? — начал он. — Почти два года! Антон, к которому уже вернулась его обычная живость, принес по моему знаку коньяк. Мало-помалу в кафе восстанавливалась обычная атмосфера. Старик продолжал: «Конечно, здесь нелегко освоиться, если ты привык к совсем другой жизни. Мы здесь все живем под властью чар. Хотим мы того или нет, но над нами свершается неизбежная судьба. И мы еще должны говорить спасибо — ведь могло бы быть много хуже. По крайней мере, над этой великой бессмыслицей иной раз можно посмеяться. Но многие — ох как многие! — не хотят в ней участвовать, особенно противятся ей новички. И когда внутреннее сопротивление непреложному становится слишком сильным, наступает встряска! Ее чувствует каждый; сегодня был как раз такой день». Он умолк; печальная, покорная улыбка промелькнула на его лице. Я не мог выговорить ни слова. Кажется, теперь я напал на след тайны. Быть может, это и есть та самая тайна, что уже давно тревожит меня? И я рассказал своему соседу про те странные и неприятные вещи, свидетелем которых я был, включая только что пережитый ужас. Я ничего не утаил. Старик выслушал меня участливо и задумчиво. «Мой милый юный друг, — он слегка покачал головой и наклонился ко мне, — не ломайте себе голову напрасно, никогда не противьтесь своему внутреннему голосу. Конечно, вы правы. У нас повсюду тайны, но они не поддаются объяснению. Слишком любопытный, скорее всего, обожжется. Находите утешение в работе, ведь работается в Перле очень хорошо. Со мной раньше было примерно то же, что с вами. Перед вами сидит старый друг природы, и можете мне поверить: я немало страдал от противоестественности этой страны. Но со временем осваиваешься; я живу тут без малого тринадцать лет, приспособился и даже нахожу много интересного. Нужно лишь умерить свои аппетиты, тогда и самая малость будет приносить отраду. Вот я, например, собираю вшей-книгоедов». Его глаза заблестели, и, загадочно улыбаясь, он с воодушевлением продолжал: «Похоже, я обнаружил новый вид. В здешнем архиве хранятся диковины, о которых мало кто подозревает. Кабинет № 69 — в настоящее время я охочусь в нем. Его превосходительство любезно предоставили мне его в полное распоряжение, я возлагаю на него все свои надежды! А теперь мне пора идти». Сказав это, он вынул из кармана старинный зеленый футляр, достал из него роговые очки и водрузил их себе на нос. Прежде чем уйти, он отвесил мне старомодный поклон и представился: «Профессор Корнтойр, зоолог». Я с симпатией смотрел ему вслед. Его своеобразные манеры, пышные, белые как снег волосы, привлекательное, проникнутое почти юношеским идеализмом лицо, скрупулезная опрятность костюма вплоть до серых гамаш и галош — одним словом, весь его облик чрезвычайно понравился мне. Но я был совершенно разбит пережитыми волнениями. Еле переставляя ноги, поднялся я по лестнице на свой этаж. Жена в полном изнеможении распласталась на диване — впрочем, ничего другого я не ожидал. Она не сказала ни слова, ради меня она взяла себя в руки; я тоже счел за благо молчать, ибо лгать ей я не мог. Я беспокойно ворочался в постели. Мне казалось, что я по-прежнему слышу тот бешеный топот и вижу неподвижный, вытаращенный глаз. Мои мысли вращались исключительно вокруг того, что я услышал от профессора. Значит, чары — и встряска? Я раздумывал о смысле этих слов. Ах, да. Мне вспомнился еще один необычный случай: буквально на днях я видел за одним домом нескольких парней с трещотками и барабанами. На мои расспросы они ответили: «Мы создаем добавочный шум». Меня бесил этот идиотизм, отныне я во всем находил признаки сумасшедшего дома. Сперва подобные вещи были нам в новинку, мы приникали к окну и ждали, пока внизу не произойдет какой-нибудь очередной бурлеск. Но в последние месяцы нам было не до смеха. Состояние здоровья моей жены постоянно ухудшалось. Одновременно с этим росло количество непонятных и жутких инцидентов. Мне приходилось скрывать от спутницы моей жизни многое из того, что я видел, дабы не подвергнуть ее непосредственной опасности. Замкнувшись в себе со своими тревогами, я чувствовал себя одиноко и тоскливо. К чему это еще могло привести? Я чувствовал, что погибаю!5
Несколько дней спустя я шел по улице. Стоял канун Нового года, хотя это мало что значило в стране, где не бывает зимы. Я проходил мимо хорошо знакомых домов тем особенным шагом, какой люди усваивают в Перле: тихим, неуверенно-осторожным, как будто тебя за каждым поворотом могла подстерегать какая-то неприятность. Одинокие уличные фонари освещали мне путь. Освещение, как нельзя более подходящее для страны грез! Из темноты, смазывающей все контуры и увеличивающей предметы до гигантских размеров, с неестественной отчетливостью выступали детали: столб, вывеска лавки, деревянный забор. Я возвращался из старинного готического женского монастыря, в одном из корпусов которого размещалась детская больница. Там я купил две бутылки укрепляющего лечебного вина для моей больной. Проходя мимо встроенной часовни, я заметил в тени портала какую-то безформенную фигуру. Послышалось невнятное бормотание, и голая култышка руки умоляюще протянулась ко мне. Я равнодушно бросил в темный угол горстку мелких монет, но уже в следующее мгновение остановился как вкопанный. Каким же странным было то старушечье лицо, что выглядывало из этих грязных лохмотьев! Я непременно должен был вглядеться в него, некая тайная сила повелевала мне сделать это. С трудом предолевая отвращение, я нагнулся над нищенкой. Не гнилостное дыхание и не беззубый рот приковали меня к месту, но пара страшных светлых глаз: они впились в мой мозг, словно зубы гадюки. Полумертвый от потрясения, я побрел домой. Что это было — действительность или плод моей воспаленной фантазии? Мне казалось, что я заглянул в бездну. Подобные случаи были непосильным испытанием для моих нервов. Я твердо решил на следующий же день пойти к Патере. Если нужно, я готов был добиться необходимого разрешения силой! Он был моим другом, он пригласил меня, и погибнем мы здесь или нет, зависело только от него! Эти пустоголовые жители города грез, безусловно, имели о нем ложное представление! Почему они так пугались и всячески уклонялись от темы, стоило мне заговорить о властелине? Этого мой друг явно не заслуживал. Сегодня день выдался особенно несчастливым. Моя жена стонала от головной боли, я сделал ей еще несколько холодных компрессов и, обессиленный, повалился на кровать. И вот примерно в час ночи — раздался звонок и стук в нашу дверь. Я с раздражением подумал: «Опять этот пьяница-сосед!» Затем я услышал его голос, несколько раз громко повторивший мое имя. Придя в бешенство от такой бесцеремонности, я вскочил, скользнул в свой шлафрок и схватил стоявшую в углу трость. Сейчас он у меня попляшет! Я распахнул дверь, и точно — на пороге стоял он, дыша мне в лицо пивными парами! Нет ли у меня пары сигар — взаймы — и не окажу ли я ему честь навестить его — мою жену он тоже приглашает — он собирается приготовить грог. Я уже не мог сдерживать свой гнев. «Вы, бесстыдный негодяй, избавьте нас от ваших выходок! Убирайтесь отсюда, не то я сброшу вас с лестницы! Наглец!» Я выкрикивал первые попавшиеся ругательства, во мне все кипело. С тупым пьяным смехом он заворчал: «Ну, давай, только подойди!» Он схватил было меня за руку и хотел притянуть к себе. Я уже не контролировал себя, и он заработал такой мощный пинок в живот, что рухнул на пол. Чего добивался от меня этот тип? Я не знал, что и подумать. «Ну, теперь-то я непременно подам жалобу, дело не терпит никакого отлагательства! Я сам добьюсь для себя справедливости! Я не могу больше находиться в этом проклятом вертепе!» Меня поймут: в течение многих недель — самые омерзительные впечатления, больная жена, с нею столько забот, деньги исчезли — повсюду я видел лишь врагов и глумление. Дикая ненависть к стране грез на время лишила меня рассудка, и, дрожа от ярости, я в чем был сбежал вниз по ступеням и сломя голову помчался к дворцу. Я хотел потребовать удовлетворения за те издевательства, которые мне непрерывно приходилось терпеть, даже если ради этого мне пришлось бы вытащить Патеру из постели. Так я пробежал всю Длинную улицу до площади. Все заволокло густым туманом, газовые фонари выглядели как светящиеся желтые пятна, я не видел ни одного прохожего, только мокрую и грязную мостовую. Я бежал в полубреду, мои мысли были заняты одним: как я опишу Патере все эти мерзости. Я сыпал обвинениями в полный голос, мне на ум без малейшего усилия приходили великолепные обороты речи, я находил потрясающие слова для описания своих злоключений… Но потом я стал замерзать. Поглядев на себя, я не мог не признать, что имею самый неподходящий вид для визита к знатному господину: старый шлафрок в цветочек, под ним ночная рубашка, на одной ноге шлепанец — второй я потерял на бегу — вот и все мое одеяние. Над площадью туман был не таким густым: там стоял дворец! Он подымался в небо, словно гигантская игральная кость. Светлый циферблат часовой башни можно было принять за луну. Сырость и холод отрезвили меня: я понял, что моя затея была безумной. Нет, это были не самый подходящий момент и не самый подобающий костюм для аудиенции. В шлафроке и с тростью после часа ночи, без головного убора — как бы я выглядел в таком виде? Опомнившись, я развернулся и направился обратно домой. Я хотел спрямить путь по одной из боковых улиц, ибо холод становился невыносимым. Да и жена моя, конечно, со страхом ждала моего возвращения; а вот завтра — завтра будет день расплаты! Чтобы согреться, я пустился легкой рысцой. Впереди показалось освещенное окно, я подбежал к нему. Музыка, бренчание на фортепиано, громкие голоса, пение! Свет падал из окна на мостовую. Ах, черт возьми, хоть бы меня никто не увидел! Но меня уже заметили. — Эй, вы, давайте-ка сюда! Несколько подозрительных фигур двинулись в мою сторону. Я понял, что свернул не на ту улицу: я был во Французском квартале. Здесь еще вовсю кипела жизнь. Вскоре я оказался в центре всеобщего внимания. Я готов был провалиться от стыда: все смеялись над моим нелепым нарядом. Я огрызнулся и поспешил дальше, но толпа увязалась за мной; послышались грубые шутки, и я понял, что мне может прийтись туго. Я плохо ориентировался в этих глухих углах и закоулках, и это было очень досадно; Кастрингиус нашел бы здесь дорогу без труда. Если бы я только знал, где тут полицейский участок. Справа и слева от меня виднелись только грязные кабаки и притоны. Изо всех стоков поднимались вонючие испарения. Я шагал самым широким и быстрым шагом, на какой только был способен. Какой-то чумазый паренек ухватился за рукав моего шлафрока и с силой дернул его вниз. Бац! — я влепил ему пощечину. Но лучше бы я этого не делал. Вот тут-то все и началось. С диким воем и улюлюканьем вся эта свора припустилась за мной. Какая-то жирная рослая баба выскочила мне наперерез и хотела сделать мне подножку. Я увернулся, но потерял при этом трость. Толстуха каталась по грязи, моя ночная рубашка досталась ей в качестве трофея. За счет этого я получил некоторую фору. Правда, теперь я знал, что на карту поставлена моя жизнь. Я мчался как бешеная борзая. Никогда еще я не был так уверен в своих силах. Между тем суматоха за моей спиной усиливалась, добрая половина Французского квартала преследовала меня по пятам; то и дело раздавался пронзительный свист. Земля под моими ногами становилась все более скользкой, мне приходилось проявлять осторожность, чтобы не поскользнуться. «Скоро я выбьюсь из сил, мне отсюда не выбраться!» — сказал я себе, и страх ударил мне в виски. В меня летели бутылки и ножи, я зигзагами метался по улочкам и на каждом углу кричал не своим голосом: «Помогите, полиция!» Но никто не шел на помощь, а за моей спиной раздавался глумливый смех бешеной своры. С разинутым ртом, голый и отчаявшийся, я буквально летел вперед, уже почти не надеясь на спасение. Наконец, когда я уже окончательно выдохся, я увидел узкий высокий дом, стоявший в конце улицы. Все окна были освещены, над порогом горел красный фонарь. Подъезд был открыт, я взбежал по ярко освещенным ступеням. Стены, помню, были выкрашены в разные цвета и расписаны пальмами. На первом этаже меня встретила женщина, светлое видение, праздник, в длинной серебристой рубашке, с распущенными волосами и роскошными руками. Она была не слишком удивлена моим появлением и, улыбаясь, сказала: «Нe ко мне! Господин, верно, ошибся, номер пять вон там!»
Счастливый — и пристыженный ее приветливым тоном я через силу выдавил из себя извинения, прикрывая рукой свою наготу. Потом отворил указанную дверь. Проклятье, там были уже двое, совершенно голые! Я захлопнул дверь. А чернь уже поднималась в дом. Сперва полицейский — легок на помине! — который зарычал: «Где этот парень? Я сообщу обо всем начальству! Дом еще должен быть закрыт!» За ним — толпа. Моя спасительница исчезла. Кровоточащие ступни мои, казалось, весили по полцентнера. С трудом переводя дыхание, я поднялся еще на несколько ступенек и увидел написанное крупными буквами спасительное слово: «Здесь!», выглядевшее как приказ. О небо, ты снова выручило меня! Из последних сил отворил я дверь и запер ее за собой на задвижку. Пока — в безопасности, но толпа уже ломилась в дверь. «Отворяй, отворяй!» — звучал тысячеголосый хор.
Я озирался, как затравленный зверь, и тут меня осенило отчаянное, упрямое решение. Рискуя разбиться насмерть, я протиснулся в узенькое оконце и ухватился рукой за что-то твердое. Верно — проволока, громоотвод! И с удивительной, неожиданной для себя ловкостью я спустился по нему вниз. Кругом ночь и тишина; я рухнул на землю — ноги уже не держали меня.
Я лежал на куче песка. Мусорщик обнаружил меня там во время ночной смены и отвез домой в своей вонючей повозке. Жена наблюдала из окна за моим прибытием. Она провела страшные четверть часа — ровно столько я отсутствовал.
Через несколько дней я увидел на улице стаю собак, игравших пестрым свертком, из которого торчали шнурки с кистями. Я узнал свой старый шлафрок — все это время он скитался по улицам города как бесхозное имущество. После той ночи от моего восторга перед творением Патеры не осталось и следа.
Здесь еще вовсю кипела жизнь. Вскоре я оказался в центре всеобщего внимания. Я готов был провалиться от стыда: все смеялись над моим нелепым нарядом. Я огрызнулся и поспешил дальше, но толпа увязалась за мной; послышались грубые шутки, и я понял, что мне может прийтись туго. Я плохо ориентировался в этих глухих углах и закоулках, и это было очень досадно; Кастрингиус нашел бы здесь дорогу без труда. Если бы я только знал, где тут полицейский участок. Справа и слева от меня виднелись только грязные кабаки и притоны. Изо всех стоков поднимались вонючие испарения. Я шагал самым широким и быстрым шагом, на какой только был способен. Какой-то чумазый паренек ухватился за рукав моего шлафрока и с силой дернул его вниз. Бац! — я влепил ему пощечину. Но лучше бы я этого не делал. Вот тут-то все и началось. С диким воем и улюлюканьем вся эта свора припустилась за мной. Какая-то жирная рослая баба выскочила мне наперерез и хотела сделать мне подножку. Я увернулся, но потерял при этом трость. Толстуха каталась по грязи, моя ночная рубашка досталась ей в качестве трофея. За счет этого я получил некоторую фору. Правда, теперь я знал, что на карту поставлена моя жизнь. Я мчался как бешеная борзая. Никогда еще я не был так уверен в своих силах. Между тем суматоха за моей спиной усиливалась, добрая половина Французского квартала преследовала меня по пятам; то и дело раздавался пронзительный свист. Земля под моими ногами становилась все более скользкой, мне приходилось проявлять осторожность, чтобы не поскользнуться. «Скоро я выбьюсь из сил, мне отсюда не выбраться!» — сказал я себе, и страх ударил мне в виски. В меня летели бутылки и ножи, я зигзагами метался по улочкам и на каждом углу кричал не своим голосом: «Помогите, полиция!» Но никто не шел на помощь, а за моей спиной раздавался глумливый смех бешеной своры. С разинутым ртом, голый и отчаявшийся, я буквально летел вперед, уже почти не надеясь на спасение. Наконец, когда я уже окончательно выдохся, я увидел узкий высокий дом, стоявший в конце улицы. Все окна были освещены, над порогом горел красный фонарь. Подъезд был открыт, я взбежал по ярко освещенным ступеням. Стены, помню, были выкрашены в разные цвета и расписаны пальмами. На первом этаже меня встретила женщина, светлое видение, праздник, в длинной серебристой рубашке, с распущенными волосами и роскошными руками. Она была не слишком удивлена моим появлением и, улыбаясь, сказала: «Нe ко мне! Господин, верно, ошибся, номер пять вон там!»
Счастливый — и пристыженный ее приветливым тоном я через силу выдавил из себя извинения, прикрывая рукой свою наготу. Потом отворил указанную дверь. Проклятье, там были уже двое, совершенно голые! Я захлопнул дверь. А чернь уже поднималась в дом. Сперва полицейский — легок на помине! — который зарычал: «Где этот парень? Я сообщу обо всем начальству! Дом еще должен быть закрыт!» За ним — толпа. Моя спасительница исчезла. Кровоточащие ступни мои, казалось, весили по полцентнера. С трудом переводя дыхание, я поднялся еще на несколько ступенек и увидел написанное крупными буквами спасительное слово: «Здесь!», выглядевшее как приказ. О небо, ты снова выручило меня! Из последних сил отворил я дверь и запер ее за собой на задвижку. Пока — в безопасности, но толпа уже ломилась в дверь. «Отворяй, отворяй!» — звучал тысячеголосый хор.
Я озирался, как затравленный зверь, и тут меня осенило отчаянное, упрямое решение. Рискуя разбиться насмерть, я протиснулся в узенькое оконце и ухватился рукой за что-то твердое. Верно — проволока, громоотвод! И с удивительной, неожиданной для себя ловкостью я спустился по нему вниз. Кругом ночь и тишина; я рухнул на землю — ноги уже не держали меня.
Я лежал на куче песка. Мусорщик обнаружил меня там во время ночной смены и отвез домой в своей вонючей повозке. Жена наблюдала из окна за моим прибытием. Она провела страшные четверть часа — ровно столько я отсутствовал.
Через несколько дней я увидел на улице стаю собак, игравших пестрым свертком, из которого торчали шнурки с кистями. Я узнал свой старый шлафрок — все это время он скитался по улицам города как бесхозное имущество. После той ночи от моего восторга перед творением Патеры не осталось и следа.
6
В последующие дни мне было не до подачи жалобы. У нас дома царило уныние. Мои израненные, распухшие ноги были перебинтованы, жена не вставала с постели. В доме Лампенбогенов со стороны двора была подвальная квартира. Там голодала семья с девятью детьми. Девять детей! Уникальный случай для Перле! Отец семейства был непутевым горлопаном и лоботрясом, жившим на иждивении у своей изможденной, вечно беременной половины. Теперь мы пользовались ее услугами, так как обезьяна появлялась у нас лишь изредка, да и то по вечерам. Зато это были приятные часы. Обезьяна присаживалась на кровать к моей жене, брала задними лапами ее вязальные спицы и начинала быстро вязать. Одновременно с этим она увлеченно листала старый номер «Зеркала грез», держа его в передних лапах. Наша новая домработница часто приводила с собою двух старших девочек, и я могу подтвердить наблюдение моей жены, что у детей, родившихся в стране грез, недостает ногтевого сустава на большом пальце левой руки. Аналогичный дефект был у дочурки моего редактора и даже у обоих сыновей его превосходительства регирунгспрезидента. Таким образом, семья славной госпожи Гольдшлегер была лишена целых девяти ногтевых фаланг. Как только я смог выходить, мой первый визит был к врачу. Мне крайне не нравился учащенный и неровный пульс моей жены. Я уже неоднократно подумывал о том, чтобы вызвать врача, тем более что Лампенбоген как владелец дома появлялся здесь довольно часто. Но я с давних пор питал недоверие к врачам, а в этой ненадежной стране осторожность была вдвойне уместна. «Врач — это такой же работник, как любой другой, — рассуждал я. — Если человек закажет сапожнику пару сапог, а тот потребует плату, не сдав работу, его просто поднимут на смех. А вот врачу мы должны платить, даже если он ничем не помог, даже если он только навредил больному». Лампенбоген был богатым человеком, у него была прекрасная вилла, красивая жена, экипаж. Доходный дом приносил ему изрядный куш, а потому не было ничего удивительного в том, что он так растолстел и разжирел. Везет же людям! Правда, жена его, как говорили, была весьма легкомысленной особой. А я со своими тощими костями… И вот этот доктор вступил в нашу квартиру, словно ходячий квадрат, закутанный в меха. Пока он осматривал жену, я дивился на его загривок; «хороший кусок для жаркого!» — плотоядно думал я. Он порекомендовал перемену климата: нам следовало несколько недель провести в горах. Мое состояние ему тоже не понравилось. Когда я возразил, что прежде хотел бы повидать Патеру, он бросил: «Оставьте эту затею!» — и вышел вон. Наша крохотная экспедиция была готова к отправлению. Госпожа Гольдшлегер толкала мою жену перед собой на кресле каталке. У здания почты на площади ждали многоместные экипажи: нас загрузили. Раздался щелчок кнута. Обернувшись, я успел различить колышущийся живот госпожи Гольдшлегер и прощальную улыбку на ее некрасивом лице. Сразу за окраиной Перле мы пересекли железную дорогу. Мы рассчитывали остановиться в маленьком горном селении, где нам было обещано удобное проживание в доме лесника. Дорога — весьма запущенная — вилась серпантином среди пользующихся дурной славой болот. Мы также миновали развалины какого-то древнего города. Несколько пеликанов были единственными живыми существами, которые нам встретились. После этой пустынной глуши потянулась более населенная местность. Обширные пастбища, картофельные поля, даже виноградники. Когда мы проезжали мимо крупных крестьянских усадеб с почерневшими от старости соломенными крышами, на нас вовсю глазели их обитатели, иные махали нам рукой в знак приветствия. Мужики, одетые в кожаное, сидели на деревянных скамьях, некоторые выстрагивали фигуры из дерева — такие же угловатые, как они сами. И хотя многие из них походили на животных, все же они казались мне куда симпатичнее горожан. Они не выглядели такими издерганными и затравленными. Из этих мест вели свое происхождение странные мистические обряды, здесь им продолжали неукоснительно следовать.
Дорога раздвоилась: на перепутье стояла часовня, полностью расписанная фресками: над ней, словно указательный палец, возвышалась тонкая башенка. «Дорога направо — к большому храму!» — сообщил нам почтальон, указав кнутом направление.
Мы въехали в узкую долину. Высоко среди отвесных скал виднелись серые хижины, где, как я слышал, жили аскеты — отшельники.
Сразу за окраиной Перле мы пересекли железную дорогу. Мы рассчитывали остановиться в маленьком горном селении, где нам было обещано удобное проживание в доме лесника. Дорога — весьма запущенная — вилась серпантином среди пользующихся дурной славой болот. Мы также миновали развалины какого-то древнего города. Несколько пеликанов были единственными живыми существами, которые нам встретились. После этой пустынной глуши потянулась более населенная местность. Обширные пастбища, картофельные поля, даже виноградники. Когда мы проезжали мимо крупных крестьянских усадеб с почерневшими от старости соломенными крышами, на нас вовсю глазели их обитатели, иные махали нам рукой в знак приветствия. Мужики, одетые в кожаное, сидели на деревянных скамьях, некоторые выстрагивали фигуры из дерева — такие же угловатые, как они сами. И хотя многие из них походили на животных, все же они казались мне куда симпатичнее горожан. Они не выглядели такими издерганными и затравленными. Из этих мест вели свое происхождение странные мистические обряды, здесь им продолжали неукоснительно следовать.
Дорога раздвоилась: на перепутье стояла часовня, полностью расписанная фресками: над ней, словно указательный палец, возвышалась тонкая башенка. «Дорога направо — к большому храму!» — сообщил нам почтальон, указав кнутом направление.
Мы въехали в узкую долину. Высоко среди отвесных скал виднелись серые хижины, где, как я слышал, жили аскеты — отшельники.
 Постепенно темнело, облака опускались все ниже, собираясь в серо-бурые комья, как перед грозой. Ландшафт был торжествен и грандиозен в своей монотонности; мы находились у подножия Рудной горы в местности весьма опасной в иные времена года из-за сильных электрических разрядов. Как раз сегодня напряжение было высоким, и мы заметили шаровые молнии, катившиеся по куполу горы, насыщенной металлом. «Гора почти вся из железа!» пояснил нам почтальон. Что самое примечательное: на ней не было ни кустика, хотя бы сухого, ни даже чахлой травинки. Темно ржавой громадой загораживала она долину.
Внезапно моя жена отказалась ехать дальше: горный воздух действовал на нее еще хуже, чем городской, она не верила, что такой отдых на природе прибавит ей здоровья. Я был того же мнения; в насыщенной электричеством атмосфере мои волосы шевелились и трещали. Разумнее всего было как можно скорее вернуться. Я теперь уже жалел, что потащил сюда жену. Мы высадились у придорожной гостиницы и стали ждать обратного транспорта. Хозяева позаботились о больной и помогли ей при посадке. Мы двинулись в обратный путь. Ночь настигла нас у болот. С них поднимались гнилые, удушливые испарения. При свете экипажного фонаря я разглядел несколько мусульманских могил — наполовину погруженные в пузырящуюся тинистую воду надгробия с изображенными на них тюрбанами. Сырость затрудняла нам дыхание. Со всех сторон слышались шорох и шуршание — то шевелились болотные демоны. Мою жену знобило, она вся прижалась ко мне. Когда мы въехали в город, было два часа ночи. Теперь я знал, что привез домой смертельно больную.
Постепенно темнело, облака опускались все ниже, собираясь в серо-бурые комья, как перед грозой. Ландшафт был торжествен и грандиозен в своей монотонности; мы находились у подножия Рудной горы в местности весьма опасной в иные времена года из-за сильных электрических разрядов. Как раз сегодня напряжение было высоким, и мы заметили шаровые молнии, катившиеся по куполу горы, насыщенной металлом. «Гора почти вся из железа!» пояснил нам почтальон. Что самое примечательное: на ней не было ни кустика, хотя бы сухого, ни даже чахлой травинки. Темно ржавой громадой загораживала она долину.
Внезапно моя жена отказалась ехать дальше: горный воздух действовал на нее еще хуже, чем городской, она не верила, что такой отдых на природе прибавит ей здоровья. Я был того же мнения; в насыщенной электричеством атмосфере мои волосы шевелились и трещали. Разумнее всего было как можно скорее вернуться. Я теперь уже жалел, что потащил сюда жену. Мы высадились у придорожной гостиницы и стали ждать обратного транспорта. Хозяева позаботились о больной и помогли ей при посадке. Мы двинулись в обратный путь. Ночь настигла нас у болот. С них поднимались гнилые, удушливые испарения. При свете экипажного фонаря я разглядел несколько мусульманских могил — наполовину погруженные в пузырящуюся тинистую воду надгробия с изображенными на них тюрбанами. Сырость затрудняла нам дыхание. Со всех сторон слышались шорох и шуршание — то шевелились болотные демоны. Мою жену знобило, она вся прижалась ко мне. Когда мы въехали в город, было два часа ночи. Теперь я знал, что привез домой смертельно больную.

7
На другой день я пытался разыскать врача, чтобы рассказать ему о нашем неудачном предприятии. На вилле его не было. По пути домой я обратил внимание на двоих мужчин. Они следовали за дамой, которая свернула передо мной на Длинную улицу. Я узнал их: это были мой сосед — студент — и де Неми. Оба, кажется, только теперь заметили, что преследуют одну и ту же цель. На моих глазах дело дошло до стычки. Не могу сказать точно, с чего она началась. Я видел только, как они вместе вошли в темный подъезд дома, из которого в следующий миг вылетела шляпа студента. Она шлепнулась прямо в уличную грязь. Чтобы остаться неузнанным и не помешать соперникам, я резко ускорил шаг и перешел на другую сторону улицы. Преследуемая дама стояла как раз там, перед окном платной библиотеки. Мне показалось, что я где-то уже видел ее. Она была высокого роста, одета весьма элегантно; ее каштановые волосы были собраны в тугой толстый узел на затылке. Лица ее я не видел. Видимо, она не заметила, что на нее охотились двое мужчин, потому что спокойно повернулась и направилась обратно, навстречу мне. Я узнал ее: госпожа Мелитта Лампенбоген — и подивился ее безупречной, легкой походке. И тут я встретил ее взгляд… я смотрел в белую пустоту… как удар по мозгу… это были глаза той старой нищенки'. Эта ночь прошла очень неспокойно. Стуки, шорохи, какая-то ходьба на лестнице. О сне не могло быть и речи. Около шести утра опять раздался шум в подъезде. Я вы шел на площадку. Трое тащили вниз черный гроб. Дверь в комнату студента стояла открытой настежь. В кафе мне сказали, что студент был заколот на дуэли. Распространился еще один слух. Исчез один из двух владельцев мельницы — а именно младший, балагур и весельчак. На второго пало подозрение в братоубийстве. Но никто не знал ничего определенного. «Два сотрудника уголовной полиции обыскали мельницу!» — с таинственным видом шепнул мне Кастрингиус. Он охотился за сенсационными материалами, так как хотел снова устроиться на работу в «Зеркало грез». Цветной рисунок «Рана студента» ему сразу завернули. Мое положение тоже было незавидным. Госпожа Гольдшлегер сегодня не пришла, и я решил разыскать ее в принадлежавшем ей крольчатнике. В этом помещении царил на редкость мерзкий запах. Повивальная бабка преградила мне вход, пояснив, что ночью она приняла здесь мертворожденного ребенка. К счастью, Гектор фон Брендель услужливо предоставил в мое распоряжение — для выполнения поручений вне дома — своего лакея, старого седовласого манекена. Уже три дня — с тех пор, как я понял, что жизни моей жены угрожает опасность, — я ходил, как оглушенный. Гнев и волнение исчезли; я был не в состоянии анализировать свои действия и только ходил из угла в угол. Тупо, апатично, словно побитая собака, снедаемый внутренней тревогой. Я не знал, куда мне податься. Оставаться дома было невыносимо. При взгляде на жену у меня разрывалось сердце. Скорее на воздух, другого выхода у меня не было! Я описал большую дугу, чтобы не проходить мимо кафе, и направился к берегу реки. Там, у бесшумно струящегося потока, я, бывало, простаивал подолгу. Мой взгляд непроизвольно скользнул по мельнице. Она трепетала, словно живая. Сквозь дымку проступали ее нечеткие, полуразмытые контуры; казалось, она состоит из какого-то студенистого вещества; от нее исходили непонятные флюиды, вызывавшие во мне внутреннюю вибрацию. За пыльным окном стоял мельник. Он смотрел на меня угрюмым, ненавидящим взглядом. Я направился дальше за город: мимо живодерни, скотного двора, кирпичного заводика. Душный и сырой воздух, унылое кваканье лягушек как нельзя лучше соответствовали моему настроению. Я не заметил, как пришел на кладбище. Я остановился и закурил сигарету. За коваными железными воротами маячили надгробия. Меня охватила дрожь; стуча зубами, я побежал по незнакомым улицам. Усилием воли я подавил охватившую меня меланхолию. Во мне вспыхнуло холодное презрение ко всему — и в особенности к Патере. — Где ты прячешься, палач? — кричал я, обращаясь к пустынным садам, мимо которых пробегал. Но безлиственные кусты и голые деревья не давали мне ответа. Я мчался вперед, не гнушаясь ступать по лужам. Ощущая легкий жар, я несся по улицам и через площади, которые, как мне казалось, вижу впервые. Особенно меня поразила убогая конка — находившаяся здесь, как я решил, в качестве украшения, а не для практических целей. Я и не знал, что в Перле есть такое транспортное средство. Впрочем, я был слишком возбужден, чтобы задерживаться на подобных мыслях, и не успел опомниться, как уже стоял перед дворцом. Только что зажгли фонари. Мой взор приковала мраморная доска, установленная на одной из угловых колонн резиденции:«Часы аудиенции у Патеры для граждан: ежедневно с 4 до 8 часов»Я несколько раз перечитал ее вполголоса, качая головой. У меня промелькнула совершенно дурацкая мысль: «Это чудовищная шутка — только мы слишком глупы, чтобы понять ее». Меня сотрясал судорожный смех, я готов был убить Патеру. Чтобы успокоиться, я прислонился к колонне. Потом вошел в открытый подъезд — без малейших колебаний, словно делал это каждый день. Я подымался по широким лестницам, ощущая себя совсем крохотным под огромными сводами. Я поднимался все выше. Сквозь арочные окна далеко внизу виднелся город. А вокруг стояла мертвая тишина, лишь мои шаги отдавались гулким эхом. Я был настолько сосредоточен на своем внутреннем состоянии, что не отдавал себе отчет в странности всей ситуации. На душе было необыкновенно легко, я очень хорошо это помню. Я отворил громадную белую двустворчатую дверь и миновал анфиладу просторных помещений. В каждом из них меня встречал порыв холодного ветерка. «Здесь явно никто не живет!» — бормотал я непрерывно, ощущая себя словно во сне. В каждом покое стояли вместительные резные шкафы и мягкая мебель в защитных чехлах. Один раз я увидел худощавую и прямую, как свеча, фигуру, торопливо двигавшуюся мне навстречу. Но это была иллюзия: фигура оказалась моим собственным отражением в стенном зеркале. Миновав бесконечную анфиладу залов и комнат, я очутился в необозримой галерее, которая, судя по всему, вела в обратном направлении. Стены были увешаны потемневшими от времени портретами в натуральную величину в широких рамах из эбенового дерева, по правую руку от меня шел ряд арочных окон. В дальнем конце покоя обнаружилась низенькая дверца, которую я осторожно отворил. Я оказался в пустом помещении средней величины, задрапированном свинцово-серым штофом. Царивший здесь полумрак не позволял мне как следует осмотреться. Но одно, во всяком случае, я понял: дальше ходу не было, здесь был тупик. Лишь тогда я остановился и задумался — чего же, собственно, я хочу? Здесь не было ни души; стояла могильная тишина. Я уже было хотел повернуть назад, когда со всех сторон поднялся тот своеобразный запах, с которым я сталкивался повсюду в этой стране. Усиливаясь с каждым мгновением, он окутал все помещение; затем я расслышал что-то похожее на тихий, суховатый смех. И, действительно, у противоположной стены виднелось лицо спящего человека. Привыкнув к полутьме, я различил одетую в серое фигуру, восседавшую на высоком ложе. Я сделал шаг в ее сторону. Голова необыкновенной величины — я узнал моего друга Патеру. Ошибки быть не могло, ведь я так часто смотрел на его портрет! Бледное лицо обрамляли темные пряди волос, веки были плотно закрыты, только губы подрагивали и непрерывно шевелились, словно он пытался что-то сказать. Я был поражен удивительной, классической красотой этой головы. Такой широкий, невысокий лоб и мощная переносица, скорее, могли быть у греческого бога, нежели у современного человека. На всех его чертах застыла печать глубокой скорби. Я расслышал слова, произнесенные тихим и торопливым шепотом: «Ты сетуешь на то, что не можешь попасть ко мне, но ведь я всегда был с тобой. Я видел не раз, как ты проклинал меня и отчаивался во мне. Что же я должен для тебя сделать? Скажи, чего ты хочешь!» Он замолчал. Вокруг царила тишина, у меня пересохло в горле, и с великим усилием я выдавил: «Помоги моей жене!» Голова немного приподнялась, Патера медленно открыл глаза. В тот же миг меня охватила ужасная слабость. Я неотрывно следил за его пугающим взглядом. Это были даже не глаза, а два тусклых светлых металлических кружка, светившихся как маленькие луны. Лишенные выражения и жизни, они были устремлены на меня. И снова раздался шепот: «Я помогу». Его фигура полностью выпрямилась, голова нависла надо мной подобно маске Медузы. Скованный чарами, я не мог пошевельнуться и думал только одно: «Это — Господь, это — Господь!» Глаза снова закрылись, но ужасная, таинственная жизнь возникла на этом лице. Его выражения менялись, как цвета хамелеона, претерпевая тысячи, нет, сотни тысяч превращений, молниеносно следовавших одно за другим: то это было лицо юноши, то женщины, то ребенка, то старика… Оно делалось то жирным, то худым, пускало отростки, становясь похожим на индюшиное, сокращалось до размеров высохшего яблока — чтобы в следующую секунду вновь надменно разбухнуть, раздаться в ширину и вытянуться в длину; оно выражало издевку, добродушие, злорадство, ненависть; то покрывалось морщинами, то вновь становилось гладким, как мрамор; это была какая-то необъяснимая игра природы, и я не мог отвести глаз — магическая сила приковала меня к месту, я цепенел от ужаса. Потом настал черед звериных обличий: маска льва, за нею острая и хитрая морда шакала — жеребец, раздувающий ноздри, — птица — наконец змея. Это было ужасно, я хотел закричать — и не мог. Передо мной мельтешили отталкивающие, залитые кровью и нагловато-трусливые хари. Потом медленно восстановился покой. По лицу как бы пробежали молнии — искаженные личины исчезли, и передо мною снова, как и прежде, спал человек по имени Патера. Губы не переставали дрожать и быстро-быстро шевелились. Я вновь услышал тот странный шепот: «Как видишь, я — Господь! Но я отчаялся и из обломков своего имения воздвиг себе царство. Я — повелитель!» Я был потрясен и, пылая глубоким состраданием к нему, с усилием выговорил: «И ты счастлив?» Но тут в меня словно ударила молния, и я снова застыл в недвижности. Совсем близко от себя я увидел страшные глаза. Патера спустился со своего ложа и взял меня за руки. Я словно покрылся льдом — внутри и снаружи. Он воскликнул: «Дай мне звезду, дай мне звезду!» В его голосе появилось что-то обволакивающее, он льстил и завлекал. Его белоснежные зубы ослепительно сверкали, движения были тяжелыми и неловкими. Я не понял и сотой части того, что он говорил. Его голос звучал глухо и сдавленно, грудь высоко вздымалась, жилы на бледной шее, казалось, вот-вот лопнут. Внезапно его лицо посерело, одни глаза, почти вылезшие из орбит, продолжали сверкать, держа меня в плену своих неизъяснимых чар. Должно быть, в этот момент его терзала поистине чудовищная, уже не человеческая боль. Патера выпрямился, его руки хватали пустоту. И тут между мной и повелителем опустился занавес. Я услышал нечленораздельное хрипение и приглушенный звук падения. Когда я обернулся, мне пришлось опереться о подоконник, ибо я почувствовал, что на меня нашел столбняк. Начавшись с языка, он охватил все тело. Люди и животные под окнами на площади на мгновение застыли как вкопанные. Всего на одно мгновение, а потом все снова пришло в движение. Вновь став хозяином своего тела, я бросился прочь из дворца, пребывая в глубоком убеждении, что схожу с ума.
8
Разбитый, не в силах собраться с мыслями, вернулся я домой. Там был Лампенбоген, который, впрочем, как раз собирался уходить. Он привез с собою из монастыря сестру милосердия. Увидев, доктор сразу же увлек меня в оконную нишу. Он принялся что-то втолковывать мне очень серьезным тоном, но я был не в состоянии следить за его словами. Его неуклюжее спокойствие действовало на меня благотворно. «Только не терять надежды, — дошло до меня. — У нее тяжелый нервный припадок — возможно, кризис… И все же есть вероятность того, что женщина выдержит этот приступ. Никогда не надо терять надежду. Если же произойдет что-то непредвиденное, то вызывайте меня в любое время, хоть ночью. Завтра же я зайду в любом случае». Он ушел. Как уже было сказано, я не знал, почему он так со мной говорил и что, собственно, произошло в мое отсутствие. Тихо и деловито сновала туда-сюда сиделка с полотенцами и блюдцами в руках. Я еще не был способен к осмысленным действиям и растерянно, с ощущением собственной ненужности топтался на месте. Моей жене, по-видимому, было еще не совсем плохо: когда я разок приблизился на цыпочках к ее кровати, она спала. Она выглядела даже свежее, чем в последние недели; на ее лице играл слабый румянец. Я переговорил с сестрой милосердия. Да, во время моего отсутствия больная перенесла приступ, что-то вроде мозговых спазмов. Монахиня отвечала односложно; поздно вечером она вполголоса молилась. Постепенно я начал осознавать всю серьезность ситуации. Среди путаных мыслей, связанных с повелителем страны грез, мелькали воспоминания об ознобе, который охватил мою жену во время нашего ночного возвращения. Но я нe мог и нe хотел верить в худшее. На эту ночь я примостился на диване в гостиной, служившей мне одновременно рабочей комнатой. О сне не могло быть и речи. Ближе к утру я встал и еще раз изучил портрет Патеры. Больная, похоже, успокоилась; только раз за всю ночь я слышал, как она произнесла несколько слов во сне. Около девяти утра я вошел к ней. Комната была уже прибрана и проветрена. Жена удивленно поглядела на меня, ей явно стоило усилий меня узнать. Она неплохо выглядела, но была еще очень слаба и почти не понимала моих слов. Сестра осталась довольна минувшей ночью: жар спал, и больная, действительно, выглядела свежее. Сиделка ненадолго оставила нас, чтобы сделать кое-какие закупки. Я присел на край кровати и взял горячие руки жены в свои руки. По-прежнему полный надежды и стремясь избавить ее от усилий, связанных с поддержанием разговора, я принялся рассказывать ей все, что приходило мне на ум и могло, по моему мнению, доставить ей удовольствие. Я рассказал о храме на озере и его чудесах, о драгоценностях и украшениях, которые там хранятся, ибо я знал, что красивые безделушки всегда были ее маленькой страстью. Я описывал зеркальные каналы и тихий, уютный парк, — будто сам целыми днями бродил там. Она слушала меня округлив глаза, иногда улыбалась и даже несколько раз погладила меня по голове. Я был рад, что мои рассказы ей нравятся, и увлеченно продолжал. Говорил о раззолоченных ладьях и белоснежных лебедях на озере; мои картинки обретали яркие краски — краски здесь, в этой бесцветной и блеклой стране сновидений! Я с жаром повествовал о многообразных цветах, о пестрых орхидеях, темно-красных розах, нежных лилиях на изящных стеблях. Я твердо верил в волшебную силу моих слов. Я не забыл упомянуть о голубых зарослях незабудок, о мириадах сверкающих капель росы в лучах раннего солнца. О чириканье птиц и ликующих звуках серебряных труб. Туда, в это светлое великолепие, и как можно скорее — вот что должно было стать нашей ближайшей целью! Там бы она поправилась. И в то время как я находил самые соблазнительные из возможных слов и предавался мечтам о прекрасной будущей жизни, моя жена — уснула. Обескураженный и уничтоженный, сидел я подле нее. Мною вновь овладела безотчетная тревога. Больная дремала с полузакрытыми глазами, еегустой румянец уже не казался мне естественным. Я еле сдержал набегающие слезы — вернулась сиделка. А следом за ней неожиданно пришел господин фон Брендель и участливо осведомился о состоянии больной. Он принес цветы — бледно-золотистые тюльпаны. Я провел его в гостиную — наконец-то со мною здоровый человек. Я буквально ухватился за него. Явился и врач, как обещал. Он пробыл у нас долго. Перед уходом он отозвал Бренделя в кухню, где оба имели непродолжительную беседу, а потом торопливо распрощался со мной. Его последними словами были: «Выше голову — и надейтесь!» Брендель предложил мне пойти вместе с ним: «Мы можем провести этот день вместе; здесь вы будете только мешать и не сможете нормально поесть». Он намеренно избегал говорить о моей больной жене. Мы отправились в кафе позавтракать. Аппетита у меня не было никакого, но надо же было куда-то пойти. Брендель очень нравился мне; это был привлекательный, необычайно услужливый человек, у которого была одна-единственная слабость: он принадлежал к типу сентиментальных донжуанов. А это еще не самое худшее. Он не имел ничего общего с такими бесстыжими охотниками за юбками, как де Неми, которого интересовал только чисто механический, лишенный фантазии разврат; Гектор фон Брендель был по-настоящему влюблен — и каждый раз в новую женщину. Но было бы неверно полагать, будто он был инфантильным, неопределившимся человеком, которому само его любвеобилие мешало стать серьезным, взрослым мужчиной. Он с полной отдачей стремился к некоему воображаемому идеалу, которого никогда не достигал, — точнее, не достигал так, чтобы это было раз и навсегда. Каждая его возлюбленная — «заготовка», как он их называл, — сперва подлежала перевоспитанию. Для этого он не жалел ни трудов, ни денег, действуя по собственной, довольно запутанной системе — шаг за шагом, терпеливо, планомерно. Пока дело касалось туалетов, все шло нормально, благо средств на это доставало, но затем наступала очередь разнообразных духовных категорий, как-то: хороших манер, любимых словечек и т. д., и т. п. Об эти препятствия почти все его избранницы спотыкались и выходили из игры. Брендель же не унывая принимался за новую «заготовку». Что же касается более высоких ступеней («подлинное доверие», «благородный вкус в общении»), то до них не удалось дорасти, кажется, еще ни одной соискательнице его благосклонности. Бывало, он по полночи распространялся мне о своем очередном кумире. К самому себе он был строг, обвинял во всем себя, подправлял и совершенствовал свой метод, однако ему так и не удавалось добиться состояния, которое он называл «зрелостью». Коренной изъян заключался в неподходящей психологии, к тому же бедняге еще и капитально не везло. Одна обманывала его, другая наскучивала. Он был обречен на вечные пробы и поиски. Сегодня он предупредительно молчал, хотя я бы предпочел, чтобы он говорил. Его рассказы о своих похождениях, в которых было немало комичного, часто забавляли меня. При каждом «финале» — разрыве — устраивался роскошный прощальный ужин, после которого разочарование снова уступало место надежде. Как порядочный и благородный человек, он никогда не ставил «изъян» в вину своим пассиям. Ему было чем утешиться: предмет был неистощим и безумно интересен для него. Меня душил безудержный страх, он поднимался от желудка, сжимал сердце и давил на внутренности. Я много курил и пил. Но ничто не давало облегчения. Впечатление, произведенное на меня той ожившей статуей во дворце, и представление об опасности, в которой находилась моя жена, сплавились воедино. Я словно пребывал в бредовом сне, который никак не мог с себя стряхнуть. В кафе вошел мельник. Он опрокинул, стоя у бара, пару стаканчиков рома и ушел не прощаясь. Оба местных шахматиста, как всегда, сидели за своей игрой, напоминая замысловатых китайских деревянных божков. Потом Брендель повел меня в «Голубого гуся», где он столовался. После обеда мы зашли к нему домой; он угостил меня кофе и показал роскошное собрание акварелей на мотивы из страны грез. Около пяти вечера я почувствовал, что уже не могу оставаться у него дольше. Я принес извинения за те хлопоты, которых мы ему стоили, поблагодарил и заспешил домой; я уже давно в мыслях находился рядом с женой и сам не понимал, как я мог быть таким равнодушным к ней. Мой страх достиг предела; он гнал меня вперед подобно мотору; я бросился вверх по лестнице — и не посмел войти. Я прислушался у двери — ни звука! — ах да, она ведь лежит в дальней комнате… Я сделал еще один глубокий вдох — и отворил дверь. Первое, что я увидел, была шуба Лампенбогена; весь дрожа, я прошел в комнату больной. Врач бегло ответил на мое приветствие — как раз в этот момент он снимал нарукавники. В постели лежала моя жена — постаревшая и осунувшаяся. Неизреченный ужас охватил меня. Я умоляюще обратился к врачу: «Помогите! Помогите же!» Великан похлопал меня по плечу и произнес: «Держитесь! Вы еще молоды». Я зарыдал. Сиделка хотела подать мне стакан воды — я дернулся, как от удара хлыстом, и оттолкнул ее. Нагнувшись над растрепанной постелью, я растерянно уставился на умирающую… она совсем затихла, продолжая лишь чуть слышно стучать зубами… размеренный, механический звук… страшный звук… сухой… твердый… и отчетливый. Я испытывал глубочайшую в своей жизни скорбь; я с трудом понимал, что происходит. Ее дряблая кожа приобрела зеленоватый оттенок… пот сочился изо всех пор… я хотел вытереть его платком… как вдруг стук прекратился… глаза и рот широко раскрылись… лицо побелело как мел… она была мертва. Словно из далекой дали доносились до меня молитва монахини, шаги уходящего доктора. Стоя на коленях подле кровати, я тихо, почти беззвучно, шептал умершей самые нежные слова, какие приходили мне в голову. Я перебирал в памяти те годы, которые мы прошли с нею бок о бок… Не о проклятой стране грез говорил я ей, а о тех временах, когда мы только что узнали друг друга! Я благодарил ее за все радости. Я шептал ей прямо в ухо, ибо никто не должен был меня слышать. Совсем тихо — только для нее — я прошептал, что просил за нее Патеру, что повелитель должен помочь. Во мне продолжала жить простодушная вера. Говоря об этом, я ненароком задел ее голову, та тяжело упала набок и оказалась в желтом свете лампы. Лишь теперь я разглядел изменения в лице жены — передо мной было что-то незнакомое, с бескровными губами и заострившимся носом — такой я никогда ее не знал… Большие тусклые зрачки смотрели сквозь меня; меня судорожно затрясло — и, продолжая лепетать какую-то бессмыслицу, я побежал прочь — прочь на чужие улицы. Я ни на кого не обращал внимания и искал какой-нибудь укромный уголок, где бы меня никто не мог побеспокоить. Но я нигде не мог задержаться надолго. Так я метался всю ночь — бормочущий призрак, потерявший страх. Я прочел все молитвы, какие помнил с детства. Я был одинок — и не было одиночества сильнее моего. Весь следующий день я тоже провел в уединении. Я надеялся, что смерть заберет и меня. Ночью вокруг меня раздавалось посвистывание и потрескивание, мне все чудился призрак Патеры — бледная, расплывчатая тень, витавшая передо мной. Когда забрезжило утро, я, усталый и ничего не соображающий, поднялся в свою квартиру. Меня дразнила слабая надежда, что все случившееся — лишь игра воображения. В комнате умершей царил беспорядок; меня встретил тонкий сладковатый запах. Постель была пуста — все переворошено. Hа ночном столике — опрокинутые склянки из-под лекарств, рассыпанные кусочки сахара. Во всем этом было что-то непостижимое и безутешное. Я снова спустился вниз — Лампенбоген стоял у своего экипажа. Он схватил меня за руку, и я весь сжался: что, еще одно несчастье? — Я искал вас! Вам не следует так расслабляться. Я возьму вас с собой: через полчаса мы хороним вашу супругу. Вам теперь нужен дом, семья. Надеюсь, вы не откажетесь, если я приглашу вас на время перебраться к нам, моя жена будет только рада. Такое бывает в жизни каждого из нас. Со временем вы успокоитесь. Не возразив ни слова, я сел в экипаж Лампенбогена; рядом с тучным, широкоплечим доктором я казался себе совсем маленьким. За нами наблюдали из кафе; Антон кивнул мне в окно, шахматисты даже не оторвали головы от доски. Через несколько минут мы прибыли на кладбище. Еще издали я заметил группу людей в маленьком зале морга и различил среди них знакомые лица: Гектора фон Бренделя, хозяина кафе, священника. Было там и несколько господ, которых я не знал. Все стояли, лежало только это. Простой гроб, покрытый черной материей. Начал накрапывать дождь, сырость проникала сквозь одежду, но моей иссохшей коже это было только приятно. Священник пробормотал заупокойные молитвы, гроб понесли к могиле. Первым за ним шел я. «Там, внутри, — моя жена», — думал я. Я представлял ее себе так, как если бы она была жива. «Она, конечно, знает все, что сейчас происходит; что я иду за ее гробом и не препятствую всему этому». Тем временем я, шатаясь, ступил на мокрый, бурый дерн. Теперь я силился думать только о том, как я себя держу. «Никто не должен ничего заметить, вся скорбь — после, когда я останусь один». Я упорно твердил про себя заученное слово: «Держись, держись, держись!» Одной бесконечной строкой. При этом я прикусил себе изнутри щеки, чтобы ненароком не произнести его вслух. С некоторым любопытством искал я глазами свежевырытую могилу. Вот она, среди многих, многих других могил… Мы были на месте, с гроба сняли черное покрывало. Я пребывал в своего рода полубреду. Мужчины уверенными движениями опустили гроб в яму. Я мельком глянул вниз, с неестественной четкостью отпечаталась в моем сознании эта картина. «Это твой последний взгляд, последнее прощание со спутницей жизни». Шатаясь, я побрел прочь. Лампенбоген придерживал меня под руку, все кланялись мне. В этот момент кто-то отделился от ворот кладбища и подбежал к нам, смахивая рукавом пыль со своего цилиндра. Это оказался парикмахер. Он взял меня за руку и торжественно произнес: «В смерти субъект выходит на диагональ между пространством и временем, пусть это вас утешит!» У стены слева я заметил фамильный склеп Блюменштихов. На кубе из белого мрамора — железный сфинкс в рыцарском шлеме с опущенным забралом. Я был рад, что все осталось позади и прошло гладко. Потом я сел в экипаж Лампенборгена, и мы покатили на его виллу.9
Конечно, со стороны Лампенбогена было очень любезно принять у себя такого несчастного, как я. Я, впрочем, готов был ехать с кем угодно; мне было все равно, куда меня везут. Лампенбогены ведут себя так, как будто ничего не случилось; «ведь им безразлично, что моя жена умерла», — подумал я, когда служанка отворила мне дверь в столовую. Было шесть часов вечера. Госпожа докторша поздоровалась со мной еще раньше, когда мы приехали, и выразила свою надежду на то, что я буду чувствовать себя у них как дома и скоро забуду это «ужасное событие». «Да, ужасное событие», — машинально повторил я. «В жизни так много горя», — заметил Лампенбоген и положил на стол в выделенной мне комнате коробку сигар. Стараясь свыкнуться с мыслью, что отныне мне придется жить в другом доме, я немного привел себя в порядок и спустился в столовую. Если на улице было холодно и неуютно, то здесь — тепло, просторно и комфортно. Хозяйка дома, казалось, старалась угодить мне во всем. Тот недавний эпизод, вероятно, был обманом чувств, сегодня я совершенно спокойно смотрел ей в глаза; они у нее были миндалевидными, серо-зелеными и как будто все время что-то искали. «И об этой-то женщине ходит столько сплетен? — мелькнуло у меня. — Да это просто смешно!» Мы сели за стол. Лампенбоген занял своей слоновой тушей целую поперечную сторону. Он был настоящий гурман. Когда он ел, лицо у него напоминало воздуходувный мех. Было видно и слышно, как он смакует еду. У меня напрочь отсутствовал аппетит, хотя желудок был пуст. Лампенбоген же, садясь за стол, стал совсем другим человеком — «жрецом-полководцем», если можно так выразиться. Истовым и одновременно критическим взором оглядывал он тарелки, и, если ему не сразу накладывали, нетерпеливо щелкал пальцами. Если кушанья убирали со стола раньше времени, он в категоричной форме требовал принести их обратно. «Сколько раз можно ей повторять, этой бестии», — говорил он, скрежета зубами и багровея. В этот момент он очень походил на японского бога счастья Фукуроку. Салат он готовил сам на отдельном столике. Ловко орудовал двумя вилками, и я удивлялся, как уверенно двигались его маленькие пухлые ручки. «Наверное, он хорошо оперирует больных», — думал я. И все же он, казалось, был недоволен своим изделием. «Больше из этого ничего не выжмешь», — проворчал он, сумрачно оглядывая целую батарею разноцветных бутылочек и жестянок со специями. «Лампенбоген в разрезе» — вот сюжет для Кастрингиуса! — Но вы же ничего не едите! — воскликнул он, когда подали сыр. Его жена одернула его: «Одоакр, не надо!» И еще я заметил, что у него был такой же тонкий нюх, как у меня. Но этим, пожалуй, ограничивалось сходство между нами. После ужина я взял сигару. Гора мяса поднялась и с сожалением вздохнула. — Увы, я сегодня должен быть в клубе, а мы могли бы так славно посидеть с вами. Я тоже выразил свое сожаление. — А где находится ваш клуб? — спросил я. Разумеется, он тут же предложил мне составить ему компанию, посетить кегельбан в «Голубом гусе». Я вежливо отказался. На сегодня с меня было довольно. — Ну, хорошо, с богом! — сказал доктор и потряс мою руку. Жену он похлопал по щеке. Несмотря на его массивность, Лампенбоген обладал своеобразной эластичной грацией движений. Мы остались с супругою доктора одни. — У вашего супруга завидное здоровье, — заметил я, чтобы не молчать. — О, да! — усмехнулась она. Настроение у меня несколько упало: я боялся наступающей ночи и хотел как можно дольше оставаться рядом с этой красивой женщиной. Лишь теперь я рассмотрел ее как следует. На ней было пышное платье в голубую и белую полоску, роскошные волосы были уложены в сетку по тогдашней моде страны грез. Ее лицо показалось мне необыкновенно миниатюрным, лоб — узким, брови — с сильно приподнятыми наружными краями. Носик был довольно короткий, курносый, ротик — пухлый и широкий, губы — почти негритянские. Для женщины она была относительно высокого роста. Меня самого поражало, что, находясь в таком состоянии, я был способен к столь внимательным наблюдениям. Мелитта повозилась в корзинке, доставая какое-то рукоделие, потом уселась у камина, в котором горели длинные буковые поленья. В богатой, обшитой коричневыми панелями столовой было, пожалуй, даже слишком жарко, в то время как снаружи деревья скрипели на ветру и порою было слышно, как дождь стучит в окно. Я ждал, что дама заговорит о чем-нибудь; из меня сегодня был неважный собеседник. Но она молчала. И тогда я попробовал начать сам. «Милостивая государыня, у вас чудесные волосы!» — сказал я первое, что пришло мне в голову. — О, прежде их было больше, и без сетки они куда красивее! — улыбнулась Мелитта. И тут мне стало страшно. Я почувствовал, что бледнею. То, что затем случилось, я, видно, никогда не смогу себе до конца объяснить… За предыдущие дни я пережил самые ужасные потрясения, какие только в силах вынести человек. Я был сломлен, я лежал во прахе, обессиленный и отчаявшийся. Быть может, нашей природой управляет некий закон маятника? Иначе как могло случиться так, что именно сейчас мне исподтишка и в то же время внезапно закралась в голову самая низменная мысль?
Почти в тот же миг я почувствовал, как во мне глухо зашевелились необъятные силы. Все это происходило где-то в глубине, тогда как на поверхности своего сознания я искренне негодовал на самого себя. Но тут же все молниеносно превратилось в единую, собранную, непреклонную волю: видно, так было определено свыше; я стал рассудительным и расчетливым, как змея. Внешне же я оставался мужчиной, курящим сигару.
Мелитта отложила свое рукоделие и спокойно произнесла: «Как художник вы, верно, знаете толк в красоте».
К этому моменту мои мысли приобрели кристальную ясность.
Я горел желанием действовать — но прежде было необходимо прозондировать почву.
— Без сетки ваши волосы, должно быть, выглядят поистине великолепно! — заметил я и спрятался за клубом дыма.
— Боюсь, вы были бы разочарованы! — с этими словами она вновь склонилась над работой и несколько раз хихикнула.
«Ах, так…» — подумал я; нет, такая игра была не по мне, я никогда не занимался флиртом. Я спокойно встал и заметил с холодной галантностью: «Жаль, что ваш супруг — не художник». (Это был отвлекающий маневр; противник должен был продвинуться вперед и обнаружить себя.) И действительно: «Боже мой, он вообще ничего не замечает!» Эта фраза сопровождалась презрительным пожатием плеч; ничего другого я и не ожидал. Теперь она была моей. Правда, пока еще ничего не случилось, ситуация была совершенно безобидной.
Вошла горничная. «Господам еще что-нибудь угодно?»
— Нет, вы можете идти!
— Что бы вы сказали, если бы я набрался дерзости и попросил вас открыть волосы?
(Я должен был задать этот вопрос, прежде чем затянуть петлю, ибо отказ с ее стороны выглядел бы просто смешным.)
— Сегодня — в день похорон вашей жены?
(Мнимый укол.)
— Но ведь кроме смерти есть еще и жизнь! — продолжал я актерствовать. Она еще пыталась сопротивляться, но разве она могла серьезно противостоять той силе, что уже все решила?
— Ну, если вы хотите, если это может вас утешить…
(Ага, скрытая шпилька вдовцу, ее последняя защита!)
«Как же глупы эти женщины… все на один лад…» — невольно подумалось мне. Мелитта встала и занялась своей прической.
— Девушка больше не придет? — очень спокойно и тихо спросил я.
(Это было подведением черты и одновременно заботой о том, чтобы игра не длилась бог весть как долго. Кроме того, я почувствовал, что начинаю терять с таким трудом приобретенную ясность мысли.) Из ее уст тихо прозвучало: «Мы в безопасности». (А чего еще можно желать?) Две роскошных золотисто-каштановых косы ниспали ей на спину. Она зашла за высокую ширму у камина и полностью распустила волосы.
Я рассыпался в комплиментах и продемонстрировалсвою детальную осведомленность в предмете, вставив попутно несколько чувственных выражений. Мне ведь были нужны не столько волосы…
У меня перехватило горло. Я понял, что если буду и впредь продолжать свои разглагольствования, мои слова начнут казаться идиотскими.
— Неужели ваши волосы — единственное, чем может восторгаться художник? Да в жизни не поверю, сольстил я и заметил, как сконфузилась Мелитта.
— Вы требуете бог весть чего, — с деланным возмущением возразила она. Ее румянец подтвердил мне, что ее сопротивление тает. Дрожащими пальцами я стал, выполнять обязанность горничной…
В будуаре возле столовой два небольших бра источали мягкий матовый свет. Мне хотелось бы видеть фигуру женщины яснее, но в то же время я и радовался этому приглушенному освещению. Я почувствовал дурманящий аромат, ставший слишком хорошо известным мне с тех пор, как я жил в стране грез… и моя жена словно никогда для меня не существовала…
На улице было тихо, ночная буря улеглась, но сырость и холод остались. Раздалось бряцание сабли, приближались двое прохожих.
— Проклятые чаевые! — услышал я такое знакомое блеянье Кастрингиуса.
Я помчался во весь опор, чтобы оказаться как можно дальше от виллы. Никто и ничто не смогли бы вернуть меня туда.
В кафе я заказал крепкого пунша и мрачно пошутил: «Наконец-то один!» После третьей рюмки я подвел баланс тому, чего я добивался в жизни и чего добился: ровным счетом ничего. Мне во всем везло так же, как Бренделю в его любовных похождениях. Я гнался за иллюзией счастья, которое дразнило меня. Я больше ничего не хотел знать об этом балагане. На четвертой рюмке я брел по колено в болоте мыслей о самоубийстве. Лучше уж не жить, чем прозябать шутом среди шутов.
При этом меня мучило раскаяние за недавно совершенное. Я молил прощения у мертвой. Уже несколько часов, как ее покрывала земля, она была заточена и покинута в своей деревянной темнице, а я должен был влачить груз живой плоти. Даже в такие часы меня преследовали грешные мысли, они надувались и лопались во мне, как пузыри.
На пятом стакане пришло решение: напиться до бесчувствия и — в воду! От беспрерывного курения горел язык, голова гудела, мысли путались…
За соседним столиком говорили о мельнице. Якоба, исчезнувшего мельника, видели еще в конце прошлой недели, ниже по течению, где он переправлялся на пароме на другой берег реки; там начинается дорога, ведущая через бескрайний девственный лес — малоизвестную, незаселенную область страны грез. По ночам оттуда регулярно доносились поистине адские симфонии шумов, слышные и по эту сторону реки. «Вероятно, мельник заблудился и стал жертвой какого-нибудь хищника…» — такого мнения придерживались здесь. И тем не менее с исчезновением связывали имя второго брата, и на нем лежало тягчайшее подозрение.
Я пил черный кофе и мрачно констатировал свою неспособность ни к жизни, ни к самоубийству. «Буду вести растительное существование между этими двумя возможностями… и ждать смертельного удара, который, конечно же, не заставит себя долго ждать». Взгляд в зеркало явил мне больное, опухшее лицо.
Быть может, нашей природой управляет некий закон маятника? Иначе как могло случиться так, что именно сейчас мне исподтишка и в то же время внезапно закралась в голову самая низменная мысль?
Почти в тот же миг я почувствовал, как во мне глухо зашевелились необъятные силы. Все это происходило где-то в глубине, тогда как на поверхности своего сознания я искренне негодовал на самого себя. Но тут же все молниеносно превратилось в единую, собранную, непреклонную волю: видно, так было определено свыше; я стал рассудительным и расчетливым, как змея. Внешне же я оставался мужчиной, курящим сигару.
Мелитта отложила свое рукоделие и спокойно произнесла: «Как художник вы, верно, знаете толк в красоте».
К этому моменту мои мысли приобрели кристальную ясность.
Я горел желанием действовать — но прежде было необходимо прозондировать почву.
— Без сетки ваши волосы, должно быть, выглядят поистине великолепно! — заметил я и спрятался за клубом дыма.
— Боюсь, вы были бы разочарованы! — с этими словами она вновь склонилась над работой и несколько раз хихикнула.
«Ах, так…» — подумал я; нет, такая игра была не по мне, я никогда не занимался флиртом. Я спокойно встал и заметил с холодной галантностью: «Жаль, что ваш супруг — не художник». (Это был отвлекающий маневр; противник должен был продвинуться вперед и обнаружить себя.) И действительно: «Боже мой, он вообще ничего не замечает!» Эта фраза сопровождалась презрительным пожатием плеч; ничего другого я и не ожидал. Теперь она была моей. Правда, пока еще ничего не случилось, ситуация была совершенно безобидной.
Вошла горничная. «Господам еще что-нибудь угодно?»
— Нет, вы можете идти!
— Что бы вы сказали, если бы я набрался дерзости и попросил вас открыть волосы?
(Я должен был задать этот вопрос, прежде чем затянуть петлю, ибо отказ с ее стороны выглядел бы просто смешным.)
— Сегодня — в день похорон вашей жены?
(Мнимый укол.)
— Но ведь кроме смерти есть еще и жизнь! — продолжал я актерствовать. Она еще пыталась сопротивляться, но разве она могла серьезно противостоять той силе, что уже все решила?
— Ну, если вы хотите, если это может вас утешить…
(Ага, скрытая шпилька вдовцу, ее последняя защита!)
«Как же глупы эти женщины… все на один лад…» — невольно подумалось мне. Мелитта встала и занялась своей прической.
— Девушка больше не придет? — очень спокойно и тихо спросил я.
(Это было подведением черты и одновременно заботой о том, чтобы игра не длилась бог весть как долго. Кроме того, я почувствовал, что начинаю терять с таким трудом приобретенную ясность мысли.) Из ее уст тихо прозвучало: «Мы в безопасности». (А чего еще можно желать?) Две роскошных золотисто-каштановых косы ниспали ей на спину. Она зашла за высокую ширму у камина и полностью распустила волосы.
Я рассыпался в комплиментах и продемонстрировалсвою детальную осведомленность в предмете, вставив попутно несколько чувственных выражений. Мне ведь были нужны не столько волосы…
У меня перехватило горло. Я понял, что если буду и впредь продолжать свои разглагольствования, мои слова начнут казаться идиотскими.
— Неужели ваши волосы — единственное, чем может восторгаться художник? Да в жизни не поверю, сольстил я и заметил, как сконфузилась Мелитта.
— Вы требуете бог весть чего, — с деланным возмущением возразила она. Ее румянец подтвердил мне, что ее сопротивление тает. Дрожащими пальцами я стал, выполнять обязанность горничной…
В будуаре возле столовой два небольших бра источали мягкий матовый свет. Мне хотелось бы видеть фигуру женщины яснее, но в то же время я и радовался этому приглушенному освещению. Я почувствовал дурманящий аромат, ставший слишком хорошо известным мне с тех пор, как я жил в стране грез… и моя жена словно никогда для меня не существовала…
На улице было тихо, ночная буря улеглась, но сырость и холод остались. Раздалось бряцание сабли, приближались двое прохожих.
— Проклятые чаевые! — услышал я такое знакомое блеянье Кастрингиуса.
Я помчался во весь опор, чтобы оказаться как можно дальше от виллы. Никто и ничто не смогли бы вернуть меня туда.
В кафе я заказал крепкого пунша и мрачно пошутил: «Наконец-то один!» После третьей рюмки я подвел баланс тому, чего я добивался в жизни и чего добился: ровным счетом ничего. Мне во всем везло так же, как Бренделю в его любовных похождениях. Я гнался за иллюзией счастья, которое дразнило меня. Я больше ничего не хотел знать об этом балагане. На четвертой рюмке я брел по колено в болоте мыслей о самоубийстве. Лучше уж не жить, чем прозябать шутом среди шутов.
При этом меня мучило раскаяние за недавно совершенное. Я молил прощения у мертвой. Уже несколько часов, как ее покрывала земля, она была заточена и покинута в своей деревянной темнице, а я должен был влачить груз живой плоти. Даже в такие часы меня преследовали грешные мысли, они надувались и лопались во мне, как пузыри.
На пятом стакане пришло решение: напиться до бесчувствия и — в воду! От беспрерывного курения горел язык, голова гудела, мысли путались…
За соседним столиком говорили о мельнице. Якоба, исчезнувшего мельника, видели еще в конце прошлой недели, ниже по течению, где он переправлялся на пароме на другой берег реки; там начинается дорога, ведущая через бескрайний девственный лес — малоизвестную, незаселенную область страны грез. По ночам оттуда регулярно доносились поистине адские симфонии шумов, слышные и по эту сторону реки. «Вероятно, мельник заблудился и стал жертвой какого-нибудь хищника…» — такого мнения придерживались здесь. И тем не менее с исчезновением связывали имя второго брата, и на нем лежало тягчайшее подозрение.
Я пил черный кофе и мрачно констатировал свою неспособность ни к жизни, ни к самоубийству. «Буду вести растительное существование между этими двумя возможностями… и ждать смертельного удара, который, конечно же, не заставит себя долго ждать». Взгляд в зеркало явил мне больное, опухшее лицо.
 Было три часа утра, когда я съел три порции ветчины и еще пирожок с изюмом; меня одолел волчий голод. Потом появились Кастрингиус и де Неми. Художник сразу заметил меня, но я торопливо схватил «Голос» и уткнулся в него. Оба поняли, что я хочу этим сказать. А мне бросилась в глаза моя фамилия, набранная в разрядку: это был некролог о моей жене. Из-за газетного листа я невольно следил за руками Кастрингиуса; одна из них, правая, свисавшая в данный момент со спинки стула, напоминала какой-то инструмент; возможно, имела место атрофия или атавизм. Я называл его короткие, мясистые пальцы с широкими, желтыми, растрескавшимися ногтями «корабельными винтами». Но поскольку я знал, что мой коллега в сущности не переваривает меня, я был с ним предельно вежлив.
Хозяин кафе приблизился к моему столику и заспанным голосом спросил, собираюсь ли я возвращаться на прежнюю квартиру. «Боже меня упаси!» Я объяснил ему, что в данный момент у меня нет крыши над головой, и спросил, не может ли он что-нибудь мне посоветовать. «Вы можете жить у меня».
У него была комнатка, узкая и длинная, как коридор. В ней я проспал остаток ночи, в ней и остался. Кровать стояла в темном алькове за занавеской. Помещение казалось мне таким знакомым, словно я никогда не жил в другом; в компании с обтрепанными и пожелтевшими кожаными креслами, старомодными стоячими часами и пузатой кафельной печкой я чувствовал себя как дома.
Смертельно усталый, я сразу уснул и был разбужен только через сутки с лишним, когда притащили мой пульт для рисования.
Меня охватила лихорадка работы: за следующие полгода я под действием скорби создал свои лучшие вещи. Я усыплял себя творчеством. Мои рисунки, выдержанные в мрачной и блеклой цветовой гамме страны грез, скрытым образом выражали мое горе. Я добросовестно штудировал поэзию серых дворов, заброшенных чердаков, пыльных винтовых лестниц, заросших крапивой садов, знакомился с бледными красками кирпичных и деревянных мостовых, с черными дымовыми трубами и закопченными каминами. Я постоянно варьировал меланхоличный основной тон, способ передачи ощущения заброшенности и бесплодной борьбы с непостижимым. Кроме этих листов, которые я продавал частным лицам и публиковал в «Зеркале грез», я писал еще и другие картины — небольшие циклы, предназначенные для избранных. В них я пытал ся создать новые формы, следуя таинственным, осознанным мною ритмам — они вились, переплетались и отскакивали друг от друга. Я пошел еще дальше. Отказавшись от всей знакомой техники, кроме штриха, я за эти месяцы разработал своеобразную линейную систему. Фрагментарный стиль — скорее знак, чем рисунок — выражал малейшие колебания моего настроения, словно чувствительный метеорологический прибор. Я назвал этот метод «психографикой», позже я собираюсь опубликовать необходимые пояснения. Вообще, в творчестве я нашел облегчение, в котором так нуждался. Но, будучи далеким от того, чтобы примириться с судьбой, я, в сущности, жил лишь наполовину.
Много ночей подряд я пытался найти объяснение безвременной кончине своей жены. Меня преследовало чувство вины: она была реальной, здоровой натурой и никогда бы не смогла прижиться в этом призрачном царстве. Это я должен был сказать себе еще до переезда и своевременно отказаться от него.
Возобновив общение с людьми, я узнал о разнообразных переменах. Дела в стране грез шли все хуже.
Однажды госпожу Гольдшлегер, которая одно время прислуживала нам, вынесли из дома мертвой — третий покойник за полгода… Девяти ее бедным детям отныне стало совсем худо.
Гектор фон Брендель завязал отношения с фрау Лампенбоген; интересно, достигнет ли она «зрелости»? Де Неми зачастил в тот же дом — но не ради Мелитты, а из-за известной болезни, последствия одного галантного похождения. И только об ученой обезьяне Джованни Баттисте я услышал радостную новость: она была мастером своего дела, и парикмахер выхлопотал для нее пенсию по старости.
Значительного прироста населения заметно не было; на нескольких новоприбывших никто не обращал внимания. Они много рассказывали о внешнем мире, о тамошнем прогрессе и умопомрачительных изобретениях. Но это абсолютно не интересовало старожилов; рассказчикам небрежно отвечали: «Да, да, замечательно!» — и переходили на другие темы. Царство грез представлялось нам необъятным и грандиозным, остальной мир не стоило и вспоминать. Ни один из тех, кто прижился здесь, не хотел обратно; все, что было «там, снаружи», считалось иллюзией, чем-то несуществующим.
Как-то поздним вечером я спустился к реке, намереваясь забросить несколько лесок на налима. В детстве я был заядлым рыболовом.
Вокруг мельницы потрескивала и колыхалась какая-то странная газообразная субстанция. Я видел, как по стенам проскальзывают зеленоватые фосфоресцирующие полосы. Они вызывали во мне почти осязаемые неприятные ощущения. Перед дверью, на которой были прибиты в качестве талисманов совиная голова, распятая живьем летучая мышь и нога косули, — перед этой дверью стоял мельник, попыхивая трубкой. Этот замкнутый человек всегда внушал мне суеверный трепет, но сегодня я смело прошел мимо него. Места для удочек я продумал заранее, решив закинуть их сразу за решеткой для задержания речного мусора. Но как только я начал разматывать леску, рядом послышался тихий голос: «Тс-с, тс-с, осторожно! Зайдите-ка левее!» Говорящего не было видно. Тут я с ужасом разглядел толстое, круглое лицо — прямо на песке у моих ног. Я уже было опять вообразил, что имею дело с дьявольским наваждением, но скоро все объяснилось естественным образом: это был сыщик, который следил за подозреваемым в убийстве мельником. Я вздохнул с облегчением.
Сделав свое дело, я отправился обратно домой. У моста я остановился: из-за реки доносилось монотонное протяжное пение. Там лежало предместье с его низенькими домишками. Там я еще ни разу не был; в стране грез мне и без того хватало развлечений. Но этот напев странным образом хватал меня за душу, он звучал торжественно-однообразно, и я молча слушал; какой-то удивительный покой царил над рекою. «Надо как-нибудь прогуляться туда», — решил я и, как это уже часто бывало, подумал о великих тайнах Патеры и о том, что я о них знал. Впрочем, обо всем этом я расскажу в следующей главе.
Затем я на четверть часа заглянул в кафе. Антона было не дозваться. Он с увлечением что-то втолковывал группе посетителей, потрясая листком последнего номера «Голоса» со списком новоприбывших.
— Вот мы его и дождались, он приехал вчера! — донеслось до меня.
Наконец он услужливо подскочил ко мне.
— Сегодня приехал американец! — торжественно сообщил он мне.
— Кто-кто?
— Ну, американец, человек, у которого уйма золота…
Было три часа утра, когда я съел три порции ветчины и еще пирожок с изюмом; меня одолел волчий голод. Потом появились Кастрингиус и де Неми. Художник сразу заметил меня, но я торопливо схватил «Голос» и уткнулся в него. Оба поняли, что я хочу этим сказать. А мне бросилась в глаза моя фамилия, набранная в разрядку: это был некролог о моей жене. Из-за газетного листа я невольно следил за руками Кастрингиуса; одна из них, правая, свисавшая в данный момент со спинки стула, напоминала какой-то инструмент; возможно, имела место атрофия или атавизм. Я называл его короткие, мясистые пальцы с широкими, желтыми, растрескавшимися ногтями «корабельными винтами». Но поскольку я знал, что мой коллега в сущности не переваривает меня, я был с ним предельно вежлив.
Хозяин кафе приблизился к моему столику и заспанным голосом спросил, собираюсь ли я возвращаться на прежнюю квартиру. «Боже меня упаси!» Я объяснил ему, что в данный момент у меня нет крыши над головой, и спросил, не может ли он что-нибудь мне посоветовать. «Вы можете жить у меня».
У него была комнатка, узкая и длинная, как коридор. В ней я проспал остаток ночи, в ней и остался. Кровать стояла в темном алькове за занавеской. Помещение казалось мне таким знакомым, словно я никогда не жил в другом; в компании с обтрепанными и пожелтевшими кожаными креслами, старомодными стоячими часами и пузатой кафельной печкой я чувствовал себя как дома.
Смертельно усталый, я сразу уснул и был разбужен только через сутки с лишним, когда притащили мой пульт для рисования.
Меня охватила лихорадка работы: за следующие полгода я под действием скорби создал свои лучшие вещи. Я усыплял себя творчеством. Мои рисунки, выдержанные в мрачной и блеклой цветовой гамме страны грез, скрытым образом выражали мое горе. Я добросовестно штудировал поэзию серых дворов, заброшенных чердаков, пыльных винтовых лестниц, заросших крапивой садов, знакомился с бледными красками кирпичных и деревянных мостовых, с черными дымовыми трубами и закопченными каминами. Я постоянно варьировал меланхоличный основной тон, способ передачи ощущения заброшенности и бесплодной борьбы с непостижимым. Кроме этих листов, которые я продавал частным лицам и публиковал в «Зеркале грез», я писал еще и другие картины — небольшие циклы, предназначенные для избранных. В них я пытал ся создать новые формы, следуя таинственным, осознанным мною ритмам — они вились, переплетались и отскакивали друг от друга. Я пошел еще дальше. Отказавшись от всей знакомой техники, кроме штриха, я за эти месяцы разработал своеобразную линейную систему. Фрагментарный стиль — скорее знак, чем рисунок — выражал малейшие колебания моего настроения, словно чувствительный метеорологический прибор. Я назвал этот метод «психографикой», позже я собираюсь опубликовать необходимые пояснения. Вообще, в творчестве я нашел облегчение, в котором так нуждался. Но, будучи далеким от того, чтобы примириться с судьбой, я, в сущности, жил лишь наполовину.
Много ночей подряд я пытался найти объяснение безвременной кончине своей жены. Меня преследовало чувство вины: она была реальной, здоровой натурой и никогда бы не смогла прижиться в этом призрачном царстве. Это я должен был сказать себе еще до переезда и своевременно отказаться от него.
Возобновив общение с людьми, я узнал о разнообразных переменах. Дела в стране грез шли все хуже.
Однажды госпожу Гольдшлегер, которая одно время прислуживала нам, вынесли из дома мертвой — третий покойник за полгода… Девяти ее бедным детям отныне стало совсем худо.
Гектор фон Брендель завязал отношения с фрау Лампенбоген; интересно, достигнет ли она «зрелости»? Де Неми зачастил в тот же дом — но не ради Мелитты, а из-за известной болезни, последствия одного галантного похождения. И только об ученой обезьяне Джованни Баттисте я услышал радостную новость: она была мастером своего дела, и парикмахер выхлопотал для нее пенсию по старости.
Значительного прироста населения заметно не было; на нескольких новоприбывших никто не обращал внимания. Они много рассказывали о внешнем мире, о тамошнем прогрессе и умопомрачительных изобретениях. Но это абсолютно не интересовало старожилов; рассказчикам небрежно отвечали: «Да, да, замечательно!» — и переходили на другие темы. Царство грез представлялось нам необъятным и грандиозным, остальной мир не стоило и вспоминать. Ни один из тех, кто прижился здесь, не хотел обратно; все, что было «там, снаружи», считалось иллюзией, чем-то несуществующим.
Как-то поздним вечером я спустился к реке, намереваясь забросить несколько лесок на налима. В детстве я был заядлым рыболовом.
Вокруг мельницы потрескивала и колыхалась какая-то странная газообразная субстанция. Я видел, как по стенам проскальзывают зеленоватые фосфоресцирующие полосы. Они вызывали во мне почти осязаемые неприятные ощущения. Перед дверью, на которой были прибиты в качестве талисманов совиная голова, распятая живьем летучая мышь и нога косули, — перед этой дверью стоял мельник, попыхивая трубкой. Этот замкнутый человек всегда внушал мне суеверный трепет, но сегодня я смело прошел мимо него. Места для удочек я продумал заранее, решив закинуть их сразу за решеткой для задержания речного мусора. Но как только я начал разматывать леску, рядом послышался тихий голос: «Тс-с, тс-с, осторожно! Зайдите-ка левее!» Говорящего не было видно. Тут я с ужасом разглядел толстое, круглое лицо — прямо на песке у моих ног. Я уже было опять вообразил, что имею дело с дьявольским наваждением, но скоро все объяснилось естественным образом: это был сыщик, который следил за подозреваемым в убийстве мельником. Я вздохнул с облегчением.
Сделав свое дело, я отправился обратно домой. У моста я остановился: из-за реки доносилось монотонное протяжное пение. Там лежало предместье с его низенькими домишками. Там я еще ни разу не был; в стране грез мне и без того хватало развлечений. Но этот напев странным образом хватал меня за душу, он звучал торжественно-однообразно, и я молча слушал; какой-то удивительный покой царил над рекою. «Надо как-нибудь прогуляться туда», — решил я и, как это уже часто бывало, подумал о великих тайнах Патеры и о том, что я о них знал. Впрочем, обо всем этом я расскажу в следующей главе.
Затем я на четверть часа заглянул в кафе. Антона было не дозваться. Он с увлечением что-то втолковывал группе посетителей, потрясая листком последнего номера «Голоса» со списком новоприбывших.
— Вот мы его и дождались, он приехал вчера! — донеслось до меня.
Наконец он услужливо подскочил ко мне.
— Сегодня приехал американец! — торжественно сообщил он мне.
— Кто-кто?
— Ну, американец, человек, у которого уйма золота…
Пятая глава. Предместье
1
Зубчатые фронтоны, украшенные витиеватым орнаментом, соломенные крыши! Я вступил в маленькую деревушку: приземистые деревянные домики самых причудливых форм, крошечные купольные сооружения, конусообразные шатры. Каждое жилище было окружено ухоженным садиком. При взгляде со стороны это поселение производило впечатление этнографической выставки. Сигнальные столбы с флажками и окошечками, бесчисленное множество больших и малых гротескных фигур из камня, дерева и металла… Хаос, заросший мхом. Столетние деревья закрывали большую часть этого деревенского пейзажа своими низко нависающими ветвями. Здесь обитали аборигены страны грез. Невозмутимый покой господствовал над этим местом. Странные, замысловатые фигуры на диковинных деревянных алтарях были источены дождем и ветром и, несмотря на свои по большей части отталкивающие эротические формы, гармонично вписывались в окружающее благолепие. Я пробродил немалое время, прежде чем встретил людей. Трое рослых жилистых мужчин спускались навстречу мне с холма. В ответ на мое приветствие они серьезно склонили бритые головы и спокойно проследовали дальше. Это были старики выраженного монгольского типа, одетые в матовые оранжево-желтые халаты. Вскоре я увидел и других. Они сидели — каждый перед своей хижиной — с виду ничем не занятые, неподвижные, как статуи. Перед одним стоял горшок с цветами, другой разглядывал мирно спящую собаку, третий погрузился в созерцание кучки камней. «В Перле этих людей считают за ненормальных», — подумал я. Сюда не ходил никто из европейцев, аборигенов почти презирали. А между тем это было очень гордое племя, ведшее свое происхождение по прямой линии от самого Чингисхана. Впрочем, они уже ничем не походили на этого азиатского деспота. Те, кто еще оставался здесь, были все без исключения людьми преклонного возраста, женщин среди них было очень мало, и по виду они почти ничем не отличались от мужчин; осанка, одежда и выражение лиц были у всех одинаковыми. Самым красивым в этих людях были их пронзительно-голубые хотя и по-монгольски раскосые, глаза. Насколько же здесь все отличалось от остального царства грез! Там — суета, здесь — покой. Но, видно, этим пожилым людям тоже приходилось бороться с невзгодами — глубокие морщины на их лицах красноречиво свидетельствовали об этом. После первого посещения я частенько стал наведываться на другой берег реки. Меня никто туда не приглашал, но никто и не гнал. С каждым разом я все больше поражался резкому контрасту между городом и предместьем. Здесь я отдыхал и вел наблюдения. Уравновешенность синеглазых производила на меня сильнейшее впечатление. Я много раздумывал над ее природой и пытался совместить полученные выводы с моими впечатлениями из других областей. За эти шесть месяцев я уже перестал быть таким слепым относительно великой тайны Патеры. Старый профессор был кос в чем нрав. Вся страна грез жила под властью чар. Ужас и откровенно юмористическое начало в нашей жизни были нераздельны. За всем этим, действительно, стоял повелитель, проявлявший себя таинственным образом куда чаще, чем это могло быть приятно. Какой бы чудовищной ни казалась мне мысль, что он вершит судьбами почти двадцати пяти тысяч граждан, я не мог так просто от нее отмахнуться. Как далеко простираются границы его власти, определить было невозможно, но, во всяком случае, у меня уже были доказательства того, что он сообщает свои импульсы даже животному и растительному мирам. Мы все догадывались об этом и спокойно мирились с предначертанной судьбой. Целое было настолько запутанно, что и острейший ум не смог бы во всем этом разобраться. Образ действий Патеры оставался загадочным, сила, превращавшая нас в марионеток, — необъяснимой. А между тем она чувствовалась в каждой мелочи. Господин располагал нашей волей, затмевал наш разум Он играл нами, как куклами, но с какой целью? Мы ведь не должны были платить никаких налогов, ничего для него не делали. Чем больше я над этим думал, тем больше запутывался. Эта загадочная личность, безусловно, страдала каким-то недугом, возможно, эпилепсией, и мы все переживали вместе с ним его припадки, так называемые «встряски». Но он будет стареть, он умрет, и что тогда? Угаснут ли с ним и искры наших собственных сил? Ведь без него мы ровным счетом ничего не можем. И откуда у него эта безмерная энергия? Вот здесь живет остаток древнего, почтенного племени, чьи обычаи во всем противоположны нашим, — какое отношение они имеют к повелителю? Старцы часами не мигая смотрят вдаль, день напролет склоняются над разнообразными мелкими предметами — камнями, костями, перьями. Никогда не смеявшиеся, почти не разговаривавшие друг с другом, эти синеглазые были живым олицетворением уравновешенности. Об этом говорили их полные достоинства размеренные жесты, морщинистые лица, отмеченные печатью духовной силы. Это почти сверхчеловеческое равнодушие придавало им такой вид, словно они были выжжены изнутри. Безучастное участие — вот такое противоречивое определение приходит мне на ум всякий раз, когда я вспоминаю аборигенов, чье обаяние я буду чувствовать до последнего часа. Об их возрасте я не осмеливался судить. По-стариковски невозмутимые, не доступные для каких бы то ни было чувств выражения лиц — и живые, словно бы освещенные изнутри взгляды. Белоснежные, идеально ровные зубы — и худые, иссохшие, как мощи, тела. Всего их насчитывалось не более пятидесяти человек. Я трижды наблюдал за тем, как они хоронят своих умерших, и имел возможность убедиться, насколько они не похожи ни на христианских, ни на буддийских отшельников. Трупы они заворачивали в одежду, укладывали в яму, покрывали сверху мхом и листьями, после чего засыпали могилу землей. Мертвеца хоронили рядом с домом, в котором он жил; место погребения ничем не отмечали. И ни оплакиваний, ни молитв. Из одного только наблюдения за этими своеобразными похоронами я извлек для себя огромную пользу. Теперь я на время прерываю ход повествования, чтобы не оставлять читателя в полном неведении относительно философии синеглазых, насколько я ее себе уяснил.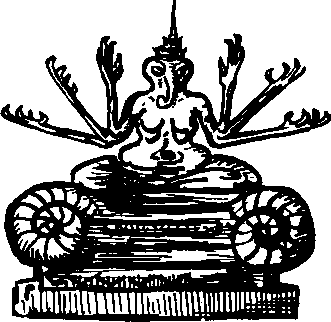
2. Просветление через познание
Чему я научился прежде всего — это по достоинству ценить безразличие. Достижение этого состояния стоит живому, энергичному человеку труда всей жизни. Но испытав хотя бы раз его сладость, человек держится за него, хотя бы даже и ценой непрерывных усилий. Теперь и я пытался часами сосредоточенно созерцать камни, цветы, животных и людей. И мое зрение обострилось в той же мере, как это ранее случилось со слухом и обонянием. Для меня настали великие дни — я открывал новую сторону мира грез. Подготовленные чувства исподволь влияли на мыслительный аппарат и формировали его. Я научился особенному роду удивления. Каждый предмет при рассмотрении его вне связи с другими предметами приобретал новый смысл. У меня кружилась голова при мысли о том, что всякое тело простирается ко мне из вечности. Чистое бытие — быть таким и никаким иным — стало для меня откровением. Однажды, разглядывая ракушку, я с поразительной ясностью осознал, что она ведет вовсе не такое примитивное существование, как мне казалось прежде. И вскоре я был вынужден сделать тот же вывод применительно ко всему на свете. Самые сильные впечатления поначалу приходили при засыпании или сразу после пробуждения — то есть когда тело было усталым и жизнь во мне пребывала в сумеречном состоянии. Приходилось постепенно, частями вызывать из небытия мир, и всякий раз он был новым. Я все острее чувствовал взаимосвязанность всего существующего. Краски, запахи, звуки, вкусовые ощущения были для меня взаимозаменяемыми. Я понял: мир есть сила воображения, воображение — сила. Куда бы я ни направлялся и что бы ни делал, я старался усиливать свои ощущения радости и страдания и втайне смеялся над теми и другими. Ибо теперь я знал наверное, что качание из стороны в сторону — это и есть равновесие, и что чем сильнее и шире размах колебаний, тем оно ощутимее. То я видел мир как красочное чудо, подобное ковру, в котором самые резкие противоречия растворяются в общей гармонии; то обозревал необъятный узор форм. В ночном сумраке меня овевала органная симфония звуков, в которой патетические и нежные голоса природы сливались в понятные мне аккорды. Воистину неизведанные и незабываемые ощущения испытывал я во время ночных прогулок. Вспоминаю то утро, когда я вообразил себя центром некой элементарной системы счисления. Я чувствовал себя абстрактной колеблющейся точкой равновесия сил, подобный ход мыслей я тогда познал в первый и последний раз. Теперь я начал понимать Патеру, повелителя, великого и страшного учителя. Я стал главным смехачом на сцене грандиозного бурлеска — не разучившись при этом трепетать вместе с жертвами. Во мне был трибунал, следивший за всем, и я понял, что в сущности ничего не происходит. Патера присутствовал всюду, я видел его в глазах друга и врага, в зверях, растениях и камнях. Сила его воображения пульсировала во всем. Сердцебиение страны грез. И все же я ощущал в себе что-то чуждое. К ужасу своему я обнаружил, что мое Я состоит из бесчисленных Я, выстроившихся в ряд друг за другом. Каждое последующее казалось мне значительнее и скрытнее предыдущего; последние терялись в тени и были недоступны для моего восприятия. Каждое из этих Я имело свои собственные воззрения. Так, например, с точки зрения органической жизни восприятие смерти как конца было верным, но для более высокой ступени познания человек вообще не существовал, а потому и конца быть не могло. Ритмичный пульс Патеры пронизывал собой все: он, с его ненасытной силой воображения, хотел объять все сразу — вещь и ее противоположность, мир — и Ничто. И оттого его творения колебались, как маятники. Им приходилось отвоевывать свой воображаемый мир у Ничто, чтобы, обосновавшись в этом воображаемом мире, покорять Ничто. Но Ничто было упрямо и не поддавалось, и тогда сила воображения начинала гудеть и трещать, и возникали все градации форм, звуков, запахов и красок — и являлся мир. Но Ничто опять поглощало его, мир становился тусклым, блеклым, жизнь сникала, замолкала и распадалась, умирала… превращалась в ничто; и все начиналось заново. Это объясняло, почему все соединяется в целое, почему возможен космос. Все это было проникнуто страданием. Чем выше ты рос, тем глубже уходили твои корни. Ища радости, я одновременно ищу и муки. Ничто — или все. В силе воображения и Ничто крылась первопричина; вероятно, они составляли единое целое. Кто постиг свой ритм, тот может приблизительно вычислить, как долго продлится для него страдание или мука. Заблуждение, противоречие составляют непременное условие жизни. Когда горит мой дом — это одновременно и несчастье, и игра пламени. Страдающий может утешаться тем, что и то, и другое суть плоды воображения. Патера, получавший выгоду с обеих сторон, вероятно, хорошо это знал. Благодаря родственному биению пульса я научился понимать животных. Вот этот кот плохо выспался, а у того щегла — подлые мысли. Происходящее вокруг отражалось во мне, и эти отражения отныне управляли моими поступками. Шум внешнего мира терзал и оголял мои нервы достаточно долго, чтобы они стали восприимчивыми для впечатлений в мире грез. Все эти процессы завершаются тем, что человек перестает существовать как вид — в нем больше нет нужды. Этот путь ведет к звездам.3. Тревожный сон
В ту ночь я заснул, обуреваемый великими мыслями. Но далеко не столь великолепен был мой сон, который я все же хотел бы привести здесь ради его необычности. Я увидел себя стоящим на берегу реки и с тоской вглядывающимся в предместье, которое выглядело обширнее и живописнее, чем наяву. Насколько хватало глаз, тянулось нагромождение мостов, башен, ветряных мельниц, зигзагов холмов — все это было перемешано и слито воедино подобно миражу. Среди этого хаоса мельтешили большие и маленькие, толстые и тонкие фигуры. Пока я так стоял и смотрел, я вдруг почувствовал, что за моей спиной стоит мельник. «Это я его убил!» — прошептал он и хотел столкнуть меня в воду. Но тут моя левая нога, к моему великому удивлению, вытянулась в длину, так что я без усилия смог перешагнуть на другой берег. И тут же услышал вокруг себя многозвучное тиканье и увидел множество плоских часов самых разных размеров — от башенных до небольших кухонных, — которыми был занят целый луг. Мужчина в зеленом кожаном костюме и белом колпаке, напоминающем сосиску, сидел на голом дереве и ловил рыбу в воздухе. Пойманных рыб он развешивал на ветвях, и они вмиг становились вялеными. Появился пожилой тип с ненормально большим туловищем на коротеньких ножках. На нем были только рабочие штаны, заляпанные грязью; по его груди тянулись два вертикальных ряда сосков я насчитал их восемнадцать. — Он со свистом набрал полные легкие воздуха и начал играть на этих сосках, как на аккордеоне, красивые мелодии, попеременно надувая то правую, то левую грудь. При этом он двигался в такт музыке, словно дрессированный медведь, выдыхая воздух толчками. Наконец он перестал плясать, высморкался себе в руки и стремительно вытянул их перед собой. В ту же секунду у него выросла чудовищная борода, в дебрях которой он исчез. В близлежащих зарослях я вспугнул множество жирных свиней: они помчались от меня гусиным строем, становясь все мельче и мельче, пока не скрылись, пронзительно визжа, в мышиной норе у дороги. За моей спиной у реки сидел мельник — при его виде мне стало не по себе — и изучал огромный газетный лист. После того как он дочитал, а затем сожрал лист, из ушей у него повалил дым, сам он стал медным, поднялся и, придерживая обеими руками отвислый живот, принялся метаться вверх и вниз по берегу. При этом он дико озирался и издавал пронзительные свистки. А потом грохнулся оземь, будто сраженный ударом, побелел и стал прозрачным, и в его внутренностях отчетливо вырисовались два маленьких железнодорожных поезда; они, кажется, преследовали друг друга, с быстротой молнии проезжая кишку за кишкой. Качая головой и несколько ошарашенный, я хотел было предложить мельнику свою помощь, но потерял дар речи при виде шимпанзе, который с немыслимой скоростью насадил вокруг меня сад, причем толстые яблочно-зеленые саженцы моментально взошли в сырой почве, образовав заросликакой-то гигантской спаржи. Я боялся, что окажусь запертым внутри этой живой ограды как в клетке, но был освобожден раньше, чем успел как следует поразмыслить. Мертвый мельник — уже непрозрачный — снес, сотрясаясь в схватках, многие сотни тысяч молочно-белых яиц, из которых моментально развились легионы улиток, которые стали жадно пожирать своего родителя. В воздухе распространился едкий запах копченого мяса, и мясистые стебли стали гнить на глазах, превращаясь в подобие пряжи из фиолетово мерцающих нитей.
Я увидел колоссального моллюска, возвышавшегося на речном берегу, словно утес, и запрыгнул на его твердую створку. И тут — новая беда! Моллюск раскрыл створки, подо мной заколыхалась желатинообразная масса… и я проснулся.
За моей спиной у реки сидел мельник — при его виде мне стало не по себе — и изучал огромный газетный лист. После того как он дочитал, а затем сожрал лист, из ушей у него повалил дым, сам он стал медным, поднялся и, придерживая обеими руками отвислый живот, принялся метаться вверх и вниз по берегу. При этом он дико озирался и издавал пронзительные свистки. А потом грохнулся оземь, будто сраженный ударом, побелел и стал прозрачным, и в его внутренностях отчетливо вырисовались два маленьких железнодорожных поезда; они, кажется, преследовали друг друга, с быстротой молнии проезжая кишку за кишкой. Качая головой и несколько ошарашенный, я хотел было предложить мельнику свою помощь, но потерял дар речи при виде шимпанзе, который с немыслимой скоростью насадил вокруг меня сад, причем толстые яблочно-зеленые саженцы моментально взошли в сырой почве, образовав заросликакой-то гигантской спаржи. Я боялся, что окажусь запертым внутри этой живой ограды как в клетке, но был освобожден раньше, чем успел как следует поразмыслить. Мертвый мельник — уже непрозрачный — снес, сотрясаясь в схватках, многие сотни тысяч молочно-белых яиц, из которых моментально развились легионы улиток, которые стали жадно пожирать своего родителя. В воздухе распространился едкий запах копченого мяса, и мясистые стебли стали гнить на глазах, превращаясь в подобие пряжи из фиолетово мерцающих нитей.
Я увидел колоссального моллюска, возвышавшегося на речном берегу, словно утес, и запрыгнул на его твердую створку. И тут — новая беда! Моллюск раскрыл створки, подо мной заколыхалась желатинообразная масса… и я проснулся.
Часть третья. ГИБЕЛЬ ЦАРСТВА ГРЕЗ
Первая глава. Искуситель
1
Геркулес Белл из Филадельфии заставил много говорить о себе. Этот миллиардер ничуть не стеснялся в расходах, буквально затопив своим золотом страну грез. Наше прогнившая финансовая система, должно быть, вызывала у него омерзение. Он сговорился с Альфредом Блюменштихом, и скоро стало заметно, что у нас появились новые деньги. Никто уже не соглашался брать купюры, нельзя было предлагать изъятые из обращения позеленевшие монеты. В первое время сильно распространилась роскошь, весь Перле охватила бессмысленная суета. День за днем богачи закатывали пышные празднества, народ теснился в кабачках, пил и смердил. Повсюду дружно поднимали тосты в честь американца, — как все его называли, — славили его великодушие и щедрость. Дело уже шло к осени. Радуясь своему духовному просветлению, я позволил себе временный отдых. Американец разместил свою штаб-квартиру в «Голубом гусе», сняв за высокую плату весь бельэтаж. Как-то вечером я надел выходной костюм и отправился в гостиничный ресторан, чтобы взглянуть на миллиардера. Там я застал Кастрингиуса и господина фон Бренделя и получил возможность узнать моих коллег еще с одной, новой для меня, стороны. За то долгое время, что мы с ним не видились, Кастрингиус свел знакомство с бароном фон Бренделем. Теперь он сразу узнал меня, но, к моему удивлению, держался весьма отчужденно и свысока. Он коротко и небрежно ответил на мое приветствие, словно мы были едва знакомы, и сразу отвернулся от меня. Это меня в известной мере насторожило. «Что это с ним? — подумал я. — Я ведь никогда его не обижал; обычно он бывал даже навязчив. Разве мы не разлучались почти на четыре месяца? Смешно». Присутствию Бренделя я искренне обрадовался. Он как раз изучал меню и не сразу заметил мой приход, но, как только увидел меня, радостно вскочил и пригласил за свой столик. Художник надменно-удивленно поднял брови, но быстро оценил ситуацию, и его высокомерие растаяло. Он протянул мне свои «гребные винты». Дело объяснялось очень просто: Кастрингиус понятия не имел о наших приятельских отношениях с Бренделем и хотел удержать Бренделя для себя. Когда это не вышло, он мигом применился к новым обстоятельствам — этакий гений приспособленчества. Когда он ненадолго отлучился от столика, Брендель пожаловался мне, что его новый друг ревниво следит за каждым его шагом. Сопровождает его на каждое рандеву, где потом заявляет, что «подождет поблизости». Брендель то и дело использует художника в роли любовного почтальона, но у того очень своеобразная манера выполнять подобные поручения. «Уж и не знаю, как от него отделаться! — сердито жаловался Брендель. Кроме того, он необыкновенно участлив, — видимо, это помогает ему набираться опыта!»
— Да, истинно артистическая натура! — смеясь, утешил я барона.
Впрочем, этот вечер получился почти веселым. Брендель заказал шампанское, и Кастрингиус фамильярно похлопал меня по колену: «Ну что, довольны?» Он не знал о моем равнодушии к спиртному в любых его формах.
В большом зале по соседству стоял шум. Слышались речи и аплодисменты: американец устроил целое собрание. «Я еще наведу порядок в этом сонном царстве!» — клялся он перед публикой. Позднее я увидел его, когда он собственной персоной проходил через кафе. И никогда не забуду его появления. В дверях возник человек лет сорока с лишним, коренастый, с широкими богатырскими плечами. В его лице сочетались черты коршуна и быка. Оно было несколько асимметричным; кривой крючковатый нос, мощный подбородок и высокий, узкий, угловатый лоб сообщали его голове что-то дерзкое, мрачно-отважное. Его черные волосы уже приметно серебрились на висках. На нем был фрак. Короткими, упругими шагами миновал он наш столик. Кастрингиус почтительно приветствовал его и получил в ответ короткий кивок. Американец привлек внимание всех посетителей ресторана. «Вот парень, у которого, как говорится, денег куры не клюют, — задумчиво глядя ему вслед, заметил Кастрингиус. — И заклятый враг Патеры, так сказал мне наш редактор». С этими словами он наполнил свою рюмку. Брендель чокнулся с ним, скептически улыбаясь, и заметил: «Словом, всех ему благ, и вам — тоже!»
С каждой рюмкой Кастрингиус становился все благодушнее. Когда же появилась цыганская капелла с цимбалом, он принялся зубами щелкать орехи, хлопать себя по курчавой, как у негра, голове и кричать первой скрипке: «Посмотрите на человека с зубами льва!» Поймав на себе удивленный взгляд Бренделя, он пояснил: «Это мой добрый приятель, пригласить его к столу?» Брендель спросил моего согласия. Но я сказал, что скрипач просто отвратителен. И вновь до нас донесся шум собрания, перекрываемый зычным голосом американца.
Осмотревшись, я заметил еще одного старого знакомца — профессора Корнтойра. Старый господин сидел в боковой нише, празднично одетый, в светлом шелковом жилете и галстуке, затянутом под самым подбородком; перед ним стояла бутылка бургундского. Я встал и подошел к нему поздороваться. Он сделал радостную, торжественную мину и предложил мне стул. «Только на минутку! — сказал я, садясь. — У вас какое-то радостное событие?»
— О, мой милый, вы даже представить себе не можете! Она — моя, она принадлежит мне, сегодня у меня великий день! — Его добрые глаза светились восторгом. — Десять лет я искал ее и теперь, наконец, нашел! Вы и не подозреваете, что это значит для старого человека! Это омолаживает! Новая жизнь разливается по одряхлевшим членам! Никогда больше я не отпущу от себя Acarina Felicitas!
Я поздравил его. «Поздняя любовь? — подумал я. — Смотри-ка, вот не ожидал такого от этого почтенного господина! Верно, певица из варьете? Среди них и правда есть хорошенькие».
— Но почему же вы не привели ее с собою? — спросил я, про себя уже жалея старика. («Уж она задаст ему жару», — подумал я при этом.)
— Да ведь она здесь! — с пафосом вскричал профессор и вынул из кармана сюртука маленькую коробочку, оклеенную серебряной бумагой.
— Фотография? Медальон? Покажите, прошу вас!
— Нет, сама Acarina Felicitas, моя возлюбленная, вот она — сидит в уголке!
В коробочке, действительно, приютилось крошечное грязно-серое насекомое — мерзкая книжная вошь! Только теперь я понял, в чем дело.
— В доме Отца Моего много обителей.
Когда мы выходили, я спросил у хозяина отеля, почему в соседнем зале так шумно.
— Скажу вам по секрету, — таинственно отозвался он: — Сегодня было основано общество «Люцифер»!
Кастрингиус, который к этому времени изрядно напился, хотел во что бы то ни стало увлечь нас к мадам Адриенн. Мы отказались.
— Тогда художник пойдет один! — заявил он, вывернул наизнанку свой сюртук кофейного цвета и в таком виде удалился, вышагивая гордо и важно. Его последние слова, обращенные к нам, были: «Спокойной ночи, несовершеннолетние!»
За то долгое время, что мы с ним не видились, Кастрингиус свел знакомство с бароном фон Бренделем. Теперь он сразу узнал меня, но, к моему удивлению, держался весьма отчужденно и свысока. Он коротко и небрежно ответил на мое приветствие, словно мы были едва знакомы, и сразу отвернулся от меня. Это меня в известной мере насторожило. «Что это с ним? — подумал я. — Я ведь никогда его не обижал; обычно он бывал даже навязчив. Разве мы не разлучались почти на четыре месяца? Смешно». Присутствию Бренделя я искренне обрадовался. Он как раз изучал меню и не сразу заметил мой приход, но, как только увидел меня, радостно вскочил и пригласил за свой столик. Художник надменно-удивленно поднял брови, но быстро оценил ситуацию, и его высокомерие растаяло. Он протянул мне свои «гребные винты». Дело объяснялось очень просто: Кастрингиус понятия не имел о наших приятельских отношениях с Бренделем и хотел удержать Бренделя для себя. Когда это не вышло, он мигом применился к новым обстоятельствам — этакий гений приспособленчества. Когда он ненадолго отлучился от столика, Брендель пожаловался мне, что его новый друг ревниво следит за каждым его шагом. Сопровождает его на каждое рандеву, где потом заявляет, что «подождет поблизости». Брендель то и дело использует художника в роли любовного почтальона, но у того очень своеобразная манера выполнять подобные поручения. «Уж и не знаю, как от него отделаться! — сердито жаловался Брендель. Кроме того, он необыкновенно участлив, — видимо, это помогает ему набираться опыта!»
— Да, истинно артистическая натура! — смеясь, утешил я барона.
Впрочем, этот вечер получился почти веселым. Брендель заказал шампанское, и Кастрингиус фамильярно похлопал меня по колену: «Ну что, довольны?» Он не знал о моем равнодушии к спиртному в любых его формах.
В большом зале по соседству стоял шум. Слышались речи и аплодисменты: американец устроил целое собрание. «Я еще наведу порядок в этом сонном царстве!» — клялся он перед публикой. Позднее я увидел его, когда он собственной персоной проходил через кафе. И никогда не забуду его появления. В дверях возник человек лет сорока с лишним, коренастый, с широкими богатырскими плечами. В его лице сочетались черты коршуна и быка. Оно было несколько асимметричным; кривой крючковатый нос, мощный подбородок и высокий, узкий, угловатый лоб сообщали его голове что-то дерзкое, мрачно-отважное. Его черные волосы уже приметно серебрились на висках. На нем был фрак. Короткими, упругими шагами миновал он наш столик. Кастрингиус почтительно приветствовал его и получил в ответ короткий кивок. Американец привлек внимание всех посетителей ресторана. «Вот парень, у которого, как говорится, денег куры не клюют, — задумчиво глядя ему вслед, заметил Кастрингиус. — И заклятый враг Патеры, так сказал мне наш редактор». С этими словами он наполнил свою рюмку. Брендель чокнулся с ним, скептически улыбаясь, и заметил: «Словом, всех ему благ, и вам — тоже!»
С каждой рюмкой Кастрингиус становился все благодушнее. Когда же появилась цыганская капелла с цимбалом, он принялся зубами щелкать орехи, хлопать себя по курчавой, как у негра, голове и кричать первой скрипке: «Посмотрите на человека с зубами льва!» Поймав на себе удивленный взгляд Бренделя, он пояснил: «Это мой добрый приятель, пригласить его к столу?» Брендель спросил моего согласия. Но я сказал, что скрипач просто отвратителен. И вновь до нас донесся шум собрания, перекрываемый зычным голосом американца.
Осмотревшись, я заметил еще одного старого знакомца — профессора Корнтойра. Старый господин сидел в боковой нише, празднично одетый, в светлом шелковом жилете и галстуке, затянутом под самым подбородком; перед ним стояла бутылка бургундского. Я встал и подошел к нему поздороваться. Он сделал радостную, торжественную мину и предложил мне стул. «Только на минутку! — сказал я, садясь. — У вас какое-то радостное событие?»
— О, мой милый, вы даже представить себе не можете! Она — моя, она принадлежит мне, сегодня у меня великий день! — Его добрые глаза светились восторгом. — Десять лет я искал ее и теперь, наконец, нашел! Вы и не подозреваете, что это значит для старого человека! Это омолаживает! Новая жизнь разливается по одряхлевшим членам! Никогда больше я не отпущу от себя Acarina Felicitas!
Я поздравил его. «Поздняя любовь? — подумал я. — Смотри-ка, вот не ожидал такого от этого почтенного господина! Верно, певица из варьете? Среди них и правда есть хорошенькие».
— Но почему же вы не привели ее с собою? — спросил я, про себя уже жалея старика. («Уж она задаст ему жару», — подумал я при этом.)
— Да ведь она здесь! — с пафосом вскричал профессор и вынул из кармана сюртука маленькую коробочку, оклеенную серебряной бумагой.
— Фотография? Медальон? Покажите, прошу вас!
— Нет, сама Acarina Felicitas, моя возлюбленная, вот она — сидит в уголке!
В коробочке, действительно, приютилось крошечное грязно-серое насекомое — мерзкая книжная вошь! Только теперь я понял, в чем дело.
— В доме Отца Моего много обителей.
Когда мы выходили, я спросил у хозяина отеля, почему в соседнем зале так шумно.
— Скажу вам по секрету, — таинственно отозвался он: — Сегодня было основано общество «Люцифер»!
Кастрингиус, который к этому времени изрядно напился, хотел во что бы то ни стало увлечь нас к мадам Адриенн. Мы отказались.
— Тогда художник пойдет один! — заявил он, вывернул наизнанку свой сюртук кофейного цвета и в таком виде удалился, вышагивая гордо и важно. Его последние слова, обращенные к нам, были: «Спокойной ночи, несовершеннолетние!»
2
Богатый американец заставлял говорить о себе все больше. Каждый день он галопом проезжал по Длинной улице на своем черном скакуне, и мы из окон кафе могли отчетливо видеть его презрительную усмешку, когда бледные граждане сонной столицы испуганно прятались в укромные углы, чтобы избегнуть столкновения с лихим всадником. У купальни он привязывал коня, раздевался и — снова на коне — въезжал в воду. Этот атлет с легкостью управлялся с брыкающимся животным. Однажды после купания он посетил и наше кафе. Заказал напитки, каких здесь сроду не бывало, и разразился руганью, как только узнал об этом. Наконец, немного успокоился на гроге. Я впервые получил возможность разглядеть его вблизи: его резко очерченный, дьявольский профиль находился прямо передо мной. «Да, весьма опасная личность!» — вынужден был признаться я. Он не выпускал изо рта короткую трубку, но вдобавок еще имел при себе две гигантских коробки с толстыми сигарами — «пропагандистские сигары», как он их называл. Каждому он предлагал такую, и кто брал, тот уже наполовину становился его человеком. Кроме того, он всюду проповедовал свои теории и свои союзы и приобрел приверженцев также и в кафе. Основанный им социально-политический союз «Люцифер» удостоился приветствия в «Голосе», официальный же бюллетень промолчал об этом событии. Он много рассказывал о внешнем мире, обращаясь ко всем нам и требовательно оглядывая аудиторию, словно хотел убедиться в должном эффекте своих речей. Некоторые из его высказываний я помню до сих пор: «Вам недостает солнца, дурачье! Ну и поделом вам, вы зря тратите жизнь! Почему вы не защищаетесь? Поглядите на меня — я плюю на вашего Патеру!» И, язвительно смеясь, он с грохотом опустил кулак на стол. Слушатели испуганно съежились, они — почти все из них — искренне боялись, что вот-вот ударит молния в наказание за подобное кощунство. И трусливо опустили глаза. Хозяин кафе торопливо перекрестился, ударил себя кулаком в грудь и скороговоркой прочел короткую молитву. Антон забился за печку и дважды прошептал: «Чертов дьявол! Чертов дьявол!» Одни шахматисты остались невозмутимыми. Американец, увидев, какое впечатление произвела его речь, плюнул на пол, бросил на стол золотой и вышел, исполненный презрения. Хотя ему и не удалось привлечь на свою сторону всех и вся, он, во всяком случае, пробудил в гражданах столицы грез вкус к политической жизни; этим он, однако, причинил больше зла и несчастий, чем, вероятно, входило в его намерения. Объединения и группы росли как грибы. Все хотели разного: свободы выборов, коммунизма, свободной любви, введения рабовладения, прямого сообщения с заграницей, еще более строгой изоляции, отмены пограничной службы — словом, наружу выходили самые взаимоисключающие устремления. Создавались религиозные клубы: католики, иудеи, магометане, свободомыслящие объединялись по убеждениям. Жители Перле — по самым различным мотивам: политическим, коммерческим, духовным — раскалывались на общины, из которых иные насчитывали по три-четыре человека. Такого американец не ожидал, он не собирался заклинать этих духов. — Вы, безмозглые тени, ни на что уже не годитесь, вы продались дьяволу, а та крупица здравого смысла, что у вас сохранилась, стала жертвой обмана! — это он заявлял во всеуслышание. Большой приток иностранцев, пришедшийся на этот период, принес с собой много странностей и несообразностей. А именно: новички сплошь и рядом встречали здесь своих двойников; это давало почву для всяческих конфликтов и недоразумений, ибо новоприбывшие походили на старожилов не только фигурой и осанкой, но копировали своих «прототипов» даже в одежде. Смешно сказать, но по улицам расхаживали два Альфреда Блюменштиха, два Бренделя, несколько Лампенбогенов. Люди забегали в кафе, чтобы поздороваться с добрым знакомым, которого давно не видели. И к своему удивлению обнаруживали, что это был совсем другой человек. По улице шел Лампенбоген — я приподнимал шляпу, а на следующем перекрестке — снова Лампенбоген. Нашего хозяина кафе я однажды встретил четыре раза подряд, но готов поклясться, что в это же время он сидел и в своем заведении. Да и у меня, похоже, было другое Я, потому что меня нередко дружески хлопали по плечу, а увидев лицо — смущенно извинялись. Однажды я пережил сильнейшее потрясение. В Торговом переулке, представлявшем собой темную щель между Французским кварталом и овощным рынком, я повстречал даму, которая как две капли воды походила на мою покойную жену. Охваченный горькими воспоминаниями, я следовал за ней, пока она не скрылась в доме с высоким старомодным фронтоном. На пороге она оглянулась на своего преследователя — о боже! это сходство проявлялось в мельчайших движениях! Впоследствии я часто встречал ее и должен признаться, что иногда даже подкарауливал. Втайне, почти не отдавая себе в этом отчета, я уже подумывал, а не возможно ли повторное счастье? — пока не увидел ее под руку с неуклюжим господином с длинными, как у художника, волосами и в широкополой шляпе. Я осведомился у портье: она оказалась супругой органного мастера. Я почувствовал себя одураченным. Теперь было достаточно легкого осеннего дождика, сквозь завесу которого все очертания кажутся расплывчатыми, чтобы стать жертвой иллюзии. Например, двойник Кастрингиуса под другим именем наделал долгов во многих пивных, так что в них перестали обслуживать в кредит и самого художника. В ходе грандиозного торжества в здании бывшего театра представителями зажиточных классов была основана «Лига радости». Особую роль в ней играла Мелитта, снискавшая себе этим печальную известность. Однажды она воспламенилась настолько, что целую неделю, вечер за вечером, выступала в варьете со стриптизом «Новая Ева». И хотя лицо ее было закрыто маской, ее все узнали. Этот скандал сблизил Лампенбогена и Бренделя. Оба сознавали, что их чести нанесен урон, а сообща страдание переносится легче. Брендель совсем затосковал и стал избегать даже меня — ему было стыдно. Зато Мелитта, ненасытная в своих вожделениях, ничуть не боялась срама. Она, как и многие, сохла по американцу. Его мощные плечи и редкостный для страны грез здоровый цвет лица неодолимо влекли ее. Рассказывали, как однажды она прохаживалась в его присутствии, подобрав юбку выше колен, и поочередно уронила платочек, лорнетку и портмоне. Но человек с Запада отреагировал на эти штучки без должной галантности, и когда прелестная дама была вынуждена нагнуться сама, призывно обратив свои аппетитные бедра к укротителю людей, американец холодно бросил ей: «Ну-ка, малышка, дай пройти!» — и отодвинул ее в сторону. Сгорая жаждой мести, она стала натравливать Бренделя на упрямца, но безуспешно. Американец передал, что имеет обыкновение биться только на хлыстах, и этим скандал был исчерпан. Наибольших успехов союз «Люцифер» добился в вербовке новоприбывших. Большинству из них претило переодевание в комичные старомодные костюмы. Да и прочий антикварный хлам, историческая мебель и тому подобное тоже мало кому из них нравились. Такие люди примыкали к партии американца. Порой я удивлялся, почему настоящий повелитель столь пассивно следит за всей этой кутерьмой, откровенно противоречащей прежнему укладу государства его мечты. Хозяин кафе, занимавший нейтральную позицию, загадочно заметил на этот счет: «О, этот хитер!» Охрана границ функционировала так же надежно, как и прежде, но по эту сторону великой стены все было словно заряжено грозящей бедой. Воздух стал душным и гнетущим как никогда; над городом стояло тусклое, светлое сияние, и даже косые солнечные лучи временами пробивались сквозь обычно неподвижную пелену облаков. Эти неприятно слепящие проблески не приносили нам никакой радости: мы все давно отвыкли от солнца, освежающий дождик был бы для нас куда отраднее. Время, казалось, сменило темп. Повсюду на улицах собирались группы боязливо возбужденных людей, что придавало обычно спокойному Перле искусственную видимость оживленного города. Члены партий торопливо обменивались паролями. В общем и целом — несмотря на отдельные расхождения в частностях — все население разделилось на две большие группировки: тех, кто еще верил в Повелителя, и тех, кто прислушивался к Американцу. Конечно, эти последние еще не были достаточно надежными: искуситель знал это сам и неутомимо продолжал свою агитацию. Как помнит мой читатель, в Перле было две ежедневных газеты и иллюстрированный еженедельник. Официальный бюллетень, естественно, оставался недоступным для нового претендента на власть, храня верность правительству до последней строчки. Зато на «Голос» американец воздействовал всеми силами, и с успехом, причем в конце каждой подстрекательской статьи редакция оговаривала, что не несет ответственности за ее содержание. Нашему редактору приходилось приспосабливаться к этой двойной игре, что, впрочем, не составляло для него особого труда. Ведь он с давних пор был тайным руководителем всех трех изданий, представлявших три различные тенденции. Мы — два рисовальщика — должны были выдерживать свои газетные работы в традиционной для «Зеркала грез» манере; Кастрингиус, правда, часто пытался в скрытой форме присягнуть на верность американцу. Он изображал его исполином, стоящим на площади в золотых латах и набивающим трубку государственными кредитками и облигациями, за что однажды получил открытку от Геркулеса Белла, на которой значилось единственное слово: «Осел!» Неожиданно распространился слух, будто американец намерен за большие суммы откупить «Голос» и «Зеркало грез», чтобы издавать их самостоятельно. Но прежде он нанес свой главный удар в виде прокламации. Для этого ему пришлось изрядно припугнуть нашего бедного редактора, а заодно и владельца типографии. «Этого я не напечатаю!» — испуганно заявил поначалу редактор. Но заокеанское чудище лишь захохотало и выпустило в лицо блюстителя гражданского долга густое облако табачного дыма. — Вы напечатаете это немедленно и на ярко-красной бумаге! — прорычал американец. Несчастный упал на колени и принялся скулить: — Помилуйте! Помилуйте! Но я не могу этого напечатать, для меня это было бы смерти подобно! Неумолимый вынул револьвер и рявкнул: — Если не примете заказ немедля, я стреляю! Раз… Редактор, бледный как мел, дрожащими пальцами взял листок. — У меня жена, дети, — простонал он, заливаясь слезами. Американец лично проследил за печатью; когда ему казалось, что работа идет слишком медленно, он стрелял в воздух. К вечеру было готово шесть тысяч экземпляров; на большее не хватило красной бумаги. — Ну и что такого случилось? А, глупая голова? — насмешливо спросил американец подавленного издателя. Зато каждому служащему типографии он дал по сотне гульденов золотом.3
Публикуемый мною экземпляр прокламации я получил от одного русского офицера, принимавшего участие в завоевании царства грез. Он любезно предоставил мне этот документ для перепечатки.Для этой прокламации Кастрингиус сделал рисунок: богиня свободы с диадемой на голове держит скрижаль, на обороте которой начертаны слова: свобода, равенство, братство, общество, наука, право. К диадеме прикреплен американский флаг, чей хвост огибает текст воззвания. Для вывешивания и распространения этих красных листовок был нанят Жак со своей шайкой. У юнца Жака была только матушка, отца его никто не знал. Мать, мадам Адриенн, была профессиональной сводницей и владела двумя публичными домами во Французском квартале, который никогда не покидала. Зато Жака с его физиономией висельника можно было встретить везде, где творилось что-нибудь незаконное; он был вроде генерала шпаны, и его выходки, зачастую чрезвычайно отважные, прославили его среди таких же, как он, шалопаев. Американец познакомился с этим типом в забегаловке и тут же нанял его за приличный задаток. Для Жака, зарабатывавшего себе на жизнь такими вещами, о которых неудобно говорить, богатство заокеанского политика являло собой нечто подкупающее. Он с первой же встречи предался Беллу душой и телом и вызвался сколотить из темных личностей французского квартала лейб-гвардию американского Креза. Разумеется, не все были продажными. Например, негр Готхельф Флаттих из Камеруна, бывший грузчик, заброшенный судьбой в царство грез, стойко противостоял соблазну. Белл знал его еще с прежних времен: чернокожий был женат на одной из его горничных, тоже негритянке. В свое время Белл завоевал его расположение щедрым подарком, и оба от души обрадовались, встретившись в стране грез. Флаттих был силен как бык и необыкновенно добродушен. Но не следовало выводить его из его флегматичного состояния — тогда он становился ужасен. Будучи вдовцом, он занимался дрессировкой птиц. Белл сразу попытался привлечь его на свою сторону, но не встретил у него сочувствия к своим планам. Флаттих был пламенным почитателем Патеры и ни за что на свете не стал бы предавать его. Впоследствии он не принял участия в восстании, продолжая спокойно заниматься своим любимым делом. Он жил во Французском квартале и пользовался там всеобщей любовью. В нашей истории он еще появится. Вследствие постоянных дебошей и распутства нервное расстройство в стране грез достигло чудовищных масштабов. Такие психические и нервные заболевания, как пляска святого Витта, эпилепсия и истерия превратились в массовые явления. Почти у каждого был нервный тик, многие страдали навязчивыми состояниями. Боязнь открытого пространства, галлюцинации, меланхолии, столбняки распространялись в геометрической прогрессии, но народ продолжал буйствовать, и чем больше происходило самых изуверских самоубийств, тем разнузданнее вели себя массы. В трактирах то и дело происходили кровавые поножовщины. Я забыл, что такое спокойный сон, ночью до меня постоянно доносился шум из кафе. Нравы стремительно падали, везде царила вседозволенность. Как-то вечером в кафе выступала шансонетка; поначалу все было вполне прилично — бренчание на расстроенном фортепиано, аплодисменты, — но в три часа ночи поднялся визг и смех; я встал и увидел в окно, как пьяная компания покатила субретку, совершенно голую и увешанную гирляндой из бутылок шампанского, в ручной тележке по Длинной улице. Это необычное шествие возглавлял господин лейтенант де Неми с обнаженной шпагой в руке. Альфред Блюменштих, известный благотворитель, в последнее время стал частенько наведываться к девяти сироткам госпожи Гольдшлегер. Рассказывали, что его в основном интересуют две старшие девочки. Он приезжал с большими коробками конфет и исчезал за дверью, которую охранял сам папаша, чтобы господина Блюменштиха никто не мог потревожить. На смену алкоголю все чаще приходили эфир и опи ум; люди не стеснялись ставить себе уколы прямо на улице, только бы подстегнуть или успокоить больные нервы. То, что подобные обстоятельства неминуемо должны были повлечь за собой катастрофу, понимали лишь немногие проницательные головы, с ужасом наблюдая за растущим беспокойством в поведении полубезумных масс. Таинственные пронзительные вопли, разносившиеся по ночным улицам, будоражили меня сверх меры; быстрота развития событий сообщала жизни что-то призрачное, почти иллюзорное. Если к этому добавить душный, горячий воздух, призрачное грозовое свечение — яркие вспышки, то и дело возникавшие на пепельном небе, то нетрудно составить себе приблизительное представление о том, что я чувствовал в те дни. А тут еще эта прокламация — она была вывешена на каждом углу, доставлена в каждый дом, резко обострив противостояние между партией американца и верными Патере гражданами. Воистину настали худые времена.ПРОКЛАМАЦИЯ!
Граждане Перле!
Когда я прибыл сюда, то полагал, что увижу страну феерического великолепия. И каждый из вас наверняка считал так же. Семь лет я обращался в просьбами о приеме в государство грез лично к Патере. Наконец он удовлетворил мое желание; но для меня было бы лучше, если бы он настоял на своем отказе. Моим глазам предстала страна, в которой царит бессмыслица! Только глубокое сострадание к вам побуждает меня открыть вам глаза! Разве ваша жизнь уже обречена? Нет и еще раз нет! Но все вы — беспокойны и несчастны. Этого не станет отрицать ни один из вас — ни один! Вы стали жертвами обманщика, проходимца, магнетизера! Он отнял у вас здоровье, имущество и рассудок! Несчастные! Вы поддаетесь массовому гипнозу! Никто больше не слушается собственного разума. Нет, каждый принимает внушение со стороны за свои собственные мысли! Вы позволяете травить себя до смерти, и этот дьявол находит в травле удовольствие! Но еще есть время для спасения. Каждый, в ком живет хоть капля силы, — да поддержит меня в моих намерениях! А теперь слушайте и запоминайте, что я хочу вам сказать. Чары необходимо стряхнуть! Вам нужно лишь по-настоящему захотеть — и вы станете свободны! Объединяйтесь вокруг меня, формируйте батальоны и берите штурмом трижды проклятый дворец! Я назначаю премию в МИЛЛИОН ГУЛЬДЕНОВ за голову этого сатаны. А знаете ли вы, в каких домах вам приходится жить? Я могу сказать вам это: среди них нет почти ни одного, который бы не был пропитан преступлением, кровью и подлостью, прежде чем быть доставленным сюда. А дворец собран из развалин зданий, которые были местом действия кровавых заговоров и революций, начиная с древнейших времен. При его строительстве были использованы обломки Эскориала, Бастилии, древнеримских арен. Тауэр и Пражский замок, Ватикан и Кремль — по указанию Патеры от них были отломаны куски и привезены сюда. Где было человеческое несчастье — туда ваш учитель и тянул свои щупальца. Кафе на Длинной улице лет пятьдесят тому назад было притоном в предместье Вены, молочная по соседству с ним — разбойничьим логовом в Верхней Баварии. Над мельницей, купленной в Швабии, уже двести лет тяготеет проклятие братоубийства! И это только примеры, я не стану сообщать вам результаты всех своих разысканий. Достаточно сказать, что большинство своих тайных закупок Патера произвел в самых злачных местах больших городов. Париж, Стамбул и т. д. дали ему худшее, что в них было! Граждане! Теперь, когда я открыл вам глаза, не закрывайте их вновь! Я еще раз призываю вас всех поторопиться со свержением этой твари. И вот вам мой свет: остерегайтесь сна! Сон — это то время, когда ваш повелитель порабощает вас. В обмороке сна вы находитесь в его руках, он навевает вам свои бредовые идеи, из ночи в ночь обновляет и укрепляет свои инфернальные чары и разрушает вашу волю. Я убежден, что еще увижу вас всех счастливыми и довольными! Большой мир за пределами этой страны семимильными шагами движется к свету будущего! Вы же отстали и вязнете в болоте. Вы не приняли участия в великолепных открытиях новейшего времени; бесчисленные изобретения, несущие миру порядок и счастье, остаются вам неведомы! Граждане, вы поразитесь, когда выберетесь отсюда! Вам снова будут улыбаться синева неба и зелень полей, солнце вернет румянец на ваши восковые щеки; несказанную радость обретете вы в младенцах, которые от вас родятся, и с омерзением будете вспоминать стерильную грязь сонного царства! Держите ухо востро с этим преступным лицедеем! «Долой Патеру!» — да будет это вашим боевым кличем! Станьте сыновьями Люцифера!СказалГеркулес Бел.
Вторая глава. Внешний мир
Цивилизованный мир уже добрых двенадцать лет пребывал в неведении относительно существования страны грез. Разумеется, были случаи внезапных и необъяснимых исчезновений людей. Многих видели в дороге, на поездах и пароходах, но все последующие поиски ни к чему не приводили. Пока речь шла о людях, состоявших не в ладу с цивилизованной жизнью и имевших причины скрыться, это мало кого трогало. Мир не проявляет большого интереса к аутсайдерам. Куда чувствительнее реагировало общество на загадочные исчезновения известных представителей научных, артистических или финансовых кругов. В большинстве случаев родные и близкие спустя две-три недели получали какую-нибудь весточку — как правило, письмо в несколько строк. Но что можно было извлечь из таких сообщений, как: «Не ищите меня, я хорошо устроился», или: «Из-за непредвиденных обстоятельств освобождаю тебя от данных мне обязательств», или: «Прощайте все и не поминайте лихом»? Мысль о том, что у всех этих исчезновений — одна общая причина, никому не приходила в голову. Полиция была бессильна. Самым нашумевшим случаем была пропажа принцессы фон X. Положим, исчезновения высокородных дам случались и раньше, но это были особы более молодого возраста. А на сей раз старуха, которой и дома жилось неплохо. В последний раз ее видели на черноморском побережье, где она обратила на себя внимание турецких носильщиков своей крайней скупостью на чаевые. Поэтому признаку ее и узнали. От ее исчезновения серьезно пострадали лишь несколько племянников и племянниц, рассчитывавших на наследство. К несчастью, пожилая аристократка захватила с собой все свое состояние. Принцессу так и не нашли. Вскоре за этим последовал случай с американским миллиардером Беллом. Он привлек внимание общества к царству грез и в конечном счете побудил его к действиям. Этот мясоконсервный король неведомо каким образом прослышал об удивительной стране и вбил себе в голову стать ее гражданином. На немедленное предположение близких, что он страдает душевной болезнью, Белл ответил выпиской именитого психиатра для обследования и постоянного наблюдения, и этот корифей констатировал, что американец находится в здравом рассудке. После этого чудак несколько лет ездил по разным городам и весям в поисках царства грез в сопровождении все того же врача и двух слуг. Он объездил вдоль и поперек Новую Зеландию, прочесал Малайский архипелаг. В Гонконге доктор оставил его, заявив, что вынужден отказаться от своего изначально благоприятного заключения, так как его пациент действительно одержим навязчивыми идеями. Доктор отправился к себе на родину, богач продолжил свои поиски. И наконец — сенсация: американец послал гонца, который однажды заявился с толстенным письмом и прокламацией прямо в кабинет английского премьер-министра. Высокочтимый лорд убедился в существовании организации, презирающей все законы, через которую некий злонамеренный и фантастически богатый властелин осуществляет свои преступные планы. Многие тысячи достойных европейцев содержатся у него в плену. Американец писал, что он обращается к англичанам как к просвещенным врагам всяческого рабства и ожидает от них скорейшей и решительнейшей помощи. Хотя и письмо, и прокламация были выдержаны в грубом и крикливом тоне, содержавшуюся в них просьбу о помощи нельзя было проигнорировать хотя бы потому, что здесь явно прослеживалась связь с таинственным исчезновением большого количества людей. Разве можно было допустить, чтобы принцесса X. томилась в плену? Теперь получала свое объяснение и странная скупка домов, вызвавшая в свое время большой резонанс в европейской прессе, которая увязывала ее с причудами какого-нибудь азиатского князька. Правительства крупнейших европейских держав в срочном порядке обменялись телеграммами; было решено действовать немедля и без лишнего шума. Мандат на вмешательство был выдан России как сопредельной стране; всегдашние раздоры затихли, парламенты до поры до времени не были поставлены в известность. В течение месяца была приведена в боевую готовность русская дивизия под командованием толкового генерала Рудинова. На знаменах был начертан девиз «Во имя христианской морали и любви к ближнему!», в головах больше вертелась мысль о возможной поживе в виде золотых слитков. Заодно император надеялся пополнить свои владения еще одной богатой провинцией — ведь сказочная страна лежала совсем рядом с российской границей. Без лишней огласки к экспедиции были привлечены газетные репортеры, фотографы, коммерсанты и спекулянты. Китайские посольства в западных державах заявили свой протест против открытого нарушения границ Небесной империи, но уже поздно, и господам с косичками пришлось отступить. Хотя географическое положение загадочной страны было точно обозначено на карте, на всякий случай войска должен был сопровождать посланец Геркулеса Белла. Но однажды этот человек был найден мертвым в отеле; из его живота торчал кинжал, на клинке которого были вытравлены слова: Молчание — золото! Генералу Рудинову предстояло искать страну грез самому.Третья глава. Ад
1
Пасмурное утро. Американец Геркулес Белл еще лежит — точнее, полусидит — в постели, скрестив руки, с выражением глубокой задумчивости на лице. «Победа будет за мной! — бормочет он, и отсвет гордости озаряет его некрасивое, энергичное лицо. — Победа будет за мной!» — повторяет он громко и встает. «Я здоров!» — торжествующе думает он и, обнаженный, приближается к большому зеркалу. Испытующим взором он оценивает свою мощную фигуру и играет бицепсами, выполняя ряд несложных гимнастических упражнений. «Эту гору никто не свернет!» — он хлопает себя по волосатой груди. Представляя себя боксером на ринге, восклицает в радостном возбуждении: «Первый приз — Геркулесу Беллу!» Он думает о людях страны грез и машинально сплевывает в угол. Скоро он разделается с этим беспомощным стадом! И вдруг хмурит лоб. Ему приходит на ум предместье. Всего один раз побывал он там и посмотрел на его обитателей. «Блеф!» — этом слове он выразил свой приговор древнему племени и больше никогда не посещал деревню, которая была ему «несимпатична». Убедившись в отталкивающей холодности синеглазых азиатов, он пришел к выводу, что предместье — неплодородная почва для партийной борьбы. И все же в нем жило смутное предчувствие подвоха со стороны этих загадочных старцев. Они оставались невосприимчивыми к начавшемуся брожению и бездейственно прозябали день за днем. К черту их, даже самые опустившиеся из граждан столицы были ему куда милее! Он одевается, тщательно бреется, умело, по всем правилам, массирует себе лицо, и его настроение снова улучшается. Его главный удар еще впереди, об этом триумфе пока никто не подозревает. Он вспоминает ночь, когда расстался со своим любимым доверенным слугой. Этот человек, на протяжении двадцати лет занимавший место лейб-егеря Геркулеса Белла, с опасностью для жизни покинул страну грез, чтобы рассказать о ней за границей. Теперь он, Коннор, находится за пределами пограничных стен. Этот практичный технический ум с первого взгляда понял, что единственную возможность для бегства предоставляет река. Там, где она проходит под бастионом пограничной стены, Коннор нырнул и обнаружил решетку. Под защитой ночной темноты ему удалось перепилить пару стержней, проделав отверстие, в которое он смог протиснуть свое узкое натренированное тело. И в ту же ночь далеко за стеной в небо взмыла ракета, дав знать американцу, что отважный посланец выполнил свою рискованную задачу. В прорезиненном мешке у него на груди лежало важное письмо; ночное купание не могло быть опасным для закаленного организма. Как будто бы все было учтено. В авантюрах всевозможного рода Коннор неизменно проявлял ум и выдержку. Не позднее чем через четыре-шесть недель должна была подоспеть помощь. «Через два месяца я стану властелином царства грез! — произносит Белл, наполняя свои портсигары сигарами. — Скоро Патера будет лежать у моих ног!» Злой блеск мелькает в его глазах. Почему он, который так ненавидит повелителя, вынужден втайне восхищаться им? В этом вопросе — вся трагедия этого человека. Когда после долгих и упорных просьб он добился разрешения приехать сюда и увидел колоссальные силы Патеры в действии, их употребление показалось его практичному уму жалким очковтирательством. Он со своей предприимчивостью занялся бы совсем другим. Поначалу он хотел предложить «повелителю» своего рода деловое партнерство и готов был безоглядно вложить в реализацию этой идеи свои миллионы. Мы могли бы покорить мир! — что в сравнении с ним эта страна, похожая на сумасшедший дом? Но если в Америке и Европе этому могущественному человеку, обладателю огромного состояния, лизали пятки, то здесь с ним обращались как с назойливым просителем. То постоянство, с которым ему отказывали в аудиенции, походило на издевательство. Ни разу не удалось ему пробиться к высочайшей особе и изложить свои бесценные предложения. Каждый раз возникали самые неожиданные препятствия. И американец воспылал жгучей ненавистью к Патере. Теперь он хотел продемонстрировать свою силу, показать, что не нуждается в подачках! Он должен был добиться признания! И он кинулся в политику — с каким ошеломительным успехом, мы уже видели. По ночам он ворочался в постели, перебирая в уме разнообразные способы мести Невидимому. Благодаря деньгам и неустанной деятельности, имя Белла приобрело в этой стране грозную известность. Цель — уничижение Патеры — казалась уже близкой. «Но теперь надо не думать, а действовать!» Он достает свои часы — они стоят! «Странно, сколько же я проспал?» Ои звонит слуге. Никто не приходит. Американец отворяет дверь в прихожую. Его слуга Джон спит с полуоткрытым ртом. Белл подходит к нему и тормошит спящего — тщетно. Наконец Джон медленно открывает глаза и осоловело смотрит на хозяина. В следующую секунду он засыпает снова, и разбудить его уже не удается. Рассвирипев, американец нажал на все кнопки звонков по очереди — безрезультатно и спустился в ресторан. Первым, кого он там заметил, был администратор отеля, храпевший за своей стойкой. Несколько посетителей сидели, уронив головы на салфетки, и мирно спали. Перед ними стояли недопитые стаканы и тарелки с остатками пищи. Младший официант дремал, прислонившись к вешалке и зажав между коленями номер «Зеркала грез». Белл дал ему пинка — паренек рухнул на пол, ничуть не изменив блаженного выражения лица. Американец бросается обратно наверх и едва не спотыкается о спящую прачку. У него зарождается ужасное подозрение. Он высовывается в окно. На углу через дорогу полощется на ветру что-то красное — клок бумаги, наспех приклеенная прокламация. В грязной подворотне он разглядел двух неподвижно лежащих мужчин, из соседнего подъезда торчали юбка и ноги какой-то женщины. Всюду — пусто и безлюдно, только вдали мелькнули два остромордых зверька. Это лисицы. Белл отступает от окна и валится в кресло. Он бледнеет, на лице его проступает выражение несказанного презрения. Он роняет голову на грудь, три резкие вертикальные складки проступают на его лбу, крылья носа дрожат, и в изнеможении он произносит страдальческим голосом: «Я — болван! Все проиграно!» Его глаза вновь готовы закрыться. Но дальше этого дело не идет. Его тело, дрожа, борется с усталостью… он заставляет себя доползти до ванной… погружает голову в холодную воду… это освежает! Он делает глоток бренди, остатками из бутылки растирает себе виски… слабость преодолена! Затем он набивает свою трубку, надевает шляпу и выходит на улицу. Геркулес Белл не сдается!2
Непреодолимая сонливость обрушилась на Перле. Она зародилась в архиве и распространилась по городу и стране. Никто не мог сопротивляться этой болезни. Человеку казалось, что он бодр как никогда, но не успевал он огянуться, как уже подхватывал микроб эпидемии. Очень скоро выявился инфекционный характер спячки, но ни один врач не мог найти лекарство. Прокламации не достигали своей цели, ибо уже во время чтения прохожие зевали. Всяк кто мог оставался дома, чтобы не свалиться на улице. Те, у кого была крыша над головой, спокойно отдавались на волю судьбе. Сонная болезнь не причиняла страданий. Первым симптомом было резкое ощущение слабости, затем — судорожная зевота; в глаза словно бы попадал песок, веки становились тяжелыми, мысли путались и исчезали, и человек в изнеможении валился наземь прямо там, где стоял. С помощью сильных средств вроде нашатырного спирта, больного иногда удавалось вырвать из объятий сна, но лишь на несколько мгновений: пролепетав что-то бессвязное, он снова засыпал. Если пациент отличался крепким здоровьем, его засыпание можно было оттянуть на несколько часов с помощью массажа, но потом его все равно одолевал сон. Многие засыпали молниеносно. Оратор, который только что распространялся о политических событиях, вдруг клонился над столом, ронял голову и начинал равномерно храпеть. Официант Антон, напротив, едва волочил ноги и все же продолжал обслуживать клиентов! Но как только не приходилось его взбадривать! Бог мой! Его забрасывали кусочками сахара и кофейными ложечками, ибо он стал беспримерно забывчивым и когда, наконец, приносил заказанное, нетерпеливый посетитель часто сам уже дремал. Бодрствующим приходилось зорко следить за тем, чтобы сигары заснувших были вовремя потушены. На учебном плацу прилежно упражнялись солдаты, чтобы не ударить в грязь лицом в случае возможного восстания. Но сколько бы ни рычали унтер-офицеры, солдаты один за другим укладывались на землю. Случались необычные и забавные казусы: два вора блаженно уснули, запустив руки в кассу магазина; Мелитта четверо суток спала в квартире Бренделя, а ее супруг, доктор Лампенбоген, заснул за обеденным столом, уткнувшись носом в майонез. Кастрингиуса сморило за карточной игрой. Он уютно развалился на стуле в дешевой забегаловке, держа в своей клешне бубнового валета. Меня самого прихватило дома, куда я предусмотрительно ретировался. Я успел только расправить постель и задернуть занавески. Последнее, что я видел, — это как из окна принцессы на улицу выпархивали банкноты и легкий осенний ветерок гнал их по мостовой как опавшие листья в направлении реки. Мне едва хватило сил добраться до постели. В первые два дня эпидемии поезда ходили с огромными опозданиями, поскольку на каждой станции приходилось заменять персонал. Потом они вовсе перестали курсировать. Последний номер «Голоса» был напечатан только с одной стороны листа, да и то при множестве незаконченных фраз и легионах опечаток. Последняя страница, где обычно публиковались разные забавные мелочи, отсутствовала вовсе. Ничто не помогало: Перле спал. Это состояние полной бессознательности длилось примерно шесть суток, время определил парикмахер, вычислив его по длине щетины на подбородках своих клиентов. И только один человек во всем городе не спал (или задремывал лишь на короткое время): американец! По крайней мере, он сам это утверждал. Однажды, когда он, подобно принцу из «Спящей красавицы», бродил по Длинной улице, он разглядел через окно кафе, как один из шахматистов делал свой ход. Из этого Белл заключил, что болезнь пощадила еще и этих двоих. Атак повсюду были одни только спящие. Не только на всех скамьях в общественных парках, но и на лестничных клетках и в подворотнях вповалку лежали прилично одетые господа и дамы и спали, словно бездомные, с блаженными выражениями лиц. Когда люди понемногу стали приходить в себя, многие смогли продолжить свою работу на том месте, где они ее прервали. Это было очень хорошо — и не только для таких, как Брендель, но и для бедного искалеченного мерина в живодерне, которому несколько дней пришлось ждать милосердного удара. Теперь он его дождался. Ибо самое примечательное состояло в том, что животные оказались нечувствительными к сонной инфекции. Большинство проснувшихся — по крайней мере, в первый момент — не чувствовали никаких перемен. Когда я очнулся и, испытывая потребность в пище, помчался в кафе, там уже сидел наш парикмахер, тоже голодный как зверь, да еще и в скверном настроении. Он недосчитался четырехкрейцеровика, и обнаружение этой пропажи привело к длительной размолвке между хозяином и его обезьяной, которая, естественно, все эти дни бодрствовала, как и остальные животные. Проснувшись, город грез обнаружил себя в своеобразном раю животных. Во время нашей затяжной спячки другой мир — звериный — распространился так, что нам угрожала серьезная опасность быть вытесненными. Еще до эпидемии было замечено, что в этом году необычайно расплодились крысы и мыши. Теперь к ним присоединились хищные птицы и четвероногие похитители кур. А в парке Альфреда Блюменштиха садовник даже видел волчьи следы. Его, правда, подняли на смех, но когда на другой день от белой ангорской козочки — любимицы госпожи коммерции советницы — нашли только пару рожек, никто уже не смеялся. Невозможно описать изумление тех, кто, заснув в одиночестве и без помех, теперь очнулся в нежелательном обществе. У одного на окне сидел большой зеленый попугай, у другого из-под кровати с любопытством выглядывали ласки и белочки. Проснувшиеся мясники прогнали с бойни стаю шакалов. Количество нападений волков, рысей, диких кошек росло в геометрической прогрессии. Скверно было то, что даже наши домашние животные стали злобными и упрямыми; почти все собаки и кошки сбежали от своих хозяев и занялись незаконным промыслом. Снова начавшие выходить газеты сообщили о страшном происшествии: в квартиру в нижнем этаже, где жила вдова колбасника Аполлония Зикс, забрался медведь и слопал спавшую женщину со всеми потрохами. Косолапого убили несколькими выстрелами. Охотники и рыбаки, приходя в город, рассказывали байки об огромных зверях, которых им якобы довелось видеть. Разумеется, никто не верил этим профессиональным вралям. Но скоро во множестве понаехали крестьяне и другие жители загородных местностей. На тяжело груженных повозках они везли с собою женщин, детей и наиболее ценное из пожитков. Они были крайне недовольны и устраивали демонстрации перед дворцом и архивом. Жаловались, что им не посылают вооруженной защиты. Стада диких буйволов опустошают их угодья; им с трудом удается отбиваться от огромных обезьян, нападающих стаями. Эти дьяволы не щадят ни женщин, ни детей. Вскоре после этого на глинистой почве в районе полей Томашевича, сразу за городской окраиной, были обнаружены исполинские следы каких-то парнокопытных животных. Не стало жизни от насекомых. С гор спустились стада прожорливой саранчи, и там, где они проходили, не оставалось ни соломинки. Одна из таких туч саранчи за одну ночь объела замковый парк. Клопы, уховертки, вши делали жизнь невыносимой. Всеми этими представителями животного мира управлял самый элементарный инстинкт размножения. И хотя четверо-и шестиногие взаимно истребляли друг друга, их размножение шло фантастическими темпами. От этой напасти не спасали ни оружие и яды, выдаваемые властями, ни строжайшие распоряжения держать двери и окна закрытыми. Организовались добровольные охотничьи отряды, которые помогали военным и полиции. Во многих домах были пробиты амбразуры.
В одно прекрасное утро жена хозяина кафе проснулась среди четырнадцати диких кроликов. Ее спальня была отделена от моей комнаты тонкой перегородкой, и я слышал писк малышей.
Но хуже всего были змеи. Ни один дом не был защищен от их вторжения: эта нечисть селилась повсюду: в ящиках столов, платяных шкафах, карманах, кувшинах для воды. К тому же эти коварные твари отличались чудовищной плодовитостью. Пробираясь в темноте к своей комнате, человек наступал на отложенные ими яйца, которые с хрустом лопались. Кастрингиус блистал в своем новоизобретенном «Танце на яйцах».
Жизнь во Французском квартале скоро стала невыносимой. Но даже во время этого звериного нашествия большинство горожан не вешали носа. Оленей подстреливали прямо из окон и тут же приглашали приятелей на жаркое. Из чердачного окна моего прежнего дома открывался далекий вид на пашни и луга. Теперь эта территория превратилась в гигантский зоосад. Река тоже внесла свою лепту: в ней снова появились крокодилы, которых за несколько лет до этого путем огромных усилий удалось прогнать вниз по течению. Купальню пришлось закрыть, так как в кабинах обосновались электрические угри, чей заряд смертелен для человека.
Одним из немногочисленных светлых пятен в эти тяжелые дни было изобилие вкуснейшего жаркого и других деликатесов из дичи.
Мой старый профессор-зоолог, как и следовало ожидать, снискал всеобщее внимание. Он читал публичные лекции, в которых учил сограждан отличать опасных животных от безобидных. Вооружившись старенькой трехстволкой, он с раннего утра отправлялся туда, где водились газели, дикие свиньи и сурки, и всецело отдавался охоте. Но звери очень скоро привыкли к этому чудаковатому стрелку в очках и даже по-своему полюбили его. Зато городским окнам ружье профессора наносило столько вреда, что его пришлось конфисковать.
По вечерам выходить из дому можно было только с оружием и фонарем. Капканы, волчьи ямы и самострелы делали наш город еще более ненадежным. Но никому из жителей не приходило в голову отказаться от своих привычных увеселений.
Не стало жизни от насекомых. С гор спустились стада прожорливой саранчи, и там, где они проходили, не оставалось ни соломинки. Одна из таких туч саранчи за одну ночь объела замковый парк. Клопы, уховертки, вши делали жизнь невыносимой. Всеми этими представителями животного мира управлял самый элементарный инстинкт размножения. И хотя четверо-и шестиногие взаимно истребляли друг друга, их размножение шло фантастическими темпами. От этой напасти не спасали ни оружие и яды, выдаваемые властями, ни строжайшие распоряжения держать двери и окна закрытыми. Организовались добровольные охотничьи отряды, которые помогали военным и полиции. Во многих домах были пробиты амбразуры.
В одно прекрасное утро жена хозяина кафе проснулась среди четырнадцати диких кроликов. Ее спальня была отделена от моей комнаты тонкой перегородкой, и я слышал писк малышей.
Но хуже всего были змеи. Ни один дом не был защищен от их вторжения: эта нечисть селилась повсюду: в ящиках столов, платяных шкафах, карманах, кувшинах для воды. К тому же эти коварные твари отличались чудовищной плодовитостью. Пробираясь в темноте к своей комнате, человек наступал на отложенные ими яйца, которые с хрустом лопались. Кастрингиус блистал в своем новоизобретенном «Танце на яйцах».
Жизнь во Французском квартале скоро стала невыносимой. Но даже во время этого звериного нашествия большинство горожан не вешали носа. Оленей подстреливали прямо из окон и тут же приглашали приятелей на жаркое. Из чердачного окна моего прежнего дома открывался далекий вид на пашни и луга. Теперь эта территория превратилась в гигантский зоосад. Река тоже внесла свою лепту: в ней снова появились крокодилы, которых за несколько лет до этого путем огромных усилий удалось прогнать вниз по течению. Купальню пришлось закрыть, так как в кабинах обосновались электрические угри, чей заряд смертелен для человека.
Одним из немногочисленных светлых пятен в эти тяжелые дни было изобилие вкуснейшего жаркого и других деликатесов из дичи.
Мой старый профессор-зоолог, как и следовало ожидать, снискал всеобщее внимание. Он читал публичные лекции, в которых учил сограждан отличать опасных животных от безобидных. Вооружившись старенькой трехстволкой, он с раннего утра отправлялся туда, где водились газели, дикие свиньи и сурки, и всецело отдавался охоте. Но звери очень скоро привыкли к этому чудаковатому стрелку в очках и даже по-своему полюбили его. Зато городским окнам ружье профессора наносило столько вреда, что его пришлось конфисковать.
По вечерам выходить из дому можно было только с оружием и фонарем. Капканы, волчьи ямы и самострелы делали наш город еще более ненадежным. Но никому из жителей не приходило в голову отказаться от своих привычных увеселений.
3
Резкое падение морали пришлось как нельзя кстати моему коллеге Кастрингиусу. Его порнография пользовалась большим спросом — теперь он был модным художником. Такие его рисунки, как «Сладострастная орхидея оплодотворяет эмбрион» имели массу поклонников. Гектор фон Брендель купил у него целый цикл работ, поскольку Мелитта нашла их «забавными». Поначалу она действительно радовалась картинам и повесила их в своем будуаре, заказав к ним изящные рамки. Но это увлечение было лишь недолгим капризом, и уже через несколько дней она без сожаления рассталась с подаренным. Картины забрал один ее селадон, драгунский офицер, отдав взамен пару серег с изумрудами. В ту же ночь он снес картины в кафе, где как раз проводилась лотерея. Выручка была предназначена для тех, кого распутная жизнь довела до сифилиса. В нашей больнице до сих пор не было отделения для таких пациентов. — Денег собрали довольно много. Блюменштих — банкир, а не старьевщик — добавил недостающее, и отделение вскоре открыли в монастыре, рядом с детской больницей. По иронии судьбы рисунки достались мне, и теперь они висели у меня в комнате. Однажды я встретил на улице Кастрингиуса. Он подыскивал новое помещение: окно его ателье разбилось, и внутрь проникло множество летучих мышей, которые теперь висели на штангах гардин, будто копченые окорока. Рассказывая мне об этом, он отбивался тростью от назойливого горного козла. Я пригласил его к себе: мол, у меня висят его картины. Несказанное удивление! «Как они к тебе попали?» Я объяснил. «Это очень хорошие работы. „Плеть в белую полоску“ — самая зрелая из моих вещей. Это синтетическое воплощение морали будущего. Еще не родилась женщина, которая смогла бы сделать из этого нужные выводы. В этой картине — целый букет смыслов!» Я полностью признал его правоту — ведь я был единственным человеком в стране грез, кто судил о его произведениях с эстетической точки зрения. И вообще я любил этого оригинала и чудака — а почему бы и нет? Кто чувствует себя безгрешным, пусть первым бросит в него камень.
Внезапно с улицы послышался шум; мы подошли к окну. Внизу стояло много людей; они смеялись, да и было над чем. Подумать только: обезьяна забастовала! Джованни еще несколько дней назад оставил одного господина выбритым наполовину, когда мимо окна промчалась стайка макак. Потом его поманила смазливая мартышка, а такому искушению наш помощник парикмахера противиться не мог. В первый раз философу еще удалось удержать его с помощью бамбуковой палки и пространного рассуждения о том, что время делится на маленькие вечности. Теперь, однако, уже не помогали никакие утешения. Джованни грациозно вскарабкался по водосточному желобу, зацепил по пути своим цепким хвостом принадлежавшую принцессе фляжку кофе, удобно уселся на окошке моей бывшей — ныне пустующей по причине ветхости — квартиры и заиграл на губной гармонике, которую вытащил из своего защечного мешка. Старуха пришла в бешенство и хотела было достать разбойника метлой. Тот немедленно выбросил фляжку и схватил метлу. Надо было видеть в этот момент старую даму! Она отскочила от окна и исчезла из поля зрения, чтобы тут же появиться в третьем этаже. Джованни Баттиста ликовал! Мы наблюдали за их схваткой из моего окна. Обезьяна отняла у старухи ее главное оружие, каминные щипцы, и великодушно вернула ей метлу. Она превратилась и летающее животное. Заметив оставшиеся после меня флакончики с тушью, она принялась метать их в старуху с завидной меткостью. Собравшаяся внизу публика кричала ура — принцесса бранилась как извозчик.
Тут обезьяна снова появилась у окна в засаленном чепце старухи и сиганула вниз. Корча уморительные гримасы, она проделала обратный путь по водосточному желобу. Пока старуха вопила наверху, призывая полицию, внизу уже ждал парикмахер с палкой в руке. «Стыдитесь!» — крикнул он обезьяне.
Как раз в этот момент коммерции советник Блюменштих выходил с довольной улыбкой на губах из жилища своих девяти подопечных. Он в очередной раз сыграл на свой лад роль благодетеля. Экипаж уже был подан. Обезьяна совершила головокружительное сальто-мортале на голову рысака, и тот рванул с места! Люди в восторге кричали «браво!», пока экипаж со своим гротескным кучером не исчез за поворотом.
Это только одна сценка, а ведь подобные спектакли случались в то время едва ли не каждый день.
Никто не мог понять, откуда взялось такое изобилие фауны. Звери стали подлинными хозяевами города и, похоже, сами чувствовали себя таковыми. Лежа в постели, я постоянно слышал беготню и стук копыт. Верблюды и дикие ослы свободно расхаживали по улицам; дразнить их было опасно.
В отличие от преумножающегося со страшной быстроотой животного мира растительная жизнь угасала на глазах; все было обглодано, растоптано, оголено. Липовые аллеи на шоссе и в районе кладбища превратились в ряды обнаженных стволов. Земля курилась паром, как будто собиралась извергнуть из себя новых тварей. Из неглубоких ям сочился теплый туман с кисловатым запахом. По ночам город окутывал странный, размывающий все очертания сумрак.
Я полностью признал его правоту — ведь я был единственным человеком в стране грез, кто судил о его произведениях с эстетической точки зрения. И вообще я любил этого оригинала и чудака — а почему бы и нет? Кто чувствует себя безгрешным, пусть первым бросит в него камень.
Внезапно с улицы послышался шум; мы подошли к окну. Внизу стояло много людей; они смеялись, да и было над чем. Подумать только: обезьяна забастовала! Джованни еще несколько дней назад оставил одного господина выбритым наполовину, когда мимо окна промчалась стайка макак. Потом его поманила смазливая мартышка, а такому искушению наш помощник парикмахера противиться не мог. В первый раз философу еще удалось удержать его с помощью бамбуковой палки и пространного рассуждения о том, что время делится на маленькие вечности. Теперь, однако, уже не помогали никакие утешения. Джованни грациозно вскарабкался по водосточному желобу, зацепил по пути своим цепким хвостом принадлежавшую принцессе фляжку кофе, удобно уселся на окошке моей бывшей — ныне пустующей по причине ветхости — квартиры и заиграл на губной гармонике, которую вытащил из своего защечного мешка. Старуха пришла в бешенство и хотела было достать разбойника метлой. Тот немедленно выбросил фляжку и схватил метлу. Надо было видеть в этот момент старую даму! Она отскочила от окна и исчезла из поля зрения, чтобы тут же появиться в третьем этаже. Джованни Баттиста ликовал! Мы наблюдали за их схваткой из моего окна. Обезьяна отняла у старухи ее главное оружие, каминные щипцы, и великодушно вернула ей метлу. Она превратилась и летающее животное. Заметив оставшиеся после меня флакончики с тушью, она принялась метать их в старуху с завидной меткостью. Собравшаяся внизу публика кричала ура — принцесса бранилась как извозчик.
Тут обезьяна снова появилась у окна в засаленном чепце старухи и сиганула вниз. Корча уморительные гримасы, она проделала обратный путь по водосточному желобу. Пока старуха вопила наверху, призывая полицию, внизу уже ждал парикмахер с палкой в руке. «Стыдитесь!» — крикнул он обезьяне.
Как раз в этот момент коммерции советник Блюменштих выходил с довольной улыбкой на губах из жилища своих девяти подопечных. Он в очередной раз сыграл на свой лад роль благодетеля. Экипаж уже был подан. Обезьяна совершила головокружительное сальто-мортале на голову рысака, и тот рванул с места! Люди в восторге кричали «браво!», пока экипаж со своим гротескным кучером не исчез за поворотом.
Это только одна сценка, а ведь подобные спектакли случались в то время едва ли не каждый день.
Никто не мог понять, откуда взялось такое изобилие фауны. Звери стали подлинными хозяевами города и, похоже, сами чувствовали себя таковыми. Лежа в постели, я постоянно слышал беготню и стук копыт. Верблюды и дикие ослы свободно расхаживали по улицам; дразнить их было опасно.
В отличие от преумножающегося со страшной быстроотой животного мира растительная жизнь угасала на глазах; все было обглодано, растоптано, оголено. Липовые аллеи на шоссе и в районе кладбища превратились в ряды обнаженных стволов. Земля курилась паром, как будто собиралась извергнуть из себя новых тварей. Из неглубоких ям сочился теплый туман с кисловатым запахом. По ночам город окутывал странный, размывающий все очертания сумрак.
4
Самое страшное состояло в том таинственном процессе, который начался вслед за вторжением животных, нарастал безостановочно и со все возрастающей скоростью и стал причиной окончательной гибели страны грез. Распад. Им было охвачено абсолютно все. Постройки из самых разнообразных материалов, предметы, собранные за много лет, — все то, что было оплачено золотом повелителя, — все было обречено на уничтожение. Во всех стенах одновременно возникли трещины; дерево гнило, железо ржавело, стекло мутнело, ткани рвались. Ценные произведения искусства неудержимо поддавались внутреннему разрушению — без каких-либо видимых причин. Болезни неживой материи — гниение и тление проникали даже в самые ухоженные дома; похоже, какая-то неведомая разлагающая субстанция разлилась в воздухе, так как свежие продукты — молоко, мясо, а позже и яйца — в несколько часов прокисали и протухали. Многие здания покрывались паутиной трещин, и жильцам приходилось покидать их в срочном порядке. В довершение всего нахлынули муравьи! Их можно было найти в любой щели и складке, в одежде, портмоне, постельном белье. Встречались три вида: черные, белые и кроваво-красные. Черные, самые крупные, водились в стенах и на открытом воздухе. Белые, куда более зловредные, превращали в труху деревянные балки. Хуже всех, без сомнения, были красные, ибо для своего обитания они облюбовали человеческие тела. Поначалу чесаться еще считалось неприличным, это делали только наедине с собой. Но как быть, если тебя грызут заживо? Во Французском квартале уже давно чесались все. Мы смеялись над ними, но вскоре занялись тем же. Первой подала пример супруга его превосходительства регирунгспрезидента во время званого вечера. Удалить помет животных с улиц и пыль из квартир уже не было никакой возможности. Этого добра становилось все больше, сколь бы отчаянно с ним ни боролись. При обработке щеткой и выбивалкой рвалась одежда. Меня удивляло лишь одно: люди грез откуда-то черпали свое неизменно хорошее настроение. Госпожа Лампенбоген, к примеру, была неисправима. В ее доме перебывал весь офицерский корпус вплоть до самого юного лейтенанта. Скорее всего, он только выдавил из себя: «Милостивая госпожа!» — но особых ухаживаний она и не требовала. В конце концов она обратилась к низшим слоям населения. Я часто наблюдал на улице ее обычный маневр — высоко задирать юбку. Любопытные останавливались. Собаки бежали ей вослед. А шутить с ними теперь было опасно. Как-то раз большой кобель порвал на ней платье: она в страхе убежала, выронив скомканное письмо. Я подобрал его и на досуге прочел.«Моя муравьиная царица! Я по-прежнему опьянен своим счастьем и целую в душе все Твои прелести. В моих сновидениях Ты, как и прежде, — повелительница. Как Ты спала? Как всегда, мало? Но знай, что у меня теперь есть средство, позволяющее, по крайней мере, спокойно лежать. В платяной шкаф, положенный на пол плашмя, насыпается дюймовый слой порошка от насекомых… одеяло… еще порошок… и еще одеяло. (Вошедшие нынче в моду ночные рубашки с пуговицами по всей длине для этого не годятся.) Шкаф закрывается, и, пока я в нем лежу, небольшое отверстие (в форме сердечка?!), затянутое сеткой от комаров, обеспечивает доступ воздуха. Пожалуйста, не посылай мне больше писем в отель; я ненавижу банду американца, особенно Жака, этого прожженного негодяя. Кроме того, в последнее время там кормят просто отвратительно; отныне я обедаю в старом кафе на Длинной улице. Письма адресуй туда на имя Г. ф. Б., но только не передавай через Н. К. — он ненадежен, а с тех пор как связался с проклятым американцем, стал еще и наглым. Твой толстяк, наверное, страшно недоволен тем, что от него съехал последний квартиросъемщик? Тем более что парикмахер намерен закрыть свою лавочку, а принцесса платит не слишком щедро. Сегодня я видел Твоего мужа едущим в карете, но он был так занят борьбой с назойливыми паразитами, что не заметил меня. Итак, сегодня ровно в девять я жду Тебя за розовым кустом, каким бы голым он теперь ни был! Всегда Твой Гектор. NB. Я все еще получаю анонимные письма насчет нашей с Тобой связи, — до чего же плохо знает свет мою Мелитту!»[Вскоре у каждого был пузырек с порошком от насекомых. Если раньше жители города грез были подвержены сонливости, теперь они не спали вовсе. Возбужденные, с лихорадочным румянцем на щеках они бродили по городу долго после полуночи. На улицах было безопаснее, чем в обветшалых домах. В последние дни страсть размножения у животных достигла высшей точки. Во всех темных углах, в воде и в воздухе спаривались всевозможные твари. Из хлевов доносилось ржание, блеяние и хрюканье. Один из быков, разъяренный видом забитых коров, раздавил мясника, размазав его по стене. Американец сеял ненависть и раздор и всё высмеивал. Веру в Бога сохранили лишь немногие. Великие чары часов были забыты, лишь изредка кто-то заходил в башню, но не задерживался там даже на предписанные полминуты, тут же спеша наружу. Теперь я знал, что конец царства грёз неуклонно приближался. Как-то ночью я услышал на крыше шипение и глухое рычание. С ужасом я наблюдал, как громадный леопард раздирал зайца; я услышал хруст костей, и по спине моей пробежал холод. Моя комнатка потеряла свою уютность, в стене зияли две трещины, из которых по вечерам регулярно высовывались задние части черных тараканов, выглядевшие как фриз. Несколько дней в моей чаше для золы гнездилась пара малиновок. Они были безобидными и вознаграждали меня за терпимость своим пением. К сожалению, радость была недолгой; однажды молниеносно и дерзко вторгнувшийся сокол убил самца. В один из последних вечеров, когда я, собираясь улечься в кровать, нашел под одеялом двух скорпионов и собирался продолжить][1] охоту на эту и прочую нечисть, выяснилось, что мое оружие — подставка для сапог — совсем рассохлась. Я схватил ножницы — они были съедены ржавчиной. Лишь тогда я обратил внимание на то, что моя бумага заплесневела, а линейки, стол для рисования, колченогий комод — словом, все деревянные предметы — изъедены червями и насквозь прогнили.
 А как выглядел я сам? Да ничуть не лучше! Правда, и другие — те, кто раньше был аккуратно и опрятно одет, — теперь ходили по улицам в лохмотьях. Наши одежда и обувь покрылись плесенью. Не помогали ни стирка, ни чистка. Материя расползалась по ниткам и отрывалась кусками. Мы, мужчины, еще сохраняли видимость достоинства, а вот бедные дамы… но тс-с.
А как выглядел я сам? Да ничуть не лучше! Правда, и другие — те, кто раньше был аккуратно и опрятно одет, — теперь ходили по улицам в лохмотьях. Наши одежда и обувь покрылись плесенью. Не помогали ни стирка, ни чистка. Материя расползалась по ниткам и отрывалась кусками. Мы, мужчины, еще сохраняли видимость достоинства, а вот бедные дамы… но тс-с.
5
Еще более разительные перемены наступили после того, как дома стали практически непригодными для проживания. Если жильцы нижнего этажа не испытывали особых затруднений, то для подъема по лестнице требовалась отчаянная смелость. Когда кельнер как-то раз подал мне тухлое яйцо, мутную жидкость в пивной бутылке с отбитым горлышком и какую-то жирную, склизкую тряпку вместо салфетки, я потерял терпение и позвал хозяина. Тот как раз пытался подпереть потолок с помощью досок от разобранного бильярда. «Что это значит? — набросился я на него. — На этом приборе вся медь позеленела. Уберите сейчас же это рвотное пойло и сальную тряпку!» Он согнулся в три погибели и заскулил: «Ах, это все персонал, мой господин!» — Ну, ладно, — раздраженно отмахнулся я, взял свой цилиндр и вышел из кафе, успев заметить, что на месте, где я только что сидел, обосновалась целая колония муравьев. Если я и продолжал наведываться в кафе, то исключительнов силу привычки. Там все было настолько неаппетитно, что приходилось ограничиваться черным кофе. Антон тоже переменился к худшему: у него были вечно немытые руки, и воняло от него за километр. Впрочем, никто ведь столько и не бегал, как он. Корку грязи, которой был покрыт Антон, парикмахер называл «материей». Один его вид мог вызвать рвоту! Тем более был я поражен, когда однажды вечером, возвращаясь домой, услышал в передней чей-то тихий смех и, посветив в угол, увидел — вместо животных, как того можно было ожидать, Антона, обнимающегося с Мелиттой. Вскоре после этого она погибла. Ее нашли растерзанной в ее собственной спальне. Запертую изнутри дверь пришлось взломать. В комнате оказался колоссальный дог. Вздыбив шерсть, он бросился на вошедших и прежде, чем его пристрелили, покусал двух полицейских. Оба вскоре скончались от бешенства. В последние дни жизни Мелитты от ее былой красоты не осталось почти ни следа. Тщетно силилась она с помощью толстого слоя кремов и пудры замаскировать печальные последствия своих похождений. Тяжко страдали и оба наших шахматиста. Этим пожилым господам, всецело отдавшимся своему увлечению, любое движение тела стало казаться настолько сложным, что они были вынуждены производить многочасовые расчеты, прежде чем им удавалось пошевелить той или иной конечностью. Нетрудно понять, что при обилии вредных насекомых подобная неповоротливость обходилась им недешево. Большой похвалы заслуживает молодая дама, которая как-то зашла в кафе выпить чаю и заметила мучения стариков. Она просто подошла к ним и отважно смахнула с их одежды муравьев и клопов. Никто из нас не захотел оставаться в стороне. Если раньше мы только смеялись над их гротескно искаженными лицами, то отныне среди завсегдатаев установился обычай при входе и выходе из кафе почесывать обоих господ. Как видите, даже в такие злые времена в людях продолжало жить чувство сострадания к ближнему. Американец вновь заставил заговорить о себе. Он предсказал скорую убыль зверья — и оказался прав в отношении крупных видов: они стали постепенно покидать город. Правда, все мелкие млекопитающие и пресмыкающиеся пока остались, зато исчезли пернатые — за исключением бездны воронья и белогрудых коршунов. Коршуны — тяжелые, массивные птицы — сидели, словно отлитые из бронзы, на голых деревьях аллей и не отрываясь смотрели в сторону города, как будто еще чего-то ждали. Хотя предсказания исполнились лишь частично, они резко увеличили число приверженцев американца. И теперь он еще яростнее натравливал толпу на своего смертельного врага Патеру.
Я возобновил свои вечерние прогулки по берегу реки, где лежали вынесенные волнами на песок бесчисленные раковины, кораллы, черви, рыбьи косточки и чешуя. Меня поразило, что здесь часто попадались останки существ, относящихся к морской фауне. Берег, казалось, был усеян мистическими письменами. Я был уверен, что синеглазые поняли бы бы этот символический язык. За этим наверняка стояли тайны, подобно тому, как на крыльях красивейших насекомых — ночных бабочек, жуков — порой встречались рисунки, которые, по всей видимости, были забытыми иероглифами. У меня просто не было ключа к ним.
«Как же ты велик, Патера! — думал я. Но почему господин прячется даже от тех, кто любит его?»
В тягостном раздумье я проследовал дальше; обезлиственные деревья на противоположном берегу выступали далеко над рекой, касаясь ветвями черной воды. Между ними мелькали гигантские тени. Ясно слышался треск ломающихся сучьев, временами я замечал длинные шеи или хоботы и не мог избавиться от мысли о доисторических чудовищах. Чем больше темнело, тем опаснее становились эти места для одиноких путников. Как-то вечером, качавшаяся на волнах доска неожиданно начала дышать, и, приглядевшись, я увидел оскаленную пасть огромного аллигатора. Я в страхе поспешил назад. По пути домой я обдумывал недавний случай, завершившийся относительно благополучно. Уже давно ходила молва о громадной беременной тигрице, поселившейся во дворце; люди утверждали, что видели ее тупую морду и полосатую спину в застекленной галерее. И действительно: несколько дней назад отвечающий этому описанию хищник запрыгнул на террасу дома Альфреда Блюменштиха. Хозяйка, кругленькая и пухлая, без слов упала в обморок при виде страшного зверя; дело произошло во время обеда, в гостях был профессор Корнтойр. Этот достойный господин проявил настоящий героизм. «Держитесь спокойно, — обратился он, вставая, к испуганному супругу, — даже самые свирепые хищники подчиняются такому высшему существу, как человек; они испытывают благоговение перед его прямой фигурой и боятся его властного взгляда!» С этими словами он смело пошел на тигра, на ходу сняв очки. Трудно сказать, что подействовало на зверя, — неожиданное поведение ученого или что другое, но вновь задребезжали и посыпались оконные стекла, и тигица выпрыгнула на улицу — увы, с бесчувственной госпожой советницей в зубах! Блюменштих ломал руки и вопил: «Господи, пощади мою Юлию!» Тигрица, преследуемая слугами с ружьями в руках, поволокла свою добычу в сторону дворца. На улице все вежливо уступали ей дорогу. Вызванная в срочном порядке пожарная команда пыталась отбить госпожу Блюменштих у полосатой бестии, которая засела в большом зале на нижнем этаже дворца и шипела на подоспевших спасителей. Стрелять было нельзя, так как пули легко могли поразить женщину. Кому-то пришла в голову идея пугнуть зверя брандспойтом, и это помогло. Облитая водой тигрица выскочила из своего угла, но при этом не забыла и свою добычу. Огромным прыжком она вылетела из высокого арочного окна. Люди в ужасе завопили, но Господь сжалился над супругом. Советница повисла на крюке оконной рамы на виду у всей площади — с юбками, задранными выше головы, зато спасенная. Тигрица ускользнула, воспользовавшись всеобщим ликованием.
Поскольку опасного зверя так и не удалось поймать, все находились в сильном замешательстве. Обыскать дворец, как предложил американец, никто не отваживался, несмотря на всеобщую потерю страха перед повелителем. Армия и полиция категорически отказали в содействии.
Повелитель вел себя более чем странно! Даже если он уже не хотел оказывать покровительство Перле, то мог же он по крайней мере, сделать исключение для своих сторонников! Однако создавалось впечатление, что он не проводил различия между теми и другими. Для города снова настали относительно спокойные часы, хотя на площади собралось почти все население страны.
— Отдайте нам виллы! — выла и рычала чернь. Богачи охотно их уступали — оттуда все равно требовалось изгнать обосновавшихся там зверей. В сельском особняке Лампенбогена устроились дикобразы, на диване в будуаре усопшей спал разъевшийся удав. Чтобы в особняк могли вселиться люди, сперва необходимо было истребить животных Но и в других отношениях на виллах было вовсе не так хорошо, как представляли себе бедняки. Наиболее ценные вещи, по всей видимости, потеряли вкус к жизни: драгоценные вазы, фарфоровые сервизы покрывались паутиной мелких трещин; на великолепных картинах появлялись черные пятна, быстро расползавшиеся по всему полотну; эстампы становились пористыми и разваливались. Хорошо сохранившаяся и отреставрированная мебель превращались в кучу мусора с невероятной скоростью.
По всему поэтому большинство приезжих крестьян охотнее устраивалось прямо под открытым небом в ближайших окрестностях города.
«Повелитель, отныне твоя сила проявляется только в ужасах», — подумал я, ступив на Длинную улицу. Стемнело, отовсюду раздавался скрип и треск. В одном месте с крыши со свистом летела черепица, в другом известка осыпалась со стены; из разраставшихся на глазах щелей непрерывно струился песок; то и дело приходилось перелезать через кучи мусора и переступать через поваленные балки и столбы. Смерть продолжала свою работу.
На крыше кафе, совсем близко от моей мансарды, я отчетливо различил движущийся черный силуэт: леопард! Должно быть, он устроил себе логово на складе по соседству… одного меткого выстрела хватило бы, чтобы его прикончить, но для этого мы все были слишком трусливы. В моей тесной каморке меня охватило глубокое уныние, и я долго ходил взад и вперед, испытывая ноющую боль в пояснице и суставах.
«Почему мы до сих пор живы? Ведь мы же все обречены! Если бы я вдруг заболел, обо мне бы никто даже не вспомнил». Мною овладел липкий страх. Я не хочу умирать, нет, только не это! И я в отчаянии обхватил голову руками. «Ничего высшего не существует… — нашептывало мне малодушие. — Две ноги — две костяные трубки… на них держится весь мой мир, мир боли и заблуждения! Самое отвратительное — это тело». Я трепетал от страха смерти. «Чего только не происходит с моим телом! Эта тысяча органов — какими только утонченными орудиями пытки они не становятся! Ах, если бы я мог не думать! — но ведь это происходит само собой. Нет уверенности, которой бы не противостояла неуверенность! Лабиринт бесконечен — я обречен! Я ношу в своем чреве гадость и нечистоты, и когда я воспламеняюсь страстью, то следом за ней сразу приходит трусость. Знаю лишь одно: я не должен противиться неизбежному, изворачиваться бесполезно, смерть приближается с каждой минутой. Я даже не в силах покончить с собой, я обречен умереть в муках». Я вздохнул. Патера — вот причина моего отчаяния! Не понимаю его, он играет в загадки! Возможно, он даже бессильнее других, иначе он давно бы стер в порошок американца. Но он этого не может! Американец, вот кто живет подлинной жизнью! Не будь я так застенчив, я пришел бы к нему, бросился на колени, и он бы непременно помог!
Объятый смертельным страхом, я с трудом соображал, где нахожусь. Внизу стоял шум — дебоширов выводили из кафе, обычная сцена. Напротив в освещенной комнате я увидел парикмахера, склонившегося над книгами.
Американец вновь заставил заговорить о себе. Он предсказал скорую убыль зверья — и оказался прав в отношении крупных видов: они стали постепенно покидать город. Правда, все мелкие млекопитающие и пресмыкающиеся пока остались, зато исчезли пернатые — за исключением бездны воронья и белогрудых коршунов. Коршуны — тяжелые, массивные птицы — сидели, словно отлитые из бронзы, на голых деревьях аллей и не отрываясь смотрели в сторону города, как будто еще чего-то ждали. Хотя предсказания исполнились лишь частично, они резко увеличили число приверженцев американца. И теперь он еще яростнее натравливал толпу на своего смертельного врага Патеру.
Я возобновил свои вечерние прогулки по берегу реки, где лежали вынесенные волнами на песок бесчисленные раковины, кораллы, черви, рыбьи косточки и чешуя. Меня поразило, что здесь часто попадались останки существ, относящихся к морской фауне. Берег, казалось, был усеян мистическими письменами. Я был уверен, что синеглазые поняли бы бы этот символический язык. За этим наверняка стояли тайны, подобно тому, как на крыльях красивейших насекомых — ночных бабочек, жуков — порой встречались рисунки, которые, по всей видимости, были забытыми иероглифами. У меня просто не было ключа к ним.
«Как же ты велик, Патера! — думал я. Но почему господин прячется даже от тех, кто любит его?»
В тягостном раздумье я проследовал дальше; обезлиственные деревья на противоположном берегу выступали далеко над рекой, касаясь ветвями черной воды. Между ними мелькали гигантские тени. Ясно слышался треск ломающихся сучьев, временами я замечал длинные шеи или хоботы и не мог избавиться от мысли о доисторических чудовищах. Чем больше темнело, тем опаснее становились эти места для одиноких путников. Как-то вечером, качавшаяся на волнах доска неожиданно начала дышать, и, приглядевшись, я увидел оскаленную пасть огромного аллигатора. Я в страхе поспешил назад. По пути домой я обдумывал недавний случай, завершившийся относительно благополучно. Уже давно ходила молва о громадной беременной тигрице, поселившейся во дворце; люди утверждали, что видели ее тупую морду и полосатую спину в застекленной галерее. И действительно: несколько дней назад отвечающий этому описанию хищник запрыгнул на террасу дома Альфреда Блюменштиха. Хозяйка, кругленькая и пухлая, без слов упала в обморок при виде страшного зверя; дело произошло во время обеда, в гостях был профессор Корнтойр. Этот достойный господин проявил настоящий героизм. «Держитесь спокойно, — обратился он, вставая, к испуганному супругу, — даже самые свирепые хищники подчиняются такому высшему существу, как человек; они испытывают благоговение перед его прямой фигурой и боятся его властного взгляда!» С этими словами он смело пошел на тигра, на ходу сняв очки. Трудно сказать, что подействовало на зверя, — неожиданное поведение ученого или что другое, но вновь задребезжали и посыпались оконные стекла, и тигица выпрыгнула на улицу — увы, с бесчувственной госпожой советницей в зубах! Блюменштих ломал руки и вопил: «Господи, пощади мою Юлию!» Тигрица, преследуемая слугами с ружьями в руках, поволокла свою добычу в сторону дворца. На улице все вежливо уступали ей дорогу. Вызванная в срочном порядке пожарная команда пыталась отбить госпожу Блюменштих у полосатой бестии, которая засела в большом зале на нижнем этаже дворца и шипела на подоспевших спасителей. Стрелять было нельзя, так как пули легко могли поразить женщину. Кому-то пришла в голову идея пугнуть зверя брандспойтом, и это помогло. Облитая водой тигрица выскочила из своего угла, но при этом не забыла и свою добычу. Огромным прыжком она вылетела из высокого арочного окна. Люди в ужасе завопили, но Господь сжалился над супругом. Советница повисла на крюке оконной рамы на виду у всей площади — с юбками, задранными выше головы, зато спасенная. Тигрица ускользнула, воспользовавшись всеобщим ликованием.
Поскольку опасного зверя так и не удалось поймать, все находились в сильном замешательстве. Обыскать дворец, как предложил американец, никто не отваживался, несмотря на всеобщую потерю страха перед повелителем. Армия и полиция категорически отказали в содействии.
Повелитель вел себя более чем странно! Даже если он уже не хотел оказывать покровительство Перле, то мог же он по крайней мере, сделать исключение для своих сторонников! Однако создавалось впечатление, что он не проводил различия между теми и другими. Для города снова настали относительно спокойные часы, хотя на площади собралось почти все население страны.
— Отдайте нам виллы! — выла и рычала чернь. Богачи охотно их уступали — оттуда все равно требовалось изгнать обосновавшихся там зверей. В сельском особняке Лампенбогена устроились дикобразы, на диване в будуаре усопшей спал разъевшийся удав. Чтобы в особняк могли вселиться люди, сперва необходимо было истребить животных Но и в других отношениях на виллах было вовсе не так хорошо, как представляли себе бедняки. Наиболее ценные вещи, по всей видимости, потеряли вкус к жизни: драгоценные вазы, фарфоровые сервизы покрывались паутиной мелких трещин; на великолепных картинах появлялись черные пятна, быстро расползавшиеся по всему полотну; эстампы становились пористыми и разваливались. Хорошо сохранившаяся и отреставрированная мебель превращались в кучу мусора с невероятной скоростью.
По всему поэтому большинство приезжих крестьян охотнее устраивалось прямо под открытым небом в ближайших окрестностях города.
«Повелитель, отныне твоя сила проявляется только в ужасах», — подумал я, ступив на Длинную улицу. Стемнело, отовсюду раздавался скрип и треск. В одном месте с крыши со свистом летела черепица, в другом известка осыпалась со стены; из разраставшихся на глазах щелей непрерывно струился песок; то и дело приходилось перелезать через кучи мусора и переступать через поваленные балки и столбы. Смерть продолжала свою работу.
На крыше кафе, совсем близко от моей мансарды, я отчетливо различил движущийся черный силуэт: леопард! Должно быть, он устроил себе логово на складе по соседству… одного меткого выстрела хватило бы, чтобы его прикончить, но для этого мы все были слишком трусливы. В моей тесной каморке меня охватило глубокое уныние, и я долго ходил взад и вперед, испытывая ноющую боль в пояснице и суставах.
«Почему мы до сих пор живы? Ведь мы же все обречены! Если бы я вдруг заболел, обо мне бы никто даже не вспомнил». Мною овладел липкий страх. Я не хочу умирать, нет, только не это! И я в отчаянии обхватил голову руками. «Ничего высшего не существует… — нашептывало мне малодушие. — Две ноги — две костяные трубки… на них держится весь мой мир, мир боли и заблуждения! Самое отвратительное — это тело». Я трепетал от страха смерти. «Чего только не происходит с моим телом! Эта тысяча органов — какими только утонченными орудиями пытки они не становятся! Ах, если бы я мог не думать! — но ведь это происходит само собой. Нет уверенности, которой бы не противостояла неуверенность! Лабиринт бесконечен — я обречен! Я ношу в своем чреве гадость и нечистоты, и когда я воспламеняюсь страстью, то следом за ней сразу приходит трусость. Знаю лишь одно: я не должен противиться неизбежному, изворачиваться бесполезно, смерть приближается с каждой минутой. Я даже не в силах покончить с собой, я обречен умереть в муках». Я вздохнул. Патера — вот причина моего отчаяния! Не понимаю его, он играет в загадки! Возможно, он даже бессильнее других, иначе он давно бы стер в порошок американца. Но он этого не может! Американец, вот кто живет подлинной жизнью! Не будь я так застенчив, я пришел бы к нему, бросился на колени, и он бы непременно помог!
Объятый смертельным страхом, я с трудом соображал, где нахожусь. Внизу стоял шум — дебоширов выводили из кафе, обычная сцена. Напротив в освещенной комнате я увидел парикмахера, склонившегося над книгами.
6
Внезапно меня как будто что-то ущипнуло изнутри — еще раз, и еще. Я приподнялся — вот, опять, — но что это?.. Во мне постепенно нарастала смутная тяга. Щипки и тычки продолжались, с каждым разом все настойчивее. «Так что же это, в самом деле?» Я напрягся и полностью сосредоточился на этом неясном ощущении. «Патера! — услышал я внутренний голос. — Патера! — дворец — ступай!» Эта мысль звучала все убедительнее, все настоятельнее, с ужасающей ясностью и отчетливостью. В темноте я направился вниз, двигаясь вполне уверенно, ни о чем не думая. Никто не обратил на меня внимания — и когда ко мне вернулась способность рассуждения, я был уже на полпути ко дворцу. «Бог мой, — подумал я, — что я делаю, что я должен делать?» Я хотел повернуть назад. «Дойду до ближайшего угла — и обратно!» Но нет, ничто не помогало, я должен был идти. Я хотел позвать людей: «Помогите же мне, помогите! Остановите меня!» Но мои челюсти были словно привинчены одна к другой… И вот передо мной этот внушительный дворец с его гигантскими воротами и пустыми глазницами окон, словно череп. Я вступил в его тьму. Во все стороны расходился лабиринт колоннад. Я маршировал словно деревянная кукла, механически — ать-два, ать-два. Длинные галереи были скупо освещены висячими фонарями. Я проходил через залы. Все двери были полуотворены. Я слышал треск… мелодичный бой часов… от сквозняка распахивались двери… что-то хрустело… О Боже милосердный! Это тигр! Эта мысль больше не отпускала меня, и, находясь в страшном напряжении, я двигался едва ли не бегом, стараясь производить как можно меньше шума. Мне постоянно мерещилось, будто меня окликают по имени — то в полный голос, то почти шепотом и где-то рядом; но ничто на свете не заставило бы меня оглянуться. В пустынных, безлюдных помещениях валялась разбитая мебель, и душный, пахнущий тлением воздух стеснял мне дыхание. Я проходил через обширные покои, тускло освещенные одинокими свечами. Развороченные постели, сорванные со стен драпировки, заделанные окна, остывающие роскошные камины, занавешенные гобелены. По узким грязным лестницам и через длинные тихие коридоры я спешил, словно лунатик, пока не увидел знакомую дубовую дверь. «Патера, — непрерывно повторял я про себя. — Патера, Патера…» Эта дверь тоже была приоткрыта. С потолка свисала серебряная лампада с трепещущим огоньком, едва освещая обвисшие клочья балдахина и мозаичный рисунок пола. Я остановился — теперь я мог остановиться! Вот оно — лицо! У меня на лбу выступила холодная испарина. Закутанный в серебристо-серую мантию, тонкую, как вуаль, передо мной стоял Патера — стоял и спал. Его вид внушал мне непреодолимый страх. В глубоких зеленоватых тенях его глазниц крылось сверхчеловеческое страдание, и только сейчас я заметил, что на одной из его крупных и красивых рук недостает ногтевого сустава большого пальца! Я сразу вспомнил то, что слышал о детях, родившихся в стране грез. И снова, как при первом посещении, я услышал шепот. «Я звал тебя», — прозвучало словно издалека. Но на этот раз не повторилась игра масок. Мышцы лица Патеры набухали, перекатывались и съеживались, но оставались бесформенными, черты были нерезкими, одни губы подрагивали и неприятно кривились на неподвижном как камень лице. Он снова зашептал, очень тихо, звук доносился словно сквозь вату. Сперва я улавливал только шелест, бессмысленный и слитный. Потом начал разбирать слова. — Слышишь, как поют мертвецы, бледно-зеленые мертвецы? Они разлагаются в своих могилах, легко и без боли; если ты дотронешься до их тел — твоя рука коснется лишь праха. Где жизнь, которая двигала ими, где сила? Слышишь, как поют мертвые, бледно-зеленые мертвецы? Резкий запах от дыхания Патеры ударил мне в нос — я ощутил страшную слабость. Повелитель сел на ложе сна и снял с себя мантию — он сидел, выпрямившись, обнаженный выше пояса, длинные локоны ниспадали ему на плечи, и я не мог не восхититься его мощными и благородными формами. Его сияющее белоснежное тело походило на статую. И я вложил свои последние силы в вопрос: «Патера, почему ты допускаешь все это?» Ответа долго не было. А потом он вдруг выкрикнул низким голосом, в котором слышался металлический призвук: «Я устал!» Я испуганно вздрогнул, а в следующий миг уже не мог оторвать взгляда от его безжизненных глаз — я был во власти чар. Его глаза напоминали два зеркала, в пустоте которых отражалась бесконечность. Мне пришло в голову, что Патера неживой — ведь если бы мертвые мог ли смотреть, у них был бы именно такой взгляд. Внутри себя я услышал приказ говорить. Но я мог только лепетать; я пробормотал несколько слов и сам поразился сказанному. Заданный мною вопрос словно вышел из глубины веков; эти слова должны были быть произнесены миллиарды лет назад, но только теперь я произнес их, они прозвучали сегодня и здесь: «Патера, почему ты не помог?» Медленно и безжизненно опустились его ресницы, от чего мне сразу стало легче. В его облике проступила невыразимая мягкость; я был зачарован выражением бесконечно кроткой печали на его лице. И снова раздался шепот: «Я помог… я и тебе помогу!» Это звучало как музыка, сладостная истома овладела мною… я опустил голову… глаза закрылись сами собой. Душераздирающий, поистине адский хохот вырвал меня из дремоты… В ярко освещенном пространстве на месте Патеры стоял американец… Не помню, как мне удалось выбраться из дворца. Я бежал и кричал. Мужчины пытались задержать меня, но, видимо, безуспешно, потому что когда я снова начал отдавать себе отчет в происходящем, я сидел в каретном сарае. В одной из опрокинутых повозок я заметил целый выводок дохлых чешуйчатых тварей. В моих ушах еще гремел глумливый смех, но он уже не будоражил меня. Мои нервы в результате постоянного напряжения потеряли чувствительность. Судьба, в каком бы образе она ни являлась, уже не могла вывести меня из состояния полного безразличия. Неспособный к долгим рассуждениям, я тем не менее чувствовал себя сильным в самом осознании своей немощи. Если эти противоречия все равно нельзя понять и разрешить — к чему волноваться? Все опасения исчезли; жуткое видение, открывшее мне двойную сущность Патеры, заслонило собой бездну моего отчаяния и страхов.7
Только с учетом этой встречи можно понять, как мне удалось пережить последние кошмары, обрушившиеся на царство грез. Нечувствительность стала моей защитой. Агония страны прошла перед моими глазами чередой абстрактных схем.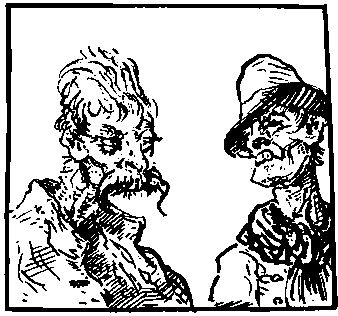 Я больше не заходил в свою квартиру и старался избегать кафе. Помимо грязи теперь мне стал противен и Антон: он фамильярно похлопывал посетителей по плечу и говорил на несусветном жаргоне, пересыпанном диалектными словечками.
Жители столицы постепенно переселялись на свободные участки земли. Полями Томашевича не брезговали и вполне респектабельные господа. Там был раскинут палаточный лагерь, тянувшийся до берега реки. Конечно, ночевать в удушливом тумане на сырой глинистой почве было неуютно, но беззаботное настроение не исчезало, и по вечерам у костров часто царило веселье. Люди танцевали, болтали, многие ловили рыбу. Правда, ее обычно приходилось есть полусырой, так как почти сразу после умерщвления она приобретала тухлый вкус. В городе же на ночь оставался только всякий сброд, искавший поживы. Ходить по улицам можно было лишь днем, да и то с большой осторожностью, так как уже много людей пострадало от обвалившихся стен.
Доктор Лампенбоген устроил амбулаторию в заброшенном парке. Там я встретил его, когда он возился с больными, одетый в серый халат. Он рассказал мне про то, как обрушились два этажа в «Голубом гусе»: восемьдесят шесть погибших, семнадцать раненых. Это случилось во время очередного собрания. Американец чудесным образом остался невредимым, но его слуга Джон — доктор кивнул в сторону человека в окровавленных бинтах — получил тяжелые травмы.
Удача ему изменила, посетовал доктор, большинство пациентов умирает.
В бараке передо мной открылось жуткое зрелище: грязь, нехватка перевязочного материала, ржавые инструменты. В леднике, который Лампенбоген каждый раз тщательно закрывал, хранились холодные закуски и стеклянные кровососные банки. Я посчитал уместным выразить доктору свое соболезнование. Он равнодушно усмехнулся и ответил: «Как видите, я отношусь к этому по-другому; не так, как вы». Похоже, он не слишком горевал по своей Мелитте.
Официальный бюллетень и «Зеркало грез» закрылись, «Голос» перешел в собственность американца. Он выходил только экстренными выпусками и освещал события дня в телеграфном стиле. По вечерам Жак со своей шпаной громко рекламировали листки. Они пользовались большим спросом, так как приносили все более волнующие новости.
Я больше не заходил в свою квартиру и старался избегать кафе. Помимо грязи теперь мне стал противен и Антон: он фамильярно похлопывал посетителей по плечу и говорил на несусветном жаргоне, пересыпанном диалектными словечками.
Жители столицы постепенно переселялись на свободные участки земли. Полями Томашевича не брезговали и вполне респектабельные господа. Там был раскинут палаточный лагерь, тянувшийся до берега реки. Конечно, ночевать в удушливом тумане на сырой глинистой почве было неуютно, но беззаботное настроение не исчезало, и по вечерам у костров часто царило веселье. Люди танцевали, болтали, многие ловили рыбу. Правда, ее обычно приходилось есть полусырой, так как почти сразу после умерщвления она приобретала тухлый вкус. В городе же на ночь оставался только всякий сброд, искавший поживы. Ходить по улицам можно было лишь днем, да и то с большой осторожностью, так как уже много людей пострадало от обвалившихся стен.
Доктор Лампенбоген устроил амбулаторию в заброшенном парке. Там я встретил его, когда он возился с больными, одетый в серый халат. Он рассказал мне про то, как обрушились два этажа в «Голубом гусе»: восемьдесят шесть погибших, семнадцать раненых. Это случилось во время очередного собрания. Американец чудесным образом остался невредимым, но его слуга Джон — доктор кивнул в сторону человека в окровавленных бинтах — получил тяжелые травмы.
Удача ему изменила, посетовал доктор, большинство пациентов умирает.
В бараке передо мной открылось жуткое зрелище: грязь, нехватка перевязочного материала, ржавые инструменты. В леднике, который Лампенбоген каждый раз тщательно закрывал, хранились холодные закуски и стеклянные кровососные банки. Я посчитал уместным выразить доктору свое соболезнование. Он равнодушно усмехнулся и ответил: «Как видите, я отношусь к этому по-другому; не так, как вы». Похоже, он не слишком горевал по своей Мелитте.
Официальный бюллетень и «Зеркало грез» закрылись, «Голос» перешел в собственность американца. Он выходил только экстренными выпусками и освещал события дня в телеграфном стиле. По вечерам Жак со своей шпаной громко рекламировали листки. Они пользовались большим спросом, так как приносили все более волнующие новости.
 В последние дни выросло число патологических явлений. Встречаясь на улицах, люди грез часто впадали в странное состояние: они начинали совершать одинаковые непроизвольные движения, воздевая руки и делая бессмысленные жесты. Через пару минут это внезапно проходило, и люди вели себя как прежде.
Во время длинной публичной речи на открытом воздухе какой-нибудь случайный слушатель вдруг повторял ее слово в слово скороговоркой несколько раз подряд, начиная то с начала, то с конца, словно заевшая пластинка. Повальное распространение приобрели речевые расстройства. Иным не хватало слов, понятий, звуков, другие периодически онемевали.
Многие стали нелюдимыми и переселились в глушь.
С напитками приходилось соблюдать большую осторожность. Алкоголь действовал как яд, хотя были и исключения: люди со слабым здоровьем, а также женщины и дети подчас поглощали спиртное литрами.
На Длинной улице я еще раз встретил маленького Джованни Баттисту. Он был в составе шумной шайки обезьян, оккупировавших магазин старьевщика Блюменштиха. Они расположились на изъеденной молью мягкой мебели. Я узнал Джованни среди мартышек по его красному пояску. Я позвал его, но он не отвлекся от галантной игры с самочками; к этому времени он уже вернулся в свое естественное состояние.
Напряжение в атмосфере достигло предела; по ночам в небесах подрагивали бледно-серебристые сполохи в форме серпантина, продолговатые заостренные ленты, напоминавшие северное сияние. Анахореты, дервиши, факиры покинули свои пустыни и горы и возвещали на площадях, что близятся последние времена. Они призывали к покаянию, но над их предсказаниями только смеялись.
Перед концом разыгрался еще один фарс: «черная рыба». Так в экстренных листках назвали гигантское чудовище, которое в течение доброго часа виднелось ниже по течению Негро. Громадное неподвижное туловище лежало по середине русла, словно стоящий на якоре военный корабль. Люди приготовились к нападению нового, неведомого зверя Участок лагеря на полях Томашевича, непосредственно примыкающий к реке, был покинут. Как только распространилась ужасная новость на кирпичном заводе был устроен наблюдательный пост. Все сбегались, чтобы посмотреть на колосса. О, люди были готовы дорого продать свою жизнь! Я тоже находился среди взволнованной толпы и смотрел в старую картонную подзорную трубу, но, к сожалению, через потускневшие, слепые линзы в туманной дали было трудно что-нибудь разглядеть.
«Это гренландский кит, — поучал меня стоявший рядом профессор. — До сих пор его наблюдали только в арктических морях».
Удивительный зверь не шевелился, город ощущал свою полную беспомощность перед надвигающейся опасностью. Некоторые предлагали обстрелять его издали из пушки, но кто мог знать, как чудовище воспримет нападение? Может быть, оно изрыгнет какой-нибудь яд и разрушит то немногое, что у нас еще оставалось? Лучше было погодить — глядишь, оно и уберется восвояси.
Среди всеобщей неуверенности несколько отчаянных голов проявили великолепное, достойное всяческого признания мужество. Пожалуй, это было последним запомнившимся мне проявлением здорового человеческого инстинкта; потом уже все пошло кувырком. Два крестьянских парня, солдат и охотник — все четверо совсем еще молодые люди — решили пожертвовать собой ради спасения большинства. Их план был таков: спуститься на лодке вниз по реке, незаметно приблизиться к чудищу и забросать его ручными гранатами. Может быть, его даже удастся убить. В любом случае риск был велик.
Благородная жертва была принята: все сбежались, чтобы посмотреть на юных спасителей. Священник в ризе дал им благословение, каждый из них причастился. Растроганная и восторженная толпа растянулась от мельницы до кладбища.
Четверо отправились к шлюзу. Спустили на воду последнюю полусгнившую лодку и медленно поплыли вниз по течению. Двоим приходилось непрерывно вычерпывать проникающую в лодку воду. Вот уже суденышко достигло излучины реки. Сейчас оно приблизится непосредственно к чудовищу. Все вытянули шеи и затаили дыхание. Никто не издавал ни звука, если не считать почесывания. Маленькая экспедиция находилась совсем рядом с монстром и до сих пор оставалась целой и невредимой. К удивлению толпы долгое время ничего не происходило; внезапно вдали что-то сверкнуло — и гигантское животное медленно ушло под воду.
Тысячеголосый ликующий вопль вознаградил героев!
Всеобщее изумление достигло пределов, когда выяснилось, что это был воздушный шар, снизившийся над страной грез и случайно зацепившийся за ветви прибрежных ив.
В последние дни выросло число патологических явлений. Встречаясь на улицах, люди грез часто впадали в странное состояние: они начинали совершать одинаковые непроизвольные движения, воздевая руки и делая бессмысленные жесты. Через пару минут это внезапно проходило, и люди вели себя как прежде.
Во время длинной публичной речи на открытом воздухе какой-нибудь случайный слушатель вдруг повторял ее слово в слово скороговоркой несколько раз подряд, начиная то с начала, то с конца, словно заевшая пластинка. Повальное распространение приобрели речевые расстройства. Иным не хватало слов, понятий, звуков, другие периодически онемевали.
Многие стали нелюдимыми и переселились в глушь.
С напитками приходилось соблюдать большую осторожность. Алкоголь действовал как яд, хотя были и исключения: люди со слабым здоровьем, а также женщины и дети подчас поглощали спиртное литрами.
На Длинной улице я еще раз встретил маленького Джованни Баттисту. Он был в составе шумной шайки обезьян, оккупировавших магазин старьевщика Блюменштиха. Они расположились на изъеденной молью мягкой мебели. Я узнал Джованни среди мартышек по его красному пояску. Я позвал его, но он не отвлекся от галантной игры с самочками; к этому времени он уже вернулся в свое естественное состояние.
Напряжение в атмосфере достигло предела; по ночам в небесах подрагивали бледно-серебристые сполохи в форме серпантина, продолговатые заостренные ленты, напоминавшие северное сияние. Анахореты, дервиши, факиры покинули свои пустыни и горы и возвещали на площадях, что близятся последние времена. Они призывали к покаянию, но над их предсказаниями только смеялись.
Перед концом разыгрался еще один фарс: «черная рыба». Так в экстренных листках назвали гигантское чудовище, которое в течение доброго часа виднелось ниже по течению Негро. Громадное неподвижное туловище лежало по середине русла, словно стоящий на якоре военный корабль. Люди приготовились к нападению нового, неведомого зверя Участок лагеря на полях Томашевича, непосредственно примыкающий к реке, был покинут. Как только распространилась ужасная новость на кирпичном заводе был устроен наблюдательный пост. Все сбегались, чтобы посмотреть на колосса. О, люди были готовы дорого продать свою жизнь! Я тоже находился среди взволнованной толпы и смотрел в старую картонную подзорную трубу, но, к сожалению, через потускневшие, слепые линзы в туманной дали было трудно что-нибудь разглядеть.
«Это гренландский кит, — поучал меня стоявший рядом профессор. — До сих пор его наблюдали только в арктических морях».
Удивительный зверь не шевелился, город ощущал свою полную беспомощность перед надвигающейся опасностью. Некоторые предлагали обстрелять его издали из пушки, но кто мог знать, как чудовище воспримет нападение? Может быть, оно изрыгнет какой-нибудь яд и разрушит то немногое, что у нас еще оставалось? Лучше было погодить — глядишь, оно и уберется восвояси.
Среди всеобщей неуверенности несколько отчаянных голов проявили великолепное, достойное всяческого признания мужество. Пожалуй, это было последним запомнившимся мне проявлением здорового человеческого инстинкта; потом уже все пошло кувырком. Два крестьянских парня, солдат и охотник — все четверо совсем еще молодые люди — решили пожертвовать собой ради спасения большинства. Их план был таков: спуститься на лодке вниз по реке, незаметно приблизиться к чудищу и забросать его ручными гранатами. Может быть, его даже удастся убить. В любом случае риск был велик.
Благородная жертва была принята: все сбежались, чтобы посмотреть на юных спасителей. Священник в ризе дал им благословение, каждый из них причастился. Растроганная и восторженная толпа растянулась от мельницы до кладбища.
Четверо отправились к шлюзу. Спустили на воду последнюю полусгнившую лодку и медленно поплыли вниз по течению. Двоим приходилось непрерывно вычерпывать проникающую в лодку воду. Вот уже суденышко достигло излучины реки. Сейчас оно приблизится непосредственно к чудовищу. Все вытянули шеи и затаили дыхание. Никто не издавал ни звука, если не считать почесывания. Маленькая экспедиция находилась совсем рядом с монстром и до сих пор оставалась целой и невредимой. К удивлению толпы долгое время ничего не происходило; внезапно вдали что-то сверкнуло — и гигантское животное медленно ушло под воду.
Тысячеголосый ликующий вопль вознаградил героев!
Всеобщее изумление достигло пределов, когда выяснилось, что это был воздушный шар, снизившийся над страной грез и случайно зацепившийся за ветви прибрежных ив.
8
Наверное, ни в чем распад царства грез не выразился столь наглядно, как в нравах, сценой для которых служило популярное заведение мадам Адриенн во Французском квартале. До сих пор оно процветало в скромной тишине, пользуясь поддержкой и советами многоопытных старцев. Теперь же на любопытные и весьма строгие приемные экзамены являлись представительницы высших слоев общества в изысканных туалетах.Предложение Кастрингуса выдавать заверенные докторские дипломы было отвергнуто: ему объявили, что здесь не научный факультет, культовое учреждение. Нестойкость тканей послужила толчком к изобретению знаменитых платьев с прорезями. Даже респектабельные дамы — и они-то в первую очередь — доходили в этом отношении до крайности; именно от них пошла идея так называемых «меню»; что это значило — я только намекну, надеясь при этом на скромную фантазию читателей. Если сказать коротко — они флиртовали и предавались любовным утехам! Но это не передаст точного смысла происходившего. Меню представляли собой отпечатанные на бумаге приглашения на интимные празднества. Обыкновенный список кушаний, как-тое: сэндвичи, оленье жаркое, шарлотка по-русски и т. п. — на деле обозначал технические детали любовной игры, узнать которые вряд ли доставит удовольствие моим читателям. В нашем старом кафе тоже происходили таинственные оргии: во всяком случае, однажды я видел, как туда вносили кипы скабрезных картинок, зеркала, ванны, матрацы. Я спросил хозяина, что бы все это значило. — Ах, пустяки! Небольшое переустройство! — ответил он со слащавой улыбкой. Когда вечером я снова проходил мимо, ставни были закрыты. Раньше такого не случалось. Косо приклеенная на двери бумажка оповещала: «Закрыто на частное обслуживание!» Изнутри доносились шум, отрывочные слова и громогласный смех. Несколько прибежавших в город священников разбалтывали тайны храмовых мистерий. Можно представить себе, как это действовало на чернь. Органы плодородия воспринимались ею не как символы таинственных сил и наслаждений, но напрямую почитались как божества, от которых ожидали помощи. Величайшая из мистерий — таинство крови — тоже была разглашена и породила безумие. Она стала одной из главных причин высвобождения разрушительных инстинктов Неудивительно, что при засилье опасных зверей люди стремились к взаимной защите. Под этим предлогом в палатках спали группами под одним одеялом. Появилось даже красивое название для этого обычая: «общественный сон». Воздух был как в духовке, над болотами и заводями реки блуждали неяркие синие огоньки. В царстве грез царили вечные сумерки. Я шел по лагерю; сегодня в нем стояла поразительная тишина. В палатках лежали люди, поглядывая друг на друга из-под полусмеженных век. Казалось, они все чего-то ждут. И вдруг над равниной послышалось все нарастающее гудение и приглушенный смех. Меня объял ужас! Это походило на припадок душевной болезни. И, как если бы внезапно грянула буря, люди набросились друг на друга. Тут не щадили ничего — ни семейных уз, ни болезни, ни юного возраста. Ни одно человеческое существо не могло совладать с этим первобытным инстинктом: жадно выпучив глаза, каждый высматривал для себя тело, чтобы прилепиться к нему. Я бросился к кирпичному заводу и притаился там. Сквозь дыру в стене я увидел настоящий кошмар. Отовсюду раздавались стоны и кряхтение вперемежку с пронзительными взвизгами и отдельными глубокими вздохами; море обнаженной плоти колыхалось и трепетало. Я холодно и безучастно воспринимал эту бессмысленно-механическую составляющую примитивного процесса, находя в гротескном зрелище нечто сродное с миром насекомых. Запах крови распространился по всей округе; свет лагерных костров временами выхватывал отдельные группы из общей каши. Я живо запомнил бородатого старика, который сидел на корточках, вперившись взором в живот беременной женщины, и беспрерывно что-то бормотал — это было похоже на молитву безумного. Вдруг поблизости раздался визг, в котором слились экстаз и боль. К своему ужасу я обнаружил, что желтоволосая проститутка отгрызла у пьяного мужчины его мужское достоинство. Я видел его остекленевшие глаза; он барахтался в собственной крови. Почти одновременно сверкнул топор — за покалеченного нашелся мститель. В тени палаток занимались рукоблудством, вдалеке прозвучал возглас «браво» — там совокуплялись наши домашние животные, охваченные всеобщим помешательством. Но самое сильное впечатление произвело на меня дремотное, в чем-то идиотическое выражение этих воспаленных или, наоборот, бледных лиц, наводившее на мысль о том, что эти бедняги действовали не по собственной воле. То были автоматы, машины, запущенные в ход и предоставленные самим себе, в то время как дух пребывал где-то в другом месте. Появление де Неми в униформе и в сопровождении нескольких молодчиков из банды Жака только подлило масла в огонь. Притащили фортепьяно, и де Неми принялся барабанить по клавишам, беспрерывно наигрывая начальные такты одного и того же уличного мотива. Пьяная толпа под зверские командные выкрики пыталась спариваться группами. Детей натравливали друг на друга. Этот призрачный ад простирался до самой реки, над которой стелилась красноватая дымка. Пробудилась жажда крови! Огромный нескладный парень зарычал как бык и бросился на другого с длинным ножом. Убийство! Затем еще одно! Парень впал в бешенство; музыка умолкла. Несколько женщин катались по земле бледные как мел, в истерических судорогах. Отовсюду доносился рев одержимых жаждой убивать. Звери так не рычат! Охваченных бешенством забивали насмерть. Происходили ожесточенные схватки. Ворота находящихся по соседству винных погребов были взломаны, в лагерь прикатили огромные бочки. Все перепились. Шумная компания ввалилась в купальню, какой-то шутник запер за ней дверь. Потом оттуда долго звучали жуткие крики о помощи, но пьяный лагерь не обращал на них внимания; вопли постепенно стихли. Я видел, как стайка обожравшихся крокодилов соскользнула в воду. Несколько негодяев оскверняли свежие могилы на близлежащем кладбище; шелудивый пес, привлеченный запахом крови, набросился на попавшую под колесо кошку. Тут я обнаружил рядом с собой скрюченное существо. Это был Брендель. Он глядел на меня и бессмысленно смеялся. «Брендель, что случилось?» — я легонько встряхнул его. — Мелитта, — медленно выговорил он и снова захихикал. Я понял: несчастный потерял рассудок после гибели своей любовницы. Большинство костров погасло, вокруг стало тише. Я удостоверился в том, что могу покинуть свое укрытие. Было слышно только храпение пьяных. Продолжал гореть большой костер, пожирая обломки фортепьяно. И в его свете я различил мощную фигуру. Американец! Он был одет по-праздничному — во фрак и курил свою неизменную короткую трубку. Он шел, перешагивая через спящих, и какая-то голая баба приподнялась и попыталась удержать его. Но — р-раз! — от удара хлыстом на ее белой спине сразу вспыхнула ярко-красная полоса. Американец скрылся в темноте — он направлялся в город, откуда как раз в эту минуту донесся грозный гул. Час американца настал!9
По городу разошелся экстренный выпуск газеты, возвещавший о новом несчастье: большой храм исчез в водах озера. Известие принесли монахи. Согласно предположениям, главные опоры были уже давно подмыты, и теперь подалась мягкая песчаная почва. Несколько священников утонули во время пения своих гимнов. Они были застигнуты гибелью врасплох, поскольку их трубы еще звучали, когда здание уже наполовину ушло под воду. Все произошло очень быстро — тяжелые мраморные стены погрузились не обрушившись. Уцелевшие святые братья узнали об опасности только по звуку бурлящей воды, выдавившей витражи, — благодаря своей тучности они сумели спастись вплавь. Неугасимый свет еще озарял окна храма глубоко под водой, так что они горели как глаза сказочного чудовища. Потом они медленно погасли, одно за другим; лишь серебряные и золотые купола продолжали светиться и мерцать, пока и их не поглотили волны. Труп высокочтимого первосвященника выбросило на берег, остальные нашли свою могилу в озере грез. Все сокрушались о пропавших легендарных сокровищах, а я — в особенности: ведь мне так и не выдалась возможность увидеть великолепие храма воочию. К этому времени исчезли все крупные звери. Это имело свою отрицательную сторону, которую никто не мог предвидеть. Чем было теперь утолять голод? Стада и тучи насекомых опустошили поля и сады. Все съестные припасы испортились, яйца, соленое и копченое мясо протухли; стране угрожал голод. Две сестры из Северной Германии выступили с практическим предложением. Одна из них изучала химию и поставила смелые опыты, которые, по ее мнению, прошли успешно. Сестры собирались с помощью только им известного метода обезвреживать дохлую рыбу, в больших количествах выносившуюся волнами на берег, и превращать ее в съедобный продукт. Но, несмотря на их добрые намерения, женщинам заплатили черной неблагодарностью: их линчевала разъяренная толпа.10
В последнее время стало невозможно отличить день от ночи; в однородном сером полумраке было трудно ориентироваться. Поскольку все часовые механизмы проржавели и остановились, счет времени у нас прекратился, и я не могу сказать, как долго длилось состояние распада. Временами еще видели хищных зверей — исхудалых, с ввалившимися боками, — но при виде людей они убегали, поджав хвосты. Из пыльных углов вытаскивали засохшие трупики змей. Чтобы предотвратить развитие эпидемии, граждане города получили приказ сбрасывать все трупы в реку. Это распоряжение, однако, почти не выполнялось, так как никто не осмеливался обыскивать разрушающиеся постройки. Дохлые кролики и змеи смердели по всему городу. Из подворотен в нос прохожему ударял запах падали. Верхняя часть доходного дома Лампенбогена развалилась, в воздухе торчали камни и часть задней стены. Квартиры были видны в разрезе: несколько забытых картин еще висели на покрытых цветастыми обоями стенах нашей бывшей спальни. Через большую треугольную дыру просматривался грязный потолок в покоях принцессы. Молочная стала добычей грибка; он облепил окна и двери, деформировал все строение и теперь свисал с чердака большими белесыми лоскутами. Деревянный дом речного сторожа рухнул под тяжестью собственной крыши, превратившейся в мох. Кафе умирало словно кокотка, пытающаяся до самого конца сохранить внешнюю привлекательность. Снаружи здание еще казалось ухоженным; но внутри было полно обломков верхнего этажа и чердака. Странным образом уцелело одно оконное стекло: через него были видны два гигантских муравейника, из которых проглядывали белые косточки. Между муравейниками стоял шахматный столик, и на доске был поставлен эффектный мат.
Я проследовал своей любимой дорогой к берегу Негро — всюду то же безотрадное зрелище. Возле живодерни — непереносимая вонь, так что пришлось зажать нос и рот тряпкой, служившей мне в качестве носового платка. Ограда двора обвалилась в реку, трупы животных валялись кучами. В воздухе стояло равномерное жужжание — повсюду вились миллионы жирных навозных мух. Я спустился к реке, чтобы отдышаться; там воздух был немного почище. От купальни почти ничего не осталось. Из воды торчали несколько досок и столбов, густо покрытых зеленой тиной и облепленных червями. Неожиданно стало светло, и, оглянувшись в испуге, я увидел, что горит мельница. Окна были залиты ослепительным заревом пожара. Гнилые балки скрипели и трещали. Из-под островерхой гонтовой крыши повалил дым, мощный язык пламени вырвался вверх, и передняя стена с грохотом обрушилась. Подсвеченный изнутри мельничный механизм был в движении; казалось, будто смотришь внутрь вскрытого человеческого тела. Колеса еще вращались, жернова крутились, лотки подрагивали, мучная пыль легкой дымкой стояла в воздухе. Пламя жадно лизало трухлявые стремянки и лестницы, и медленно, словно сопротивляясь, одна за другой отказывали части мельничного механизма — подобно внутренним органам умирающего.
Кафе умирало словно кокотка, пытающаяся до самого конца сохранить внешнюю привлекательность. Снаружи здание еще казалось ухоженным; но внутри было полно обломков верхнего этажа и чердака. Странным образом уцелело одно оконное стекло: через него были видны два гигантских муравейника, из которых проглядывали белые косточки. Между муравейниками стоял шахматный столик, и на доске был поставлен эффектный мат.
Я проследовал своей любимой дорогой к берегу Негро — всюду то же безотрадное зрелище. Возле живодерни — непереносимая вонь, так что пришлось зажать нос и рот тряпкой, служившей мне в качестве носового платка. Ограда двора обвалилась в реку, трупы животных валялись кучами. В воздухе стояло равномерное жужжание — повсюду вились миллионы жирных навозных мух. Я спустился к реке, чтобы отдышаться; там воздух был немного почище. От купальни почти ничего не осталось. Из воды торчали несколько досок и столбов, густо покрытых зеленой тиной и облепленных червями. Неожиданно стало светло, и, оглянувшись в испуге, я увидел, что горит мельница. Окна были залиты ослепительным заревом пожара. Гнилые балки скрипели и трещали. Из-под островерхой гонтовой крыши повалил дым, мощный язык пламени вырвался вверх, и передняя стена с грохотом обрушилась. Подсвеченный изнутри мельничный механизм был в движении; казалось, будто смотришь внутрь вскрытого человеческого тела. Колеса еще вращались, жернова крутились, лотки подрагивали, мучная пыль легкой дымкой стояла в воздухе. Пламя жадно лизало трухлявые стремянки и лестницы, и медленно, словно сопротивляясь, одна за другой отказывали части мельничного механизма — подобно внутренним органам умирающего.
 Напоследок в пламя рухнул большой ларь для муки. Там где он стоял, я заметил пару старомодных сапог с отворотами, из которых торчали полусгнившие ноги — остальное скрывали горящие балки. Позади меня прозвучал глухой голос: «Я сделал это! Я сделал это уже в четвертый раз и буду делать это всегда!»
Это был мельник. Он достал коробку, вынул из нее бритву, попробовал ногтем лезвие и перерезал себе горло. Он повалился наземь, кровь ручьем хлынула ему на грудь. Лицо его исказила сатанинская гримаса…
В один из тех дней воры пробрались в монастырскую церковь, взломали дарохранительницу и выкрали украшенные драгоценными камнями реликвии. Монахини не смогли воспрепятствовать похищению, поскольку сами находились в плачевном положении. Толпа увечных и немощных, регулярно кормившихся в монастыре и потому знавших в нем каждый закоулок, штурмовала больницу. Ha их яростные требования выдать им продукты сестры ответили отказом, так как сами ничего не имели. Тогда, нагло смеясь, те потребовали иного удовлетворения. Словно на ведьмовском шабаше — кто ковыляя, кто ползком — вся эта мразь подступала к монахиням. Одна из них, еще совсем молодая, красивая девушка стала защищаться и выбила глаз парню с двойным зобом. В наказание ее привязали к железной койке, и твари, кишащие насекомыми и покрытые струпьями, с провалившимися носами, гноящимися глазами и нарывами величиной с кулак разом навалились на девушку. Во время этого осквернения она сперва потеряла рассудок, а потом умерла. Другие монахини послушно покорились неотвратимой судьбе; только восьмидесятилетняя настоятельница избежала испытания — быть может, благодаря своим горячим молитвам.
Напоследок в пламя рухнул большой ларь для муки. Там где он стоял, я заметил пару старомодных сапог с отворотами, из которых торчали полусгнившие ноги — остальное скрывали горящие балки. Позади меня прозвучал глухой голос: «Я сделал это! Я сделал это уже в четвертый раз и буду делать это всегда!»
Это был мельник. Он достал коробку, вынул из нее бритву, попробовал ногтем лезвие и перерезал себе горло. Он повалился наземь, кровь ручьем хлынула ему на грудь. Лицо его исказила сатанинская гримаса…
В один из тех дней воры пробрались в монастырскую церковь, взломали дарохранительницу и выкрали украшенные драгоценными камнями реликвии. Монахини не смогли воспрепятствовать похищению, поскольку сами находились в плачевном положении. Толпа увечных и немощных, регулярно кормившихся в монастыре и потому знавших в нем каждый закоулок, штурмовала больницу. Ha их яростные требования выдать им продукты сестры ответили отказом, так как сами ничего не имели. Тогда, нагло смеясь, те потребовали иного удовлетворения. Словно на ведьмовском шабаше — кто ковыляя, кто ползком — вся эта мразь подступала к монахиням. Одна из них, еще совсем молодая, красивая девушка стала защищаться и выбила глаз парню с двойным зобом. В наказание ее привязали к железной койке, и твари, кишащие насекомыми и покрытые струпьями, с провалившимися носами, гноящимися глазами и нарывами величиной с кулак разом навалились на девушку. Во время этого осквернения она сперва потеряла рассудок, а потом умерла. Другие монахини послушно покорились неотвратимой судьбе; только восьмидесятилетняя настоятельница избежала испытания — быть может, благодаря своим горячим молитвам.
11
Американец расхаживал по городу как хозяин, но даже ему один раз пришлось туго. Он появился со своими телохранителями перед банком, чтобы выдать им, своим верным псам, обещанное вознаграждение. Все были удивлены, когда обнаружили, что массивные двери огромного, хотя и несколько потрепанного здания стояли открытыми настежь. Во время дальнейшего осмотра выяснилось, что в главной кассе осталось всего 83 крейцера. Депозиты вообще отсутствовали. Жак, де Неми и другие вожаки банды уставились на американца с недоверием. «Так я и знал! — крикнул он злобно. — Вперед — к Блюменштиху!» Банкир Блюменштих встретил их в своем садовом салоне среди увядших цветов. Он принял гостей с умиротворенным, посиневшим лицом: он был мертв. Банкир укрылся здесь от преследовавшего его осиного роя, и пока он кричал что было мочи, призывая на помощь, одно из насекомых ужалило его в язык, от чего он задохнулся. Все снова уставились на американца, который на сей раз произнес всего одно слово: «Проклятие!» — «Ты обещал нам деньги, поделись с нами своим золотом!» — кричали разозленные парни. «Поищите его сами среди развалин отеля!» — гневно и разочарованно воскликнул американец. Жак обменялся с другими коварным взглядом и, пряча нож, двинулся на американца. Тот зорко следил за его движениями и ударом своего кистеня поверг бандита наземь. Затем Геркулес Белл хладнокровно встал спиной к стене садового домика. В каждой из рук он держал по браунингу. «Кто из вас хочет быть среди первых шестнадцати?» — спросил он металлическим голосом. Бандиты не ожидали такого поворота событий; передние пригнулись и подались назад, но задние, рыча, снова вытолкнули парней вперед. Резко, звонко и быстро защелкали выстрелы; перед американцем выросла гора трупов — их было куда больше шестнадцати, потому что каждая пуля пробивала нескольких молодчиков одновременно. А он стоял — во фраке с непокрытой головой, прямой и широкоплечий — и не выпускал короткую трубку из зубов. Его мощные выпуклые лобные доли придавали всему лицу нечто дьявольское, его неподвижный взгляд действовал на распоясавшуюся толпу как хлыст укротителя. Никто не осмеливался наброситься на него или выстрелить. Но задние продолжали напирать, и, поддавшись нажиму, передние ряды бросились через убитых. Клубок из человеческих тел лишал Белла свободы движений. На высоте груди, в двух пядях от своего лица, он видел эти бледные маски, карикатуры на человеческие лица. Его грудь мощно вздымалась, он дышал с шумом, как паровая машина. «Долой его, долой!» — раздавались в его ушах зловещие крики. Но тут ему на помощь пришел непредвиденный случай. Откуда-то из-за толпы донеслись громкие проклятия; они приближались.
— Кто это? — крикнул чей-то голос. — Кто?
— Готхельф Флаттих, сильный Готхельф! Осторожно! Берегитесь!
Обнаженный по пояс чернокожий великан прокладывал себе дорогу через толпу. Люди, ворча, расступались перед негром, который был выше их всех на добрых полторы головы. Он был привлечен криками и стрельбой и с одного взгляда оценил опасность, в которой оказался американец.
— Не трогать его! — гремел Готхельф, угрожающе размахивая железным ломом. Белки глаз гневно вращались на его черном лице. Всех, кто оказался вблизи, он поверг наземь и тем спас жизнь своему прежнему благодетелю.
Бандиты не ожидали такого поворота событий; передние пригнулись и подались назад, но задние, рыча, снова вытолкнули парней вперед. Резко, звонко и быстро защелкали выстрелы; перед американцем выросла гора трупов — их было куда больше шестнадцати, потому что каждая пуля пробивала нескольких молодчиков одновременно. А он стоял — во фраке с непокрытой головой, прямой и широкоплечий — и не выпускал короткую трубку из зубов. Его мощные выпуклые лобные доли придавали всему лицу нечто дьявольское, его неподвижный взгляд действовал на распоясавшуюся толпу как хлыст укротителя. Никто не осмеливался наброситься на него или выстрелить. Но задние продолжали напирать, и, поддавшись нажиму, передние ряды бросились через убитых. Клубок из человеческих тел лишал Белла свободы движений. На высоте груди, в двух пядях от своего лица, он видел эти бледные маски, карикатуры на человеческие лица. Его грудь мощно вздымалась, он дышал с шумом, как паровая машина. «Долой его, долой!» — раздавались в его ушах зловещие крики. Но тут ему на помощь пришел непредвиденный случай. Откуда-то из-за толпы донеслись громкие проклятия; они приближались.
— Кто это? — крикнул чей-то голос. — Кто?
— Готхельф Флаттих, сильный Готхельф! Осторожно! Берегитесь!
Обнаженный по пояс чернокожий великан прокладывал себе дорогу через толпу. Люди, ворча, расступались перед негром, который был выше их всех на добрых полторы головы. Он был привлечен криками и стрельбой и с одного взгляда оценил опасность, в которой оказался американец.
— Не трогать его! — гремел Готхельф, угрожающе размахивая железным ломом. Белки глаз гневно вращались на его черном лице. Всех, кто оказался вблизи, он поверг наземь и тем спас жизнь своему прежнему благодетелю.

12
Толпа собралась перед архивом. Распахнулись обе створки главных ворот, из них вышел его превосходительство в сопровождении небольшой свиты. Этот важный господин был облачен в расшитую золотом парадную форму со всеми орденами и в походный шлем, украшенный перьями. Издали он походил на райскую птицу. Он поднялся на невысокую, наспех сколоченную трибуну. Народ умолк. — Господа, вы вероятно, заметили, что мы живем в необычное время. Этому должен быть положен предел; порядок будет восстановлен. Власти желают видеть своих подданых счастливыми. Наш высочайший повелитель решил объявить амнистию за все преступления и провинности. Я получил приказ уже сегодня открыть ворота нашей государственной тюрьмы — Вассербурга! — Уже давно сделано! — издевательским тоном крикнули в ответ. — Мы их сами освободили! — с хохотом орала чернь. Тюрьма находилась в одном дне пути ниже по течению реки на скалистом острове, неподалеку от городка Белламонте. Остаток речи его превосходительства потонул в общем гвалте — высокородный оратор только непрерывно открывал и закрывал рот. Наконец он убедился в бесплодности своих попыток усмирить толпу, откланялся и хотел было покинуть трибуну. Но едва его превосходительство повернулся, как со всех сторон раздался оглушительный хохот: у штанов с золотыми лампасами отвалилась тыльная часть. «Странно — чему так радуется народ?» — подумал он. Внезапно прогремел взрыв — пыль, дым… Многие повалились на землю, контуженные или убитые. Никто так и не узнал, откуда была брошена бомба. Мертвых и тяжелораненых уносили на носилках, горожане с ужасом провожали взглядом кровавые ноши, которые тащили мимо них длинными вереницами. Его превосходительству оторвало обе ноги; стальной осколок, попавший ему в живот, послужил причиной его смерти.13
Я ничего не знал об этих событиях, так как в этот час бродил по кладбищу. Обеспокоенный слухами о надругательствах над могилами, я хотел проведать место упокоения моей жены. Холмик не был поврежден, но маленький железный крест насквозь проела ржавчина. Вдалеке я разглядел свежие массовые захоронения — мертвых теперь зарывали на скорую руку, не глубже чем на четыре фута. Поднимающиеся из-под земли миазмы не могли не приманивать волков, одичалых псов и шакалов, которые рылись в свеженасыпанной мягкой земле и во время этого занятия могли служить удобной мишенью для охотников. Я был бы очень удивлен, если бы темная горбатая тварь, замеченная мною за мраморными глыбами взломанного склепа семьи Блюменштихов и испустившая хохочущий вой, оказалась не гиеной. Свинцовое небо нависало над кладбищем. Растоптанные бессмертники, ветки и увядшие венки усиливали гнетущую тоскливость этого места. Меня знобило, так как я давно уже забыл, что такое теплая постель. И тут мне вспомнилось, как недавно я прочел объявление о том, что в полицейских участках бездомным выдают одеяла. Один такой участок был пристроен к кладбищенскому моргу, соединяясь с ним коридором. Я побрел туда, печально опустив голову. Я испытывал легкое головокружение, сопровождавшееся странным ощущением, будто я ступаю по упругой массе — мху, сену или костре. Кипарисы, казалось, расступались передо мной; за тускло поблескивающими надгробиями я разглядел низенькое здание из грубо отесанного кирпича. Над открытой стеклянной дверью виднелась надпись: «Полицейский участок». Помещение, в которое я вступил, было обставлено более чем скудно. Большие квадратные окна располагались на уровне головы; сквозь матовые стекла едва просачивался свет. На выщербленных стенах висели официальные распоряжения в узких черных рамках; на задней стене над запертой дверью я увидел портрет Людвига II Баварского. С высокого выбеленного потолка свисали примитивные четырехугольные газовые рожки. А еще в комнате находился длинный грязный стол, на котором лежало нечто ужасное: раздутое короткое тело в расшитом золотом и запачканном кровью мундире. Оно было совершенно окоченевшим. Ноги отсутствовали по колено; пустые штанины были завязаны узлом. «Это король Баварии», — мелькнуло у меня в голове, и отныне я был уже твердо убежден в этом. Его жиденькая темная эспаньолка торчала кверху; я не осмеливался рассмотреть его распухшее лицо с более близкого расстояния, так как знал, что его коварные глаза продолжают жить и следят за каждым моим движением — а такими взглядами я уже был сыт по горло. Через стеклянную дверь справа от меня падала косая полоска света. «Наверное, тут есть кто-то из служащих?» — подумал я и повернул голову к двери. И тут же с ужасом отпрянул назад, ибо моему взору предстало длинное узкое помещение, в котором были навалены сотни трупов. Они лежали в серых холщовых метках, завязанных под горлом, так что снаружи торчали только головы; у большинства были позеленевшие лица с оскаленными в зловещей улыбке зубами; многие походили на высохшие мумии с подернутыми поволокой, расплющенными глазными яблоками; некоторые были упакованы с головой и снабжены бирками с адресами. Выступающие колени и локти позволяли предположить, что мертвецы находятся в жутко искривленных позах. На задней стене этого магазина трупов висела табличка с крупной надписью:Зал для скоропостижно скончавшихся.Делая большой крюк вокруг Людвига II, я собирался выйти на открытый воздух, как вдруг меня осенило, что человеческий обрубок в шитой золотом униформе — вовсе не король Баварии, а наш регирунгспрезидент «Я знаю тайну, — сказал я себе, — и никому ее не открою. Возможно, это все-таки король Баварии».
14
Мое внимание привлекло меланхоличное карканье ворон. Птицы сидели длинными рядами впритык друг к другу на крыше кирпичного завода. Время от времени они срывались с места целыми взводами и выполняли в воздухе сложнейшие маневры. В небе над рекой еще стояло зарево от догорающей мельницы. Тут меня чуть не сшиб с ног голый мужчина, несшийся сломя голову. За ним гналась целая стая собак! В метре от меня он резко свернул и стал вскарабкиваться на дерево, торчавшее как голая метла. На нем были только лаковые ботинки и тюрбан из газетной бумаги. С удивительной силой и ловкостью, какие трудно было заподозрить в этом изможденном теле, он цеплялся за сучья липы и, несмотря на какой-то предмет, который он упорно тащил за собой, взбирался все выше и выше, словно обезьяна. Предмет, который был так ему дорог, постоянно запутывался в мелких ветках, и он с комично серьезным видом каждый раз пытался высвободить его. Четвероногие преследователи окружили дерево и злобно гавкали на беглеца, как на кошку. Со стороны кладбища появился отряд полицейских в шлемах. Человек на дереве выронил свое сокровище, с отчаянным воплем сам прыгнул следом, подхватил его и ринулся прочь — собаки за ним; огромный черный ньюфаундленд наступал ему на пятки. Один из полицейских прицелился в собаку, бежавшую впереди других. Ньюфаундленд свалился, но пуля достала и преследуемого; он тоже упал. Только теперь я разглядел, что это был Брендель. Мы стояли над ним, в то время как он пытался подняться на ноги. На губах безумца выступила пена, он хныкал. Из маленькой ранки под правой лопаткой почти не вытекало крови. Постепенно он стал затихать; потом его сотрясла короткая судорога — и он умер. Полицейские с любопытством приподняли застреленного, чтобы рассмотреть тот предмет, с которым несчастный так не хотел расставаться; это была сильно изуродованная тлением голова с длинными густыми каштановыми волосами. Она производила впечатление живой. В пустых глазницах и вокруг губ, казавшихся приклеенными, кишела какая-то масса — это были черви.
Полицейские с любопытством приподняли застреленного, чтобы рассмотреть тот предмет, с которым несчастный так не хотел расставаться; это была сильно изуродованная тлением голова с длинными густыми каштановыми волосами. Она производила впечатление живой. В пустых глазницах и вокруг губ, казавшихся приклеенными, кишела какая-то масса — это были черви.
15
В городе нарастало возмущение. Со стороны дворцового парка подступали военные, несколько эскадронов кирасир заняли позицию перед дворцом — все отборные, красивые парни, на которых не очень сказалась нищета последних недель. Нагрудные панцири и шлемы были тронуты ржавчиной, но вполне сохранили свои защитные свойства. За наспех возведенными баррикадами залегли мятежники, готовые обороняться; под предводительством де Неми — единственного офицера, изменившего Патере, — они несколько часов тому назад разгромили арсенал и теперь имели сколько угодно оружия. У повстанцев был десятикратный перевес, и это придавало им смелости. На противоположной стороне кони нетерпеливо рыли копытами землю. То, что у сброда есть ружья, не на шутку беспокоило старого и многоопытного полковника Душницкого. Не нравилось ему и состояние лошадей: все они были нервными, плохо накормленными и неухоженными. Ранее полковник намеревался дождаться обещанного подкрепления, но теперь уже нельзя было терять времени: пока бы оно подоспело, повстанцы заняли бы архив, и тогда кавалерия уже ничего бы не смогла сделать. Кроме того, стены из булыжников вырастали с каждой минутой. Несколько лейтенантов перешучивались и закуривали сигареты. Они собирались дать бунтовщикам хорошую трепку и очистить улицы от сброда — для молодых офицеров такие вещи всегда увлекательны. Выпрямившись в седлах, тупо застыли на месте солдаты. Неожиданно раздался выстрел, и один из всадников упал с коня. Полковник сделал знак и выехал перед строем. Его прямодушное и суровое лицо солдата с дубленой бронзовой кожей в эту минуту выглядело просто прекрасным. Он отсалютовал безмолвному дворцу — это был своего рода «Привет Цезарю!», потом прозвучали сигналы горна, и сомкнутый строй конницы с громким «ура!» двинулся на баррикаду. Вытянув вперед палаши, с развевающимися на ветру призрачными султанами на шлемах всадники мчались, склонясь к шеям коней. Их встретил дружный залп. Пять или шесть кирасир соскользнули на землю, но — что было гораздо хуже любых потерь — кони взбунтовались. Они становились на дыбы, вытягивались в прямую линию и сбрасывали седоков. С пронзительным ржанием описывали они большие круги по площади яростно набрасывались, перелетая через завалы, на мятежников и солдат, сминая при этом все, что стояло на их пути: это была самая настоящая конская паника! Животные, которые, казалось, обладали сверхъестественной силой, вели себя как одержимые. Как раз в этот момент подоспело ожидаемое подкрепление, но это лишь усугубило беду. Кони новоприбывших были немедленно вовлечены в происходящее движение. Подгнившие сбруи и подпруги лопались, и всадники, теряя опору, летели кувырком и оказывались на земле, не успев толком понять, где находится враг. Избавившись от своей ноши, дикий табун понесся в сторону казарм, высекая подковами искры.
Я стоял на Длинной улице, когда до меня донесся приближающийся грохот. Следуя инстинкту самосохранения, я взобрался на невысокий приступок у боковой стены кафе. Копыта стучали уже совсем близко. Я заглянул в безумные, выпученные глаза, увидел раздувающиеся ноздри и искаженные морды. Некоторое время в воздухе стоял резкий запах конского пота, затем все скрылось в облаке клубящейся пыли, которое удалилось в сторону полей.
Огромные коршуны-стервятники сыто и лениво сидели на своих пьедесталах — пнях, оставшихся от деревьев аллеи, — и равнодушно взирали на проносившихся мимо. Лишь одной пегой кобылке, хромавшей позади остальных, то и дело принимаясь вертеться на месте, они уделили несколько больше внимания.
Эта дикая орава кружила по всему городу. Отбившиеся особи носились, как слепые, по кривым улочкам, пока не разбивали себе череп о какой-нибудь выступ. Основная масса несколько раз скапливалась в узких проходах и тупиках и в конце концов уперлась в высокий отвал породы. Отсюда выхода не было! Сильные затаптывали слабых; иным доставались такие удары копытом, что потроха брызгами вылетали наружу, распространяя смрад. Старый полковник мог бы порадоваться блестящему успеху своей атаки: великое множество мятежных горожан было затоптано насмерть. Но от самого полковника остался только кулак в белой перчатке — остальное затерялось в нагромождении оторванных конечностей, кирас, костных осколков, шлемов, седел и уздечек.
Как раз в этот момент подоспело ожидаемое подкрепление, но это лишь усугубило беду. Кони новоприбывших были немедленно вовлечены в происходящее движение. Подгнившие сбруи и подпруги лопались, и всадники, теряя опору, летели кувырком и оказывались на земле, не успев толком понять, где находится враг. Избавившись от своей ноши, дикий табун понесся в сторону казарм, высекая подковами искры.
Я стоял на Длинной улице, когда до меня донесся приближающийся грохот. Следуя инстинкту самосохранения, я взобрался на невысокий приступок у боковой стены кафе. Копыта стучали уже совсем близко. Я заглянул в безумные, выпученные глаза, увидел раздувающиеся ноздри и искаженные морды. Некоторое время в воздухе стоял резкий запах конского пота, затем все скрылось в облаке клубящейся пыли, которое удалилось в сторону полей.
Огромные коршуны-стервятники сыто и лениво сидели на своих пьедесталах — пнях, оставшихся от деревьев аллеи, — и равнодушно взирали на проносившихся мимо. Лишь одной пегой кобылке, хромавшей позади остальных, то и дело принимаясь вертеться на месте, они уделили несколько больше внимания.
Эта дикая орава кружила по всему городу. Отбившиеся особи носились, как слепые, по кривым улочкам, пока не разбивали себе череп о какой-нибудь выступ. Основная масса несколько раз скапливалась в узких проходах и тупиках и в конце концов уперлась в высокий отвал породы. Отсюда выхода не было! Сильные затаптывали слабых; иным доставались такие удары копытом, что потроха брызгами вылетали наружу, распространяя смрад. Старый полковник мог бы порадоваться блестящему успеху своей атаки: великое множество мятежных горожан было затоптано насмерть. Но от самого полковника остался только кулак в белой перчатке — остальное затерялось в нагромождении оторванных конечностей, кирас, костных осколков, шлемов, седел и уздечек.
16
Кафе еще до своего полного разрушения выглядело внутри настолько ветхим, что в него не отваживался заходить ни один посетитель. Хозяин ставил это в упрек своему старшему официанту. «Вы выглядите как свинья!» — поучал он его спокойным и даже благодушным тоном. Но, несмотря на мягкость формы, смысл этой фразы подвигнул Антона на подлое действие. Как-то ночью он вероломно столкнул ничего не подозревавшего шефа в подвальный люк и захлопнул крышку. Хозяин сломал руку, но, благодаря своему обильному жировому слою, приземлился мягко, как резиновый мячик. Хотя поступок официанта и вызвал у него возмущение, бедняга даже не подозревал всей величины той опасности, в которой находился. Замыслив преступление, кельнер рассчитывал на союзников и как опытный официант не просчитался. Этими страшными союзниками были крысы — мириады крыс, населявшие подвалы и катакомбы Перле. Хозяин, выбрав в темноте неверное направление, угодил в тот самый ход, где мне в свое время довелось пережить столь тяжкие испытания. Он тщетно ищет выход; сломанная рука распухает и начинает жестоко болеть. Слабея, он слышит тихий писк, шуршание и шорох; сперва в виде разрозненных шумов, потом громче — в сто, в тысячу раз громче. Наконец он понимает, в какую ловушку он попал; он пытается бежать, отбиваться, ощущает прикосновения маленьких лапок — зверьки виснут на нем тяжелыми гроздьями. В руку, которая их смахивает, впиваются маленькие острые зубки. Он пытается стряхнуть с себя врагов. Четыре, пять, шесть раз это ему удается; потом он валится на пол, чтобы освободиться от голодных мучителей. Сотня-другая крыс оказывается расплющенной и раздавленной. Но на их месте появляются тысячи, и они благословляют судьбу, которой Создатель наградил крысиное племя! Самые разные люди рассказывали мне о странных воплях, об ужасных проклятиях, жалобных молениях, приглушенном реве, доносившихся из разных желобов и канав. Правда, указанные ими места находились довольно далеко друг от друга, но в царстве грез всегда была отменная акустика. После бесследного исчезновения своего работодателя Антон еще несколько часов заведовал кафе, потом запер его и отправился восвояси. Ведь новых денежных поступлений ждать не приходилось. Шахматисты остались. По игре случая Антон повстречался с Кастрингиусом и присоединился к бывшему художнику. К тому времени Ник уже сменил профессию. Отныне он зарабатывал себе на жизнь изъятием сбережений других людей — иными словами, крал все, что попадалось под руку. Свою последнюю картину — «Прокаженный альбинос умерщвляет прамозг» — он посвятил американцу, объяснив ему, что это «аллегорический символ», цена которому — сто тысяч марок. Он же готов уступить мазню за 5000. Белл захохотал и велел вышвырнуть художника за дверь. В последнее время он стал скор на подобные расправы. Кастрингиус, задыхаясь от жажды мщения, переметнулся на сторону Патеры и с тех пор вредил сторонникам «этого проклятого янки» на свой лад. Однажды, когда он в очередной раз разжился неплохой добычей и хотел дать тягу, он почувствовал чужую руку в заднем кармане собственного сюртука. Схватившись за нее, он обнаружил, что она принадлежит кельнеру Антону! Извинения, объяснения… Дело кончилось тем, что обе прекрасные души посвятили себя служению общему делу. Они специализировались на взломах покинутых дач. Устроив тайник в дворцовом парке, они стаскивали туда и закапывали добытые сокровища. Однажды они задумали предпринять особенно многообещающую вылазку. Дача бывшего редактора «Зеркала грез», умершего от укуса ядовитой змеи, пустовала. Наши приятели осторожно, стараясь держаться в тени, пробрались в садовый квартал. Молча шли они друг подле друга, каждый предавался своим мыслям. Антон надеялся на какую-нибудь случайность, которая бы избавила его от компаньона. Он, только он один стал бы тогда наследником редактора. Кастрингиус, напротив, мысленно подсчитывал награбленное ранее. Он был доволен: еще парочка удачных набегов, и у него будет достаточно, чтобы где-нибудь в Европе начать честную и беззаботную жизнь художника.
Видимость была никудышная. «Ну, далеко еще?» — ворчливо спросил кельнер.
— Тебе бы всю жизнь спешить! Вон, в тот последний домик.
За деревьями показался конек крыши. Дойдя до изгороди, Кастрингиус огляделся по сторонам.
— Пока все в порядке. Лезь! — скомандовал он своему дружку.
Тому не понравилось это приглашение — он все ждал какой-нибудь хитрости со стороны художника. Первым после длительных пререканий — перелез Кастрингиус, Антон последовал за ним. На колючей проволоке остались висеть фалды фрака кельнера. «Издержки профессии!» — саркастически прокомментировал его компаньон. Они со знанием дела обшарили жилище. Но ни в кабинете газетчика, ни где-либо еще не нашлось ничего достойного выноса. Разочарованный Кастрингиус пустился в откровения о покойном редакторе.
— Право, я сам себя не понимаю! Как только я мог уважать этого типа? Тринадцать годовых комплектов «Зеркала» — вот все, что я могу тебе предложить! — злорадно сказал он Антону, недовольно разглядывавшему роскошную, но запущенную мебель, и указал на ряд книжек.
— Брось свои дурацкие шутки, можешь оставить это барахло себе!
— Заткнись, лакей! Что ты понимаешь в возвышенном? В этих томах — почти все произведения художника, который навсегда останется непонятным для тебя. Твоего кругозора не хватит даже на работы моего уважаемого коллеги! — он посмотрел на Антона с презрительным сожалением.
Когда они обшаривали спальню в поисках одежды, пригодной для ношения, послышался сдавленный вздох. «Ты слышал?» — заикаясь от страха, произнес суеверный кельнер и едва не выронил свечку. На кровати, завернувшись в одеяло, притаилась девочка-подросток, до смерти напуганная визитом взломщиков. «Да это же Луизхен, дочурка моего редактора! Чур, она моя!» — радостно воскликнул Кастрингиус и, непрестанно кланяясь, приблизился к испуганному ребенку.
— Ну уж нет! Делиться так делиться, как было условлено! — Вмиг осмелевшего Антона сразу охватила ревность. Кастрингиус повернулся, пригнув голову, как буйвол, — или нет: скорее он походил на пьяную лягушку-быка и выпучил глаза на отощавшего от недостатка пищи кельнера. Его короткие массивные ноги стояли незыблемо; растопырив страшные крючковатые пальцы на своих длинных руках, он глухо проворчал: «Сударь мой, здесь у меня больше прав, чем у вас! С такой мразью, как ты, я не делюсь, а если хочешь, то попробуй!»
Кастрингус оскалил зубы. Он знал свою силу и не сомневался в исходе поединка.
После бесследного исчезновения своего работодателя Антон еще несколько часов заведовал кафе, потом запер его и отправился восвояси. Ведь новых денежных поступлений ждать не приходилось. Шахматисты остались. По игре случая Антон повстречался с Кастрингиусом и присоединился к бывшему художнику. К тому времени Ник уже сменил профессию. Отныне он зарабатывал себе на жизнь изъятием сбережений других людей — иными словами, крал все, что попадалось под руку. Свою последнюю картину — «Прокаженный альбинос умерщвляет прамозг» — он посвятил американцу, объяснив ему, что это «аллегорический символ», цена которому — сто тысяч марок. Он же готов уступить мазню за 5000. Белл захохотал и велел вышвырнуть художника за дверь. В последнее время он стал скор на подобные расправы. Кастрингиус, задыхаясь от жажды мщения, переметнулся на сторону Патеры и с тех пор вредил сторонникам «этого проклятого янки» на свой лад. Однажды, когда он в очередной раз разжился неплохой добычей и хотел дать тягу, он почувствовал чужую руку в заднем кармане собственного сюртука. Схватившись за нее, он обнаружил, что она принадлежит кельнеру Антону! Извинения, объяснения… Дело кончилось тем, что обе прекрасные души посвятили себя служению общему делу. Они специализировались на взломах покинутых дач. Устроив тайник в дворцовом парке, они стаскивали туда и закапывали добытые сокровища. Однажды они задумали предпринять особенно многообещающую вылазку. Дача бывшего редактора «Зеркала грез», умершего от укуса ядовитой змеи, пустовала. Наши приятели осторожно, стараясь держаться в тени, пробрались в садовый квартал. Молча шли они друг подле друга, каждый предавался своим мыслям. Антон надеялся на какую-нибудь случайность, которая бы избавила его от компаньона. Он, только он один стал бы тогда наследником редактора. Кастрингиус, напротив, мысленно подсчитывал награбленное ранее. Он был доволен: еще парочка удачных набегов, и у него будет достаточно, чтобы где-нибудь в Европе начать честную и беззаботную жизнь художника.
Видимость была никудышная. «Ну, далеко еще?» — ворчливо спросил кельнер.
— Тебе бы всю жизнь спешить! Вон, в тот последний домик.
За деревьями показался конек крыши. Дойдя до изгороди, Кастрингиус огляделся по сторонам.
— Пока все в порядке. Лезь! — скомандовал он своему дружку.
Тому не понравилось это приглашение — он все ждал какой-нибудь хитрости со стороны художника. Первым после длительных пререканий — перелез Кастрингиус, Антон последовал за ним. На колючей проволоке остались висеть фалды фрака кельнера. «Издержки профессии!» — саркастически прокомментировал его компаньон. Они со знанием дела обшарили жилище. Но ни в кабинете газетчика, ни где-либо еще не нашлось ничего достойного выноса. Разочарованный Кастрингиус пустился в откровения о покойном редакторе.
— Право, я сам себя не понимаю! Как только я мог уважать этого типа? Тринадцать годовых комплектов «Зеркала» — вот все, что я могу тебе предложить! — злорадно сказал он Антону, недовольно разглядывавшему роскошную, но запущенную мебель, и указал на ряд книжек.
— Брось свои дурацкие шутки, можешь оставить это барахло себе!
— Заткнись, лакей! Что ты понимаешь в возвышенном? В этих томах — почти все произведения художника, который навсегда останется непонятным для тебя. Твоего кругозора не хватит даже на работы моего уважаемого коллеги! — он посмотрел на Антона с презрительным сожалением.
Когда они обшаривали спальню в поисках одежды, пригодной для ношения, послышался сдавленный вздох. «Ты слышал?» — заикаясь от страха, произнес суеверный кельнер и едва не выронил свечку. На кровати, завернувшись в одеяло, притаилась девочка-подросток, до смерти напуганная визитом взломщиков. «Да это же Луизхен, дочурка моего редактора! Чур, она моя!» — радостно воскликнул Кастрингиус и, непрестанно кланяясь, приблизился к испуганному ребенку.
— Ну уж нет! Делиться так делиться, как было условлено! — Вмиг осмелевшего Антона сразу охватила ревность. Кастрингиус повернулся, пригнув голову, как буйвол, — или нет: скорее он походил на пьяную лягушку-быка и выпучил глаза на отощавшего от недостатка пищи кельнера. Его короткие массивные ноги стояли незыблемо; растопырив страшные крючковатые пальцы на своих длинных руках, он глухо проворчал: «Сударь мой, здесь у меня больше прав, чем у вас! С такой мразью, как ты, я не делюсь, а если хочешь, то попробуй!»
Кастрингус оскалил зубы. Он знал свою силу и не сомневался в исходе поединка.
 Антон, эта хитрая бестия, был готов к подобной сцене еще со времени заключения делового союза и на всякий случай таскал с собой средство защиты. Лучший сотрудник «Зеркала грез» неожиданно получил пригоршню молотого перца в глаза.
Ослепленный, он рванулся наугад, схватил своего врага за грудки и притянул к себе. «Гребные винты» сомкнулись за спиной Антона, и тот подломился. Оба, долговязый и коротышка, покатились по полу — сперва через всю спальню, затем через открытую дверь на террасу. То, что перила были сломаны, никто из соединившихся в яростных объятиях не заметил. Они вылетели на крышу пристроенной прачечной, соскользнули по ней и рухнули в открытую выгребную яму.
Последовал глухой всплеск… потом пошли пузыри…
Антон, эта хитрая бестия, был готов к подобной сцене еще со времени заключения делового союза и на всякий случай таскал с собой средство защиты. Лучший сотрудник «Зеркала грез» неожиданно получил пригоршню молотого перца в глаза.
Ослепленный, он рванулся наугад, схватил своего врага за грудки и притянул к себе. «Гребные винты» сомкнулись за спиной Антона, и тот подломился. Оба, долговязый и коротышка, покатились по полу — сперва через всю спальню, затем через открытую дверь на террасу. То, что перила были сломаны, никто из соединившихся в яростных объятиях не заметил. Они вылетели на крышу пристроенной прачечной, соскользнули по ней и рухнули в открытую выгребную яму.
Последовал глухой всплеск… потом пошли пузыри…
17
— Любовь плоти есть ни что иное, как воля вещи в себе ко вторжению во временное. Как вы можете быть столь самонадеянны, чтобы оказывать давление на вещь в себе? Вы не отличаете вещь в себе от других вещей. С философской точки зрения ваше поведение заслуживает порицания, — так говорил парикмахер по поводу сатурналий на полях Томашевича. Поскольку он не хотел прекращать свои столь несоответствующие общему праздничному настроению тирады, ему накинули петлю на шею и подвесили к вывеске его заведения. Там он и болтался под большим латунным тазом. Какой-то шутник, увидев его, снял со стены дома картонную табличку и привязал ее к ногам исследователя времени и пространства; на ней можно было прочесть: «Сдается внаем!» Лампенбоген жировал до своего последнего дня, в то время как его пациенты уже сидели на вполовину, а то и вчетверо урезанной диете. Они были этим крайне недовольны, что привело к маленькой барачной революции, энергично поддержанной санитаром, которому было куда приятнее болтаться на свободе и участвовать в великих событиях, нежели исполнять свою постылую службу. В леднике еще хранились три жареные курицы, пакет шоколада и круг сыра. Больные потребовали свою долю от этих запасов, хотя внешний вид этих продуктов едва ли мог возбуждать аппетит. Лампенбоген не хотел дать ни крошки. Тогда он умереть, сказали ему. Этого он, конечно, тоже не хотел. Разъяренные пациенты живо сговорились и однажды набросились на врача. Тяжелобольные смотрели со своих кроватей, как санитар участвовал в насилии наравне с другими. Одна бедная женщина с раздробленной челюстью заботливо капала хлороформ на стонущего жирного Лампенбогена. Больные редко бывают жалостливы, для этого они сами слишком много страдали. Когда толстяк был усыплен, его судьи подкрепились деликатесами из вскрытого ледника. Потом Лампенбогена посадили на вертел, в качестве какового послужила газопроводная труба. Эта процедура стоила ослабленным повстанцам немалых усилий. Сторож разжег огонь, чтобы уничтожить следы злодеяния. Таким образом, Лампенбоген закончил свое существование в виде жаркого, и притом скверного: верхняя часть почти не пропеклась, едва подрумянившись, тогда как нижняя превратилась в уголь. Только бока поджарились как следует, покрывшись аппетитной золотистой корочкой.
18
По Длинной улице к реке боязливыми мягкими шажками семенит старый человек без шляпы. Полы его халата развеваются на ветру, словно крылья, его жилет застегнут только до половины. Старик энергично кивает на бегу головой, полностью погрузившись в разговор с самим собой. Добежав до воды, он останавливается на мгновение в нерешительности. Чинно, как цапля, он прохаживается взад-вперед по песку, читая лекцию самому себе. А Негро шумит — то словно голодная, и тогда ее волны слизывают песок с берега, то жалуется многоголосым таинственным напевом. На мосту тускло светит фонарь, сияющие блики пляшут на поверхности воды. Старик решительно заходит в воду. Сначала волны достигают ему только до колен; он неторопливо достает футляр и водружает себе на нос очки. Затем убирает футляр обратно в карман. Еще пара шагов вперед — и вода уже доходит до его тощих бедер. Старику приходится делать усилия, чтобы не быть унесенным течением. Он страстно бормочет какие-то странные признания в любви и прижимает руку к сердцу. Потом достает какой-то неразличимый маленький предмет, близоруко подносит его к самым глазам, нагибается к воде, как бы внимательно изучая ее, — она уже доходит ему до горла… теперь до носа — остается виден только островок из седых волос… поток увлекает с собой блестящую штуковину, напоминающую крошечное суденышко; он кружит ее, укачивает на своих волнах… это маленькая коробочка, обклеенная фольгой… Acarina Felicitas!..19
Со стороны вокзала подступало болото. Здание накренилось, перрон покрылся илом и камышом, через прогнившие двери в залы ожидания вползала трясина, со скамей и диванов звучали тоскливые песни жерлянок. На буфетах копошились тритоны и мелкие личинки жуков. Бесчисленные твари, которые заполонили Перле, опустошая сады и пугая людей, — все они происходили из болота, простиравшегося на много миль от города в туманную мглу. Но болото не только давало, но и отнимало жизнь. Великое множество жителей города, крестьян, рыбаков заснуло вечным сном в его топкой трясине. Вероломное! Оно могло казаться таким безобидным — а между тем под мшистым покровом кишели змеи. Временами оно выпускало бесшумные призрачные языки пламени высотою с дом, пугая гнездящуюся на нем водоплавающую птицу. Оно могло досыта кормиться собственной плотью — его тигры пожирали его кабанов, его лисы преследовали его косуль. Эта дикая область считалась в стране грез священной. В определенных местах стояли древние замшелые камни, на которых проступали неразборчивые, выветрившиеся письмена. Сюда охотники несли потроха убитой дичи, рыбаки жертвовали печень щук и сомов, крестьяне приносили сноп колосьев или складывали невысокие пирамиды из яблок и гроздьев винограда. Болото всегда милостиво принимало эти дары и поглощало их. В прежние годы, говорят, сам Патера часто приходил сюда и отваживался в одиночку приближаться по ночам к этим священным местам. Как я узнал, он приносил жертвы «матери-болоту» во имя народа грез и сочетался с ним в таинствах, в которых особое значение имели кровь и половой орган. Он уже давно не появлялся там, и сегодня эти тайны стали достоянием каждого, и все клялись «кровью Патеры» и употребляли эти слова как ругательство — следствия такого кощунства были видны повсеместно. Старый храмовый девиз — «На крови стоит безумие!» — был исполнен. И еще я хочу упомянуть о том, что синеглазое племя по ту сторону реки всегда чуралось подобных обрядов. Вдали от этих мест, среди чахлых кустарников и низкорослого хвойного леса, были вкопаны в землю пестро раскрашенные деревянные столбы. Это тоже были святилища, но другого рода. Там справляли «ночирадости». В период уборки урожая, в урочные вечера, крестьяне приводили туда возы, наполненные сеном и цветами. Землю на добрый метр покрывали пахучим слоем свежего сена. Разводили костер; из бочек, пенясь, лилось молодое вино; празднично разодетые селяне веселились от души. После веселых историй, игр, танцев и обильного ужина костер постепенно задувало теплым, пахнущим яблоками ветерком. Парочки — каждая в своем гнездышке — оставались до утра. В большом полуразрушенном вокзальном депо воняло как в зверинце. Едкий запах звериного помета — некоторое время тому назад у животных здесь было убежище — смешивался с затхлым духом темной зашламованной воды, стоявшей большими лужами. В сыром, заиленном зале шевелилась фигура, закутанная в плащ с капюшоном: одинокий истопник хлопотливо обстукивал проржавевший старый локомотив. Он внимательно осмотрел все детали и покрыл их обильной смазкой. Затем он снова раздул огонь в топке, и красноватые отблески осветили его потное энергичное лицо: это был Геркулес Белл. Еще несколько недель назад он обследовал пути и привел в рабочее состояние все стрелочные переводы. Паровоз, вначале непослушный и отчаянно скрежетавший, теперь деловито запыхтел. Белл вывел его из ветхого строения. Следом за ним вылетела парочка вспугнутых сов. С помощью ранее испытанного поворотного круга американцу мало-помалу удалось вывести машину на главный путь. Запаса угля должно было хватить по крайней мере до одной из ближайших промежуточных станций. Разогревшись от физических усилий, он скинул с себя плащ. Затем подбавил еще угля, бросил взгляд на манометр и рванул рукоятку. Старая колымага медленно пришла в движение.
Поездка была опасной, так как низкая насыпь местами обвалилась. На некоторых участках, где полотно было затоплено болотной водой, высокими фонтанами взлетали брызги, колеса скашивали буйно разросшийся тростник и оставляли за собой длинные килевые волны.
Машинист дышал сернистыми испарениями потревоженной трясины. Далеко в стороне виднелись смутные белесоватые развалины древнеперсидского поселения.
Он раздул такой огонь, что котел грозил взорваться, а топка с примыкающими к ней стальными частями раскалилась докрасна. Локомотив сильно трясло на погнувшихся и проржавевших рельсах. Выпуская густые клубы пара, он проносился мимо покинутых крестьянских дворов, вымерших хуторов, чахлых рощ. Однажды американцу пришлось затормозить, чтобы стащить с рельсов полуобглоданный труп лошади. Затем паровоз снова тронулся, пыхтя и громыхая, и через два часа остановился в открытом поле. Машинист пошуровал в топке, плюнул на раскаленный котел и спрыгнул на насыпь. Некоторое время он торопливо шагал вдоль рельсового пути, а потом скрылся в небольшом распадке, покрытом деревьями-великанами. Сухие вьющиеся растения и низко нависающие ветви мешали ему идти. После получасового перехода он увидел тускло освещенное окно, за которым высилась — казалось, до самого неба — черная стена. Американец твердой рукой распахнул садовую калитку, подкрался к окну и заглянул внутрь.
На заляпанном чернилами столе горела керосиновая лампа под зеленым абажуром. Повсюду были разбросаны исписанные листы бумаги, формуляры, сургуч, свинцовые пломбы; на невысоком стеллаже виднелись инструменты, гвозди, мотки шпагата. Главным предметом роскоши в этом убогом помещении был из рук вон скверный поясной портрет Патеры в натуральную величину, какие распространялись в Перле специальным учреждением. Здесь располагалась канцелярия пограничника царства грез, который теперь собственной персоной спал в кресле, обтянутом клеенкой. Косматая голова старика безвольно поникла, он выглядел совсем дряхлым. Ключ от так называемой «малой двери» — прохода в стене, предназначенного для доверенных лиц, он, согласно инструкции, держал подвешанным к поясному карабину; главный ключ длиною в метр хранился в железном сейфе. Старик нес свою нелегкую службу вместе с двумя сыновьями; его собственное жилье находилось рядом. К нему примыкала казарма для таможенников. Позади обеих построек высилась гигантская обводная стена.
Все эти подробности были хорошо известны подглядывающему. Неожиданно так быстро стемнело, что Белл, привыкший к постоянным сумеркам, растерянно обернулся и едва смог различить за висящими почти над самой землей облаками жестяные крыши складов возле станции отправления. Двигаясь бесшумно, как кошка, он вошел в жарко натопленное помещение и откинул капюшон. В правой руке он держал тяжелую железную рукоять, снятую с паровоза. «Одним больше, одним меньше — какая разница?» — подумал он, не спуская глаз со спящего. Тот сделал непроизвольное движение и уронил голову на подлокотник. Прицельный удар железным стержнем произвел такой звук, как если бы открытой ладонью хлопнули по воде. Мощный удар пришелся точно посередине лобной кости и расколол череп; глазные яблоки вылетели из глазниц, отчего лицо убитого превратилось в жуткую гротескную маску. Короткая судорога пронзила старика, оставшегося неподвижно сидеть в своем кресле.
Разогревшись от физических усилий, он скинул с себя плащ. Затем подбавил еще угля, бросил взгляд на манометр и рванул рукоятку. Старая колымага медленно пришла в движение.
Поездка была опасной, так как низкая насыпь местами обвалилась. На некоторых участках, где полотно было затоплено болотной водой, высокими фонтанами взлетали брызги, колеса скашивали буйно разросшийся тростник и оставляли за собой длинные килевые волны.
Машинист дышал сернистыми испарениями потревоженной трясины. Далеко в стороне виднелись смутные белесоватые развалины древнеперсидского поселения.
Он раздул такой огонь, что котел грозил взорваться, а топка с примыкающими к ней стальными частями раскалилась докрасна. Локомотив сильно трясло на погнувшихся и проржавевших рельсах. Выпуская густые клубы пара, он проносился мимо покинутых крестьянских дворов, вымерших хуторов, чахлых рощ. Однажды американцу пришлось затормозить, чтобы стащить с рельсов полуобглоданный труп лошади. Затем паровоз снова тронулся, пыхтя и громыхая, и через два часа остановился в открытом поле. Машинист пошуровал в топке, плюнул на раскаленный котел и спрыгнул на насыпь. Некоторое время он торопливо шагал вдоль рельсового пути, а потом скрылся в небольшом распадке, покрытом деревьями-великанами. Сухие вьющиеся растения и низко нависающие ветви мешали ему идти. После получасового перехода он увидел тускло освещенное окно, за которым высилась — казалось, до самого неба — черная стена. Американец твердой рукой распахнул садовую калитку, подкрался к окну и заглянул внутрь.
На заляпанном чернилами столе горела керосиновая лампа под зеленым абажуром. Повсюду были разбросаны исписанные листы бумаги, формуляры, сургуч, свинцовые пломбы; на невысоком стеллаже виднелись инструменты, гвозди, мотки шпагата. Главным предметом роскоши в этом убогом помещении был из рук вон скверный поясной портрет Патеры в натуральную величину, какие распространялись в Перле специальным учреждением. Здесь располагалась канцелярия пограничника царства грез, который теперь собственной персоной спал в кресле, обтянутом клеенкой. Косматая голова старика безвольно поникла, он выглядел совсем дряхлым. Ключ от так называемой «малой двери» — прохода в стене, предназначенного для доверенных лиц, он, согласно инструкции, держал подвешанным к поясному карабину; главный ключ длиною в метр хранился в железном сейфе. Старик нес свою нелегкую службу вместе с двумя сыновьями; его собственное жилье находилось рядом. К нему примыкала казарма для таможенников. Позади обеих построек высилась гигантская обводная стена.
Все эти подробности были хорошо известны подглядывающему. Неожиданно так быстро стемнело, что Белл, привыкший к постоянным сумеркам, растерянно обернулся и едва смог различить за висящими почти над самой землей облаками жестяные крыши складов возле станции отправления. Двигаясь бесшумно, как кошка, он вошел в жарко натопленное помещение и откинул капюшон. В правой руке он держал тяжелую железную рукоять, снятую с паровоза. «Одним больше, одним меньше — какая разница?» — подумал он, не спуская глаз со спящего. Тот сделал непроизвольное движение и уронил голову на подлокотник. Прицельный удар железным стержнем произвел такой звук, как если бы открытой ладонью хлопнули по воде. Мощный удар пришелся точно посередине лобной кости и расколол череп; глазные яблоки вылетели из глазниц, отчего лицо убитого превратилось в жуткую гротескную маску. Короткая судорога пронзила старика, оставшегося неподвижно сидеть в своем кресле.
 Американец с комичными ужимками поклонился портрету Патеры. «А все же я тебя перехитрил!» Затем он снял ключ с пояса убитого, движения его были быстрыми и уверенными. На полу возле кресла стоял потайной фонарь. Нагнувшись за ним, гость почувствовал, как что-то крепко сжало ему запястье. Это был мертвец — точнее, его желтые пальцы, которых он случайно коснулся. Труп лежал беспомощно и недвижно, но в его страшных пальцах жила такая непомерная сила, что они могли бы размять кусок стали как тесто. Белл зарычал: «Это ты, Патера!» Ему было ясно, что при таком нажиме его запястье в считанные минуты превратится в месиво. Он уже перестал чувствовать руку, зажатую в этих медленно стягивающихся тисках. Он сгрызал зубами плоть с запястья своего страшного противника, но это получалось слишком медленно, с рукой можно было попрощаться. И тут он увидел на стеллаже раскрытый садовый нож. Один прыжок — и он там. Умелым взмахом ножа он отделил руку мертвеца от туловища — она сразу разжалась и упала. Белл испустил вздох облегчения. Портрет Патеры с его напомаженными и причесанными на пробор локонами все так же дружелюбно улыбался ему со стены. Белл подхватил фонарь и выбежал на воздух.
Он вступил в гигантский туннель в стене. Американец пребывал в чрезвычайном возбуждении: скоро должно было выяснится, удался ли его план; по его расчетам, помощь из Европы должна была быть где-то уже совсем рядом. Он нуждался в ней, он должен был ее получить; в одиночку даже он не справился бы с местной чернью, с каждым часом становившейся все более опасной.
Он отворил «малую дверь» и вышел в свежую ночную прохладу. Потом он запустил принесенную с собою ракету: фонтан расплавленного золота взвился в ночное небо, описал несколько причудливых дуг и рассыпался горсточкой звезд. Американец с нетерпением ждал какого-нибудь отклика на свой сигнал… Ничего!.. Все те же тьма и тишина. Выходит, просчитался? В гневе и разочаровании он разглядывал при свете своего фонаря монументальные бронзовые ворота с массивными железными запорами. Что же, идти обратно? Он еще раз окинул взором даль. И вдруг призрачный сполох света озарил поднебесье — он держался секунду и исчез столь же внезапно, как появился. Но тут же еще раз вспыхнул голубоватым светом, словно комета. Это были прожекторы русских. Безумная радость и гордое чувство удовлетворения наполнили этого волевого человека. Победил!!
Белл бегом пустился назад, оставив ворота открытыми для прохода войск. Светлая точка фонаря исчезла за холмами. Белл в считанные минуты добрался до своего локомотива. Таможенники как истинные сыны архива не заметили происшедшего.
Американец вел паровоз обратно, беспрестанно вороша угли в топке; длинная полоса пламени, вырываясь из дымовой трубы, летела через темную пустошь. Предприимчивая смелость Америки победила. Ликующий Белл включил сирену; пронзительно и болезненно-жалобно зазвучал ее голос во мраке. «Теперь мы наведем порядок в этой стране!» — уверял он себя. Между тем его распухшая рука продолжала саднить все сильнее. Тщетно пытался он утишить боль путем втирания машинного масла. Впрочем, это не мешало его победной радости.
В стороне Перле небо начало краснеть — яркое сияние быстро усиливалось, расползалось по облачной гряде и вскоре заняло весь горизонт. Американец с тревогой смотрел на это новое зарево. Между тем ржавая махина неслась по морю грязи, не снижая скорости. Черные носовые волны, которые она поднимала перед собой, обдавали машиниста грязными брызгами. У его ног извивались половинки попавшей под колеса змеи, залетевшие вместе с водой. Горячие зольники, наполовину погруженные в воду, шипели в грязной влаге, манометр показывал 99, котел мог в любой момент взорваться. Чтобы задержать избыточный пар, американец с помощью громадных клещей закрыл клапан.
Когда впереди показался вокзал, Белл затормозил, в нетерпении спрыгнул с паровоза и, бросив его на произвол судьбы, помчался в город.
Там все было залито ярко-красным светом — горел архив. То и дело происходили маленькие пыльные взрывы — пламя подбрасывало высоко в воздух горящие клочья бумаги, разлетавшиеся над домами, словно огненные птицы. Жаркие улицы были запружены громко воющим и хохочущем людом.
Американца охватил озноб, он был вынужден присесть на горку камней. Тихо и устало выдохнул он слова: «Патера оставляет своему наследнику одни испражнения».
Американец с комичными ужимками поклонился портрету Патеры. «А все же я тебя перехитрил!» Затем он снял ключ с пояса убитого, движения его были быстрыми и уверенными. На полу возле кресла стоял потайной фонарь. Нагнувшись за ним, гость почувствовал, как что-то крепко сжало ему запястье. Это был мертвец — точнее, его желтые пальцы, которых он случайно коснулся. Труп лежал беспомощно и недвижно, но в его страшных пальцах жила такая непомерная сила, что они могли бы размять кусок стали как тесто. Белл зарычал: «Это ты, Патера!» Ему было ясно, что при таком нажиме его запястье в считанные минуты превратится в месиво. Он уже перестал чувствовать руку, зажатую в этих медленно стягивающихся тисках. Он сгрызал зубами плоть с запястья своего страшного противника, но это получалось слишком медленно, с рукой можно было попрощаться. И тут он увидел на стеллаже раскрытый садовый нож. Один прыжок — и он там. Умелым взмахом ножа он отделил руку мертвеца от туловища — она сразу разжалась и упала. Белл испустил вздох облегчения. Портрет Патеры с его напомаженными и причесанными на пробор локонами все так же дружелюбно улыбался ему со стены. Белл подхватил фонарь и выбежал на воздух.
Он вступил в гигантский туннель в стене. Американец пребывал в чрезвычайном возбуждении: скоро должно было выяснится, удался ли его план; по его расчетам, помощь из Европы должна была быть где-то уже совсем рядом. Он нуждался в ней, он должен был ее получить; в одиночку даже он не справился бы с местной чернью, с каждым часом становившейся все более опасной.
Он отворил «малую дверь» и вышел в свежую ночную прохладу. Потом он запустил принесенную с собою ракету: фонтан расплавленного золота взвился в ночное небо, описал несколько причудливых дуг и рассыпался горсточкой звезд. Американец с нетерпением ждал какого-нибудь отклика на свой сигнал… Ничего!.. Все те же тьма и тишина. Выходит, просчитался? В гневе и разочаровании он разглядывал при свете своего фонаря монументальные бронзовые ворота с массивными железными запорами. Что же, идти обратно? Он еще раз окинул взором даль. И вдруг призрачный сполох света озарил поднебесье — он держался секунду и исчез столь же внезапно, как появился. Но тут же еще раз вспыхнул голубоватым светом, словно комета. Это были прожекторы русских. Безумная радость и гордое чувство удовлетворения наполнили этого волевого человека. Победил!!
Белл бегом пустился назад, оставив ворота открытыми для прохода войск. Светлая точка фонаря исчезла за холмами. Белл в считанные минуты добрался до своего локомотива. Таможенники как истинные сыны архива не заметили происшедшего.
Американец вел паровоз обратно, беспрестанно вороша угли в топке; длинная полоса пламени, вырываясь из дымовой трубы, летела через темную пустошь. Предприимчивая смелость Америки победила. Ликующий Белл включил сирену; пронзительно и болезненно-жалобно зазвучал ее голос во мраке. «Теперь мы наведем порядок в этой стране!» — уверял он себя. Между тем его распухшая рука продолжала саднить все сильнее. Тщетно пытался он утишить боль путем втирания машинного масла. Впрочем, это не мешало его победной радости.
В стороне Перле небо начало краснеть — яркое сияние быстро усиливалось, расползалось по облачной гряде и вскоре заняло весь горизонт. Американец с тревогой смотрел на это новое зарево. Между тем ржавая махина неслась по морю грязи, не снижая скорости. Черные носовые волны, которые она поднимала перед собой, обдавали машиниста грязными брызгами. У его ног извивались половинки попавшей под колеса змеи, залетевшие вместе с водой. Горячие зольники, наполовину погруженные в воду, шипели в грязной влаге, манометр показывал 99, котел мог в любой момент взорваться. Чтобы задержать избыточный пар, американец с помощью громадных клещей закрыл клапан.
Когда впереди показался вокзал, Белл затормозил, в нетерпении спрыгнул с паровоза и, бросив его на произвол судьбы, помчался в город.
Там все было залито ярко-красным светом — горел архив. То и дело происходили маленькие пыльные взрывы — пламя подбрасывало высоко в воздух горящие клочья бумаги, разлетавшиеся над домами, словно огненные птицы. Жаркие улицы были запружены громко воющим и хохочущем людом.
Американца охватил озноб, он был вынужден присесть на горку камней. Тихо и устало выдохнул он слова: «Патера оставляет своему наследнику одни испражнения».
20
Когда пылал архив со всеми его сокровищами, я сидел на своем любимом местечке у реки, в волнах которой отражалось зарево на небе. Невиданные события последних дней, свидетелем которых я стал, вывели меня из апатии. Я чувствовал, что мое застывшее сердце оттаивает, — сверхчеловеческие напасти, обрушившиеся на жителей города, угнетали меня. Я уповал на смерть, в каком бы образе она ко мне ни явилась. То, что этой безумной ночью все должно кончиться, казалось мне решенным делом. Но почему судьба медлит, превосходя самое себя в нагромождении мучительнейших истязаний? Очередным бедствием были массовые расстройства зрения. Сперва человеку казалось, будто все предметы окружены радужным свечением. Позднее в его глазах смещались все нормальные пропорции: маленькие домишки казались высокими как многоэтажные башни; ложные перспективы путали и внушали страх — людям казалось, что они заперты, когда на самом деле это было не так. Им чудилось, будто здания нависают над улицами или с трудом удерживаются на узких фундаментах. Встречные пешеходы в их глазах двоились, троились, превращались в целые толпы. Люди поднимали ноги, чтобы перешагнуть через воображаемое препятствие, становились на четвереньки, когда им впереди мерещилась пропасть. Продолжались массовые самоубийства. Преследуемые и загнанные, жители города становились безвольными жертвами видений, в которых получали приказ на самоуничтожение. Если в их головах и оставались какие-то мысли, то настолько запутанные, что многие из них, вероятно, даже не почувствовали горечь своих последних часов. Неожиданно город облетела весть: к народу выйдет сам Патера! Четверо слуг вынесли его в паланкине на рыночную площадь. С остроконечной тиарой на голове, в мантии из зеленого бархата, богато расшитой жемчугом, он благословлял народ, словно кардинал. Увидев его, американец вооружился булыжником и, как сумасшедший, ринулся на повелителя. Разбитая корона полетела в пыль. Голова — голова восковой фигуры — разлетелась как яичная скорлупа, глаза оказались стеклянными шариками, заполненными ртутью, роскошные одежды были набиты соломой — великий мистификатор, ничего не скажешь! Военные давно отстреляли свои патроны. Солдаты в грязных красных брюках побежали с винтовками наперевес на беснующуюся толпу оборванцев. Подогретые шнапсом, они не знали пощады. Американец присоединился к солдатам, которые после известия о восковой фигуре встретили этого горделиво выступающего человека ликующими возгласами. Архив, почта, банк вовсю продолжали пылать, из-за чего на улицах было светло как днем. Из Французского квартала, который был расположен на возвышенности, медленно, подобно потоку лавы, надвигалась каша из грязи, нечистот, свернувшейся крови, кишок, трупов животных и людей. Оставшиеся в живых топтались по этой мешанине, переливающейся всеми цветами тления. Люди бессвязно лепетали, будучи не в состоянии выразить элементарных мыслей; они утратили дар речи. Почти все были обнажены, мужчины как более крепкие сталкивали женщин в поток мертвечины, и те захлебывались ядовитой жижей. Огромная площадь походила на гигантскую клоаку, в которой люди из последних сил душили и кусали друг друга — и гибли один за другим. Из оконных проемов свисали окоченевшие тела бездыханных зрителей, в чьих потухших глазах отражалось это царство смерти. Неестественно вывернутые руки и ноги, растопыренные пальцы и сжатые кулаки, раздутые животы животных, конские черепа с высунутыми меж желтых зубов вздутыми синими языками — фаланга смерти безостановочно двигалась вперед. Ослепительное зарево пожаров ярко освещало этот апофеоз Патеры.21
Синеглазых не коснулись столичные перипетии. Они спокойно наблюдали за городом из-за реки. Впрочем, и у них похоже, что-то происходило, так как они выставили перед своими своеобразными жилищами большие котлы и хлопотали возле них днем и ночью. Видимо, они что-то варили. Ветер доносил с другого берега едкий, дурно пахнущий дым, от которого першило в носу. Вскоре эта вонь превратилась в благоухание. Синеглазые, обычно такие серьезные и задумчивые, теперь плясали вокруг котлов и пели монотонные, тягучие хоры. Банды из города хотели проникнуть туда. Уже давно ходили слухи, будто в предместье не так сильно страдают от насекомых и грязи. Но мост обрушился, и его обломки унесло течением. Лодок больше не было, а попытка перебраться вплавь была равносильна самоубийству. Я сидел у берега на одном из быков моста. Уже не в силах выносить эти сцены, превосходившие все из виденного ранее, я намеревался покончить с собой и смотрел, словно зачарованный, на мутные волны, которым суждено было стать моей могилой. Это должно было произойти уже в следующее мгновение. У меня было ясное предчувствие, что мне предстоит нечто грандиозное. Медленно, очень медленно начал я соскальзывать вниз — это было как во сне!
В воде с клокочущим рокотом образовалась зияющая воронка; черная дыра втягивала в себя реку! Обломки мельницы, еще продолжавшие тлеть, погрузились в воду, с шипением выпустив густые клубы белого пара.
Дома на Длинной улице обрушились, и поэтому я мог наблюдать за дворцом, который прежде не был виден с этого места. Его громада, освещенная алым заревом, величественно возвышалась над развалинами города. Я подумал: сейчас зазвучат трубы, и начнется Страшный суд. Река Негро бушующими водопадами низвергалась в жадно раскрытую пасть черной пучины. Рыбы и раки барахтались в тине и оставались висеть на водяных растениях.
Я сидел у берега на одном из быков моста. Уже не в силах выносить эти сцены, превосходившие все из виденного ранее, я намеревался покончить с собой и смотрел, словно зачарованный, на мутные волны, которым суждено было стать моей могилой. Это должно было произойти уже в следующее мгновение. У меня было ясное предчувствие, что мне предстоит нечто грандиозное. Медленно, очень медленно начал я соскальзывать вниз — это было как во сне!
В воде с клокочущим рокотом образовалась зияющая воронка; черная дыра втягивала в себя реку! Обломки мельницы, еще продолжавшие тлеть, погрузились в воду, с шипением выпустив густые клубы белого пара.
Дома на Длинной улице обрушились, и поэтому я мог наблюдать за дворцом, который прежде не был виден с этого места. Его громада, освещенная алым заревом, величественно возвышалась над развалинами города. Я подумал: сейчас зазвучат трубы, и начнется Страшный суд. Река Негро бушующими водопадами низвергалась в жадно раскрытую пасть черной пучины. Рыбы и раки барахтались в тине и оставались висеть на водяных растениях.
 Тут я заметил на противоположном берегу маленькую группу людей, направлявшуюся в мою сторону через песчаное ложе реки: синеглазые! Они миновали меня, опустив головы. Впереди — сгорбленное существо с таким морщинистым, словно изрезанным лицом, что казалось, будто ему тысяча лет. Необычайно высокий лоб обрамляли гладкие серебристые пряди. На мгновение мне даже показалось, что это женщина. Потом другие! Все как один высокие и худощавые. Последний, поменьше ростом и с очень прямой осанкой, оглянулся на меня, и я увидел самое красивое лицо, какое только встречал в своей жизни, за исключением лица Патеры. Идеально округлая голова была словно сделана из фарфора. Лицо — с тонкими, почти прозрачными крыльями носа и узким, слегка вдавленным подбородком — могло принадлежать утонченному маньчжурскому принцу или небожителю из буддийской легенды. Гибкие длинные конечности свидетельствовали о высочайшем развитии расы. Волосы были полностью выбриты, и кожа выглядела абсолютно гладкой. Он скользнул по мне неописуемым взглядом своих голубых глаз. Это не могло служить знаком отказа, и я последовал за ним.
Тут я заметил на противоположном берегу маленькую группу людей, направлявшуюся в мою сторону через песчаное ложе реки: синеглазые! Они миновали меня, опустив головы. Впереди — сгорбленное существо с таким морщинистым, словно изрезанным лицом, что казалось, будто ему тысяча лет. Необычайно высокий лоб обрамляли гладкие серебристые пряди. На мгновение мне даже показалось, что это женщина. Потом другие! Все как один высокие и худощавые. Последний, поменьше ростом и с очень прямой осанкой, оглянулся на меня, и я увидел самое красивое лицо, какое только встречал в своей жизни, за исключением лица Патеры. Идеально округлая голова была словно сделана из фарфора. Лицо — с тонкими, почти прозрачными крыльями носа и узким, слегка вдавленным подбородком — могло принадлежать утонченному маньчжурскому принцу или небожителю из буддийской легенды. Гибкие длинные конечности свидетельствовали о высочайшем развитии расы. Волосы были полностью выбриты, и кожа выглядела абсолютно гладкой. Он скользнул по мне неописуемым взглядом своих голубых глаз. Это не могло служить знаком отказа, и я последовал за ним.
 Вдруг почва запружинила и заходила под ногами как резина, оглушительный хлопок — словно залп из сотен орудий — сотряс воздух. Фасад дворца медленно накренился, изогнулся, как полотнище флага на ветру, и рухнул, похоронив под своими обломками центральную площадь.
Со всех башен Перле зазвучали колокола — мелодично и торжественно вызванивали они лебединую песню столицы. Я был тронут до слез — мне казалось, будто я участвую в процессии на похоронах страны грез.
Я проследовал за синеглазыми в узкие ворота, проделанные в каменной стене. Тусклый свет одиночных факелов озарил длинную лестницу со ступеньками неравной высоты, уходившую вверх. Мои провожатые исчезли в пещере, вырубленной в боковой стене. Но я продолжал подъем, чтобы приглядеть для себя безопасное место, и скоро снова очутился на открытом воздухе и увидел над собой красноватое небо. Я находился в старой горной крепости. Несколько орудий были обращены в сторону Перле, но у остальных лафеты были разбиты, и повсюду виднелись разбросанные бронзовые стволы. За валом был крутой обрыв в несколько сотен метров высотой. Я сел. Моему взору открылся лабиринт подземных ходов, я с трудом верил собственным глазам. Столица была изрыта, как кротовая нора. Широкий туннель соединял дворец с предместьем, остальные ходы тянулись далеко за пределы города. Теперь, когда они обнажились, их затопило водой из реки, и все, что еще стояло на улицах, постепенно погружалось в них. С другой стороны продолжало наступать болото.
Колокольный перезвон стих, башни рухнули, уцелела только большая часовая: ее мощный колокол гудел низким басом. Следов жизни в городе почти не наблюдалось. Спаслась, по всей видимости, только горстка людей. Они то разбегались в разных направлениях, то вновь сходились в одной точке — словно марионетки, управляемые одной ниткой; такими они представлялись мне с высоты.
Их перемещения казались бесцельными. Наконец они, словно по команде, понеслись во весь опор через развалины к реке, пересекли ее сухое русло и устремились в предместье.
Из огромной дыры в земле дохнуло ледяным ветром — я почувствовал его на себе, — и беглецы полетели кувырком. Чудовищная воронка втянула в себя выброшенный воздух, а вместе с ним доски, бревна и людей; все это походило на смерч. Лишь несколько человек избежали страшной участи и поспешили к домам предместья. Порывы ветра прекратились, и из черного провала осторожно высунулась верблюжья голова на длиннющей шее. Она осмотрелась умным взглядом и вытянулась на ту же высоту, где находился я. Потом беззвучно рассмеялась и втянулась обратно в провал.
Хижины задвигались, ветряные мельницы начали отбиваться своими крыльями от непрошеных гостей, соломенные крыши ощетинили свои взъерошенные лохмы, палатки надулись, словно в них вселился ветер, деревья хватали людей своими сучьями, железные стержни гнулись, как тростник; наконец часовенки и дома полезли друг на друга и заговорили громким внятным голосом, произнося странные слова — темный, непонятный язык зданий!
В каналах еще плавали трупы, медленно втягиваясь в недра земли. Затем у меня перед глазами все смазалось, и в самый последний момент я заметил, что пирамида домов предместья с грохотом обвалилась.
Впечатление было такое, будто между мной и тем, что находилось внизу, образовалась водяная завеса. С небесных высот опускался туман, неясно и зыбко мерцал очаг пожарища; несколько раз прозвучал вопль толпы — протяжное «о-ооо-ооо», — а потом я уже ничего не видел; все окутал густой туман, я едва мог различить собственную руку.
Затем посветлело, на небе возник сияющий диск, и множество ярких точек выступило на темно-синем небе… Это были луна и звезды… Я не видел их уже три года… я почти забыл про огромный мир над нами и теперь невольно предался созерцанию бесконечно высокого неба. Внезапно меня пробрал озноб, и я глянул вниз. Широкая облачная гряда — небо царства грез — опустилась на землю.
В кудрявой облачной массе подо мной прозвучал глухой раскат грома; звук непрерывно нарастал, словно скакали невидимые всадники Апокалипсиса; он разбивался об отвесные скалы, отражаясь двух-, трехкратным эхо, ослабевал и снова усиливался до бесконечности, дробился на части, громыхал из всех долин и над всеми перевалами, не хотел заканчиваться, продолжался долго, бесконечно долго и наконец постепенно затих.
Так погибло царство грез.
Земля была затянула серой пеленой, вдали при лунном свете четко вырисовывались ледяные шапки Тянь-Шаня.
Вдруг почва запружинила и заходила под ногами как резина, оглушительный хлопок — словно залп из сотен орудий — сотряс воздух. Фасад дворца медленно накренился, изогнулся, как полотнище флага на ветру, и рухнул, похоронив под своими обломками центральную площадь.
Со всех башен Перле зазвучали колокола — мелодично и торжественно вызванивали они лебединую песню столицы. Я был тронут до слез — мне казалось, будто я участвую в процессии на похоронах страны грез.
Я проследовал за синеглазыми в узкие ворота, проделанные в каменной стене. Тусклый свет одиночных факелов озарил длинную лестницу со ступеньками неравной высоты, уходившую вверх. Мои провожатые исчезли в пещере, вырубленной в боковой стене. Но я продолжал подъем, чтобы приглядеть для себя безопасное место, и скоро снова очутился на открытом воздухе и увидел над собой красноватое небо. Я находился в старой горной крепости. Несколько орудий были обращены в сторону Перле, но у остальных лафеты были разбиты, и повсюду виднелись разбросанные бронзовые стволы. За валом был крутой обрыв в несколько сотен метров высотой. Я сел. Моему взору открылся лабиринт подземных ходов, я с трудом верил собственным глазам. Столица была изрыта, как кротовая нора. Широкий туннель соединял дворец с предместьем, остальные ходы тянулись далеко за пределы города. Теперь, когда они обнажились, их затопило водой из реки, и все, что еще стояло на улицах, постепенно погружалось в них. С другой стороны продолжало наступать болото.
Колокольный перезвон стих, башни рухнули, уцелела только большая часовая: ее мощный колокол гудел низким басом. Следов жизни в городе почти не наблюдалось. Спаслась, по всей видимости, только горстка людей. Они то разбегались в разных направлениях, то вновь сходились в одной точке — словно марионетки, управляемые одной ниткой; такими они представлялись мне с высоты.
Их перемещения казались бесцельными. Наконец они, словно по команде, понеслись во весь опор через развалины к реке, пересекли ее сухое русло и устремились в предместье.
Из огромной дыры в земле дохнуло ледяным ветром — я почувствовал его на себе, — и беглецы полетели кувырком. Чудовищная воронка втянула в себя выброшенный воздух, а вместе с ним доски, бревна и людей; все это походило на смерч. Лишь несколько человек избежали страшной участи и поспешили к домам предместья. Порывы ветра прекратились, и из черного провала осторожно высунулась верблюжья голова на длиннющей шее. Она осмотрелась умным взглядом и вытянулась на ту же высоту, где находился я. Потом беззвучно рассмеялась и втянулась обратно в провал.
Хижины задвигались, ветряные мельницы начали отбиваться своими крыльями от непрошеных гостей, соломенные крыши ощетинили свои взъерошенные лохмы, палатки надулись, словно в них вселился ветер, деревья хватали людей своими сучьями, железные стержни гнулись, как тростник; наконец часовенки и дома полезли друг на друга и заговорили громким внятным голосом, произнося странные слова — темный, непонятный язык зданий!
В каналах еще плавали трупы, медленно втягиваясь в недра земли. Затем у меня перед глазами все смазалось, и в самый последний момент я заметил, что пирамида домов предместья с грохотом обвалилась.
Впечатление было такое, будто между мной и тем, что находилось внизу, образовалась водяная завеса. С небесных высот опускался туман, неясно и зыбко мерцал очаг пожарища; несколько раз прозвучал вопль толпы — протяжное «о-ооо-ооо», — а потом я уже ничего не видел; все окутал густой туман, я едва мог различить собственную руку.
Затем посветлело, на небе возник сияющий диск, и множество ярких точек выступило на темно-синем небе… Это были луна и звезды… Я не видел их уже три года… я почти забыл про огромный мир над нами и теперь невольно предался созерцанию бесконечно высокого неба. Внезапно меня пробрал озноб, и я глянул вниз. Широкая облачная гряда — небо царства грез — опустилась на землю.
В кудрявой облачной массе подо мной прозвучал глухой раскат грома; звук непрерывно нарастал, словно скакали невидимые всадники Апокалипсиса; он разбивался об отвесные скалы, отражаясь двух-, трехкратным эхо, ослабевал и снова усиливался до бесконечности, дробился на части, громыхал из всех долин и над всеми перевалами, не хотел заканчиваться, продолжался долго, бесконечно долго и наконец постепенно затих.
Так погибло царство грез.
Земля была затянула серой пеленой, вдали при лунном свете четко вырисовывались ледяные шапки Тянь-Шаня.
Четвертая глава. Видения — смерть Патеры
1
Я ощущал ни с чем не сравнимую легкость, сладкая истома поднималась откуда-то изнутри, мир моих чувств коренным образом переменился, моя жизнь была не более чем живым огоньком. Спал ли я? бодрствовал? или был мертв? Издалека донеслось несколько глухих возгласов, прозвучавших как прерванные аккорды. Прокукарекал петух, и я услышал тихую органную музыку, какой-то простенький хорал. Глянув вниз, я увидел глубоко под собой родной немецкий зимний ландшафт, горную деревушку. Время шло к вечеру, звуки органа доносились из открытых дверей маленькой церкви. Деревенские парнишки тащили свои санки по мягкому снегу; женщины выходили из храма, кутаясь в пестрые шали; под широкими стрехами деревянных, упрочненных камнями крыш крестьянских домов стояли согбенные фигуры. Я сразу узнал это место: здесь я провел детство. Каждый из этих людей был хорошо мне знаком: в одной из пар я с радостным испугом узнал своих родителей — отец был в своей неизменной бурой меховой шапке. Я ничуть не удивился, хотя большинства этих людей давно не было на свете, и сам хотел войти и это воскресшее прошлое, но не смог пошевельнуть ни членом. Стая воронов пролетела в направлении замерзшего озера, по которому шли закутанные фигуры, потом все стало блекнуть и бледнеть — и видение исчезло… Больше я ничего не видел в темноте. Органная музыка обволакивала меня; мне казалось, будто я сам живу в ее звуках; аккорды менялись, становясь все более полнозвучными, а потом все неожиданно оборвалось. Город Перле стоял на прежнем месте. Из дворца вышел Патера, глубоко и шумно зевнул, потянулся и на глазах стал расти. Его голова достигла одной высоты со мной, весь дворец мог бы служить ему табуреткой. Его одежды разошлись по швам и спали с него. Лицо было обрамлено низко спадающими локонами. Он раздвинул дома своими гигантскими ногами и, наклонившись над вокзалом, подхватил рукой паровоз. Он стал играть на нем, как на губной гармонике, продолжая при этом раздаваться во все стороны, так что вскоре эта игрушка уже стала для него мала. Тогда он отломил большую башню и принялся дуть в нее, как в трубу; страшно было смотреть на его обнаженное тело. Он вырос до немыслимых размеров, вырвал из земли вулкан, на котором еще висел спиралевидный кусок остывшей лавы. Приложив этот колоссальный инструмент к своим губам, он загудел так, что содрогнулась вся вселенная. Город давно исчез под его стопами. Он стоял, выпрямившись; верхняя часть его торса терялась в облаках; тело, казалось, было сложено из гор. Похоже, он гневался. Я видел, как он опустился на колени; стаи птиц путались в его длинных волосах. Он вступил в море, которое едва доставало ему до бедер, и оно вышло из берегов и затопило землю. Загребая воду своими чудовищными руками, он вылавливал корабли и трепещущих морских гадов, раздавливал их и отбрасывал в сторону. Он растаптывал горы, превращая их в глину; в следы его ступней умещались целые реки. Он хотел уничтожить все. Он брызгал своей кипящей мочой на самые отдаленные горные хижины, и ничего не подозревающие жители погибали от ожогов. Он топтался в серо-желтой влаге всемирного потопа, его разгоряченное тело окутывали облака дыма. Хватая людей пригоршнями, он швырял их на расстояние во много миль, и они падали на землю трупным дождем. Но вдруг зашевелилась огромная горная цепь, протянувшаяся с запада на восток. Это был спящий американец. Патера во весь рост навалился на своего противника, и пока они борлись, по морю ходили волны высотою с дом. Я же сознавал себя во власти своей судьбы и оставался спокойным. Подо мной, насколько хватало зрения, простирался океан крови. Горячая пурпурная влага поднималась все выше, до моих ног долетали клочья розовой пены, удушливый запах бил в нос. Потом кровавое море отступило и стало гнить на моих глазах: кровь сгущалась, темнела, чернела, переливаясь всеми цветами радуги. Иногда тягучая жидкость отступала, обнажая дно, которое было покрыто мягким слоем шлама и испускало жуткое зловоние. Патера и американец сцепились, образовав бесформенный клубок; американец полностью врос в Патеру. Неуклюжее, необозримое тело ворочалось во все стороны. Это аморфное существо обладало природой Протея, миллионы маленьких чередующихся лиц образовывались на его поверхности, бормотали, пели, кричали друг на друга — и снова исчезали. Постепенно чудовище затихло, свернувшись в гигантский шар — череп Патеры. Глаза, огромные, как части света, смотрели взором ясновидящего орла. Затем оно приобрело лицо парки и постарело на миллионы лет. Девственные леса волос осыпались, обнажив гладкую костяную оболочку. Потом голова треснула, и передо мной открылась абсолютная пустота… И снова далеко в стороне я увидел американца, ставшего таким же громадным, как Патера. Глаза этого Цезаря метали алмазные молнии; он боролся с самим собой в демоническом припадке, чудовищные жилы вздулись голубоватой сетью на его шее, он пытался задушить себя — тщетно! Тогда он со всей силы ударил себя в грудь и меня едва не оглушило стальным гулом — казалось что загремели гигантские литавры. Потом это чудовище съежилось, один только половой член не уменьшался в размерах, так что в конце концов оно стало выглядеть как мелкий паразит на теле превосходящего все мыслимые размеры фаллоса. Потом паразит отпал, как высохшая бородавка, и член, подобно гигантской змее, пополз по земле, извиваясь как червяк, и втянулся в один из подземным ходов страны грез.
Я обрел способность видеть сквозь землю: во всех этих ходах обитал гигантский тысячерукий полип; его отростки, эластичные как резина, тянулись под домами, проникали во все квартиры, присасывались к каждой постели, щекоча спящих своими волосками и наростами, уходили на многие мили за пределы города, сворачивались в сгустки, отливавшие то черным, то оливковым, то бледно-розовым цветом.
Меня снова ослепил свет. Два фиолетовых сияющих метеора, летевших навстречу друг другу, сблизились и столкнулись. Воздух раскалился добела. Разноцветные молнии, многократно пересекаясь, засверкали в небе. Казалось, будто на несколько секунд возникают дивно окрашенные солнечные миры с цветами и живыми существами, каких я никогда не видел на Земле. Неукротимая, брызжущая радостью жизнь проносилась пред моею душой. Ибо отныне я видел не глазами — о, нет, нет! Я забыл себя, я сам проникал в эти миры, разделял боль и радость бесчисленных существ. Мне открывались тайны, странные и неописуемые.
Потом что-то раскололось — я услышал мягкие звуки падения. На моих глазах образовывались мягкие бескостные массы, несущие в себе женское начало. Их подстегивала мощная воля к формированию; колко пламенели светящиеся точки, тысячи гармоний пронизывали пространство. Они снова слились в одну неделимую водянистую мерцающую слизь. Там, где только что шумело море, образовалась ледяная корка. Лопнув, она рассыпалась на множество геометрических фигур.
Я был частью происходящего и воспринимал все с невыразимой остротой. После событий, которые были безвременными, вечными, после напряжения поистине вулканических преобразований все превратилось в свою противоположность. За процессом рождения последовала тяга к зрелости — и зрелость мгновенно была достигнута. Блаженное нежное расслабление охватило мир. Смутное понимание превратилось в силу, в тоску. Это была чудовищная, само собой разумеющаяся мощь.
Стемнело. — Равномерно покачиваясь, Вселенная сжалась в точку.
Мое сознание отключилось.
И снова далеко в стороне я увидел американца, ставшего таким же громадным, как Патера. Глаза этого Цезаря метали алмазные молнии; он боролся с самим собой в демоническом припадке, чудовищные жилы вздулись голубоватой сетью на его шее, он пытался задушить себя — тщетно! Тогда он со всей силы ударил себя в грудь и меня едва не оглушило стальным гулом — казалось что загремели гигантские литавры. Потом это чудовище съежилось, один только половой член не уменьшался в размерах, так что в конце концов оно стало выглядеть как мелкий паразит на теле превосходящего все мыслимые размеры фаллоса. Потом паразит отпал, как высохшая бородавка, и член, подобно гигантской змее, пополз по земле, извиваясь как червяк, и втянулся в один из подземным ходов страны грез.
Я обрел способность видеть сквозь землю: во всех этих ходах обитал гигантский тысячерукий полип; его отростки, эластичные как резина, тянулись под домами, проникали во все квартиры, присасывались к каждой постели, щекоча спящих своими волосками и наростами, уходили на многие мили за пределы города, сворачивались в сгустки, отливавшие то черным, то оливковым, то бледно-розовым цветом.
Меня снова ослепил свет. Два фиолетовых сияющих метеора, летевших навстречу друг другу, сблизились и столкнулись. Воздух раскалился добела. Разноцветные молнии, многократно пересекаясь, засверкали в небе. Казалось, будто на несколько секунд возникают дивно окрашенные солнечные миры с цветами и живыми существами, каких я никогда не видел на Земле. Неукротимая, брызжущая радостью жизнь проносилась пред моею душой. Ибо отныне я видел не глазами — о, нет, нет! Я забыл себя, я сам проникал в эти миры, разделял боль и радость бесчисленных существ. Мне открывались тайны, странные и неописуемые.
Потом что-то раскололось — я услышал мягкие звуки падения. На моих глазах образовывались мягкие бескостные массы, несущие в себе женское начало. Их подстегивала мощная воля к формированию; колко пламенели светящиеся точки, тысячи гармоний пронизывали пространство. Они снова слились в одну неделимую водянистую мерцающую слизь. Там, где только что шумело море, образовалась ледяная корка. Лопнув, она рассыпалась на множество геометрических фигур.
Я был частью происходящего и воспринимал все с невыразимой остротой. После событий, которые были безвременными, вечными, после напряжения поистине вулканических преобразований все превратилось в свою противоположность. За процессом рождения последовала тяга к зрелости — и зрелость мгновенно была достигнута. Блаженное нежное расслабление охватило мир. Смутное понимание превратилось в силу, в тоску. Это была чудовищная, само собой разумеющаяся мощь.
Стемнело. — Равномерно покачиваясь, Вселенная сжалась в точку.
Мое сознание отключилось.
2
Я проснулся от колющей боли — и к счастью, потому что холод достиг такой степени, что недолго было замерзнуть насмерть. Моему взору открылась обширная долина, в которой кое-где еще клубилась фиолетовая ночная мгла; за ней тянулась грандиозная, изрезанная ущельями горная цепь с расположенными почти отвесно альпийскими лугами; над этим пейзажем простирался нежно-зеленый свод утреннего неба, и самые высокие, заснеженные пики уже были залиты розовым сиянием. Остатки туманной пелены рассеялись, последние клочья осели в темных лесах. Я протер глаза. В какой стране я находился? Незнакомые свежие ароматы придали мне сил; небо мгновенно порозовело, за далекими вершинами словно блеснула гигантская фанфара — я с криком вскочил на ноги: это было солнце, огромное солнце! Но мои глаза были слишком слабыми, чтобы вынести его сияние, и я поспешил укрыться в тени скал. Со стороны далекой равнины послышались сигналы горнов: оттуда надвигались темные колонны. Подо мной расстилалось огромное поле развалин, усеянное бесчисленными ямами, наполненными камнями. Дрожа, я спустился в горную шахту.
Моим глазам открылся скалистый зал. Со своими двумя рядами колонн, покрытых резными изображениями, он напоминал какой-то пещерный храм. В огромной глиняной чаше пылал нефтяной факел — беспокойный оранжево-желтый язык пламени. Это был единственный источник света, и он едва высвечивал дальнюю сторону зала, где собрались синеглазые. Охотнее всего я бы спрятался, ибо они внушали мне страх, но мне хотелось поблагодарить их за спасение; о будущем я еще не думал ни секунды.
Я не решался показаться этому серьезному молчаливому собранию в своих лохмотьях и ждал, укрывшись в тени колонны. Внезапно я услышал чей-то тяжкий вздох. У входа шевелилось что-то темное — масса черной материи, как мне показалось при тусклом освещении. Тяжело дыша, кряхтя, неверными шагами ко мне приближалось какое-то существо. Человек? Он шел, низко склонив покрытую голову, с его плеч ниспадала широкая мантия. Возле чаши с огнем он остановился и откинул покрывало с лица. Патера?? И да, и нет! И все же это был он!.. Но как он изменился! Шумно дыша, словно под тяжестью непосильной ноши, он подошел ближе; удивительная способность менять свой облик, казалось, была им утрачена; выражение его лица свидетельствовало только об усталости — неписуемой усталости. Глаза его были полузакрыты, в нем снова появилось что то человеческое, и я не испытывал перед ним ни малейшего страха. Мертвенная восковая бледность исчезла; он опять походил на человека, знакомого мне со школьных лет. Так он протащился мимо меня, словно мучаясь предчувствием чего-то неотвратимого, навстречу синеглазым. Они поднялись и ждали его — застыв как статуи — полукругом перед светильником. Один из старейших выступил ему навстречу и протянул сосуд — маленькую вазу, насколько я мог разглядеть; потом старец опустился на пол перед повелителем; другие тоже пали ниц и закрыли лица. Глубокое религиозное волнение овладело мною с такой силой, что я невольно преклонил колени и сложил руки.
Патера тяжелой походкой прошествовал по дуге мимо чаши с огнем и спустился на несколько ступенек к маленькому полукруглому дверному проему. Оттуда вырвался такой ослепительный свет, что я закрыл глаза обеими руками. Нефтяное пламя в сравнении с ним едва мерцало. Повелитель повернулся к нам, недвижно распростертым на земле и не смевшим смотреть на него в его блеске. Глаза Патеры утратили все следы таинственной жути: теперь эти большие глаза светились влажной темной голубизной и обнимали нас всех взором, исполненным безграничной доброты. Коротким движением головы он откинул назад свои густые длинные локоны и скрылся в проеме. Длинная черная мантия медленно втянулась вслед за ним. Бронзовая дверь захлопнулась.
Все поднялись на ноги и приблизились к двери; я тоже вышел из своего угла. В соседнем помещении, похоже творилось что-то необычайное. Доносился шум, словно от движения людских колонн. Пламя в чаше резко вздрогнуло, окрасилось в зеленый цвет и погасло. Мы очутились в полной темноте.
Из-за бронзовой двери донеслись немыслимо протяжные крики. Они были настолько пронзительными, что я зажал уши руками, чтобы не потерять сознание. Казалось, будто гигантская пила грызет скалу своими зубьями. Наконец эти звуки перешли в глубокий, хриплый стон раненого зверя — но и тот постепенно затихал, пока не оборвался жутким сиплым вздохом.
Отворив дверь, мы оказались в покое, освещенном мягким голубоватым светом; все было разгромлено, везде валялись куски расплавленного металла, источенные камни, отколотые глыбы гранита. И он — повелитель!
Свернувшись в комочек, он лежал в углу, словно заброшенный туда чьей-то мощной дланью, лицом вниз.
Скрюченное тело показалось мне на удивление маленьким и слабым. Повелитель и этот бесформенный комок — между ними не было ничего общего! Я ничего не понимал. Неужели это жалкое, вызывающее сострадание существо и есть тот, кто еще недавно на наших глазах вступил в эту комнату?
Невообразимая агония искривила тело сильнейшего из людей. Голова, пусть в копоти и грязи, оставалась все той же мощно вылепленной головой великого Патеры, которую мы все так хорошо знали.
Старцы подняли труп. Когда они его обмывали, к телу постепенно вернулась гибкость. Искаженная маска сошла с лица, веки послушно закрылись, чудовищный оскал уступил место выражению полной умиротворенности. Тем но-русые локоны Патеры стали совершенно белыми.
Распростертое на земле, тело казалось мне гораздо длиннее, но к моему ужасу оно еще стало расти — рывками, с треском, словно под действием скрытого избытка сил. Рост прекратился лишь спустя продолжительное время. В сравнении с длиной туловища мощная голова выглядела почти миниатюрной; холодное, словно высеченное из мрамора лицо, обрамленное седыми прядями, походило на лицо античного бога.
Тело было неописуемо прекрасным. Я и не предполагал, что на нашей земле возможны такие изящество и правильность форм. Стоя перед ним, повелителем, в своих лохмотьях, я в первый и последний раз в жизни созерцал подлинное величие. Никто из синеглазых не осмеливался хотя бы единым движением нарушить эту тихую недосягаемость. Они уходили один за другим. Я удалился последним, затаив дыхание и на цыпочках. Синеглазые уже покинули гору, и я больше никогда их не видел.
Я опустился на нижнюю ступеньку лестницы и зарыдал.
Моему взору открылась обширная долина, в которой кое-где еще клубилась фиолетовая ночная мгла; за ней тянулась грандиозная, изрезанная ущельями горная цепь с расположенными почти отвесно альпийскими лугами; над этим пейзажем простирался нежно-зеленый свод утреннего неба, и самые высокие, заснеженные пики уже были залиты розовым сиянием. Остатки туманной пелены рассеялись, последние клочья осели в темных лесах. Я протер глаза. В какой стране я находился? Незнакомые свежие ароматы придали мне сил; небо мгновенно порозовело, за далекими вершинами словно блеснула гигантская фанфара — я с криком вскочил на ноги: это было солнце, огромное солнце! Но мои глаза были слишком слабыми, чтобы вынести его сияние, и я поспешил укрыться в тени скал. Со стороны далекой равнины послышались сигналы горнов: оттуда надвигались темные колонны. Подо мной расстилалось огромное поле развалин, усеянное бесчисленными ямами, наполненными камнями. Дрожа, я спустился в горную шахту.
Моим глазам открылся скалистый зал. Со своими двумя рядами колонн, покрытых резными изображениями, он напоминал какой-то пещерный храм. В огромной глиняной чаше пылал нефтяной факел — беспокойный оранжево-желтый язык пламени. Это был единственный источник света, и он едва высвечивал дальнюю сторону зала, где собрались синеглазые. Охотнее всего я бы спрятался, ибо они внушали мне страх, но мне хотелось поблагодарить их за спасение; о будущем я еще не думал ни секунды.
Я не решался показаться этому серьезному молчаливому собранию в своих лохмотьях и ждал, укрывшись в тени колонны. Внезапно я услышал чей-то тяжкий вздох. У входа шевелилось что-то темное — масса черной материи, как мне показалось при тусклом освещении. Тяжело дыша, кряхтя, неверными шагами ко мне приближалось какое-то существо. Человек? Он шел, низко склонив покрытую голову, с его плеч ниспадала широкая мантия. Возле чаши с огнем он остановился и откинул покрывало с лица. Патера?? И да, и нет! И все же это был он!.. Но как он изменился! Шумно дыша, словно под тяжестью непосильной ноши, он подошел ближе; удивительная способность менять свой облик, казалось, была им утрачена; выражение его лица свидетельствовало только об усталости — неписуемой усталости. Глаза его были полузакрыты, в нем снова появилось что то человеческое, и я не испытывал перед ним ни малейшего страха. Мертвенная восковая бледность исчезла; он опять походил на человека, знакомого мне со школьных лет. Так он протащился мимо меня, словно мучаясь предчувствием чего-то неотвратимого, навстречу синеглазым. Они поднялись и ждали его — застыв как статуи — полукругом перед светильником. Один из старейших выступил ему навстречу и протянул сосуд — маленькую вазу, насколько я мог разглядеть; потом старец опустился на пол перед повелителем; другие тоже пали ниц и закрыли лица. Глубокое религиозное волнение овладело мною с такой силой, что я невольно преклонил колени и сложил руки.
Патера тяжелой походкой прошествовал по дуге мимо чаши с огнем и спустился на несколько ступенек к маленькому полукруглому дверному проему. Оттуда вырвался такой ослепительный свет, что я закрыл глаза обеими руками. Нефтяное пламя в сравнении с ним едва мерцало. Повелитель повернулся к нам, недвижно распростертым на земле и не смевшим смотреть на него в его блеске. Глаза Патеры утратили все следы таинственной жути: теперь эти большие глаза светились влажной темной голубизной и обнимали нас всех взором, исполненным безграничной доброты. Коротким движением головы он откинул назад свои густые длинные локоны и скрылся в проеме. Длинная черная мантия медленно втянулась вслед за ним. Бронзовая дверь захлопнулась.
Все поднялись на ноги и приблизились к двери; я тоже вышел из своего угла. В соседнем помещении, похоже творилось что-то необычайное. Доносился шум, словно от движения людских колонн. Пламя в чаше резко вздрогнуло, окрасилось в зеленый цвет и погасло. Мы очутились в полной темноте.
Из-за бронзовой двери донеслись немыслимо протяжные крики. Они были настолько пронзительными, что я зажал уши руками, чтобы не потерять сознание. Казалось, будто гигантская пила грызет скалу своими зубьями. Наконец эти звуки перешли в глубокий, хриплый стон раненого зверя — но и тот постепенно затихал, пока не оборвался жутким сиплым вздохом.
Отворив дверь, мы оказались в покое, освещенном мягким голубоватым светом; все было разгромлено, везде валялись куски расплавленного металла, источенные камни, отколотые глыбы гранита. И он — повелитель!
Свернувшись в комочек, он лежал в углу, словно заброшенный туда чьей-то мощной дланью, лицом вниз.
Скрюченное тело показалось мне на удивление маленьким и слабым. Повелитель и этот бесформенный комок — между ними не было ничего общего! Я ничего не понимал. Неужели это жалкое, вызывающее сострадание существо и есть тот, кто еще недавно на наших глазах вступил в эту комнату?
Невообразимая агония искривила тело сильнейшего из людей. Голова, пусть в копоти и грязи, оставалась все той же мощно вылепленной головой великого Патеры, которую мы все так хорошо знали.
Старцы подняли труп. Когда они его обмывали, к телу постепенно вернулась гибкость. Искаженная маска сошла с лица, веки послушно закрылись, чудовищный оскал уступил место выражению полной умиротворенности. Тем но-русые локоны Патеры стали совершенно белыми.
Распростертое на земле, тело казалось мне гораздо длиннее, но к моему ужасу оно еще стало расти — рывками, с треском, словно под действием скрытого избытка сил. Рост прекратился лишь спустя продолжительное время. В сравнении с длиной туловища мощная голова выглядела почти миниатюрной; холодное, словно высеченное из мрамора лицо, обрамленное седыми прядями, походило на лицо античного бога.
Тело было неописуемо прекрасным. Я и не предполагал, что на нашей земле возможны такие изящество и правильность форм. Стоя перед ним, повелителем, в своих лохмотьях, я в первый и последний раз в жизни созерцал подлинное величие. Никто из синеглазых не осмеливался хотя бы единым движением нарушить эту тихую недосягаемость. Они уходили один за другим. Я удалился последним, затаив дыхание и на цыпочках. Синеглазые уже покинули гору, и я больше никогда их не видел.
Я опустился на нижнюю ступеньку лестницы и зарыдал.
Пятая глава. Развязка
Огромное поле развалин; горы мусора, ил, кирпичный бой — гигантская помойка города. Все окутано голубоватой утренней дымкой. Только скалистые гребни на дальнем плане слегка тронуты золотом восходящего солнца. Небо еще темное, но безоблачное. Мужчина с непокрытой головой и массивным мешком на плече твердой и упругой походкой продвигается среди развалин. На нем фрак с узкими фалдами и широкими бархатными обшлагами, узкие панталоны, туго обтягивающие мускулистые ноги, — по венской моде 60-х годов. Но эти предметы одежды запятнаны гарью и кровью и во многих местах протерты до дыр. Человек напоминает взломщика, уносящего добычу в безопасное место. Наконец он опускает свою поклажу на большой плоский камень. Грязный мешок летит в сторону — на камне стоит новехонький кожаный чемодан с латунной отделкой. Геркулес Белл извлекает из него элегантный костюм и вполне современное нижнее белье и начинает переодеваться. Потом он тщательно бреется, смотрясь в ручное зеркальце, надевает новую широкополую панаму и закуривает свою короткую трубку; тонкая трость перечного цвета с золотым набалдашником довершает его туалет. Глядя на его бодрую осанку и загорелое лицо никто бы не заподозрил, что этому человеку довелось пережить ужасающие превратности и напасти; разве что черные как смоль волосы приметно поседели на висках. Таким вышел американец навстречу подступающим русским войскам. Генерал-лейтенант Рудинов выслал в авангарде стрелковую роту, которая осторожно приблизилась к дымящимся остаткам великой стены, но при всем желании не смогла обнаружить противника. Получив рапорт от роты, генерал решился на дальнейшее продвижение колонн. В полевой бинокль был хорошо виден маленький форт, построенный на скалистом выступе горы. Рудинов приказал выставить несколько батарей и навести орудия на укрепление. Затем он отправил парламентера в сопровождении трубача и двух казаков с белыми флажками на пиках, чтобы передать ультиматум, согласно которому противник должен был немедленно сдаться в плен, передать русским все свое оружие и имущество и освободить всех находящихся под стражей подданных европейских государств. Однако парламентер увидел только покинутую территорию, усыпанную камнями и щебнем. В некоторых местах среди куч мусора еще тлели обугленные останки деревянных зданий. Задерживаться здесь явно не стоило, так как почва оседала и покрывалась болотной грязью. Развалины медленно погружались в трясину. Вручать ультиматум было некому. Командующий остался недоволен этим известием. Ведь русские были почти уверены, что найдут здесь набитые до отказа сокровищницы. В конце концов было принято решение продвигаться до горы; разумеется, с максимальной осторожностью, поскольку офицеры штаба упорно подозревали засады замаскированные артиллерийские позиции и тому подобное. По счастливой случайности русские обнаружили небольшой проход в скале и меня, лежавшего без сознания на нижней ступеньке лестницы. Им я обязан жизнью. Меня приняли самым дружелюбным образом. Газетчики, знавшие мою фамилию с прежних времен, наперебой рвались взять у меня интервью. Всевозможные журналы хотели опубликовать мою фотографию на фоне того места, где стоял город грез. Я был слишком слаб, чтобы выдержать эти расспросы, и отсылал репортеров к мистеру Беллу, который к этому времени тоже дал о себе знать. Найти храм внутри горы не удалось. Я высказал предположение, что в результате смещения скальных пластов все входы в него оказались закрытыми, но присутствовавшие геологи только иронически покачали головами. Я видел, что мне не верят, — тем более что американец важничал и хвалился, будто он положил конец «блефу Патеры», уничтожив восковую фигуру. Впрочем, мы с ним были не единственными, кто пережил катастрофу. В девственном лесу поблизости русские солдаты вспугнули кучку полуголых людей, сидевших на деревьях и оживленно споривших и жестикулировавших. Оказалось, что они тоже были гражданами страны грез, — шестеро евреев, владевших бакалейными лавками. Позднее я узнал, что они на удивление быстро восстановили силы и со временем здорово разбогатели в крупных городах Северной и Западной Европы. При раскопках в центре столицы под теплой кучей пепла нашли высохшую человеческую фигуру; очистили с нее пыль и решили, что это мумия. Но полковой врач обнаружил в ней признаки жизни и, хорошенько постаравшись, сумел вновь разжечь эту слабую искру. Все сбежались посмотреть на спасенного, который, как вскоре выяснилось, был женского пола. Один русский офицер, потомок древнего рода, опознал в старухе свою двоюродную тетку — принцессу фон X. Подлечив ее и приведя в божеский вид, он увез ее с собой в Европу. Сам я отправился на родину через Ташкент в сопровождении доктора и по прибытии в Германию был вынужден сразу определиться в лечебницу, чтобы отдохнуть и привыкнуть к прежним условиям жизни — особенно к солнечному свету. Прошли годы, прежде чем я смог освоиться в обычной среде и даже вернуться к своей профессии. Исключая телеграмму: «Область государства грез полностью оккупирована» все участники похода в дальнейшем благоразумно молчали об увиденном, зная, что в противном случае их поднимут на смех. Феномен Патеры остался необъясненным. Возможно, подлинными повелителями были синеглазые, которые с помощью магических сил приводили в движение куклу Патеры и по своему произволу сотворили, а затем уничтожили царство грез. Американец жив до сих пор, и его знает весь мир.
ЭПИЛОГ
Человек — всего лишь самонадеянное ничтожество.В лечебнице я не переставая думал о волшебном и грандиозном спектакле, который мне довелось пережить. Моя способность ко сну приобрела явно болезненный характер; сны пытались подчинить себе мое сознание. В них я терял свою идентичность, они часто уводили меня в минувшие исторические эпохи. Почти каждую ночь мне являлись картины отдаленного прошлого, и я держусь мнения, что все эти сновидения были теснейшим образом связаны с переживаниями моих предков, чьи душевные потрясения, вероятно, были унаследованы мною на биологическом уровне. На еще более глубоких уровнях сна я перевоплощался в животных или даже пребывал в составе праэлементов. Эти сны были пропастями, в которые я безвольно проваливался. Когда наступала хорошая погода и ночи были ясными и звездными, такие сны прекращались. Дни протекали монотонно. Меня томили бездеятельность и скука. По мере того как я набирался сил, ко мне возвращалось желание работать. Но я чувствовал, что ни к чему не способен. Действительность казалась мне отвратительной карикатурой на страну грез. Меня ободряла только мысль об исчезновении, о смерти. Я предавался ей со всем пылом, на какой только был способен. Я полюбил небытие экстатически, как женщина; я упивался им. В светлые, лунные ночи я отдавался ему всем своим существом, созерцал его, чувствовал его и испытывал неземное блаженство. Я стал интимным другом этого величайшего из владык, достославного князя мир, красота которого неописуема для всех, кто чувствует его. Оно было моей последней, величайшей отрадой. Я узнавал его в каждом опавшем листе, в сырой траве, в рыхлой земле. Уступать его хитрым кошачьим домоганиям, воспринимать производимые им разрушения как любовные объятия — вот что делало менясчастливым! В тот период я питал особую склонность к увядшим цветам. О собственном умирании я думал как о величайшей небесной радости, которою открывается вечная брачная ночь. Почему же все противятся смерти? Ведь она желает нам только добра! В каждом лице я с любопытством пытался разглядеть ее знаки, в морщинах и складках старости я узнавал ее поцелуи! Ее взоры блестели так соблазнительно, что даже сильнейший покорялся ей — тогда она сбрасывала с себя покровы, и умирающий видел ее в блеске алмазов, переливающихся тысячами граней. Когда я наконец отважился начать жизнь заново, я обнаружил, что мое божество обладает лишь половиной власти. Как в великом, так и в малом оно делится со своим соперником, который есть воля к жизни. Силы притяжения и отталкивания, полюса земли с их токами, чередование времен года, день и ночь, черное и белое — все это проявления их борьбы. Подлинный ад заключается в том, что эта противоречивая двойная игра продолжается и в нас. Даже любовь имеет свой центр тяжести «между клоаками и выгребными ямами». Самые возвышенные ситуации могут становиться жертвой насмешки, издевки, иронии.Юлиус Банзен
Демиург двойствен.

Последние комментарии
13 часов 22 минут назад
22 часов 14 минут назад
22 часов 17 минут назад
3 дней 4 часов назад
3 дней 8 часов назад
3 дней 10 часов назад