Рублев [Владимир Сергеевич Прибытков] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Владимир Прибытков АНДРЕЙ РУБЛЕВ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
 Монастырь. Келья. Острые запахи рыбьего клея и олифы.
Перед законченной иконой — человек в черном облачении.
Икона видна хорошо: рисунок строг и точен, краски положены жидкими слоями «в приплеск», одна на другую, тени санкиря дымчато-зелены, вохрение неповторимо нежно.
Кажется, икона излучает мягкий колеблющийся свет. Но лицо мастера отвернуто.
Отвернуто вот уже шестьсот лет.
Мы шестьсот лет обречены видеть только монастырскую келью, удивительные творения легендарной кисти и ничего больше.
Жизнь художника-гения, не знавшего себе равных среди современников, почти неизвестна.
Имена Фра-Анжелико, Джотто, Рафаэля говорят нам несравненно больше, чем простое русское имя — Андрей Рублев.
Монастырь. Келья. Острые запахи рыбьего клея и олифы.
Перед законченной иконой — человек в черном облачении.
Икона видна хорошо: рисунок строг и точен, краски положены жидкими слоями «в приплеск», одна на другую, тени санкиря дымчато-зелены, вохрение неповторимо нежно.
Кажется, икона излучает мягкий колеблющийся свет. Но лицо мастера отвернуто.
Отвернуто вот уже шестьсот лет.
Мы шестьсот лет обречены видеть только монастырскую келью, удивительные творения легендарной кисти и ничего больше.
Жизнь художника-гения, не знавшего себе равных среди современников, почти неизвестна.
Имена Фра-Анжелико, Джотто, Рафаэля говорят нам несравненно больше, чем простое русское имя — Андрей Рублев.
Загадочная судьба! Его близко знают, его талант высоко ценят летописцы, зодчие, государственные деятели эпохи. Города стремятся залучить его для росписи лучших храмов. Летописцы называют «мудрым» и «чудным». Поражаясь той душевной щедрости, той доброте и любви, тому уважению к людям, которые водят кистью художника, они с наивной искренностью переносят восхищение силой человека-творца на его произведения, благоговейно считая написанные им иконы чудотворными. Высшего признанья средневековье дать не может, и никому, кроме Андрея Рублева, не дает. Но подробности жизни великого мастера погребены в веках, и тайну погребения они хранят ревниво и неусыпно. Самый крупный писатель времени — Епифаний Премудрый, инок той же Свято-Троицкой обители, где послушничал Рублев, — о мастере не пишет. Другой писатель — Пахомий Логофет — говорит о нем скупой скороговоркой. Летописи столь же немногословны. Епископ Иосиф Волоколамский называет мастера святым, но о «житии» святого Андрея Рублева — ни звука. Это походит на заговор. Несколько сухих указаний летописи на роспись Рублевым храмов, на его совместную в 1405 году работу с Феофаном Греком в Благовещенском соборе Московского Кремля, известие о переходе живописца из монастыря Святой Троицы в Спасо-Андрониковский, рассказ о создании им в двадцатые годы XV века деисуса для той же Святой Троицы и похожее на легенду сказание о смерти художника — вот и все, что получаем мы от прочтения «древних пергаменов». Год рождения Рублева нигде не указывается. О происхождении его ничего не говорится. Причины перехода из одного монастыря в другой не объясняются. Об отношениях Рублева к окружающим его людям и событиям — почти ничего. Лицо отвернуто. Фигура неподвижна. Молчание нерушимо. Что это? Случайность? Или церковь предпочла, чтобы никто не мог объяснить истинных дум и чувств Рублева, узнать, в каком душевном состоянии создавал мастер свои иконы и фрески, какие руки «славили» «спасителя» и во имя чего? Можно думать об этом по-разному, если забыть историю и не помнить, сколько раз официальные благочестие и «целомудрие», эти непримиримые враги человеческого достоинства, пытались скрыть или приукрасить жизнь титанов мысли и духа, задыхавшихся от фарисейства и подлости окружающего мира. Нет! Церковь знала, что делает, и надо отдать ей должное: она во многом успела.
Искусство способно потрясти мысль и чувства, покорить и вдохновить лишь тогда, когда очевиден нравственный подвиг его создателей. Гробница Медичи, изваянная Микеланджело, — это не аллегорические фигуры Дня и Ночи, и скульптор скорбит не об усопшем тиране. Это во всеуслышание высказанный приговор эпохе предательств и насилий, это осиновый кол, вбитый на глазах народа и притеснителей в могилу ничтожества. Сказки Пушкина — это смелый разговор поэта с эпохой, бестрепетное объяснение с Николаем, казнившим декабристов. Благо, что мы знаем судьбы Микеланджело и Пушкина и понимаем их язык. Иначе отчаяние великого флорентийца показалось бы удручающим, а повествование о Царе Салтане неуместной по времени шуткой автора «Евгения Онегина». Ничто не может быть страшней для художника, чем утрата общего языка с грядущими поколениями, и трагично, когда пепел души принимают за комок глины. А для многих искусство Андрея Рублева действительно комок глины. Сам художник в этом не виноват, ибо человек не волен выбирать, в каком столетии родиться — в четырнадцатом или в двадцатом. Неповинны историки и искусствоведы. Они свое дело делали и делают. Повинна литература. Ей надо было давно открыть «тайну» Андрея Рублева, объяснив искусство художника его жизнью и его жизнь искусством. Сказать же, что Рублева отличают характерные белильные блики и «облачная» раскраска, не значит взволновать сердца. Надо поведать, какую боль и какую радость призваны были они выражать, эти блики, эта раскраска. Искусство великого инока определяют как искусство эпохи освобождения от татарского ига, создания русского централизованного государства, роста национального самосознания народа. Обобщенность такого определения справедлива, но оставляет отдельные, в разное время и при разных обстоятельствах написанные иконы и фрески необъясненными. Ведь если бы миропонимание Андрея Рублева в годы работы с Феофаном Греком и во время росписи Троицкого собора было одинаково, ему просто незачем было бы писать. Он умер бы как художник. Но абсолютно одинаковое отношение к совершенно разным событиям, неподвижность чувств немыслимы. А Рублев пишет и в 1400 и в 1420 годах! Так нельзя ли все-таки постичь «тайну» Андрея Рублева, чтобы он шагнул через пропасть столетий и встал рядом с нами, «как живой с живыми говоря»? Здесь всегда ставят вопрос: достаточно ли для этого мы знаем о художнике, не слишком ли крохотны сведения о нем? Вопрос надо ставить иначе. Так ли мало мы знаем о Рублеве? Вгляделись ли в отрывочные свидетельства источников? Решились ли хоть раз уподобиться тем художникам-реставраторам, что воссоздают погибшие фрески, их едва намеченные линии, угадывая стертые временем формы и первоначальные цвета? Почти не вглядывались, почти ничего воссоздать не пытались. А попытаться сделать это пора. Неподвижная фигура легендарного живописца должна ожить. Не в эпизодах исторических анекдотов. Не в досужих россказнях церковников. В драматических событиях самой эпохи. Придется «разгадывать» множество загадок. И прежде всего самую первую из них: время рождения художника. Считается, что установить дату рождения Рублева хотя бы и приблизительно почти невозможно. Расписавшись в этом, мы сразу теряем право говорить о духовном формировании Андрея Рублева, оказываемся бессильны воссоздать атмосферу эпохи, указать на события, определившие своеобразие пути и развития художника. Ограничиться указанием на то, что Рублев живет во время освобождения от татарского ига, нельзя. Одно дело, если Андрей Рублев происходит из боярского рода, другое — если он простолюдин; одно — если его убеждения совпадают с убеждениями официальной церкви, другое — если он в чем-то расходится с нею; одно — если в годину Куликовской битвы Рублев зрелый мужчина, другое — если знает о битве понаслышке. Привычка рассматривать прошлое не иначе, как столетиями, полагая, будто отжившие поколения мыслили и созидали в полном согласии с нашими социально-экономическими и политическими определениями эпох народной жизни, — застарелая привычка. Эпоха в жизни народа и жизнь того или иного поколения в эту эпоху — далеко не одно и то же. Но как все-таки определить год рождения Андрея Рублева? Какое отношение к подобной задаче могут иметь высказанные соображения? Оказывается, имеют. Рассматривая творчество Андрея Рублева как результат величайших сдвигов в сознании народа, расправившего богатырские плечи на Куликовом поле, торопливо склоняются к заманчивому предположению, что живописец — очевидец этого величественного события. Ведь светлое, славящее человеческую личность искусство Рублева вне общего национального подъема необъяснимо, а факты биографии художника как бы подталкивают признать, будто Андрей Рублев — очевидец битвы с Мамаем. В двадцатые годы XV века, сорок лет спустя после Куликовского сражения, Андрей Рублев и его учитель Даниил Черный расписывают стены и деисус Троицкого собора в монастыре Святой Троицы. Источники называют Рублева этой поры «старцем», «седины честни имея», и говорят, что игумену Святой Троицы Никону пришлось уговаривать художников-иноков Спасо-Андрониковского монастыря в Москве, — прежде чем они дали, наконец, согласие на работу. В первоначальном нежелании Андрея Рублева и Даниила Черного отправиться из Москвы за семьдесят пять верст к Никону усматривают старческую тягу к покою, старческую боязнь пути, немощность обоих живописцев. Это похоже на действительность. Ведь Андрей Рублев умирает всего несколько лет спустя, а что может быть естественнее смерти в преклонном возрасте! Скольких же лет скончался Рублев? Не зная этого точно, пытаются установить «истину» хотя бы приблизительно. Ведь история сохранила даты жизни и смерти многих современников Рублева, скончавшихся в старости. Среди них немало монахов того самого монастыря Святой Троицы, где мастер принимал послушание. Прежде всего это основатель обители Сергий Радонежский. Он родился в 1314, а умер в 1392 году, то есть семидесяти восьми лет. Затем ученики и «собеседники» Сергия: Сильверст Обнорский, скончавшийся на сто двенадцатом году жизни; Кирилл Белозерский, скончавшийся на девяносто первом; уже упоминавшийся Епифаний Премудрый, скончавшийся на семидесятом; Авраамий Галичский, проживший, судя по всему, не меньше Кирилла, и другие «старцы», вроде Дмитрия Прилуцкого, любимца Донского, прожившие лет по восемьдесят. Иные из этих людей, как бы ни относиться к их «подвигам во славу божью», испытали много тягот и лишений, а прожили все-таки немало. Полагают, что Андрей Рублев также прожил лет семьдесят, семьдесят пять, а соглашаясь видеть в художнике двадцатых годов XV века немощного старика, еще определеннее склоняются к мысли, что умер Рублев скорее всего лет восьмидесяти. Умер же он согласно источникам в 1427 или в 1430 году. Так, рождение Андрея Рублева относят к 1357 или 1360 году. Стало быть, разгром Мамая последовал, когда живописцу было около двадцати лет, когда он мог оказаться не только свидетелем, но и участником знаменательного для Руси события! Допустите эту заманчивую возможность, и рядом с Андреем Рублевым встанут яркие фигуры тогдашних князей, полководцев и государственных деятелей: Дмитрия Донского, его политических наставников митрополита Алексия и игумена Сергия Радонежского, ратных учителей и соратников — Боброка, Бренка, Владимира Хороброго, тысяцких Вельяминовых; как запоют трубы в Переяславле и загремят бубны в Ростове, созывая народное ополчение стать за землю русскую и веру христианскую против агарян нечестивых; как примут на себя первый, самый страшный удар татарской конницы пешие смерды горшечники, бондари, кузнецы да кожевники — вооруженный вилами и косами, начисто порубленный в битве головной полк русского войска. Открывающаяся воображению картина заманчива, она гипнотизирует красками. Но, допуская возможность рождения Рублева в 1360 году, исследователи лишь запутываются и оказываются не в состоянии «восстановить» его жизнь. Как, например, логично объяснить хотя бы то, что первая, известная нам работа художника относится к 1405 году и что перед этим он «живяше в послушании у Никона», то есть является, вероятно, всего лишь послушником монастыря Святой Троицы? Выходит, Андрей Рублев начинает свою бурную деятельность, получает признание лишь на сорок пятом году жизни! Ведь никто, нигде о Рублеве как авторе более ранних работ не упоминает, зато с 1405 года он из поля зрения летописцев уже не выходит. Объяснять это приходится следующим образом: Андрей Рублев учится и работает поначалу где-то за пределами Руси и появляется в Москве уже в зрелом возрасте. Но этому противоречит, во-первых, известие, что Рублев ученик Даниила Черного, инока Святой Троицы, а во-вторых, его послушничество у Никона. Никон — преемник основателя Троицы — Сергия Радонежского. Сергий умирает в 1392 году. Однако Никон становится игуменом не сразу. В знак скорби по Сергию он дает обет шестилетнего молчания и выдерживает его, сменяя временного игумена Савву Сторожевского только в 1398 году. Пахомий же Логофет называет Андрея Рублева, послушником не у Сергия, не у Саввы, а именно у Никона, то есть явно относит появление Андрея среди братии Святой Троицы к концу девяностых годов, году 1398–1399-му. Чем же в таком случае занимается Андрей Рублев почти сорок лет жизни? Монашествует где-то? Но зачем тогда ему выдерживать послушничество и у Никона? Ведь при переходе из монастыря в монастырь «звания» сохранялись. «Чернец» и в новой обители оставался «чернецом», а «старец» — «старцем». Правда, понять выражение древнего писателя «был в послушании у Никона» можно и так, что Рублев просто считался «младшим» по отношению к «старшему брату» Никону. Однако источники, уверенно называя две «рублевские» обители — Свято-Троицкий и Спасо-Андрониковский монастыри, — упорно и единодушно молчат о какой-либо третьей, где мог начать свой монашеский путь художник. Значит, до прихода в Святую Троицу Андрей Рублев не монах. Но, значит, он и не живописец: средневековье иной живописи, кроме церковной, не признает и живописцев, не имеющих сана, не знает. Искусство миниатюры, избирающей сюжеты не только из священных писаний, все равно возможно только в монастырях, где переписываются книги. Да и мыслимо ли, чтобы в ту эпоху «лики святых» дерзнул писать «мирянин»? Как же согласовать несогласуемое? Опять-таки допустив единственное: почти до сорока лет Андрей Рублев находится «в миру», и талант его проявляется очень поздно… Что ж? Это возможно. Пожив, многое испытав, о многом передумав, человек решает круто изменить свою судьбу, постригается и, будучи от природы одаренным, становится монастырским живописцем. Но и здесь трудно свести концы с концами. Принимая подобную схему, возраст верного товарища и учителя Андрея — Даниила Черного — приходится считать в последние годы работы обоих весьма преклонным. Как учитель Даниил, вероятно, все-таки старше ученика. Будь иначе — это бросилось бы в глаза современникам и, наверное, было бы отмечено. За девяностолетним Даниилом надо тогда признать феноменальную работоспособность: расписать, стоя на краю могилы, подряд два собора, и расписать, не утратив силы чувств и остроты глаза, может поистине только человек исключительной физической крепости, умеющий писать не по-стариковски быстро и свежо. Важнее другое «но». Судьба Андрея Рублева при подобной схеме предстает тоже как нечто исключительное и по-прежнему загадочное. Сорок лет его жизни остаются неизвестны. Они как бы пропадают. Но пропадали ли они? Дело в том, что свидетели тех или иных событий не всегда самые лучшие выразители этих событий в искусстве. Льву Толстому не пришлось проделать кампанию 1812 года, но «Войну и мир» написал он, а не Денис Давыдов. Если же говорить о конце XIV — начале XV века в истории русского народа, то борьба с монголо-татарским игом 1380 годом не оканчивается. Сразу за 1380 годом разыгрывается московская трагедия 1382 года, когда брошенные Дмитрием Донским и боярами «простолюдины» поднимают бунт против княжеской власти, сами отражают Тохтамыша от Москвы и становятся жертвой предательства родственников Дмитрия. Затем всенародное ополчение 1395 года против Тамерлана, нашествие 1408 года, схватка с Эдигеем и лежащая на плечах народа еще долгие годы дань Орде… Художнику было что видеть в это бурное время и кроме поля Куликова, хотя благодарная память народа никогда, конечно, не забудет тех, кто впервые дал отпор вековечному врагу! Надо поэтому представить себе жизненный путь Андрея Рублева иначе, нежели его представляют те, кто хочет найти в художнике непременного очевидца событий 1380 года. Иначе и проще! Для этого имеются все основания. Мы же знаем, как обычно начинал в древней Руси живописец! Художники той эпохи чтятся наравне с первыми лицами в княжествах и епископатах, положение их прочно и обеспечено, может считаться завидным. Эти соображения побуждают некоторые родителей отдавать сыновей в обучение к мастерам-монахам, как сделала, например, семья первого известного нам русского иконописца Алимпия. Родителей Алимпия расставание с сыном, его будущее иночество ничуть не пугало и не огорчало. Наоборот, одобрение учителей-греков, бесспорно пожелавших ознакомиться с возможностями будущего художника, прежде чем согласиться взять Алимпия к себе, должно было вызвать в семье радость: сын становился на верный путь, его ждали почет, достаток и, как последняя награда, верное «спасение», «пребывание в раю». Косвенно «божья благодать» могла бы, конечно, осенить в «загробной жизни» и родителей праведника… Способные юноши отправлялись в монастыри для обучения мастерству живописи в XIV и XV веках, вероятно, более часто, чем принято думать. Откуда бы взяться иначе в средние века такому большому числу даровитых мастеров? Видимо, способных молодых людей брали «на послушание» еще в отрочестве, лет четырнадцати-пятнадцати, и это уже определяло судьбу большинства из них. Прожив за монастырской оградой несколько лет, утратив связи с прошлым, не всякий ученик, даже оказавшись посредственным художником, мог решиться покинуть келью. Ведь его знания «в миру» были вовсе бесполезны. Может быть, для таких учеников жизнь становилась адом, бесконечной мукой, характер человека ломался, психика его навсегда травмировалась. Но какая-то часть юношей находила в живописи свое призвание, и сама радость творчества как-то искупала для них уродства монастырского быта и уставов. Глаза тех, кто всегда и во всех случаях рясу монаха считает символом убежденного аскетизма, княжеский шлем — залогом мужества, а соху — иероглифом униженности, — слепые глаза. Вот почему естественно допустить, что Андрей Рублев, подобно своему предшественнику Алимпию, был юношей отдан в ученики мастерам Троицкого монастыря. И, едва допустишь это, известные нам факты биографии художника тотчас начинают согласовываться и перестают противоречить друг другу. Вот они. Год поступления в ученики, и именно в послушники, 1398. Рублеву лет пятнадцать. В 1405 году двадцатидвухлетний мастер, о котором до сей поры ничего не могло быть известно, но чей талант замечен, получает работу в Кремле. Через три года, двадцати пяти лет, расписывает с Даниилом Черным Успенский собор во Владимире. Он молод и полон энергии. У него все впереди. В 1425–1428 годах, расписывая собор Святой Троицы, мастер достигает вершин творчества. Здесь ему под пятьдесят лет. Четыре десятка лет жизни при такой «хронологии» никуда не пропадают. Только как быть с известием о «сединах» Рублева, умирающего, в связи с нашим новым предположением, очень молодым, всего сорока семи — сорока восьми лет? Как объяснить его столь раннюю, не по эпохе, казалось бы, кончину? Эти «опасные» вопросы вовсе не столь опасны. И вот почему. Понимать выражение «старец» и «седины честни имея», употребленные по отношению к Рублеву двадцатых годов XV века его современниками, можно и нужно не буквально. «Старец» в монастыре не обязательно дряхлый старик. Это «чин», определяющий отнюдь не физическое состояние инока, а степень достигнутой им святости. Слова же «седины честни имея» — устойчивая книжная формула, опять же говорящая не столько о возрасте описываемого лица, сколько об его внутреннем облике, кажущемся книжнику достойным и благородным. Эта формула аналогична употреблявшейся в отношении князей, «ополчившихся на рать», да и другим эпическим формулам. Летописца ничуть не смущало, например, что иной описываемый им князь-ратник в годы «рати» еще лежит на руках у мамок и пускает беззубым ртом пузыри. Поскольку событие происходило в «княжение» упомянутого правителя, то, сколько бы ему лет ни было, все свершалось ближними боярами от его имени. Летописец и облачал младенца в доспехи, опоясывал мечом, усаживал в боевое седло. Конечно, летописец знал, что никому из современников в голову не придет понимать его выражение в прямом смысле. Но еще в прошлом столетии летописцев очень часто так и понимали, да и в наши дни, случается, дивятся боевым походам девяти- и двенадцатилетних мальчиков — князей, изображают их «чудом природы», нисколько не подозревая, видимо, что «чудо природы», как всякий мальчик, во время приписываемых ему «деяний» спокойно жует пряники и играет с ровесниками во дворе родительской усадьбы. Поэтому известие о «сединах» Рублева можно воспринять просто как дань уважения художнику. А относительно ранняя смерть Андрея Рублева вряд ли случайна. Никто не обращает внимания на то, что она последовала почти одновременно со смертью Даниила, а возможно, Никона и многих, многих других лиц. Летопись видит в одновременности кончины обоих иноков неразрывность связывавших их «духовных уз». Даниил умирает немного позже Рублева, и об этом сообщается так: «Егда хотяше Даниил телесного соуза разрешитися, абие видит возлюбленного ему Андрея, в радости призывающего его. Даниил же, яко виде Андрея, его же желание, велми радости исполнился, и братии предстоящим ему исповедаше пришествие сопостника его и тако в радости дух свой Господеви предаст». Трогательная привязанность учителя к ученику прекрасна. Мы благодарны летописцу за эти драгоценные строки, но взглянем на дело более трезво. Считать, что смерть Даниила не что иное, как результат желания соединиться на небесах с единственным другом («егда хотяше Даниил…»), попросту несерьезно. Монах-летописец стремился изобразить смерть церковного художника в угодных церкви тонах. Верная дружба Даниила и Андрея позволяла сделать это без особых натяжек. Упоминать же лишний раз, что в конце двадцатых годов в Москве свирепствовала страшная эпидемия не то оспы, не то чумы, летописец совершенно естественно не хотел. Иначе, что бы осталось от его выдержанной в церковном духе легенды? А дикий «мор», постигший столицу Московского княжества, был и косил людей направо и налево. Этот мор и мог послужить причиной ранней смерти Рублева, причиной его почти одновременной кончины с Даниилом. И вот еще любопытная деталь в пользу сравнительной «молодости» Рублева. Вглядитесь в строки летописей и жития Никона, говорящие об Андрее Рублеве! Летопись под 1405 годом рассказывает, что Благовещенский собор Кремля расписывали: «Феофан иконник гречин, да Прохор, старец с Городца, да чернец Андрей Рублев». Рублев назван чернецом и упомянут третьим. Летопись под 1408 годом: «В лето 6916 майя 25 начата быть подписывати великая и соборная церковь Пречистыя Владимирския повелением великого князя Василия Дмитриевича, а мастеры Данило иконописец да Андрей Рублев». Оба художника названы только мастерами, и Андрей — вторым. Пахомий Логофет о росписи заложенного в 1422 и завершенного постройкой около 1423 года Троицкого собора говорит в похвалу игумену Никону: «Церковь же бо яко рехом красну воздвиг, подписанием чюдным и всяческими добротами украсив… умолены были от него чюднии и добродетельнии старцы и живописцы Даниил и Андрей…» Вот когда — двадцать лет спустя после первой работы! — Андрея называют, наконец, не чернецом, не мастером, а старцем! Но и тут он назван вторым, вероятно, как более молодой, чем его учитель Даниил. Разве же не показательны эти свидетельства в их сопоставлении?! Смущает, конечно, уже упоминавшееся нежелание Андрея Рублева и Даниила Черного расписывать по просьбе Никона Троицкий собор. Ведь художники еще полны сил, что же мешает им сразу откликнуться на зов и украсить единственный каменный храм обители, с которой, вероятно, связано у каждого столько воспоминаний! Вероятно, эти самые воспоминания и мешают. В начале четырехсотых годов оба, как известно из летописей, почему-то покинули Свято-Троицкий монастырь. Произошло что-то неизвестное нам, что заставило друзей уйти в Москву. Не связано ли это с какой-то ссорой с самим Никоном? Пахомий Логофет оговаривается, что Никону, пожелавшему много лет спустя расписать Троицкий собор, пришлось самому поехать в Москву и «умолять» обоих «старцев» прийти в обитель для работы. Дело выглядит так, будто Никону решиться на разговор с художниками было нелегко, будто он пожертвовал при этом какими-то личными чувствами, подавил их ради памяти Сергия. Но тогда действительно, не боясь вступить в противоречие с известными фактами, мы смело можем датировать рождение Андрея Рублева началом восьмидесятых годов XIV века. Два события, полные величия и драматизма, происходят в истории русского народа как раз в те годы, когда, по нашим соображениям, должен был родиться Андрей Рублев. Это Куликовская битва 1380 года и оборона Москвы от Тохтамыша в 1382 году. Как известно, о родителях Андрея Рублева никаких сведений нет. Попытки определить место рождения живописца очень наивны. Так, большой поклонник творчества Рублева И. М. Снегирев считал Рублева… псковичом только на том основании, что в 1468 году (!), то есть почти сорок лет после смерти художника, в числе послов Пскова к Ивану III был тезка Рублева — боярин Андрей Семенович Рублев. Но доказывать родство живописца с псковскими боярами, основываясь на простом совпадении имен и фамилий двух принадлежащих разному времени людей, по меньшей мере рискованно. Большего внимания заслуживает не произвольное толкование Снегирева, а очень примечательная приставка к имени художника в «сказании об иконописцах», где Рублев, правда единственный раз, назван Андреем Радонежским. Кроме Андрея Рублева, в истории русской церкви «Радонежскими», то есть «из Радонежа», именуются всего два лица: первый и второй настоятели монастыря Святой Троицы Сергий и Никон. Сергий, строго говоря, родился в Ростове, но с 1328–1330 годов действительно жил с родителями в Радонеже, возле нынешнего Абрамцево, в пятидесяти четырех верстах на север от Москвы и в четырнадцати верстах от основанного им позже, в 1337 году, монастыря. С Никоном обстоит иначе. Никон родом из Юрьева-Владимирского, пострижение принимает около Серпухова, но зато потом до кончины живет в Свято-Троицком монастыре, руководя его братией, и, видимо, получает прозвище «Радонежский» только поэтому. Пребывание Андрея Рублева у Никона, как мы видели, было очень недолгим, значит, прозванным «Радонежским» за долгую жизнь вблизи Радонежа, подобно Никону, художник не мог быть. Скорее уж эта приставка к имени обозначает принадлежность Рублева к радонежцам, жителям небольшого городка, в 1328 году отданного Иваном Калитой в княжение своему младшему сыну Андрею. Но если даже Рублев не радонежец, то пскович с еще меньшим основанием. Зачем родителям псковского юноши отдавать его в «науку» за тридевять земель к каким-то москвичам, если в самом Пскове сколько угодно монастырей и художников, а на крайний случай рукой подать до Новгорода?! Версию о псковском происхождении Рублева надо оставить. Зато версия о происхождении Рублева из Радонежа или из другого городка близ Москвы (может быть, и из Москвы!) весьма правдоподобна. Тут сразу находит себе объяснение учеба Рублева не где-нибудь, а как раз в монастыре Троицы. Ближе к Радонежу, правда, монастырь в Хотькове, но это монастырь не столь знаменитый, и он не имел, насколько известно, своих живописцев. Ясно, что обучаться искусству иконного письма Андрея туда не отдали бы — там не у кого учиться. Немаловажно и другое. Поступить в любой монастырь того времени не просто. Большинство монастырей требует «вклад», то есть принимает в братию лишь состоятельных людей, а в Свято-Троицкой обители еще придерживаются строгих правил, установленных Сергием: принимают в иноки, не делая различия бедным и богатым. Но кто же растит Андрея Рублева, кто же решает его судьбу? Почему нигде нет никаких следов, позволяющих разыскать его родителей или близких? Мы попытаемся увидеть истину в самом отсутствии точных данных. Судьба родителей мальчика, рожденного в самом начале восьмидесятых годов где-то вблизи Москвы, скорее всего была трагичной. В битве с Мамаем и при нашествии Тохтамыша сотни тысяч московских семей потеряли кормильцев или погибли целиком. Так мог оказаться сиротой еще в младенчестве и Андрей Рублев. Он сам ничего не знал о своих настоящих родителях, ничего не мог сказать о них современникам, и те ничего не передали нам. Возникает сомнение — откуда прозвище «Рублев»? Может быть, конечно, это подлинная, каким-то образом ставшая известной фамилия живописца, может быть, это только фамилия его воспитателей. В пользу последнего предположения свидетельствует «Сказание об иконописцах», то самое, где Рублев единственный раз назван «Радонежским». Там сказано: «…Андрей Радонежский, прозванный Рублевым». Прозванный! Не из рода некоих Рублевых, а прозванный так из каких-то соображений! Носящий эту фамилию независимо от прочих Рублевых! Правда, «Сказание об иконописцах» относится к XVII веку. Но столь же бесспорно, что автор его имел под рукой какие-то документы, знал слухи и предания, утраченные нашим, XX веком. Как бы ни смотреть, однако, на фамилию Рублева, ясно еще одно: он выходец из народа. В Московском княжестве и окружающих Москву землях родовитых людей с такой фамилией мы не находим. В торговом Пскове боярин Рублев существовать, конечно, мог. На то это и был меркантильный город, где сановитые люди прежде всего и крепче всего были связаны с куплей-продажей и меной и где это неминуемо отзывалось даже на их прозвищах. Но для Москвы фамилия Рублев — плебейская фамилия. В этом убеждает еще и то, что составители «житий» Сергия Радонежского и Никона, называя «выдающихся» сподвижников обоих игуменов, старательно подчеркивают «благородство» или «мирское богатство» тех, кто обладал подобными «достоинствами». Немало говорится в житиях о бывшем ростовском вельможе дьяконе Онисиме, о знатном киевлянине Стефане Махрищском, о галичском дворянине Иакове Железнобровском! Епифаний Премудрый не упускает случая написать и про «карьеру» «преподобного» Кирилла, в миру — Косьмы, дослужившегося у боярина Тимофея Васильевича Вельяминова до чина «дворецкого»! Все-таки был близок к сильным мира сего! Об Андрее же Рублеве ничего похожего не написано ни Епифанием, ни кем-либо еще. Да и что напишешь о плебее без роду и племени, хотя он и прославлен как художник?
Плебей. Сирота, воспитанный в чужой семье, на чужом хлебе! Вот он идет, пятнадцатилетний, по пыльной дороге из Радонежа к монастырю Святой Троицы. На нем ради нынешнего дня чистая холщовая рубаха и новые лапти. В руке — узелок с хлебом и кое-какой одежонкой. Ему и радостно, и жутковато, и тоскливо. Радостно потому, что прежняя жизнь была горькой, обидной, но теперь с ней покончено. Жутковато потому, что он решился на смелый шаг, а не знает еще, какой будет новая жизнь. Тоскливо: ведь он прощается навсегда с тяжелой, несправедливой, но все-таки прекрасной жизнью «в миру». Он переходит медленную речонку Консеру. Поднимается к Маковцу. Входит в дубовую ограду обители. Ворота захлопываются. Он невольно оглядывается. Вернуться?.. Но к чему? К нищете, обидам, попрекам? Он встряхивает темными кудрями. Нет! Здесь его ждут правда, братство, человечность, которых он не видел и которых жаждет! Здесь он будет писать иконы, говорить людям о том, как им следует жить! И он ступает на тропу, ведущую к островерхому деревянному храму, откуда слышится хор, славящий «спасителя». Отроку кажется, что он у цели. Он еще не знает себя. Но именно с этого дня начинается жизнь художника Андрея Рублева.
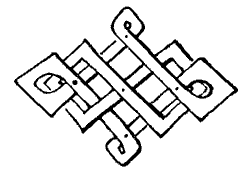
ГЛАВА ВТОРАЯ
 Лет за семьдесят до того, как безвестный, робеющий мальчик в холщовой рубахе вошел в ворота Свято-Троицкого монастыря, надеясь найти здесь истину и счастье, в другом краю русской земли, на берегах Волги, заклокотал набат и раздались крики ярости и мщения: жители Твери во главе с тогдашним великим князем Александром Михайловичем «побили» ханского наместника Чолхана и его свиту — иными словами, предали всех их смерти.
Лучшей участи татарские насильники и не заслуживали. Они вели себя в русском городе с разнузданностью, удивительной даже для татар.
Но Александр Михайлович Тверской не был расчетливым политиком.
Он нашел момент подходящим для общерусского восстания, присоединился к стихийному возмущению горожан и даже бросил клич другим князьям «встать за святую Русь».
В 1327 году глас его оказался гласом вопиющего в пустыне. Каждому князю своя шкура была ближе к телу, а кое-кто и обрадовался, что наконец-то великий князь владимирский допустил непростительный промах и уж теперь наверняка попадет впросак.
Крепче всех потирал втихомолку руки богомольный и скромнейший московский князь Иван Калита. Долго-долго выжидал он своего часа! Но уж если чего-нибудь дожидался — времени не упускал.
«Тверской бунт» случился в конце лета. Осенью дорог не было. Зато, едва пал снежок и подморозило, возок московского князя начало швырять на ухабах и колдобинах долгого пути из Москвы в Сарай. Иван терпел. Сейчас он вынес бы не только толчки: он торопился в Орду, за ярлыком на великокняжеский владимирский стол!
Единственное, что беспокоило скупого, расчетливого князя — это растянутость поезда и отставшие возы с дарами.
Но Иван терпел и тут. К хану, к «русскому царю», с пустыми руками приезжать было немыслимо! Приходилось ждать, пока подтянутся все сани. Тяжелые. Многочисленные. С серебром. С мехами. С разными сукнами. С дорогими иноземными украшениями и сосудами из хрусталя и золота. Князь шевелил губами, беспокойно ерзал. Каждого соболька, каждую чарочку своими руками ощупал, пока укладывали, от сердца, можно сказать, оторвал. А хан вдруг возьмет да и не даст ярлыка? Как тогда-то быть!?
Но все обошлось благополучно. Разгневанный на Александра Михайловича, хан пообещал ярлык Ивану, если тот покарает тверичей. Не ведал хан, что делает, прельстясь подобострастием и униженными речами не бог весть как именитого московского князя!
Иван умел не только ждать, он умел еще и удерживать попадавшее в руки.
Умел он и сторицею возмещать себе ордынские «выходы» и «протори».
Чтобы сокрушить Александра Михайловича, хан повелел Ивану собрать московскую рать, а в подмогу дал ему пять своих темников.
Весной татарские полчища переправились через Волгу, соединились с Иваном и опустошили почти все русские земли, кроме московской.
Иван вернул «протори» с избытком и одним махом. Он получил и ярлык на владимирский стол. Но это было лишь началом. Пользуясь случаем, Калита принялся «изводить» в приобретенных землях сторонников Твери, «оттягивать» их владения.
Общая судьба не миновала и древнего Ростова, славнейшего города суздальской земли.
Так она коснулась другого мальчика — тринадцатилетнего сына ростовского боярина Кирилла. Мальчика в ту пору звали Варфоломеем. У него наступал переломный возраст, когда юность особенно впечатлительна, а внутренний мир ее неустойчив и ломается, подобно голосу.
Боярин Кирилл среди именитых ростовчан считался не последним, хотя рати и поездки с князьями в Орду уже порастрясли боярское добро весьма основательно. А знатному человеку полагалось своих детей учить. Но если старший сын боярина Стефан еще делал какие-то успехи, то Варфоломею наука не давалась. Ребенок глядел тупицей, и родительское сердце не радовал. Грамоте он предпочитал забавы, скитания вокруг усадьбы и дружбу со всякими бродягами, не то каликами перехожими, не то просто прощелыгами. Поди угадай, что в душе странника таится! Иной про святые места гундосит, а глаза у самого так и шнырят, так и шнырят!
Случилось как раз накануне передачи великого княжения московскому Ивану: затащил Варфоломей на двор одного такого странничка. Покормить и переночевать. Уж очень занятно про заморские земли рассказывал. Боярин разгневался. Посылал Варфоломея жеребца отбившегося сыскать, а сынок вон какого мерина обратал!
Отцовская расправа не замедлила. Варфоломея побили и заперли, но калику, как повелось, пришлось покормить. Он же вместо благодарности укорил боярина жестокостью, а на сердитый ответ, что из Варфоломея и так хорошая орясина выросла, усмехнулся: «Гляди, мол, как бы из орясины-то лучшее дерево не получилось!»
Вона! Пророк! Исайя!
Боярин Кирилл велел за дерзким бродяжкой на всякий случай присматривать, но тот, видно, почуял, чем дело пахнет, и исчез как дым. Сошел ночью со двора так тихо, что никто не видел. Хорошо еще, на клетях замки крепкие. Не то и прихватил бы чего-нибудь, не дорого взял бы!
Богомольный боярин божьих людей чтил, однако свой кошель доверять им не собирался.
Этот случай, впоследствии благоговейно и совсем в иных тонах описанный историками церкви, был вскоре забыт и боярином Кириллом, и Варфоломеем, и всеми боярскими чадами и домочадцами, и был бы, возможно, забыт навсегда, не начни валиться на ростовчан одна за другой всякие беды и не пострадай при этом семья Кирилла.
События же разворачивались стремительно. Тверского наместника боярина Аверкия сменил в Ростове московский боярин Василий Кочева.
Начались пресловутые «насилования»: притеснения и поборы, вызывавшие естественное недовольство, в первую очередь бояр.
Но Василию Кочеве того и нужно было. Получив предлог, он стал действовать силой. Вероятно, провокация, согласованная с Иваном Калитой, имела конечной целью истребление части владетельных людей, захват многих имений. Одним из первых схватили бывшего тверского наместника боярина Аверкия. Подвергнутый пыткам, он скончался, подвешенный за ребро на крюк в подвале дома Кочевы. Истязаниям подвергались другие бояре и служилые люди.
Этот кровавый разгул сопровождался беспощадным грабежом.
Впоследствии отчасти со слов того самого ростовского мальчика, уже старика, про эти московские «мероприятия» было написано: «…И не мало их от ростовець москвичам имениа своя с нужею отдаваху, а сами против того раны на телеси своем со укоризною взимающе, и тщима руками отхожаху, иже последнего бедства образ…»
Видимо, случившееся в Ростове запомнилось Варфоломею на всю жизнь!
Существует, правда, мнение, что боярин Кирилл переселяется вскоре в городок Радонеж лишь потому, что московское княжество представлялось многим тогдашним боярам более надежным. Но это мнение всего только вывод из оценки общего положения на Руси тридцатых годов XIV века, а никак не логичное заключение по поводу определенного поступка определенного человека.
Скорее всего боярину Кириллу так же пришлось хлебнуть из горькой чаши, поднесенной ростовчанам руками Василия Кочевы.
На крюке боярин Кирилл духа не испустил, но, возможно, «раны на телеси своем со укоризною взимающе», имением поступился и в Радонеж поехал как раз «тщима руками», «иже последнего бедства образ».
Не случайно же он выбрал как раз Радонеж, отданный в эту пору Иваном Калитой в княжение своему малолетнему сыну Андрею.
Желая привлечь на службу Андрею опытных людей, Иван обещал тем, кто поедет в Радонеж, «великие ослабы».
Иди дела боярина Кирилла хорошо, не окажись он в трудном положении да вдобавок едва ли не на плохом счету, зачем бы ему бросать насиженное гнездо, зачем перебираться из-под Ростова?
Понятно, когда ищут пристанища, заступы у московского князя бояре рязанские, черниговские, нижегородские. Они живут в княжествах, находящихся вне прямой власти Ивана Калиты.
Но Кирилл и в Ростове жил бы под политической защитой Ивана, если нуждался в ней. Нет, Кирилл поехал в Радонеж, конечно, поправлять дела, обелять репутацию.
Ростовское «потрясение» даром ему не обошлось!
Не обошлось оно даром и сыну Кирилла — Варфоломею. Впечатлительный юноша очень тяжело, видимо, переживал совершавшиеся на его глазах казни и насилия.
Наивное детство оборвалось. Мир предстал во всем его кровавом безобразии, в несправедливостях, в запутанности человеческих отношений.
Мы не знаем происходивших в семье Варфоломея в эти годы сцен, возможно глубоко ранивших душу мальчика.
Но что такие сцены были — весьма возможно. Нравы эпохи, сама обстановка сомнений на этот счет не оставляют.
Кроме же всего прочего, религиозность Кирилла и его близких под ударами судьбы неминуемо усилилась.
Недаром Кирилл вместе с женой перед самой смертью, последовавшей вскоре после переезда в Радонеж, постригаются в Хотьковском монастыре.
Не приходится удивляться, что совершившийся в пятнадцатилетнем Варфоломее перелом выливается при этих обстоятельствах в напряженные попытки познать мир, в острый интерес к религии, а стало быть, и к грамоте, без которой невозможно чтение.
Мальчик «вдруг», внешне совершенно легко, усваивает тогдашние «науки», поражая окружающих своим желанием уразуметь как можно больше, забрасывая учителей неожиданными, страстными вопросами.
Главная «наука» той далекой поры — религия. Это тогдашние «естествознание», «космогония», «философия».
Все эти «дисциплины» и стремится усвоить Варфоломей. Преображение неуча слишком разительно. Вот тогда с замиранием сердца припоминают забытого странника, намекнувшего Кириллу на возможность перемен в Варфоломее!
Верующий человек, как известно, — мистик. Слова странника представляются уже прозрением. Его незаметный уход — таинственным, а значит, чудесным. Сама встреча мальчика с каликой — божьим знамением.
Варфоломею говорят об этом. Экзальтированному воображению, смятенному уму не много надо.
Как огонь опаляет юношу мысль — он избран! Ему уготован необычный путь! «Бог» может открыть ему глаза, «спасти», ждет от него «подвига»!..
Так юноша начинает мечтать о монашестве. Поэтичными, полными высокой нравственной чистоты видятся ему образы пустынников, умевших выдержать любые испытания во имя идеи любви и братства людей, якобы принесенной в мир Иисусом Христом.
Так обтачивает характер юноши бурный поток событий. Так проходит — без всяких чудес — юностьодного из ярчайших политиков XIV века, основателя того самого монастыря Святой Троицы, где послушничал Андрей Рублев, юность человека незаурядного ума, человека сильной воли — Сергия Радонежского.
Лет за семьдесят до того, как безвестный, робеющий мальчик в холщовой рубахе вошел в ворота Свято-Троицкого монастыря, надеясь найти здесь истину и счастье, в другом краю русской земли, на берегах Волги, заклокотал набат и раздались крики ярости и мщения: жители Твери во главе с тогдашним великим князем Александром Михайловичем «побили» ханского наместника Чолхана и его свиту — иными словами, предали всех их смерти.
Лучшей участи татарские насильники и не заслуживали. Они вели себя в русском городе с разнузданностью, удивительной даже для татар.
Но Александр Михайлович Тверской не был расчетливым политиком.
Он нашел момент подходящим для общерусского восстания, присоединился к стихийному возмущению горожан и даже бросил клич другим князьям «встать за святую Русь».
В 1327 году глас его оказался гласом вопиющего в пустыне. Каждому князю своя шкура была ближе к телу, а кое-кто и обрадовался, что наконец-то великий князь владимирский допустил непростительный промах и уж теперь наверняка попадет впросак.
Крепче всех потирал втихомолку руки богомольный и скромнейший московский князь Иван Калита. Долго-долго выжидал он своего часа! Но уж если чего-нибудь дожидался — времени не упускал.
«Тверской бунт» случился в конце лета. Осенью дорог не было. Зато, едва пал снежок и подморозило, возок московского князя начало швырять на ухабах и колдобинах долгого пути из Москвы в Сарай. Иван терпел. Сейчас он вынес бы не только толчки: он торопился в Орду, за ярлыком на великокняжеский владимирский стол!
Единственное, что беспокоило скупого, расчетливого князя — это растянутость поезда и отставшие возы с дарами.
Но Иван терпел и тут. К хану, к «русскому царю», с пустыми руками приезжать было немыслимо! Приходилось ждать, пока подтянутся все сани. Тяжелые. Многочисленные. С серебром. С мехами. С разными сукнами. С дорогими иноземными украшениями и сосудами из хрусталя и золота. Князь шевелил губами, беспокойно ерзал. Каждого соболька, каждую чарочку своими руками ощупал, пока укладывали, от сердца, можно сказать, оторвал. А хан вдруг возьмет да и не даст ярлыка? Как тогда-то быть!?
Но все обошлось благополучно. Разгневанный на Александра Михайловича, хан пообещал ярлык Ивану, если тот покарает тверичей. Не ведал хан, что делает, прельстясь подобострастием и униженными речами не бог весть как именитого московского князя!
Иван умел не только ждать, он умел еще и удерживать попадавшее в руки.
Умел он и сторицею возмещать себе ордынские «выходы» и «протори».
Чтобы сокрушить Александра Михайловича, хан повелел Ивану собрать московскую рать, а в подмогу дал ему пять своих темников.
Весной татарские полчища переправились через Волгу, соединились с Иваном и опустошили почти все русские земли, кроме московской.
Иван вернул «протори» с избытком и одним махом. Он получил и ярлык на владимирский стол. Но это было лишь началом. Пользуясь случаем, Калита принялся «изводить» в приобретенных землях сторонников Твери, «оттягивать» их владения.
Общая судьба не миновала и древнего Ростова, славнейшего города суздальской земли.
Так она коснулась другого мальчика — тринадцатилетнего сына ростовского боярина Кирилла. Мальчика в ту пору звали Варфоломеем. У него наступал переломный возраст, когда юность особенно впечатлительна, а внутренний мир ее неустойчив и ломается, подобно голосу.
Боярин Кирилл среди именитых ростовчан считался не последним, хотя рати и поездки с князьями в Орду уже порастрясли боярское добро весьма основательно. А знатному человеку полагалось своих детей учить. Но если старший сын боярина Стефан еще делал какие-то успехи, то Варфоломею наука не давалась. Ребенок глядел тупицей, и родительское сердце не радовал. Грамоте он предпочитал забавы, скитания вокруг усадьбы и дружбу со всякими бродягами, не то каликами перехожими, не то просто прощелыгами. Поди угадай, что в душе странника таится! Иной про святые места гундосит, а глаза у самого так и шнырят, так и шнырят!
Случилось как раз накануне передачи великого княжения московскому Ивану: затащил Варфоломей на двор одного такого странничка. Покормить и переночевать. Уж очень занятно про заморские земли рассказывал. Боярин разгневался. Посылал Варфоломея жеребца отбившегося сыскать, а сынок вон какого мерина обратал!
Отцовская расправа не замедлила. Варфоломея побили и заперли, но калику, как повелось, пришлось покормить. Он же вместо благодарности укорил боярина жестокостью, а на сердитый ответ, что из Варфоломея и так хорошая орясина выросла, усмехнулся: «Гляди, мол, как бы из орясины-то лучшее дерево не получилось!»
Вона! Пророк! Исайя!
Боярин Кирилл велел за дерзким бродяжкой на всякий случай присматривать, но тот, видно, почуял, чем дело пахнет, и исчез как дым. Сошел ночью со двора так тихо, что никто не видел. Хорошо еще, на клетях замки крепкие. Не то и прихватил бы чего-нибудь, не дорого взял бы!
Богомольный боярин божьих людей чтил, однако свой кошель доверять им не собирался.
Этот случай, впоследствии благоговейно и совсем в иных тонах описанный историками церкви, был вскоре забыт и боярином Кириллом, и Варфоломеем, и всеми боярскими чадами и домочадцами, и был бы, возможно, забыт навсегда, не начни валиться на ростовчан одна за другой всякие беды и не пострадай при этом семья Кирилла.
События же разворачивались стремительно. Тверского наместника боярина Аверкия сменил в Ростове московский боярин Василий Кочева.
Начались пресловутые «насилования»: притеснения и поборы, вызывавшие естественное недовольство, в первую очередь бояр.
Но Василию Кочеве того и нужно было. Получив предлог, он стал действовать силой. Вероятно, провокация, согласованная с Иваном Калитой, имела конечной целью истребление части владетельных людей, захват многих имений. Одним из первых схватили бывшего тверского наместника боярина Аверкия. Подвергнутый пыткам, он скончался, подвешенный за ребро на крюк в подвале дома Кочевы. Истязаниям подвергались другие бояре и служилые люди.
Этот кровавый разгул сопровождался беспощадным грабежом.
Впоследствии отчасти со слов того самого ростовского мальчика, уже старика, про эти московские «мероприятия» было написано: «…И не мало их от ростовець москвичам имениа своя с нужею отдаваху, а сами против того раны на телеси своем со укоризною взимающе, и тщима руками отхожаху, иже последнего бедства образ…»
Видимо, случившееся в Ростове запомнилось Варфоломею на всю жизнь!
Существует, правда, мнение, что боярин Кирилл переселяется вскоре в городок Радонеж лишь потому, что московское княжество представлялось многим тогдашним боярам более надежным. Но это мнение всего только вывод из оценки общего положения на Руси тридцатых годов XIV века, а никак не логичное заключение по поводу определенного поступка определенного человека.
Скорее всего боярину Кириллу так же пришлось хлебнуть из горькой чаши, поднесенной ростовчанам руками Василия Кочевы.
На крюке боярин Кирилл духа не испустил, но, возможно, «раны на телеси своем со укоризною взимающе», имением поступился и в Радонеж поехал как раз «тщима руками», «иже последнего бедства образ».
Не случайно же он выбрал как раз Радонеж, отданный в эту пору Иваном Калитой в княжение своему малолетнему сыну Андрею.
Желая привлечь на службу Андрею опытных людей, Иван обещал тем, кто поедет в Радонеж, «великие ослабы».
Иди дела боярина Кирилла хорошо, не окажись он в трудном положении да вдобавок едва ли не на плохом счету, зачем бы ему бросать насиженное гнездо, зачем перебираться из-под Ростова?
Понятно, когда ищут пристанища, заступы у московского князя бояре рязанские, черниговские, нижегородские. Они живут в княжествах, находящихся вне прямой власти Ивана Калиты.
Но Кирилл и в Ростове жил бы под политической защитой Ивана, если нуждался в ней. Нет, Кирилл поехал в Радонеж, конечно, поправлять дела, обелять репутацию.
Ростовское «потрясение» даром ему не обошлось!
Не обошлось оно даром и сыну Кирилла — Варфоломею. Впечатлительный юноша очень тяжело, видимо, переживал совершавшиеся на его глазах казни и насилия.
Наивное детство оборвалось. Мир предстал во всем его кровавом безобразии, в несправедливостях, в запутанности человеческих отношений.
Мы не знаем происходивших в семье Варфоломея в эти годы сцен, возможно глубоко ранивших душу мальчика.
Но что такие сцены были — весьма возможно. Нравы эпохи, сама обстановка сомнений на этот счет не оставляют.
Кроме же всего прочего, религиозность Кирилла и его близких под ударами судьбы неминуемо усилилась.
Недаром Кирилл вместе с женой перед самой смертью, последовавшей вскоре после переезда в Радонеж, постригаются в Хотьковском монастыре.
Не приходится удивляться, что совершившийся в пятнадцатилетнем Варфоломее перелом выливается при этих обстоятельствах в напряженные попытки познать мир, в острый интерес к религии, а стало быть, и к грамоте, без которой невозможно чтение.
Мальчик «вдруг», внешне совершенно легко, усваивает тогдашние «науки», поражая окружающих своим желанием уразуметь как можно больше, забрасывая учителей неожиданными, страстными вопросами.
Главная «наука» той далекой поры — религия. Это тогдашние «естествознание», «космогония», «философия».
Все эти «дисциплины» и стремится усвоить Варфоломей. Преображение неуча слишком разительно. Вот тогда с замиранием сердца припоминают забытого странника, намекнувшего Кириллу на возможность перемен в Варфоломее!
Верующий человек, как известно, — мистик. Слова странника представляются уже прозрением. Его незаметный уход — таинственным, а значит, чудесным. Сама встреча мальчика с каликой — божьим знамением.
Варфоломею говорят об этом. Экзальтированному воображению, смятенному уму не много надо.
Как огонь опаляет юношу мысль — он избран! Ему уготован необычный путь! «Бог» может открыть ему глаза, «спасти», ждет от него «подвига»!..
Так юноша начинает мечтать о монашестве. Поэтичными, полными высокой нравственной чистоты видятся ему образы пустынников, умевших выдержать любые испытания во имя идеи любви и братства людей, якобы принесенной в мир Иисусом Христом.
Так обтачивает характер юноши бурный поток событий. Так проходит — без всяких чудес — юностьодного из ярчайших политиков XIV века, основателя того самого монастыря Святой Троицы, где послушничал Андрей Рублев, юность человека незаурядного ума, человека сильной воли — Сергия Радонежского.
Жизнь и деятельность Сергия Радонежского, если отбросить наивно-нелепые россказни о нем церковников, очень интересны. Убежденный сторонник московских князей, борец с Ордой, знаток человеческой души, Сергий производил на своих современников сильнейшее впечатление. Ореол «святости», окруживший его имя, — естественное следствие этого. Но нимб «святости» не должен закрывать подлинного облика игумена Святой Троицы, роли Сергия в русской исторки. Забвение не лучший способ познания прошлого народа. Если олицетворением конца XIV века для московских бояр той эпохи был один Дмитрий Донской, то этому есть объяснения. Взгляните, однако, на восьмидесятые годы XIV столетия непредубежденно. Вокруг Дмитрия Донского, окружив князя таким плотным кольцом, что его подчас вовсе не заметишь, встанут Боброк, Владимир Хоробрый, бояре Вельяминовы, Бренк, Кошка, митрополиты Алексий и Киприан и среди них высокий, крепкий монах в ветхой рясе и самодельных кожаных сандалиях, монах с высоким лбом мыслителя и жесткими ладонями землепашца — Сергий. Это он отправляется в 1365 году в Нижний Новгород, захваченный Борисом Константиновичем Суздальским, выклянчившим ярлык на владимирский стол, и, стоя среди враждебной челяди князя, обвиняет Бориса в злоумышлениях, требует подчиниться Дмитрию. Когда же Сергия прогоняют, идет по городу и одну за другой затворяет все нижегородские церкви, запрещая подданным проклятого Бориса отправлять богослужение, пока не вернут ярлык и не признают Дмитрия. После этого достаточно слуха о приближении московской рати. Взбудораженные нижегородцы, включая недавних верных слуг Бориса, отрекаются от князя и идут на поклон Москве. Это Сергий вдохновляет Дмитрия на битву с Мамаем, на знаменитую Куликовскую битву! И это снова он пять лет спустя, в 1385 году, заставляет князя Олега Рязанского, только что разбившего дружины Дмитрия, не желающего слушать о каких бы то ни было переговорах, уступить и примириться с великим князем. Предание прочно связало имя московского князя с величайшим событием народной жизни, с битвой на поле Куликовом. Дмитрий в эту пору является номинально, по рождению и стараниями московских политиков, главой русских князей и занимает владимирский стол. Однако есть известия, что носитель гордого имени Донского непосредственного участия в битве не принимает и, во всяком случае, войсками не руководит. Решение переправиться за Дон, обеспечивая от внезапного нападения тылы войска, принимается большинством военного совета князей и бояр. Позицию выбирают Боброк и Владимир Хоробрый с близкими военачальниками. Засадный полк, решивший успех боя, ведет Владимир Хоробрый. Под княжеским стягом, надев золоченые доспехи Дмитрия, стоит на коне боярин Михаил Бренк. Общее руководство битвой ведают все те же бояре, дожидающиеся, пока Мамай бросит в бой все резервы, и определяющие момент для решающего удара. Что делает во время боя сам великий князь, точно не известно. Существует предание, будто Дмитрий Донской сражается как простой ратник, что он находится в головном русском полку, что его с трудом находят после боя, лежащего в забытьи под трупами воинов, в «посеченном шеломе». Казеннокоштная историография, затянутая в мундирчик, на пуговицах которого раскорячивался герб российских императоров, ничтоже сумняшеся, умильно изображала московского князя народолюбцем. решившимся разделить долю своих героических подданных и скорее погибнуть вместе с ними, нежели отступить. Некоторые ученые, молчаливо приняв эту версию, но все-таки понимая, что полководец, не руководящий войсками, полководцем не является, делают попытку «оправдать» Дмитрия, видя в отказе его от командования… трогательное доверие князя своим воеводам, чуть ли не братскую близость Дмитрия и московских бояр. Все это донельзя наивно. Да и «народолюбие» Дмитрия — миф. Великий князь всего два года спустя показывает, насколько он склонен делить судьбу народа, выдавая Москву Тохтамышу. Поэтому представлять себе Дмитрия Донского на Куликовом поле среди ратников головного полка трудно. Головной полк — это плохо вооруженные, непривычные к бою ополченцы, крестьяне и мастеровые. Воеводы Дмитрия выдвигают чернь вперед, на прикрытие княжеских дружин, не случайно. Здесь точный и по-боярски умный расчет. Задача головного полка не в том, чтобы сокрушить татар, а в том, чтобы принять на себя первый, самый страшный удар, погибнуть, но не отступить, смягчить напор Мамая, лишить его динамической силы до встречи с отборными войсками. Зная «простолюдинов», видя их патриотический подъем, Боброк и другие полководцы не сомневались, что уж кто-кто, а народ не побежит. Выстоит. И головной полк действительно выстоял. Он — единственный из русских полков, который не попятился и не был смят. Не в пример полкам центра и флангов, он просто лег до единого ратника, но не уступил татарам ни вершка земли. Конница Мамая должна была прорубаться сквозь ряды «лапотников», как сквозь стену. Даром это не обошлось. Татары потеряли тысячи воинов. На пути татарской волны встали груды трупов. Прорваться через них к центральному полку конница ордынцев не могла. «Простолюдины» и погибнув продолжали схватку с врагом! Очевидно, что отправиться в головной полк Дмитрий мог бы только с целью самоубийства. Ведь замысел воевод князь знал. Но, отдавая великокняжеские доспехи Михаилу Бренку, Дмитрий, конечно, думает не о гибели, а об избавлении от нее. Причем обвинять его в трусости как сейчас, так и в годину сдачи Москвы Тохтамышу не следует. Тут не трусость. Тут обычное поведение великого московского князя, вряд ли не продиктованное его советниками. Нежелание бояр подвергать опасности носителя верховной власти естественно, разумно, и если Дмитрий послушался их совета, то выказал не «трусость», а государственную мудрость. У Дмитрия уже есть репутация борца с татарами, воеводы уже выиграли ему два года назад битву на реке Воже, Дмитрий — великий князь, простолюдины на него смотрят, как на героя, и каков бы ни был исход сражения у Дона, одно имя спасенного князя будет объединять русские дружины и приводить народ в брожение. Кроме же всего прочего, воеводы слишком хорошо знают впечатлительность натуры Дмитрия Ивановича, склонного быстро переходить от высокого душевного подъема к унынию. И они поступают правильно с любой точки зрения, убеждая великого князя поберечь себя. Здесь московские воеводы одним ударом убивают двух зайцев: гарантируют войска от неожиданностей, которые способен принести неустойчивый характер Дмитрия, и сохраняют жизнь князя для будущего. Они очень последовательны и продолжают в сентябре за Доном то, что было начато в августе возле Москвы их единомышленником Сергием Радонежским. Дадим на минуту волю воображению. Лето 1380 года. Жара. Пыль. Тревожные зарницы. Днем и ночью скачут в Москву гонцы с известиями о полчищах Мамая и великого литовского князя Ольгерда. Татары и литовцы движутся на соединение друг с другом в верховьях Дона, чтобы вместе ударить по непокорной Москве и приставшим к ней княжествам. Рязанский князь Олег, по слухам, только и ждет приближения татар, готовясь примкнуть к ним. Тверь ненадежна. Новгород войск не шлет. Держатся в стороне многие мелкие княжества. Над Русью нависла небывалая гроза. В этом отчаянном для великого княжества положении воеводы Дмитрия Донского и церковь действуют энергично и стремительно. С амвонов гремят призывы постоять за христианскую веру. Юродивые, потрясая веригами, вопят о гибели агарян. Из монастырских сундуков вытрясаются деньги и ценная утварь — на вооружение ополченцев. Вчерашний рабочий люд, крестьяне и мастеровые, берутся за мечи и пики. Кому не хватает оружия и доспехов, идут кто как есть, с косами и топорами. Дружины спешно стягиваются к Коломне. Там главный лагерь русского войска. Там распоряжаются воеводы. А князь Дмитрий Иванович медлит. Он с основными силами еще сидит в Москве. У одного Мамая, говорят, двести тысяч воинов. Да Ольгерд, да Олег… А у москвичей дай бог, чтоб набралось полторы сотни тысяч. Да из них треть черни, смердов, беспортошников. Есть от чего пасть духом и задуматься. В эти-то дни Дмитрий и едет к Сергию Радонежскому. Сергий крестил у князя, у него слава подвижника, провидца, он был близок с умершим митрополитом. Алексием, он худого совета не даст… Гонец мчится за гонцом. Мамай давно перешел Волгу. Ольгерд выступает. Дорог каждый час! На путь же к Святой Троице и обратно придется затратить не меньше трех дней. Но Дмитрия никто не удерживает от поездки. Наоборот, бояре горячо одобряют князя и многие сопутствуют ему. Это, конечно, не случайно. Ясно, что сомнений в Сергии Радонежском у них нет. Дмитрий в монастыре Святой Троицы. Он уже беседовал с Сергием. Окружающие беспокойно вглядываются в лицо князя, пытаясь понять его состояние. Дмитрий держится спокойно, но глаза смотрят мимо приближенных, руки то поправляют перевязь, то теребят бородку. Князь спрашивает, не было ли нового гонца, через минуту забывает о своем вопросе и снова повторяет его. Бояре переглядываются, хмурятся. На скулах иных играют тугие, злые желваки. Сергий тоже странен. У него усталый, задумчивый вид. Неужели «чудотворец» провидит дурное? Тревога. Нетерпеливое ожидание чего-то, что должно успокоить: вечная человеческая надежда на хорошее, стократ усиленная истовой верой в бога. Но ничего не происходит. Просто бьют в било, тянутся в церковь чернецы со свечами в руках, и свечи кажутся потухшими — так ярок день. Только струйки дыма колеблются над белыми восковыми палочками. Со стесненными сердцами, напряженные, взволнованные, сбиваются все в храме, опускаются на колени. После слепящего солнца здесь темно. Лики святых почти неразличимы, загадочны. Пламя свечей трепещет, как человеческие души. Последний молебен! Так начинается служба. Сергий читает в алтаре молитву ко всевышнему, призывает его милость к великому князю и всему русскому воинству. Слова торжественны и звучны. Возвышенная славянская речь вливает в людей уверенность. Сама размеренность службы внушает мысль, что поражение невозможно, как невозможен иной ход молебна. Строго возглашает Сергий. Строго вступает хор. И согласно шевелятся губы молящихся: «Господи помилуй! Господи помилуй! Господи по-ми-и-илуй!» Курится ладан. Мерцают свечи. Неисповедимы судьбы собравшихся, готовых положить живот свой за святую Русь, за князя и веру. Но молебен утешает. И вдруг… Что случилось с Сергием? Он замешкался. Молчит. Все ждут привычного продолжения молебна, а игумен не в силах произнести ни слова. Минута. Другая… Среди монахов движение. Настроенные на высокий лад души людей замирают как над пропастью. На иных лицах испуг. Князь Дмитрий беспомощно озирается. Кто-то растерянно встал с коленей. Слышен боязливый шепот: «Господи…», но этот шепот в мертвой тишине как гром. Молебен сломан. Все рушится. Люди окаменевают. И тогда в объятом ужасом храме раздается из алтаря сильный, напряженно звенящий голос Сергия: — Князь Дмитрий! Слышишь ли меня?! Царские врата распахиваются. Глаза всех устремлены на игумена, воздевшего руку к небу. Сергий смотрит на одного бледного князя. — Князь Дмитрий! Се зрел победу твою над врагом! Игумен поворачивается ко всем и словно распахивает объятия: — Ликуйте! Молитесь! Но это уже не молебен. Это экстатический восторженный рев, когда произносит слова молитвы не только Сергий и поет не только хор, а все, кто в церкви, и поют не смиренно, а багровея от натуга, хмелея от хлынувшей в голову жаркой крови, от радости и восторга. Чудо! Знамение! Победа! В такие минуты даже робкий поддастся общему настроению, воспрянет духом и исполнится стрехмлением к бою. На лице Дмитрия румянец. Князь словно ожил. Он расправляет плечи. Он окончательно решается на битву. Это первый акт блестящего спектакля, где нет актеров, а только один режиссер, делающий вид, будто ему и в самом деле вещает некий внутренний голос, который, конечно, не что иное, как его собственное разгоряченное, лихорадочное воображение. А во втором акте князь получает в спутники Пересвета и Ослябю. В поступках церковников логику искать не принято. И верно — зачем войску, имеющему в избытке умелых начальников, монахи, «умеющие полки уставляти»? Ни к чему. Но Пересвет и Ослябя вовсе полков и не ведут и диспозицию боя не разрабатывают. Им предназначается другая роль. Ведь Сергий тоже знает Дмитрия Ивановича чуть ли не с пеленок. И он понимает, как будут влиять на внутреннее состояние Дмитрия два инока, едущие всю дорогу по его бокам с крестами в руках. Пересвет и Ослябя — воплощенное напоминание о пророчестве игумена. В их близости к себе князь должен черпать стойкость, а войска видеть простертую над ними десницу «спасителя». Так церковь эскортирует великого князя к месту назначения, показывает его полкам и народу. В ночь перед боем роль Пересвета и Осляби окончена. Видимо, решено, что Дмитрий в бою не участвует. С этой минуты иноки его и покидают, отправляясь туда, куда им подсказывает совесть, — в первые ряды головного полка, где погибают, открыв сражение. Это первые герои Куликова поля. Осознанный подвиг обоих — лишнее свидетельство качеств русского человека, готового на самопожертвование, когда ясна цель и ощутима возложенная на плечи миссия. Церковь присваивала этот подвиг. Народ уже давно возвратил его себе, справедливо сохранив в памяти не иноческие, а мирские, языческие имена обоих ратников. Но так или иначе «пророчество» Сергия и посылка им с Дмитрием Пересвета и Осляби — мудрая политическая акция тогдашней православной церкви, тесно связавшей свою участь с судьбой московского княжеского дома. «Благословение Дмитрия на сокрушение агарян» — апофеоз деятельности и самого игумена Свято-Троицкого монастыря. С этого дня он национальный герой. Его авторитет становится несокрушимым. И это вполне заслуженно.
Сергий Радонежский весь в противоречиях. Этот несгибаемый, безоговорочный проводник политики Москвы, ближайший сподвижник ее бояр и князя, в то же время не просто основатель монастыря, а основатель первого «общежитийного» монастыря на Руси. В тогдашних условиях это демонстративный и необычайный поступок, заставивший церковь обратить на безвестного дотоле игумена самое пристальное внимание. Непреклонное решение Сергия «обобщить» все имеющееся у монахов имущество, устроить общие трапезы вызвало среди собравшихся за ограду обители «подвижников» волнение и недовольство. Во всех прочих монастырях, да сначала и в монастыре Святой Троицы, порядки были иными: каждый инок жил как мог и как хотел. Для состоятельных чернецов «спасать душу» таким способом оказывалось чрезвычайно удобно. Накопленное «в миру» богатство позволяло жить в свое удовольствие. Кое-где подобное «пустынничество» принимало окончательные формы гротеска. Доходило до того, что за бражничеством и блудом забывали ходить в церковь, а игуменов, пытавшихся «вразумить» разгулявшихся монахов и монахинь, били и буквально пинками выгоняли из обители: не мешай жить! Сергий Радонежский не случайно упрямо отвергал предложения своего старшего брата Стефана пойти послушничать в какой-нибудь московский монастырь. Он знал цену «праведности» этих обителей и намеревался устроить у себя на Маковце некое подобие рая, выгородить на грешной земле хоть небольшой клочок леса, где можно будет «жить по правде». Намерение наивное, но для сына разоренного боярина искреннее. Сергий в это время больше бунтарь, нежели истинный «христианин», познавший смысл «учения». Чего уж говорить об его «христианстве», если, по признанию собственных учеников, проведя несколько лет в уединении и приняв, наконец, пострижение, новоявленный игумен не в состоянии сам отправлять службы, а вынужден приглашать для этой цели священников со стороны! Великолепное свидетельство того, что Сергия толкнуло на монашество не «смирение», какое ему полагалось бы иметь, а именно нежелание мириться с ходом вещей. Игумен Троицкого монастыря — яркая, но вовсе не одинокая фигура. Монастыри в XIV–XV веках возникают на Руси как грибы после дождя. Примечательно, что основатели этих новых обителей, как правило, выходцы из боярских родов, подобно самому Сергию и его ученикам. Но родов не московских, а суздальских, галицких, черниговских, то есть слабеющих, теряющих в борьбе с центральной властью свои земли и былое влияние. Обреченные историей на гибель, эти «окраинные бояре» вполне естественно усматривают в собственном крахе «судьбу» всего человеческого рода, ищут прибежища в религии, приходят к церкви. Церковь же умело использует порожденные временем настроения, расширяя колонизационную деятельность и в первую очередь колонизацию Севера, захват общинных черных земель. Это направление церковной политики совпадает с политикой Москвы, ведущей борьбу с Тверью и Новгородом. Великий князь московский и московское боярство поддерживают новые монастыри словом и делом, помогают братии большими вкладами. Разорив «окраинное» боярство, его тут же заботливо подхватывают под руки, благословляя на службу новому хозяину. Стоило бы точнее проследить, как связаны повороты московской политики с интенсивностью «подвижничества», но достаточно просто знать, что почти каждый новый монастырь, «устроенный» с благословения митрополита, — новый форпост великого князя. Сергий Радонежский для умнейшего митрополита Алексия в этих условиях — величайшая находка. Желание Сергия ввести «общежитие» — отличный способ показать «бессословность» церкви. И молодой игумен получает одобрение Москвы. Недовольные Сергием монахи частью изгоняются прочь из обители, а частью принуждаются к молчанию. В монастыре устанавливается жесткая дисциплина. Каждому иноку вменяется в обязанность физический труд: работа на огороде, в поле, по общему хозяйству. Получать какие-либо приношения для личного потребления — запрещено. Делать при поступлении в монастырь вклады — не обязательно. Вклады «вотчинами», то есть землей и людьми, не принимаются. Игумен подает пример братии: ходит в самодельных сандалиях, в худой рясе, без каких-либо украшающих знаков, разбивает грядки, косит, плотничает, рукодельничает, а ест и пьет за общим столом. Это необычно. Это поражает окрестное население. История сохранила нам рассказ о крестьянине, наслышавшемся о чудесах, сотворенных игуменом, и пришедшем взглянуть на Сергия. Крестьянину объяснили, что игумен на огороде за своей кельей. Мужик сходил на огород и вернулся рассерженным. Он решил, что над ним посмеялись, послали его глядеть на какого-то простого чернеца. Убедившись наконец, что никакого обмана нет, что убого одетый, испачканный в земле монах и есть Сергий, крестьянин, как торжествующе пишет Епифаний Премудрый, «уверовал в чудотворца». Собственно, торжествовать Епифанию было не из чего. Мужик уверовал, как свидетельствует «житие», не в чудеса, а в человека, занятого тем делом, которое всю жизнь делал он сам, и, стало быть, знающего и понимающего нужды простого земледельца. Мало того, подчеркнутая убогость одеяния прославленного игумена как бы показывала, с кем его сердце и симпатии: с неимущими, обиженными, угнетенными. Вот такой «чудотворец» и пришелся по душе простому труженику! Инстинктивно чувствуя, в чем секрет колоссальной популярности Сергия в народе, церковь на протяжении столетий старательно подчеркивала и до сих пор подчеркивает в характере первого игумена Свято-Троицкого монастыря именно трудолюбие, простоту, презрение к власти и богатству. Нет сомнений, что Сергий Радонежский действительно был «подвижником». Упорный отказ Сергия принять митрополичий параманд, что даже повлияло на его добрые отношения с митрополитом Алексием, уход Сергия после ссоры с братом Стефаном из монастыря Святой Троицы, то есть фактический отказ от игуменства, постоянная готовность терпеть лишения и помогать людям в беде — все это бесспорно. Церковь забывает напомнить о другом — о сомнениях, одолевавших прославленного игумена. А они Сергия одолевали. Человек умный, он не мог не видеть двойственности своего положения. С одной стороны, аскет, защитник обиженных, проповедник презрения к мирским благам, от которых, по его убеждению, проистекает все зло; с другой — защитник сильных мира сего, их богатства и власти как единственного средства оборонить Русь и церковь от врагов. С одной стороны, проповедник честности и братства, с другой — освятитель любых, объективно даже не очень чистоплотных и «человечных», исторически обусловленных акций московской политики по отношению к другим русским княжествам. С одной стороны, зачинатель «пустынножития», с другой — активный участник всех более или менее значительных событий. Традиция представляет Сергия спокойным, уравновешенным, мягким человеком. Недюжинная воля позволяла игумену оставаться таким на глазах у окружающих. «Спокойствие мудреца — это всего лишь умение скрывать свои чувства в глубине сердца», — говаривал Ларошфуко. У себя в келье Сергий, бесспорно, бывал иным. Исступленность его молений, изнурительные посты, лишения, которым он сознательно подвергал себя все, время, — абсолютно точный показатель смятенности духа игумена, видящего бездну и глубину противоречий действительности. Не случайно «молчание» Сергия перед смертью. Метафизический строй ума не дает игумену возможности целиком осознать процессы жизни. На краю могилы он видит себя «запутавшимся грешником». И тогда он бросает все дела, от всего отстраняется и «молчит». Это отчаянная, судорожная попытка «искупить» выполнением тяжкого обета совершенные «ошибки» и, может быть, понять, наконец, мир, рассказать людям, в чем истина. Но Сергий умирает молча.
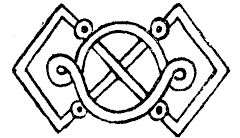
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
 «Историографы» Троице-Сергиевской лавры любили живописать уединенность, скромность и благолепие монастыря. Срубленные среди леса кельи, пни, торчащие перед самым входом в церковь, тишина ветвей и трав, запахи дикой чащи, где водятся медведи, строят плотники бобры и крепко держится дичь, — эта поэтичная, сразу же бросающаяся в глаза картина заслоняла от умиленных взоров нечто другое, несравненно более значительное и важное для понимания жизни монастырской братии, чем девственность окружающей природы. Это несравненно более значительное и важное — в напряженной духовной деятельности, совершавшейся в тишине радонежских пущ, в накале страстей, не раз потрясавших стены обители более грозно, чем тараны татар.
Первый взрыв относится к самому раннему периоду существования монастыря.
Он нашел выход в уже упоминавшемся резком столкновении двух братьев — Сергия и Стефана, случившемся где-то между 1354–1360 годами.
Некогда, не выдержав «пустынножития», Стефан оставил младшего брата общаться со всякой лесной тварью в одиночку, а сам направился в Москву, в Богоявленский монастырь, излюбленный князем Симеоном Гордым.
Здесь он сблизился с будущим митрополитом Алексием, сумел сыскать расположение самого князя и повелением последнего был посвящен в иеромонахи.
Однако карьера Стефана вскоре застопорилась. Его рассказы о Сергии, возбудив любопытство, обернулись вдруг против иеромонаха. Стараниями Алексия никому не ведомый игумен Сергий начинает с головокружительной быстротой завоевывать популярность. Стефан соображает, что, кажется, просчитался, уйдя с Маковца.
Если дело пойдет тем же порядком и дальше, то Сергий того гляди сменит престарелого митрополита! Но ведь Стефан тоже начинал на Маковце. Он тоже выбирал это место, помогал Сергию рубить первую келью…
И Стефан, порвав с Москвой, устремляется в Свято-Троицкий монастырь.
Не с пустыми руками. С изрядным добром, поднакопленным в годы близости к великому князю, избравшему Стефана духовным отцом и, вероятно, не оставлявшему без наград.
Это добро, по мысли Стефана, должно утвердить его превосходство над Сергием, отодвинуть Сергия на задний план.
Стефан попал вовремя. В монастыре роптали недовольные «общежитием».
Старший брат не стал медлить. Намеками, а то и прямо Стефан давал понять, что, стань игуменом он, «общежитие» было бы ослаблено.
Тлеющий огонь начал разгораться. Видимо, возникли какие-то споры между приверженцами Сергия и Стефана.
Каждый доказывал свою правоту, апеллируя, конечно, к священному писанию.
Но открыто выступить против самого Сергия и именно против «общежития» не решался никто, даже сам Стефан. Состояние этого интригана понятно. Зависть к брату, досада на совершенную некогда «промашку», невозможность прямо высказать свои мысли и необходимость действовать окольным путем исключали душевное равновесие и чем дальше, тем больше озлобляли Стефана.
Сергий же терпел, делая вид, будто ничего не замечает.
Но долго это тянуться не могло.
В одну из суббот Сергий служил в той самой церкви, где впоследствии «прозрел» победу Дмитрия Донского. Сергий находился в алтаре, а Стефан стоял на левом клиросе.
Вся братия была в сборе.
Вдруг в разгар службы Стефан увидел у канонарха книгу, которой ему не вручал.
Стефан побагровел.
— Кто дал тебе эту книгу? — закипая, рыкнул он.
Оробевший канонарх растерянно пролепетал:
— Игумен…
Здесь Стефан не выдержал. Скопившаяся ненависть прорвалась.
— Кто здесь игумен?! — загремел Стефан. — Не я ли первый сел на этом месте?!
И, видимо чувствуя, что теперь терять больше нечего, закусил удила и принялся поносить Сергия «бранью». Какого сорта была эта «брань», составитель жития целомудренно умолчал. Но, надо полагать, она не была худосочной, ибо чернецов словно обухом пришибло…
Сергий за тонкой алтарной перегородкой слышал каждое слово, но ничего не ответил. Зато в воскресенье утром монахи хватились игумена. Келья его оказалась пустой. Оскорбленный настоятель монастыря покинул обитель…
Стефан мог бы праздновать победу, не окажись она поражением.
Разброд в монастыре принял угрожающие формы. О случившемся узнали в Москве. Митрополит Алексий, давая себе ясный отчет в значении Сергиевой пустыни, сразу и резко вмешался в дело.
Он разыскал Сергия, который ушел к одному из своих учеников под Александров и основал там новую обитель на реке Киржач, беседовал с «чудотворцем» и уговорил того вернуться в Святую Троицу.
Со Стефаном митрополит, очевидно, тоже имел объяснение, и, вероятно, весьма резкое. Стефан с этих пор сходит со сцены. «Смирившись» и прожив некоторое время под началом восторжествовавшего брата, он опять уходит в Москву, в Симонов монастырь, где и умирает…
Идут годы. Давно истлел прах Дмитрия Донского. Давно лежит в гробу Сергий Радонежский. Давно нет в живых многих сподвижников великого князя и игумена.
Живые уже не помнят, а подчас и не хотят помнить всего: у покойных были ошибки и слабости, никак не вяжущиеся с создаваемой им славой.
Это смущает. Чтобы объяснить ошибки и слабости «великих», надо признать бытие единственной сущностью, а человека единственной мерой вещей.
На это оказывается порою не способен и XX век. В пятнадцатом это вообще немыслимо, так как равноценно отречению от бога.
Так мертвых хоронят второй раз, превращая в символы собственных заблуждений.
Так создают легенды и жития.
К счастью, составители легенд и житий еще по-средневековому наивны, и разобраться в подлинном существе дела не трудно даже нам, живущим шестьсот лет спустя.
Современники же используют имена знаменитых предшественников каждый по-своему.
И несомненно, что по-разному используют имя Сергия аристократические и народные, демократические прослойки в самом Свято-Троицком монастыре.
Противоречивость покойного игумена дает карты в руки и тем и другим.
Аристократические элементы, апеллируя к славе Сергия, находят в его поступках основание для своего «стяжательства», для превращения монастыря в богатейшую феодальную вотчину.
Ведь Сергий желал укрепления церкви и, заботясь о благополучии обители, принял незадолго до смерти, как вклад одного из бояр, Галичскую Соль, крупный промысел.
А в новых условиях, когда расходы на братию, на строительство, на переписку книг, на иконопись, на поддержание связей с двором и Константинополем все растут, не умещаясь в «пожертвования», надо или отказаться от первенствующей роли монастыря, или обзаводиться землей, переходить от косвенной эксплуатации крестьян к прямой.
Конечно, такой переход надо как-то «освятить», как-то прилично обставить.
Подходящие тексты в писании имеются. За многовековую деятельность церковь понаторела и в их толковании. Лицемерия ей не занимать стать. Но сделать рваную рясу Сергия знаменем толсторожего тиуна все же не просто. В обители остались чернецы, упрямо верящие в необходимость отречения от мира, что равнозначно пассивному, но все-таки протесту против силы, богатства и власть имущих.
Они не желают считаться ни с чем.
Им нет дела до «задач», встающих перед монастырем и всей церковью на рубеже XIV и XV столетий.
Они отказываются понять диктуемую временем «необходимость» перемен — вынужденность для церкви, если та не намерена потерять свою самостоятельность и подчиниться светской власти, преображения в землевладельца «милостью божией».
А тогдашняя церковь никогда на побегушках у князей не состояла.
Она лишь выступала в союзе с ними, да и то не со всеми и не всегда.
Мирская власть не столь сильна, чтобы удерживать в одной руке крест и скипетр.
Однако скоро князья московские начнут подбираться и к алтарям.
Скоро милостивейший государь Иван III хоть и ненадолго, а «откроет сердце» еретикам, требующим у церкви отказа от земельных владений. Скоро, очень скоро вспыхнет борьба Иосифа Волоцкого и Нила Сорского[1] и «смутит» умы православных.
Все очень скоро!
А пока в монастыре Святой Троицы разыгрывается лишь один из первых ее и не очень значительных эпизодов.
Игумен Никон берется перековать кружки для подаяний в ларцы для хранения «жаловавных грамот» на земли и крепостных.
Происходят ли в процессе никоновского занятия этим «кузнечным ремеслом» скандалы вроде скандала между Сергием и Стефаном, с уверенностью сказать нельзя. Но что недовольство Никоном есть, несомненно, и что иные чернецы игумена покидают, можно не сомневаться.
Послушничество же Андрея Рублева падает как раз на годы возвращения Никона к игуменству.
На эти же годы падает и его уход с Даниилом из монастыря Святой Троицы, переход в Спасо-Андрониковский монастырь под Москвой.
И это открывает еще одну живую черту в облике иконописца.
Мы покинули Андрея Рублева пятнадцатилетним юношей, впервые переступившим порог обители Святой Троицы.
Прошло несколько лет. Холщовая рубаха давно уступила место черным одеяниям. По заведенному Сергием Радонежским порядку, Андрей «обыкает» иноческому чину. Молитвы, посты, работы по хозяйству. Внешне почти все как у других. Но не все. Долгие часы послушник проводит наедине со своим учителем Даниилом Черным, первым человеком, открывающим пытливому юноше тайны живописи.
Тогдашний мастер не только живописец. Он должен уметь выбрать для будущей иконы хорошее дерево, приготовить доски, натянуть холст, сварить клей, нанести грунт — левкас, сделать сами краски: одни на яичном желтке, другие — на вареном масле, третьи — на смоле.
У каждого живописца здесь свои приемы, свои секреты, ревниво охраняемые от любопытных посторонних глаз.
Но важнее другое. Каждый живописец — старец, обучающий не только мастерству, но и его философским основам, формирующий сознание ученика, отвечающий за его нравственное и моральное состояние.
Дружба, возникшая между Даниилом Черным и Андреем Рублевым в эти годы, длящаяся всю их жизнь и прерванная только смертью, — порука глубокого родства душ обоих живописцев, близости взглядов на цели жизни и долг человека.
Даниил, несомненно, русский мастер. Но он старше Рублева и, возможно, побывал в Киеве, в Новгороде, во Владимире, перенимал опыт и византийских и отечественных мастеров, много читал, был свидетелем титанической схватки с Мамаем и, конечно, является почитателем Сергия, живым хранителем традиций «пустыни».
Зная игумена в жизни, помня его голос, походку, взгляд, Даниил, как любой другой чернец, естественно, видит Сергия таким, каким его понял сам.
Это отношение к «чудотворцу» Даниил передает своему ученику. И взглядам Даниила Черного наверняка Андрей доверяет больше, нежели чьим-нибудь еще.
Авторитет Даниила, поддерживающего искания молодого художника, его талант, откровенно, по душам беседующего с Андреем, — вот могучая колонна, подпирающая простую человеческую веру Андрея в учителя.
Говоря о художнике Андрее Рублеве, обычно почти ничего не говорят о Данииле Черном как о мастере, сильно уступавшем ученику в таланте.
Напрасно. Даниил, по-видимому, был живописцем первой величины. Однако самая большая заслуга его в том, что он не только увидел одаренность Рублева, но и умело, с любовью воспитал в нем самостоятельную творческую мысль и манеру, не подавлял ученика опытом, понимая, что каждый должен идти своим путем.
Своеобразие Рублева, как всякого гениального художника, должно было проявляться и в самых первых его ученических работах.
В чем-то он отступал и от византийских копий и от самого Даниила.
Относиться к такому проявлению личности в искусстве можно двояко.
Правда, церковная живопись, уже давно задавшаяся вопросом, отчего божество и святые угодники у разных мастеров выглядят зачастую абсолютно непохожими, нашла тонкий ответ.
«Видения бога сообразны тем, кому он являлся», — писал один из позднегреческих философов, Дионисий Ареопагит.
Историки искусства точно установили, что сочинения Ареопагита и других мыслителей поздней античности были на Руси отлично известны и уважались всеми образованными современниками Рублева.
Исследователь творчества Рублева М. В. Алпатов по этому поводу говорит: «Для людей, которые стремились освободиться от косного догматизма и оправдать свое влечение к реальности и красоте земного мира, философия Ареопагита служила опорой, так как признавала в мире движение и возврат к покою, разделение и единение, влечение от себя к другому и обратное влечение к себе».
Бесспорно, читал Ареопагита и учитель Андрея — Даниил. Но одно дело — знать мысли позднегреческих писателей, а другое — мириться с тем, что собственный ученик заводит с тобою спор, и не только не делать попыток оборвать его, а всячески поощрять к продолжению этого спора.
Поступать так, как поступает Даниил, — значит поистине проявить большой ум, поразительное уважение к личности человека, неиссякаемую любовь к жизни.
Андрею Рублеву посчастливилось, что возле него с самых первых шагов оказался такой душевный и опытный старший друг.
И Рублев оценил это, бережно пронеся уважение и признательность к учителю через всю жизнь.
Возникновение дружбы великих живописцев падает на конец девяностых годов XIV века.
Начало ее представить не так трудно.
В характере уже зрелого Андрея Рублева современники отметили необычную и несколько смущавшую черту: способность подолгу сидеть перед чужими иконами и внимательно их разглядывать, не обращая внимания на шуршащих вокруг богомольцев.
Такое отношение к предметам всеобщего суеверного поклонения должно было коробить и возмущать не только случайных посетителей храмов, где располагался Андрей, но даже и тех, кто хорошо знал, что он иконописец. Забываться под косыми и неприязненными взглядами, подпав под властную силу красоты, иной раз способен и человек заурядный. Но здесь только невольное забвение, и ничего больше.
Сидеть перед чужими иконами каждый праздничный, свободный от работы день, заранее зная, как на тебя посмотрят, — значит относиться к мнению богомольцев так, как оно заслуживало: не считаться с ним.
Это поведение на первый взгляд совершенно не вяжется с той душевной тонкостью, с той сдержанностью в рисунке и цвете, с какими Андрей Рублев создает свои поэтичные, исполненные нежности и грации образы.
Но противоречие между внешне неприемлемым для массы верующих поведением Андрея Рублева в храмах и его глубокой человечностью и чуткостью — противоречие кажущееся. Смирись Рублев с рабскими ординарными взглядами на «святыни», ему нечего было бы сказать народу, некуда было бы звать людей.
Поэтому воображать себе живого Андрея Рублева «тихим и благостным», скользящим по закоулкам монастырей некоей бесплотной тенью — нелепо.
Одна из уцелевших от того далекого времени миниатюр запечатлела Рублева в облике крепкого человека среднего роста, с окладистой волнистой бородой и большими, наверное, яркими глазами.
Безвестный автор миниатюры, создавая сцену приглашения Никоном Андрея и Даниила в монастырь Святой Троицы для росписи только что выстроенного собора, подчеркнул в Никоне «благость» и «святость». В фигуре же Андрея Рублева, поставленной очень прямо, с поднятой головой, он как бы старался выразить самостоятельность, независимость гениального собрата по кисти. Венец над челом Рублева — этот символ кротости и терпения — тут выглядит почти неуместно.
«Гордыня» в древней Руси считалась величайшим грехом, особенно тяжким для монаха, но ясно, что автор миниатюры не находил в Рублеве гордыни, а видел лишь заслуживающее высокого уважения достоинство и не осуждал его.
Так понял Рублева собрат по работе. Возможно, его собственный ученик.
Не так, возможно, понимали Андрея другие.
Откуда, однако, у живописца это независимое отношение к окружающему, эти подчас вызывающие поступки, намек на которые слышится в упоминании о странном поведении Рублева перед «всечестными иконами»?
Пришло ли это с годами, когда художник осознал свою силу, или проявлялось и раньше?
Тут надо задуматься о прирожденных особенностях человека и о той среде, что его растит и воспитывает.
Тончайшая лиричность души Андрея Рублева, его мягкость, сердечное внимание к миру и к человеку несомненны. Таким он явился на свет. Таким заявил себя уже в инициалах «Евангелия Хитрово»[2] выполненных, возможно, еще в годы пребывания послушником у Никона. Инициалы выполнены так, что поныне глядишь на них с тем замиранием сердца, какое способна вызывать лишь сама русская природа.
За одной фигуркой голубой цапли — целый живой мир. Видишь не только плавное движение шеи, крутой изгиб крыльев, переливы пера, столько раз подсмотренные тобою, но и кивера не нарисованных художником камышей, длинные травы приболотных кочек, белесые лепешки неподвижной ряски с разводами утиных дорожек, а там, вдали, где столько простора, солнечные холмы сметанных стогов… Милая родина, добрая русская земля!
Однако между рождением Андрея Рублева и его работой над инициалами к «Евангелию Хитрово» лежат не день, не месяц, а годы.
Годы детства и отрочества, когда мироощущение художника только начинает складываться, а врожденные свойства находятся под постоянной угрозой гибели.
Возможно, истоки противоречивости «личных качеств» и мотивов творчества зрелого Андрея Рублева именно там, в горьком детстве, где осиротевший, всем чужой ребенок впервые учится скрывать взволнованные порывы чистой, доверчивой души от равнодушных, насмешливых взглядов окружающих, давно и навеки загрубевших в непрерывной и безрадостной борьбе за кусок хлеба.
С возрастом мальчик начнет понимать это ожесточение нищеты. Нo ему не станет легче, потому что с возрастом его склонности уже придут в непримиримое столкновение с бытом, с привычками и порядками задавленной трудом семьи воспитателей. Его тяга к природе будет восприниматься как попытка улизнуть от дел, его неосознанная жажда творить, его задумчивость будущего величайшего труженика — как неискоренимая леность и тупость, его первые неумелые рисунки — как баловство, которые надо выбить из парнишки, и чем быстрей, чем безжалостней, тем лучше.
Впрочем, битье не так страшно, как насмешки. Боль проходит, едва заживает кожа. Обида и оскорбление оставляют в душе следы неизгладимые.
Андрей Рублев растет в суровое для России время, в эпоху грубых нравов, среди нужды. Если ему удается сохранить удивительно ясный строй души, то, конечно, только глубоко запрятав истинные думы и чувства под оболочкой той самой грубости, которая ему чужда, но зато позволяет оградить душу от копания в ней заскорузлых рук «близких».
Но наступает еще там, в отрочестве, день торжества. Чем была написана и на чем была написана первая икона гения — углем ли на клочке бересты, мелом ли на доске, — неизвестно, но написана она была.
Удачное подражание кому-то. Список какой-нибудь иконы, висевшей в красном углу избы. Копия, созданная с трепетом и захватывающей дух дерзостью: ведь «дар писать иконы» — и мальчик знал это! — «дар небесный», даваемый «богом» только своим избранникам!
Копия удалась, и смятение недавних насмешников, в растерянности переводящих взгляды с новоявленного лика божества на приблудыша, которому, может быть, только что хотели надавать подзатыльников за долгое отсутствие, окрылило Андрея. Да, с ним что-то случилось, пока он писал. Но теперь-то он был прежним, тем самым, что вчера, и позавчера, и полгода назад. Он знал это! А они не знали. Чего же стоили их нынешние робость и удивление!
И, может быть, уже в тот день Андрей смутно почувствовал, что любить и уважать в человеке высшее проявление божества — не одно и то же, что уважать и любить каждого человека, и впервые открыл для себя изречение: «не мечите бисер перед свиньями».
Таким он появился в монастыре.
Много слышавший о Сергии.
Надеющийся, что здесь он станет самим собой. Готовый открыть свое сердце людям, страстно этого желающий, но по привычке настороженный, очень чутко улавливающий всякую фальшь и готовый в любую минуту, как улитка,уйти в свою раковину, укрыться за проверенныхМ щитом внешней резкости и равнодушия: обычная уловка деликатной и уже испытавшей обиды души.
Даниил Черный наблюдает за учеником. Угадывает состояние новичка. Берет под покровительство. Водворяет в своей келье. Подсказывает, как поступать, чтобы не попасть впросак при выполнении обрядов. Рассказывает, как равному, о Сергии. Показывает крыльцо, срубленное игуменом.
Было так: остался Сергий без хлеба, попросил у одного старца пищу, и тот вынес в решете все, что оставалось, — несколько заплесневелых кусков. Но Сергий не взял их даром. Игумен всегда говорил, что подвижник может есть только заработанное. И за несколько заплесневелых кусков приладил к келье старца крыльцо.
Ученик взволнован и растерян.
Рассказы о битвах с татарами вызывают на его щеках лихорадочный румянец. В огромных глазах отрока — то неукротимый огонь, то предательская влага. Нарочито грубым голосом юнец прерывает учителя, с его языка срывается ругательство…
Даниил улыбается. Ему все понятно. Этот юнец, рисующий не по возрасту и опыту легко, такой на первый взгляд угловатый и неотесанный, на самом деле очень мягок и уязвим.
И Даниил постоянной добротой, заботой заставляет улитку сбросить раковину.
С этого дня у них нет тайн друг от друга. Один испытал счастье широко распахнуть сердце, другой — увидеть, что оно распахнуто для него.
Юность склонна к очарованиям и поспешным выводам. Андрею Рублеву может в эту пору казаться, что все огорчения и невзгоды позади. Он готов обнять каждого.
«Историографы» Троице-Сергиевской лавры любили живописать уединенность, скромность и благолепие монастыря. Срубленные среди леса кельи, пни, торчащие перед самым входом в церковь, тишина ветвей и трав, запахи дикой чащи, где водятся медведи, строят плотники бобры и крепко держится дичь, — эта поэтичная, сразу же бросающаяся в глаза картина заслоняла от умиленных взоров нечто другое, несравненно более значительное и важное для понимания жизни монастырской братии, чем девственность окружающей природы. Это несравненно более значительное и важное — в напряженной духовной деятельности, совершавшейся в тишине радонежских пущ, в накале страстей, не раз потрясавших стены обители более грозно, чем тараны татар.
Первый взрыв относится к самому раннему периоду существования монастыря.
Он нашел выход в уже упоминавшемся резком столкновении двух братьев — Сергия и Стефана, случившемся где-то между 1354–1360 годами.
Некогда, не выдержав «пустынножития», Стефан оставил младшего брата общаться со всякой лесной тварью в одиночку, а сам направился в Москву, в Богоявленский монастырь, излюбленный князем Симеоном Гордым.
Здесь он сблизился с будущим митрополитом Алексием, сумел сыскать расположение самого князя и повелением последнего был посвящен в иеромонахи.
Однако карьера Стефана вскоре застопорилась. Его рассказы о Сергии, возбудив любопытство, обернулись вдруг против иеромонаха. Стараниями Алексия никому не ведомый игумен Сергий начинает с головокружительной быстротой завоевывать популярность. Стефан соображает, что, кажется, просчитался, уйдя с Маковца.
Если дело пойдет тем же порядком и дальше, то Сергий того гляди сменит престарелого митрополита! Но ведь Стефан тоже начинал на Маковце. Он тоже выбирал это место, помогал Сергию рубить первую келью…
И Стефан, порвав с Москвой, устремляется в Свято-Троицкий монастырь.
Не с пустыми руками. С изрядным добром, поднакопленным в годы близости к великому князю, избравшему Стефана духовным отцом и, вероятно, не оставлявшему без наград.
Это добро, по мысли Стефана, должно утвердить его превосходство над Сергием, отодвинуть Сергия на задний план.
Стефан попал вовремя. В монастыре роптали недовольные «общежитием».
Старший брат не стал медлить. Намеками, а то и прямо Стефан давал понять, что, стань игуменом он, «общежитие» было бы ослаблено.
Тлеющий огонь начал разгораться. Видимо, возникли какие-то споры между приверженцами Сергия и Стефана.
Каждый доказывал свою правоту, апеллируя, конечно, к священному писанию.
Но открыто выступить против самого Сергия и именно против «общежития» не решался никто, даже сам Стефан. Состояние этого интригана понятно. Зависть к брату, досада на совершенную некогда «промашку», невозможность прямо высказать свои мысли и необходимость действовать окольным путем исключали душевное равновесие и чем дальше, тем больше озлобляли Стефана.
Сергий же терпел, делая вид, будто ничего не замечает.
Но долго это тянуться не могло.
В одну из суббот Сергий служил в той самой церкви, где впоследствии «прозрел» победу Дмитрия Донского. Сергий находился в алтаре, а Стефан стоял на левом клиросе.
Вся братия была в сборе.
Вдруг в разгар службы Стефан увидел у канонарха книгу, которой ему не вручал.
Стефан побагровел.
— Кто дал тебе эту книгу? — закипая, рыкнул он.
Оробевший канонарх растерянно пролепетал:
— Игумен…
Здесь Стефан не выдержал. Скопившаяся ненависть прорвалась.
— Кто здесь игумен?! — загремел Стефан. — Не я ли первый сел на этом месте?!
И, видимо чувствуя, что теперь терять больше нечего, закусил удила и принялся поносить Сергия «бранью». Какого сорта была эта «брань», составитель жития целомудренно умолчал. Но, надо полагать, она не была худосочной, ибо чернецов словно обухом пришибло…
Сергий за тонкой алтарной перегородкой слышал каждое слово, но ничего не ответил. Зато в воскресенье утром монахи хватились игумена. Келья его оказалась пустой. Оскорбленный настоятель монастыря покинул обитель…
Стефан мог бы праздновать победу, не окажись она поражением.
Разброд в монастыре принял угрожающие формы. О случившемся узнали в Москве. Митрополит Алексий, давая себе ясный отчет в значении Сергиевой пустыни, сразу и резко вмешался в дело.
Он разыскал Сергия, который ушел к одному из своих учеников под Александров и основал там новую обитель на реке Киржач, беседовал с «чудотворцем» и уговорил того вернуться в Святую Троицу.
Со Стефаном митрополит, очевидно, тоже имел объяснение, и, вероятно, весьма резкое. Стефан с этих пор сходит со сцены. «Смирившись» и прожив некоторое время под началом восторжествовавшего брата, он опять уходит в Москву, в Симонов монастырь, где и умирает…
Идут годы. Давно истлел прах Дмитрия Донского. Давно лежит в гробу Сергий Радонежский. Давно нет в живых многих сподвижников великого князя и игумена.
Живые уже не помнят, а подчас и не хотят помнить всего: у покойных были ошибки и слабости, никак не вяжущиеся с создаваемой им славой.
Это смущает. Чтобы объяснить ошибки и слабости «великих», надо признать бытие единственной сущностью, а человека единственной мерой вещей.
На это оказывается порою не способен и XX век. В пятнадцатом это вообще немыслимо, так как равноценно отречению от бога.
Так мертвых хоронят второй раз, превращая в символы собственных заблуждений.
Так создают легенды и жития.
К счастью, составители легенд и житий еще по-средневековому наивны, и разобраться в подлинном существе дела не трудно даже нам, живущим шестьсот лет спустя.
Современники же используют имена знаменитых предшественников каждый по-своему.
И несомненно, что по-разному используют имя Сергия аристократические и народные, демократические прослойки в самом Свято-Троицком монастыре.
Противоречивость покойного игумена дает карты в руки и тем и другим.
Аристократические элементы, апеллируя к славе Сергия, находят в его поступках основание для своего «стяжательства», для превращения монастыря в богатейшую феодальную вотчину.
Ведь Сергий желал укрепления церкви и, заботясь о благополучии обители, принял незадолго до смерти, как вклад одного из бояр, Галичскую Соль, крупный промысел.
А в новых условиях, когда расходы на братию, на строительство, на переписку книг, на иконопись, на поддержание связей с двором и Константинополем все растут, не умещаясь в «пожертвования», надо или отказаться от первенствующей роли монастыря, или обзаводиться землей, переходить от косвенной эксплуатации крестьян к прямой.
Конечно, такой переход надо как-то «освятить», как-то прилично обставить.
Подходящие тексты в писании имеются. За многовековую деятельность церковь понаторела и в их толковании. Лицемерия ей не занимать стать. Но сделать рваную рясу Сергия знаменем толсторожего тиуна все же не просто. В обители остались чернецы, упрямо верящие в необходимость отречения от мира, что равнозначно пассивному, но все-таки протесту против силы, богатства и власть имущих.
Они не желают считаться ни с чем.
Им нет дела до «задач», встающих перед монастырем и всей церковью на рубеже XIV и XV столетий.
Они отказываются понять диктуемую временем «необходимость» перемен — вынужденность для церкви, если та не намерена потерять свою самостоятельность и подчиниться светской власти, преображения в землевладельца «милостью божией».
А тогдашняя церковь никогда на побегушках у князей не состояла.
Она лишь выступала в союзе с ними, да и то не со всеми и не всегда.
Мирская власть не столь сильна, чтобы удерживать в одной руке крест и скипетр.
Однако скоро князья московские начнут подбираться и к алтарям.
Скоро милостивейший государь Иван III хоть и ненадолго, а «откроет сердце» еретикам, требующим у церкви отказа от земельных владений. Скоро, очень скоро вспыхнет борьба Иосифа Волоцкого и Нила Сорского[1] и «смутит» умы православных.
Все очень скоро!
А пока в монастыре Святой Троицы разыгрывается лишь один из первых ее и не очень значительных эпизодов.
Игумен Никон берется перековать кружки для подаяний в ларцы для хранения «жаловавных грамот» на земли и крепостных.
Происходят ли в процессе никоновского занятия этим «кузнечным ремеслом» скандалы вроде скандала между Сергием и Стефаном, с уверенностью сказать нельзя. Но что недовольство Никоном есть, несомненно, и что иные чернецы игумена покидают, можно не сомневаться.
Послушничество же Андрея Рублева падает как раз на годы возвращения Никона к игуменству.
На эти же годы падает и его уход с Даниилом из монастыря Святой Троицы, переход в Спасо-Андрониковский монастырь под Москвой.
И это открывает еще одну живую черту в облике иконописца.
Мы покинули Андрея Рублева пятнадцатилетним юношей, впервые переступившим порог обители Святой Троицы.
Прошло несколько лет. Холщовая рубаха давно уступила место черным одеяниям. По заведенному Сергием Радонежским порядку, Андрей «обыкает» иноческому чину. Молитвы, посты, работы по хозяйству. Внешне почти все как у других. Но не все. Долгие часы послушник проводит наедине со своим учителем Даниилом Черным, первым человеком, открывающим пытливому юноше тайны живописи.
Тогдашний мастер не только живописец. Он должен уметь выбрать для будущей иконы хорошее дерево, приготовить доски, натянуть холст, сварить клей, нанести грунт — левкас, сделать сами краски: одни на яичном желтке, другие — на вареном масле, третьи — на смоле.
У каждого живописца здесь свои приемы, свои секреты, ревниво охраняемые от любопытных посторонних глаз.
Но важнее другое. Каждый живописец — старец, обучающий не только мастерству, но и его философским основам, формирующий сознание ученика, отвечающий за его нравственное и моральное состояние.
Дружба, возникшая между Даниилом Черным и Андреем Рублевым в эти годы, длящаяся всю их жизнь и прерванная только смертью, — порука глубокого родства душ обоих живописцев, близости взглядов на цели жизни и долг человека.
Даниил, несомненно, русский мастер. Но он старше Рублева и, возможно, побывал в Киеве, в Новгороде, во Владимире, перенимал опыт и византийских и отечественных мастеров, много читал, был свидетелем титанической схватки с Мамаем и, конечно, является почитателем Сергия, живым хранителем традиций «пустыни».
Зная игумена в жизни, помня его голос, походку, взгляд, Даниил, как любой другой чернец, естественно, видит Сергия таким, каким его понял сам.
Это отношение к «чудотворцу» Даниил передает своему ученику. И взглядам Даниила Черного наверняка Андрей доверяет больше, нежели чьим-нибудь еще.
Авторитет Даниила, поддерживающего искания молодого художника, его талант, откровенно, по душам беседующего с Андреем, — вот могучая колонна, подпирающая простую человеческую веру Андрея в учителя.
Говоря о художнике Андрее Рублеве, обычно почти ничего не говорят о Данииле Черном как о мастере, сильно уступавшем ученику в таланте.
Напрасно. Даниил, по-видимому, был живописцем первой величины. Однако самая большая заслуга его в том, что он не только увидел одаренность Рублева, но и умело, с любовью воспитал в нем самостоятельную творческую мысль и манеру, не подавлял ученика опытом, понимая, что каждый должен идти своим путем.
Своеобразие Рублева, как всякого гениального художника, должно было проявляться и в самых первых его ученических работах.
В чем-то он отступал и от византийских копий и от самого Даниила.
Относиться к такому проявлению личности в искусстве можно двояко.
Правда, церковная живопись, уже давно задавшаяся вопросом, отчего божество и святые угодники у разных мастеров выглядят зачастую абсолютно непохожими, нашла тонкий ответ.
«Видения бога сообразны тем, кому он являлся», — писал один из позднегреческих философов, Дионисий Ареопагит.
Историки искусства точно установили, что сочинения Ареопагита и других мыслителей поздней античности были на Руси отлично известны и уважались всеми образованными современниками Рублева.
Исследователь творчества Рублева М. В. Алпатов по этому поводу говорит: «Для людей, которые стремились освободиться от косного догматизма и оправдать свое влечение к реальности и красоте земного мира, философия Ареопагита служила опорой, так как признавала в мире движение и возврат к покою, разделение и единение, влечение от себя к другому и обратное влечение к себе».
Бесспорно, читал Ареопагита и учитель Андрея — Даниил. Но одно дело — знать мысли позднегреческих писателей, а другое — мириться с тем, что собственный ученик заводит с тобою спор, и не только не делать попыток оборвать его, а всячески поощрять к продолжению этого спора.
Поступать так, как поступает Даниил, — значит поистине проявить большой ум, поразительное уважение к личности человека, неиссякаемую любовь к жизни.
Андрею Рублеву посчастливилось, что возле него с самых первых шагов оказался такой душевный и опытный старший друг.
И Рублев оценил это, бережно пронеся уважение и признательность к учителю через всю жизнь.
Возникновение дружбы великих живописцев падает на конец девяностых годов XIV века.
Начало ее представить не так трудно.
В характере уже зрелого Андрея Рублева современники отметили необычную и несколько смущавшую черту: способность подолгу сидеть перед чужими иконами и внимательно их разглядывать, не обращая внимания на шуршащих вокруг богомольцев.
Такое отношение к предметам всеобщего суеверного поклонения должно было коробить и возмущать не только случайных посетителей храмов, где располагался Андрей, но даже и тех, кто хорошо знал, что он иконописец. Забываться под косыми и неприязненными взглядами, подпав под властную силу красоты, иной раз способен и человек заурядный. Но здесь только невольное забвение, и ничего больше.
Сидеть перед чужими иконами каждый праздничный, свободный от работы день, заранее зная, как на тебя посмотрят, — значит относиться к мнению богомольцев так, как оно заслуживало: не считаться с ним.
Это поведение на первый взгляд совершенно не вяжется с той душевной тонкостью, с той сдержанностью в рисунке и цвете, с какими Андрей Рублев создает свои поэтичные, исполненные нежности и грации образы.
Но противоречие между внешне неприемлемым для массы верующих поведением Андрея Рублева в храмах и его глубокой человечностью и чуткостью — противоречие кажущееся. Смирись Рублев с рабскими ординарными взглядами на «святыни», ему нечего было бы сказать народу, некуда было бы звать людей.
Поэтому воображать себе живого Андрея Рублева «тихим и благостным», скользящим по закоулкам монастырей некоей бесплотной тенью — нелепо.
Одна из уцелевших от того далекого времени миниатюр запечатлела Рублева в облике крепкого человека среднего роста, с окладистой волнистой бородой и большими, наверное, яркими глазами.
Безвестный автор миниатюры, создавая сцену приглашения Никоном Андрея и Даниила в монастырь Святой Троицы для росписи только что выстроенного собора, подчеркнул в Никоне «благость» и «святость». В фигуре же Андрея Рублева, поставленной очень прямо, с поднятой головой, он как бы старался выразить самостоятельность, независимость гениального собрата по кисти. Венец над челом Рублева — этот символ кротости и терпения — тут выглядит почти неуместно.
«Гордыня» в древней Руси считалась величайшим грехом, особенно тяжким для монаха, но ясно, что автор миниатюры не находил в Рублеве гордыни, а видел лишь заслуживающее высокого уважения достоинство и не осуждал его.
Так понял Рублева собрат по работе. Возможно, его собственный ученик.
Не так, возможно, понимали Андрея другие.
Откуда, однако, у живописца это независимое отношение к окружающему, эти подчас вызывающие поступки, намек на которые слышится в упоминании о странном поведении Рублева перед «всечестными иконами»?
Пришло ли это с годами, когда художник осознал свою силу, или проявлялось и раньше?
Тут надо задуматься о прирожденных особенностях человека и о той среде, что его растит и воспитывает.
Тончайшая лиричность души Андрея Рублева, его мягкость, сердечное внимание к миру и к человеку несомненны. Таким он явился на свет. Таким заявил себя уже в инициалах «Евангелия Хитрово»[2] выполненных, возможно, еще в годы пребывания послушником у Никона. Инициалы выполнены так, что поныне глядишь на них с тем замиранием сердца, какое способна вызывать лишь сама русская природа.
За одной фигуркой голубой цапли — целый живой мир. Видишь не только плавное движение шеи, крутой изгиб крыльев, переливы пера, столько раз подсмотренные тобою, но и кивера не нарисованных художником камышей, длинные травы приболотных кочек, белесые лепешки неподвижной ряски с разводами утиных дорожек, а там, вдали, где столько простора, солнечные холмы сметанных стогов… Милая родина, добрая русская земля!
Однако между рождением Андрея Рублева и его работой над инициалами к «Евангелию Хитрово» лежат не день, не месяц, а годы.
Годы детства и отрочества, когда мироощущение художника только начинает складываться, а врожденные свойства находятся под постоянной угрозой гибели.
Возможно, истоки противоречивости «личных качеств» и мотивов творчества зрелого Андрея Рублева именно там, в горьком детстве, где осиротевший, всем чужой ребенок впервые учится скрывать взволнованные порывы чистой, доверчивой души от равнодушных, насмешливых взглядов окружающих, давно и навеки загрубевших в непрерывной и безрадостной борьбе за кусок хлеба.
С возрастом мальчик начнет понимать это ожесточение нищеты. Нo ему не станет легче, потому что с возрастом его склонности уже придут в непримиримое столкновение с бытом, с привычками и порядками задавленной трудом семьи воспитателей. Его тяга к природе будет восприниматься как попытка улизнуть от дел, его неосознанная жажда творить, его задумчивость будущего величайшего труженика — как неискоренимая леность и тупость, его первые неумелые рисунки — как баловство, которые надо выбить из парнишки, и чем быстрей, чем безжалостней, тем лучше.
Впрочем, битье не так страшно, как насмешки. Боль проходит, едва заживает кожа. Обида и оскорбление оставляют в душе следы неизгладимые.
Андрей Рублев растет в суровое для России время, в эпоху грубых нравов, среди нужды. Если ему удается сохранить удивительно ясный строй души, то, конечно, только глубоко запрятав истинные думы и чувства под оболочкой той самой грубости, которая ему чужда, но зато позволяет оградить душу от копания в ней заскорузлых рук «близких».
Но наступает еще там, в отрочестве, день торжества. Чем была написана и на чем была написана первая икона гения — углем ли на клочке бересты, мелом ли на доске, — неизвестно, но написана она была.
Удачное подражание кому-то. Список какой-нибудь иконы, висевшей в красном углу избы. Копия, созданная с трепетом и захватывающей дух дерзостью: ведь «дар писать иконы» — и мальчик знал это! — «дар небесный», даваемый «богом» только своим избранникам!
Копия удалась, и смятение недавних насмешников, в растерянности переводящих взгляды с новоявленного лика божества на приблудыша, которому, может быть, только что хотели надавать подзатыльников за долгое отсутствие, окрылило Андрея. Да, с ним что-то случилось, пока он писал. Но теперь-то он был прежним, тем самым, что вчера, и позавчера, и полгода назад. Он знал это! А они не знали. Чего же стоили их нынешние робость и удивление!
И, может быть, уже в тот день Андрей смутно почувствовал, что любить и уважать в человеке высшее проявление божества — не одно и то же, что уважать и любить каждого человека, и впервые открыл для себя изречение: «не мечите бисер перед свиньями».
Таким он появился в монастыре.
Много слышавший о Сергии.
Надеющийся, что здесь он станет самим собой. Готовый открыть свое сердце людям, страстно этого желающий, но по привычке настороженный, очень чутко улавливающий всякую фальшь и готовый в любую минуту, как улитка,уйти в свою раковину, укрыться за проверенныхМ щитом внешней резкости и равнодушия: обычная уловка деликатной и уже испытавшей обиды души.
Даниил Черный наблюдает за учеником. Угадывает состояние новичка. Берет под покровительство. Водворяет в своей келье. Подсказывает, как поступать, чтобы не попасть впросак при выполнении обрядов. Рассказывает, как равному, о Сергии. Показывает крыльцо, срубленное игуменом.
Было так: остался Сергий без хлеба, попросил у одного старца пищу, и тот вынес в решете все, что оставалось, — несколько заплесневелых кусков. Но Сергий не взял их даром. Игумен всегда говорил, что подвижник может есть только заработанное. И за несколько заплесневелых кусков приладил к келье старца крыльцо.
Ученик взволнован и растерян.
Рассказы о битвах с татарами вызывают на его щеках лихорадочный румянец. В огромных глазах отрока — то неукротимый огонь, то предательская влага. Нарочито грубым голосом юнец прерывает учителя, с его языка срывается ругательство…
Даниил улыбается. Ему все понятно. Этот юнец, рисующий не по возрасту и опыту легко, такой на первый взгляд угловатый и неотесанный, на самом деле очень мягок и уязвим.
И Даниил постоянной добротой, заботой заставляет улитку сбросить раковину.
С этого дня у них нет тайн друг от друга. Один испытал счастье широко распахнуть сердце, другой — увидеть, что оно распахнуто для него.
Юность склонна к очарованиям и поспешным выводам. Андрею Рублеву может в эту пору казаться, что все огорчения и невзгоды позади. Он готов обнять каждого.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
 Славу о молодом Андрее Рублеве можно было бы написать так: «Последнюю седмицу июня дождило, но на Коcму и Дамиана стало вёдро, и начался сенокос. В лугах по Консере, на лесных полянах вокруг Маковца весело завжикали косы, опьяняюще запахло поваленной травой, заметались потревоженные птицы.
Косили мужики, сидящие возле монастыря Святой Троицы, косили и монахи.
Игумен отряжал на работу чернецов и послушников помоложе, покрепче. Народ в обители был свычен любому делу, и сейчас, без ряс, в пропотелых рубахах и лаптях-самоплетках, загорелые дюжие иноки походили на простых крестьян.
Только черные, никогда не снимаемые скуфьи отличали их от троицких мужиков, да никогда не мелькал в гуще ряс белый бабий платок.
Но кое-где монастырские и мужицкие покосы сходились вплотную, люди здесь трудились бок о бок и, одинаково наламывая спины, забывали о разделяющей их незримой черте, вместе отдыхали, пили из одного жбана кислый, сворачивающий скулы квас и по-соседски толковали о добром травостое, о притихшей Орде, о кознях великого Новгорода, о Литве, обо всем, чем жила в ту пору Московщина.
Всякие шли разговоры, всякие их вели люди.
На дальней лесной опушке, отгороженные друг от друга грядой невысокого ивняка, косили крестьянская семья и два монаха.
По крестьянской стороне ходили трое: мужик лет сорока, приземистый и квадратный, что колодезный сруб, подросток, такой же коренастый, как мужик, — наверное, его сын, — и молодая, высокая, узкая в бедрах баба — не то хозяйская дочь, не то невестка.
Из монахов один был уже в годах, его голову и бороду тронула седина, второй выглядел совсем юным: темная бородка едва курчавилась, яркие синие глаза смотрели вокруг с мальчишеским любопытством.
Раз высунула из травы серое горлышко обеспокоенная звоном кос старая тетерка, пасущая на воле беспомощный выводок.
Змеиная головка птицы с оранжевой бровью застыла, замерла.
И молодой монах замер, остановил косу на взлете, шепотом позвал товарища:
— Смотри!
— Вижу! — отозвался старший, продолжая косить.
Тетерка скрылась, озабоченно заквохтала, сзывая птенцов, и трава там и сям заколыхалась, будто под ней побежали неслышные ручейки.
— Собираются! — весело крикнул молодой монах. — Обождем! Пусть уведет…
— Ну что ж? Обождем, — согласился его товарищ, усмехаясь.
В усмешке не было ничего обидного, только сказывалась грусть немало испытавшего человека, и завидующего юности и жалеющего ее.
Выводок ушел. Монахи продолжали косьбу. Но молодой, приметив вдруг что-то новое, необычное, снова и снова окликал соседа и показывал глазами то на причудливое облако, то на зеленое золото тронутых солнцем елей, то на спутанную серебряной паутиной кочку.
Видно, его переполняло счастье. Обычное счастье молодости, чувствующей избыток своих сил, убежденной, что мир прекрасен уже потому, что существуешь и видишь щедрые краски земли.
Молодой монах с беззаботной жестокостью торопился приобщить к этому счастью и своего товарища, даже не подозревая, что может причинить ему боль.
Так прошел час, другой.
Работа понемногу захватила молодого монаха, завладела им. И так же самозабвенно, как только что любовался миром, он отдался косьбе: теряя представление о времени, жадно слушая свист отточенного лезвия, ощущая себя навеки слитым с ложащейся под ноги травою, со свежим воздухом, со жгучей росой, с самим солнцем, все сильнее припекающим темя и плечи.
Мускулы размялись. Первая усталость миновала. От нее сохранилось только звонкое напряжение, такое легкое и окрыляющее, что хотелось, чтобы солнце помедлило, роса не просыхала, ряды не кончались, и вызывающе верилось: нет предела твоей силе! Нет!
— Трапезовать! — позвал старший монах.
Он стоял, медленно вытирая косу пучком травы.
Молодой огляделся. Солнце поднялось уже высоко. Дальние лесистые холмы были залиты им до подножий. Тени съежились. Роса пропала. Скошенная трава лежала длинными валами и там, где начали косьбу, тускнела: начинала подсыхать. Стоило только опустить косу, перевести дух, как тело налилось тяжестью. Заныла поясница. Потянуло в тень, в прохладу. Проснулся голод. Во рту пересохло.
Молодой монах выпрямился, развел плечи и не спеша пошел к товарищу.
Снедь лежала возле ивняка. Ивняк рос над мелкой, сухой, в два шага ширины канавкой.
Прячась от солнца, монахи полезли в редкую тень ивняка.
Затрещало и с другой стороны, и вылез к канавке квадратный мужик, а за мужиком показались подросток с молодой бабой.
— Эк оно! — крякнул мужик, завидев иноков и придерживая зацепленную ивняком шапку. — Хлеб да соль, божьи люди… Вишь, на одном месте сошлись!
Он неуверенно улыбнулся, высматривая, куда бы перейти. Наверное, мужик выбрал этот укромный уголок еще загодя и теперь сетовал, что его опередили, но показать свои чувства чернецам не хотел.
Подросток и молодая баба скользнули по инокам взглядами: подросток равнодушно, баба с любопытством, и встали в ивняке, ожидая слова мужика.
Старший из монахов опередил крестьянина.
— Сошлись так сошлись, — добродушно молвил он, усаживаясь на краю канавы и облегченно вытягивая притомившиеся ноги. — Благослови вас господь, православные… Места на всех хватит.
Мужик помялся.
— А не обеспокоим, отцы?
— Грех и вопрошать такое, — отозвался старший монах. — Садись, сыне.
Он принялся развязывать узелок со снедью, а мужик, оглянувшись, снял шапку, сунул ее под мышку, проговорил:
— Ну, коли уж… — опустился на сухие листья и позвал: — Петр, Марья!
Подросток и баба выбрались из кустов, поклонились монахам, сели по обе стороны от мужика.
Старший инок прочел: «Очи всех на тя, господи, уповают…», перекрестились и принялись за еду.
Молодой исподволь поглядывал на подошедших.
Мужик, загорелый до черноты, крепко вдавливал ломоть хлеба в горстку соли, откусывал половину куска враз и жевал, причавкивая, двигая челюстями так, что ерзали и морщины на выпяченном лбу, и толстые прямые брови, и мясистый ноздреватый нос.
Под медвежьими глазками мужика кожа одрябла, свисая усталыми коричневыми складочками.
Крупинки соли осыпались с ломтя на жесткие космы пегой мужицкой бороды, мужик стряхивал их в большую ладонь-лопату, забрасывая в рот, зиявший звериной пастью.
Мужик и всем обликом смахивал на зверя, но зверя прирученного, безобидного и голодного.
Подросток вблизи походил на приземистого мужика.
Баба — иная.
Низко надвинутый платок закрывал ее лоб, но чувствовалось — лоб не выпячен, а лишь слегка покат и ровно переходит к неприметно сдавленным вискам, мягко очерченным большим глазницам.
На левом виске волосы лежат каштановым серпом. Брови, темные и туго изогнутые, у тонкой переносицы широки, a там, где уголки глаз, остры, как ласточкино крыло.
Молодой монах с тревогой подумал, что глаза бабы, потупленные на платок с едой, черны, велики, неспокойны, и, смутясь чего-то, хотел отвести взгляд, не успел и столкнулся с ответным взглядом.
Большие черные глаза бабы волновали.
Она опять потупилась и, усмехаясь, прикусила нижнюю пухлую губу.
Никто этого не заметил, а молодой монах, низко наклонив голову, принялся старательно натирать луком ржаную горбушку.
В ивняке горьковато пахло палым листом, сырой землей. Запах мешался с мягким солнечным ароматом сена, а когда ветерок, завернув, тянул из лесу, — с терпкой свежестью дремучих боров. Ветерок перебирал листву. Светлые пятнышки дрожали, сливались, разбегались и сходились вновь.
— А что-то я раньше не встречал тебя, — сказал старший инок приземистому мужику. — Аль из новых?
— Из новых, — отозвался мужик. — По весне и пришли.
— К самой пахоте, стало быть, — покачал головой чернец. — Тебя как звать-то?
— Семеном.
— Издалека шел, Семен?
— Издаля… Брянск слышали, поди?
— Слышали.
— Вот от Брянска и шагали.
— Не ближний путь! Не ближний!
— От своей беды и дальше забежал бы! — с неожиданным ожесточением бросил, словно огрызнулся, мужик, прижимая каравай к выпуклой, подобно щиту, груди и отваливая новый ломоть хлеба.
Молодой монах невольно покосился на Семена, но старший, не обращая внимания на резкость, только кивнул и терпеливо заметил:
— Места-то под Брянском добрые.
Мужик глянул исподлобья.
— Сам… не оттель?
— Нет. Проходить случалось.
— А-а-а!..
Грубое темное лицо Семена покривилось в едкой улыбке:
— Прохожему везде рай. А ты попробуй-ка у нас за сохой походить.
И спохватился.
— Не в обиду вам, святые отцы…
— Господь с тобой, — поднял ладонь чернец. — Да не зови нас святыми… Мое имя Даниил, а его Андрей. Андрей-то послушничает еще. Величать нас негоже… А тебя понимаю. Много людей сюда тянется.
— Куда же еще-то? — подхватил мужик. — Места у вас тихие, князья крепки, земля нетронута… Вот и идем! Несладко обжитое, отчее бросать, да что делать? Князей у нас — по трое на выселок. Про бояр не говорю. Тех, как воробьев на мякине. Все норовят друг дружке шею свернуть, все ополчаются, ратью ходят… Вот и паши, потей, рви жилы! Так закрома-то выскребут, что в пору лавки грызть. Кору редкую зиму в квашне не терли… Вот и поклонишься тиуну боярскому. Но раз поклонился — навек закабалился. А кому охота за мешок проса волю продавать?! Не-е-ет! Я и ушел. Ушел! Авось тут оживу. Должна же где-то правда божья быть!
Даниил сочувственно вздохнул.
— Господу прилежи, — посоветовал он. — Сказано же в евангелии: аз есмь дверь, мною аще кто внидет, спасется, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет…
— Так, так, — согласился мужик. — Так. На господа и надежа. Как же! Крещеные, чать…
— И много вас пришло? — помолчав, снова спросил Даниил.
— Пять семей.
— Добром ли добрались?
— Какое там… Кои в пути отстали, кои коней потеряли, кои хворые прибрели… Вон у ней (мужик кивнул в сторону молодой бабы) муж, старший сын мой, совсем плох. Он еще летошный год занедужил, а ныне вовсе не работник стал. Не вышла дорога ему. Лежнем лежит. Видать, и деток им господь теперь не даст…
Молодая баба вспыхнула, как сухая можжевеловая ветка, в костре, прикрыла лицо платком.
Даниил кашлянул, покосился на Андрея. Тот подобрал палочку, начал ломать.
— Пути господни неисповедимы, — поспешил Даниил. — Горе, везде горе. Терпеть надо… Ну, оттрапезовали, православные? Возблагодарим же отца небесного…
Узелки были завязаны. Подросток зевнул.
— Отдохнуть, пожалуй, — вторя парню, проговорил Даниил.
— И то, — согласился мужик. — Марья, ступай сосни где ни то, а мы тут… Да недалече уходи-то!
— Ладно, — сказала молодая баба, — я рядом… Взбудите.
Голос у Марьи был звучен, но говорила она протяжно, будто лениво потягивалась со сна.
Встала, отряхнула одежу, отошла… Треск мелких сучьев. Шорох листьев…
— Грехи наши… — непонятно к чему вздохнул Даниил. — Ложись, брат, Подстели рясу и ложись… За сон не взыщется.
Мужики и монахи пристроились на дне канавки.
Андрей долго лежал вытянувшись, смежив веки, пристроив голову на запрокинутых руках.
По телу растекалась мягкая волна покоя.
В зажмуренных глазах плыли разноцветные круги, мельтешили черные искры.
В июле птицы не поют, и утренняя тишина была глубока и неподвижна, как речной омут.
Может быть, поэтому стояли в ушах посвист косы, влажные вздохи цветов и трав, шелест зоревого ветра в кустарнике.
И опять всплыли перед взором каштановая прядь, прикушенная в тайной усмешке розовая губа, запламеневшие щеки. Протяжный голос зазвучал, будто позвал…
Оглушенный, он не понимал, что с ним.
Бездна человеческого одиночества вдруг открылась молодому монаху. Рывком поднялся он на локти.
Но почему-то возникшая в сердце боль была праздничной и светлой.
— Господи! — прошептал Андрей. — Господи!
Упал лицом вниз и, испытывая необъяснимое облегчение от набежавших слез, заснул вдруг легко и крепко, не успев заметить, что засыпает.
Приземистый мужик очнулся первым. Въевшаяся в душу тревога за семью, привычное беспокойство за ее завтрашний день, за кусок хлеба словно подтолкнули Семена жестким кулаком, и он сел на армяке, испуганно соображая, долго ли проспал, не упущено ли время ворошить.
Но солнце, не успевшее встать на полдень, успокоило мужика. Он утер запекшуюся в углах рта слюну, помял ладонью лицо и огляделся.
Сын лежал рядом, оттопырив толстые губы, и посапывал. Старший из монахов накрыл лицо платком, не шевелился. Молодой во сне улыбался.
«Ладен, — подумалось Семену. — На такого любая девка загляделась бы, а он, вишь, от мира ушел. Видать, жизнь не задалась или знамение получил… Кто его знает? Тут народ-то особый».
Семен много слышал о Троицком монастыре, об его игуменах и братии, о совершавшихся в обители чудесах. Место было святое.
Семен и осел здесь с потаенной надеждой на то, что близость к монастырю, к отмеченным богом подвижникам как-то поможет в жизни.
Авось и на долю Семеновой семьи выпадет частица благодати!
Случись неурожай, или мор на скотину нападет, или пожар, или еще какое лихо — тут не сгинешь, не закабалишься. Выручат! Доброй молве о троицких монахах Семен верил: не больно часто она, и коли держится, значит справедлива. А кроме того, ему хотелось, чтобы все так и оказалось, как говорили. Должно же повезти, наконец, должны же люди где-то по-христиански поступать, бога помнить!
Иначе хоть нож бери…
Семен услышал — старший из монахов заворочался, тихонько окликнул:
— Не спишь, отче?
Монах откинул платок, тоже сел.
— Вздремнул малость… Гляди, солнце-то…
Отвязав от пояса медный гребешок, Даниил принялся расчесывать бороду.
— А мы и так, — пошутил Семен, запуская в пегие космы короткопалую пятерню. — А что, Даниил, спросить хочу… Давно ты здесь?
— Давно, — просто ответил чернец.
— Так, так… Стало быть, и Сергия… игумена Сергия видеть сподобился?
— Постриг от него принял.
— Вона!
Семен заерзал, смущенно поскреб бровь.
— И что же он… игумен-то? — набравшись, наконец, духу, спросил Семен. — Как про подвиги его говорят… Прост, говорят, был Сергий?
— Прост, — подтвердил Даниил. — Прост и чист.
— Так, так, — торопливо сказал Семен. — Понимаю. Вот, вишь, и чудеса-то не зря. Так.
Даниил вскинул бурые веки.
— Ты о чудесах что слыхал?
— Ну, как же… Вот творил их игумен… А?
Чернец покачал головой, привязал гребешок к ремню и сказал:
— Пустые это слова. Забудь их. Сергий чудес не творил. Не любил, кто и речь такую поведет…
Мужик растерянно глядел на монаха.
— Да как же… — начал он было и осекся.
Уж не ослышался ли? Мыслимо ли, чтоб инок наяву подобное о чудотворце молвил? Что же тогда, если…
Даниил уловил смятение собеседника.
— Аще не господь созиждет дом, всуе трудящася зиждущий, — спокойно произнес Даниил слова псалма, — аще не господь сохранит град, всуе бде стрегий… Забыл? Никто из вас не помнит этого! А Сергий всегда повторял. И все, что свершалось в игуменство его, божьей волей свершалось. Уразумел?
Семен, напряженно слушавший монаха, облегченно вздохнул.
— Так, так! Господи, а я-то… Так! Истинно, на все милость спасителя… Так!
Он провел ладонью по вспотевшему лбу.
— Вот она, тьма-то, как глаза застит! Гляди — и согрешишь по неведению. Понимаю… А верно, что Сергий родом из бояр был?
— Из ростовских.
— Так, так… А не из простого люда?
— Нет. Из бояр. Почему спрашиваешь?
— Всякое слыхал, оттого… Нужду, говорят, понимал игумен. Вот оно и…
— Суесловишь ты, Семен, — упрекнул Даниил. — Все в голове твоей перепутано. Послушать тебя — божий свет для одних убогих зажжен, любой горшечник константинопольского патриарха благостнее. Погрязли все в счетах и помыслах земных. О вечной жизни и подумать некогда.
— Это верно, грешны… — признал Семен. — Да ведь вот Сергий-то… Сам пахал, сам огороды копал, говорят… Ну, и думается, стало быть…
— Опять за свое, — покачал головой Даниил. — Огороды огородами. Огород, поди, и ты копаешь. Что ж, какой подвиг здесь? Дело-то не в том, чтоб заступом ковырять, а в том, зачем браться за него. Ты овощ взрастил — и рад, а Сергию не репа нужна была и не огурцы. Преподобный не грядки разбивал, а ступени храма господня закладывал, о всей Руси пекся… Да. А сирых и обиженных истинно привечал игумен. Любое горе его сердцу близко было. Скорбел о человеках и утешать умел…
Даниил сломил тоненькую ивовую веточку, покусывая, уставился в незримую даль. Взлохмаченные брови его скорбно приподнялись, губы скосила печальная улыбка.
— Сергий… — произнес он.
Даниил взглянул на спящего Андрея, отбросил веточку, поник и задумался.
Семен уважительно молчал, ожидая, пока монах заговорит вновь.
И тот заговорил. Вздернув бороду, кривя сухие губы, словно изобличая кого-то неизвестного мужику.
— Да, из бояр Сергий. Не из последних. А кем смерено, что с отрочества вынес он? Кто всю правду помнит о нем? Отчего с юных лет о монастыре мечтал? Забыли! А надобно знать!
Монах поднялся, подобрал рясу и, отряхивая приставший сор, сердито повторил:
— Надобно!
— Рассказал бы ты о Сергии, — попросил, тоже вставая, Семен. — Право, а?
— Я расскажу! — пообещал Даниил. — Завтра будешь косить?
— Буду.
— Завтра же и расскажу. А сейчас вон куда солнышко-то выкатило…
— Да, заговорились мы с тобой, отче… Эй, Петр! Продери зенки!.. Ма-а-арья-а!
Андрей открыл глаза, увидел среди узких ивовых листиков ровную высокую синеву неба, увидел худые, туго обвернутые онучами ноги Даниила, увидел бегущего по зеленоватой гнилушке рыжего муравья, волокущего куда-то желтоватое яичко, увидел серый комок земли, свалившийся с края канавы, вскочил на ноги, откинул со лба растрепанные волосы и засмеялся, хорошо помня: недавно случилось что-то очень хорошее, но не помня, что, и не желая доискиваться, что же.
Даниил нагнулся, чтобы взять грабли. Жидкие темно-русые косицы съехали с плеч, открыв короткую красную шею. Натянутая на спине рубаха поднялась над портками, под ней резко обозначились бугорки позвонков.
И эти жидкие косицы, и короткая грязная рубаха Даниила, и рыжий муравей, и комок земли — все было чем-то одним, удивительно прекрасным, никогда раньше не ведомым.
— Чего ты? Сон приснился? — ворчливо спросил Даниил.
— Нет. Так…
Голоса крестьян донеслись из-за кустов, послышался и тот, звучный, чуть ленивый, и сразу все припомнилось, снова закружило голову и кольнуло грустью.
— Бери-ка грабли! — посоветовал Даниил. Подсыхая, травы желтеют, и над лугом стелется, беспокоя человека, тонкий аромат увядания.
Монахи, вороша сено, а потом сгребая его в копенки, почти не разговаривали.
Обронит слово один, обронит другой — вот и вся беседа.
Даниил работал угрюмо. Разбуженные мужиком воспоминания тяготили, заставляя раздумывать о происходящем в обители.
Игумен Никон забывал заповеди Сергия. Он принимал в дар земли с крестьянами. Брал вклады бортями, деревнями, живыми душами. Дух стяжательства овладел преподобным. Нарушалась монастырская благость. Обитель начинала походить на боярскую вотчину. Иноки помышляли не о чистоте душ, а о мирских благах. Рассуждали, как тиуны, сколько получат зерна и меда, и, как торгаши, высчитывали, что продать и где, а что попридержать и до какой поры…
Даниил понимал, к чему клонились осторожные расспросы случайного сотрапезника.
Выведывал Семен, каково живется возле монастыря мужикам. Что мог сказать Даниил? Пока им жилось как прежде, а вот как будет житься потом, этого Даниил предрекать не решился. Да и зачем тревожить мужика, уже осевшего здесь?
Однако сознание, что промолчал, не рискнул высказать всего начистоту, унижало, вызывало недовольство собой и гнев на Никона.
Напрасно бормотал Даниил: «…и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий…»
Богородица молитвы не слышала, и гнев Даниила не проходил.
Андрей же, поглядывая на товарища, лишь улыбался. Тревоги Даниила оставались от него скрытыми. О Никоне между ними разговоров еще не возникало, и угрюмость товарища не пугала, не беспокоила.
Вспомнил что-нибудь! Пройдет!
Разве можно всерьез огорчаться воспоминаниями в такой добрый, полный волнующих предчувствий день?
И разве они не вместе, учитель и ученик, только третьего дня удостоенные похвалы приезжавшего в обитель митрополита Киприана?
Вместе!
И Даниил, наверное, не опечален, а просто задумывает новую работу. Наступит срок — он скажет Андрею, что задумал.
И это снова будет радостно.
Будет радостно!
Непременно!
…Монахи закончили сгребать сено раньше крестьян.
— Поможем людям, — сказал Даниил. Задумчиво посматривая в сторону соседей, он не заметил румянца Андрея.
Оба перешли ивняк.
В пять граблей дело заспорилось.
Сбивая копенки, Андрей два раза очутился вдали от всех рядом с Марьей.
Он греб молча, старательно, а движения становились неуверенньши, неточными.
На третий раз Марья скороговоркой бросила:
— Подними глаза-то! Чай, схимы не принял еще…
И засмеялась коротко и приглушенно, с томительным придыханием.
Он вздрогнул, понимая: она смеется для него одного, и замахал граблями впустую.
А Марья, помедлив, протяжно вздохнула и отошла…»
Славу о молодом Андрее Рублеве можно было бы написать так: «Последнюю седмицу июня дождило, но на Коcму и Дамиана стало вёдро, и начался сенокос. В лугах по Консере, на лесных полянах вокруг Маковца весело завжикали косы, опьяняюще запахло поваленной травой, заметались потревоженные птицы.
Косили мужики, сидящие возле монастыря Святой Троицы, косили и монахи.
Игумен отряжал на работу чернецов и послушников помоложе, покрепче. Народ в обители был свычен любому делу, и сейчас, без ряс, в пропотелых рубахах и лаптях-самоплетках, загорелые дюжие иноки походили на простых крестьян.
Только черные, никогда не снимаемые скуфьи отличали их от троицких мужиков, да никогда не мелькал в гуще ряс белый бабий платок.
Но кое-где монастырские и мужицкие покосы сходились вплотную, люди здесь трудились бок о бок и, одинаково наламывая спины, забывали о разделяющей их незримой черте, вместе отдыхали, пили из одного жбана кислый, сворачивающий скулы квас и по-соседски толковали о добром травостое, о притихшей Орде, о кознях великого Новгорода, о Литве, обо всем, чем жила в ту пору Московщина.
Всякие шли разговоры, всякие их вели люди.
На дальней лесной опушке, отгороженные друг от друга грядой невысокого ивняка, косили крестьянская семья и два монаха.
По крестьянской стороне ходили трое: мужик лет сорока, приземистый и квадратный, что колодезный сруб, подросток, такой же коренастый, как мужик, — наверное, его сын, — и молодая, высокая, узкая в бедрах баба — не то хозяйская дочь, не то невестка.
Из монахов один был уже в годах, его голову и бороду тронула седина, второй выглядел совсем юным: темная бородка едва курчавилась, яркие синие глаза смотрели вокруг с мальчишеским любопытством.
Раз высунула из травы серое горлышко обеспокоенная звоном кос старая тетерка, пасущая на воле беспомощный выводок.
Змеиная головка птицы с оранжевой бровью застыла, замерла.
И молодой монах замер, остановил косу на взлете, шепотом позвал товарища:
— Смотри!
— Вижу! — отозвался старший, продолжая косить.
Тетерка скрылась, озабоченно заквохтала, сзывая птенцов, и трава там и сям заколыхалась, будто под ней побежали неслышные ручейки.
— Собираются! — весело крикнул молодой монах. — Обождем! Пусть уведет…
— Ну что ж? Обождем, — согласился его товарищ, усмехаясь.
В усмешке не было ничего обидного, только сказывалась грусть немало испытавшего человека, и завидующего юности и жалеющего ее.
Выводок ушел. Монахи продолжали косьбу. Но молодой, приметив вдруг что-то новое, необычное, снова и снова окликал соседа и показывал глазами то на причудливое облако, то на зеленое золото тронутых солнцем елей, то на спутанную серебряной паутиной кочку.
Видно, его переполняло счастье. Обычное счастье молодости, чувствующей избыток своих сил, убежденной, что мир прекрасен уже потому, что существуешь и видишь щедрые краски земли.
Молодой монах с беззаботной жестокостью торопился приобщить к этому счастью и своего товарища, даже не подозревая, что может причинить ему боль.
Так прошел час, другой.
Работа понемногу захватила молодого монаха, завладела им. И так же самозабвенно, как только что любовался миром, он отдался косьбе: теряя представление о времени, жадно слушая свист отточенного лезвия, ощущая себя навеки слитым с ложащейся под ноги травою, со свежим воздухом, со жгучей росой, с самим солнцем, все сильнее припекающим темя и плечи.
Мускулы размялись. Первая усталость миновала. От нее сохранилось только звонкое напряжение, такое легкое и окрыляющее, что хотелось, чтобы солнце помедлило, роса не просыхала, ряды не кончались, и вызывающе верилось: нет предела твоей силе! Нет!
— Трапезовать! — позвал старший монах.
Он стоял, медленно вытирая косу пучком травы.
Молодой огляделся. Солнце поднялось уже высоко. Дальние лесистые холмы были залиты им до подножий. Тени съежились. Роса пропала. Скошенная трава лежала длинными валами и там, где начали косьбу, тускнела: начинала подсыхать. Стоило только опустить косу, перевести дух, как тело налилось тяжестью. Заныла поясница. Потянуло в тень, в прохладу. Проснулся голод. Во рту пересохло.
Молодой монах выпрямился, развел плечи и не спеша пошел к товарищу.
Снедь лежала возле ивняка. Ивняк рос над мелкой, сухой, в два шага ширины канавкой.
Прячась от солнца, монахи полезли в редкую тень ивняка.
Затрещало и с другой стороны, и вылез к канавке квадратный мужик, а за мужиком показались подросток с молодой бабой.
— Эк оно! — крякнул мужик, завидев иноков и придерживая зацепленную ивняком шапку. — Хлеб да соль, божьи люди… Вишь, на одном месте сошлись!
Он неуверенно улыбнулся, высматривая, куда бы перейти. Наверное, мужик выбрал этот укромный уголок еще загодя и теперь сетовал, что его опередили, но показать свои чувства чернецам не хотел.
Подросток и молодая баба скользнули по инокам взглядами: подросток равнодушно, баба с любопытством, и встали в ивняке, ожидая слова мужика.
Старший из монахов опередил крестьянина.
— Сошлись так сошлись, — добродушно молвил он, усаживаясь на краю канавы и облегченно вытягивая притомившиеся ноги. — Благослови вас господь, православные… Места на всех хватит.
Мужик помялся.
— А не обеспокоим, отцы?
— Грех и вопрошать такое, — отозвался старший монах. — Садись, сыне.
Он принялся развязывать узелок со снедью, а мужик, оглянувшись, снял шапку, сунул ее под мышку, проговорил:
— Ну, коли уж… — опустился на сухие листья и позвал: — Петр, Марья!
Подросток и баба выбрались из кустов, поклонились монахам, сели по обе стороны от мужика.
Старший инок прочел: «Очи всех на тя, господи, уповают…», перекрестились и принялись за еду.
Молодой исподволь поглядывал на подошедших.
Мужик, загорелый до черноты, крепко вдавливал ломоть хлеба в горстку соли, откусывал половину куска враз и жевал, причавкивая, двигая челюстями так, что ерзали и морщины на выпяченном лбу, и толстые прямые брови, и мясистый ноздреватый нос.
Под медвежьими глазками мужика кожа одрябла, свисая усталыми коричневыми складочками.
Крупинки соли осыпались с ломтя на жесткие космы пегой мужицкой бороды, мужик стряхивал их в большую ладонь-лопату, забрасывая в рот, зиявший звериной пастью.
Мужик и всем обликом смахивал на зверя, но зверя прирученного, безобидного и голодного.
Подросток вблизи походил на приземистого мужика.
Баба — иная.
Низко надвинутый платок закрывал ее лоб, но чувствовалось — лоб не выпячен, а лишь слегка покат и ровно переходит к неприметно сдавленным вискам, мягко очерченным большим глазницам.
На левом виске волосы лежат каштановым серпом. Брови, темные и туго изогнутые, у тонкой переносицы широки, a там, где уголки глаз, остры, как ласточкино крыло.
Молодой монах с тревогой подумал, что глаза бабы, потупленные на платок с едой, черны, велики, неспокойны, и, смутясь чего-то, хотел отвести взгляд, не успел и столкнулся с ответным взглядом.
Большие черные глаза бабы волновали.
Она опять потупилась и, усмехаясь, прикусила нижнюю пухлую губу.
Никто этого не заметил, а молодой монах, низко наклонив голову, принялся старательно натирать луком ржаную горбушку.
В ивняке горьковато пахло палым листом, сырой землей. Запах мешался с мягким солнечным ароматом сена, а когда ветерок, завернув, тянул из лесу, — с терпкой свежестью дремучих боров. Ветерок перебирал листву. Светлые пятнышки дрожали, сливались, разбегались и сходились вновь.
— А что-то я раньше не встречал тебя, — сказал старший инок приземистому мужику. — Аль из новых?
— Из новых, — отозвался мужик. — По весне и пришли.
— К самой пахоте, стало быть, — покачал головой чернец. — Тебя как звать-то?
— Семеном.
— Издалека шел, Семен?
— Издаля… Брянск слышали, поди?
— Слышали.
— Вот от Брянска и шагали.
— Не ближний путь! Не ближний!
— От своей беды и дальше забежал бы! — с неожиданным ожесточением бросил, словно огрызнулся, мужик, прижимая каравай к выпуклой, подобно щиту, груди и отваливая новый ломоть хлеба.
Молодой монах невольно покосился на Семена, но старший, не обращая внимания на резкость, только кивнул и терпеливо заметил:
— Места-то под Брянском добрые.
Мужик глянул исподлобья.
— Сам… не оттель?
— Нет. Проходить случалось.
— А-а-а!..
Грубое темное лицо Семена покривилось в едкой улыбке:
— Прохожему везде рай. А ты попробуй-ка у нас за сохой походить.
И спохватился.
— Не в обиду вам, святые отцы…
— Господь с тобой, — поднял ладонь чернец. — Да не зови нас святыми… Мое имя Даниил, а его Андрей. Андрей-то послушничает еще. Величать нас негоже… А тебя понимаю. Много людей сюда тянется.
— Куда же еще-то? — подхватил мужик. — Места у вас тихие, князья крепки, земля нетронута… Вот и идем! Несладко обжитое, отчее бросать, да что делать? Князей у нас — по трое на выселок. Про бояр не говорю. Тех, как воробьев на мякине. Все норовят друг дружке шею свернуть, все ополчаются, ратью ходят… Вот и паши, потей, рви жилы! Так закрома-то выскребут, что в пору лавки грызть. Кору редкую зиму в квашне не терли… Вот и поклонишься тиуну боярскому. Но раз поклонился — навек закабалился. А кому охота за мешок проса волю продавать?! Не-е-ет! Я и ушел. Ушел! Авось тут оживу. Должна же где-то правда божья быть!
Даниил сочувственно вздохнул.
— Господу прилежи, — посоветовал он. — Сказано же в евангелии: аз есмь дверь, мною аще кто внидет, спасется, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет…
— Так, так, — согласился мужик. — Так. На господа и надежа. Как же! Крещеные, чать…
— И много вас пришло? — помолчав, снова спросил Даниил.
— Пять семей.
— Добром ли добрались?
— Какое там… Кои в пути отстали, кои коней потеряли, кои хворые прибрели… Вон у ней (мужик кивнул в сторону молодой бабы) муж, старший сын мой, совсем плох. Он еще летошный год занедужил, а ныне вовсе не работник стал. Не вышла дорога ему. Лежнем лежит. Видать, и деток им господь теперь не даст…
Молодая баба вспыхнула, как сухая можжевеловая ветка, в костре, прикрыла лицо платком.
Даниил кашлянул, покосился на Андрея. Тот подобрал палочку, начал ломать.
— Пути господни неисповедимы, — поспешил Даниил. — Горе, везде горе. Терпеть надо… Ну, оттрапезовали, православные? Возблагодарим же отца небесного…
Узелки были завязаны. Подросток зевнул.
— Отдохнуть, пожалуй, — вторя парню, проговорил Даниил.
— И то, — согласился мужик. — Марья, ступай сосни где ни то, а мы тут… Да недалече уходи-то!
— Ладно, — сказала молодая баба, — я рядом… Взбудите.
Голос у Марьи был звучен, но говорила она протяжно, будто лениво потягивалась со сна.
Встала, отряхнула одежу, отошла… Треск мелких сучьев. Шорох листьев…
— Грехи наши… — непонятно к чему вздохнул Даниил. — Ложись, брат, Подстели рясу и ложись… За сон не взыщется.
Мужики и монахи пристроились на дне канавки.
Андрей долго лежал вытянувшись, смежив веки, пристроив голову на запрокинутых руках.
По телу растекалась мягкая волна покоя.
В зажмуренных глазах плыли разноцветные круги, мельтешили черные искры.
В июле птицы не поют, и утренняя тишина была глубока и неподвижна, как речной омут.
Может быть, поэтому стояли в ушах посвист косы, влажные вздохи цветов и трав, шелест зоревого ветра в кустарнике.
И опять всплыли перед взором каштановая прядь, прикушенная в тайной усмешке розовая губа, запламеневшие щеки. Протяжный голос зазвучал, будто позвал…
Оглушенный, он не понимал, что с ним.
Бездна человеческого одиночества вдруг открылась молодому монаху. Рывком поднялся он на локти.
Но почему-то возникшая в сердце боль была праздничной и светлой.
— Господи! — прошептал Андрей. — Господи!
Упал лицом вниз и, испытывая необъяснимое облегчение от набежавших слез, заснул вдруг легко и крепко, не успев заметить, что засыпает.
Приземистый мужик очнулся первым. Въевшаяся в душу тревога за семью, привычное беспокойство за ее завтрашний день, за кусок хлеба словно подтолкнули Семена жестким кулаком, и он сел на армяке, испуганно соображая, долго ли проспал, не упущено ли время ворошить.
Но солнце, не успевшее встать на полдень, успокоило мужика. Он утер запекшуюся в углах рта слюну, помял ладонью лицо и огляделся.
Сын лежал рядом, оттопырив толстые губы, и посапывал. Старший из монахов накрыл лицо платком, не шевелился. Молодой во сне улыбался.
«Ладен, — подумалось Семену. — На такого любая девка загляделась бы, а он, вишь, от мира ушел. Видать, жизнь не задалась или знамение получил… Кто его знает? Тут народ-то особый».
Семен много слышал о Троицком монастыре, об его игуменах и братии, о совершавшихся в обители чудесах. Место было святое.
Семен и осел здесь с потаенной надеждой на то, что близость к монастырю, к отмеченным богом подвижникам как-то поможет в жизни.
Авось и на долю Семеновой семьи выпадет частица благодати!
Случись неурожай, или мор на скотину нападет, или пожар, или еще какое лихо — тут не сгинешь, не закабалишься. Выручат! Доброй молве о троицких монахах Семен верил: не больно часто она, и коли держится, значит справедлива. А кроме того, ему хотелось, чтобы все так и оказалось, как говорили. Должно же повезти, наконец, должны же люди где-то по-христиански поступать, бога помнить!
Иначе хоть нож бери…
Семен услышал — старший из монахов заворочался, тихонько окликнул:
— Не спишь, отче?
Монах откинул платок, тоже сел.
— Вздремнул малость… Гляди, солнце-то…
Отвязав от пояса медный гребешок, Даниил принялся расчесывать бороду.
— А мы и так, — пошутил Семен, запуская в пегие космы короткопалую пятерню. — А что, Даниил, спросить хочу… Давно ты здесь?
— Давно, — просто ответил чернец.
— Так, так… Стало быть, и Сергия… игумена Сергия видеть сподобился?
— Постриг от него принял.
— Вона!
Семен заерзал, смущенно поскреб бровь.
— И что же он… игумен-то? — набравшись, наконец, духу, спросил Семен. — Как про подвиги его говорят… Прост, говорят, был Сергий?
— Прост, — подтвердил Даниил. — Прост и чист.
— Так, так, — торопливо сказал Семен. — Понимаю. Вот, вишь, и чудеса-то не зря. Так.
Даниил вскинул бурые веки.
— Ты о чудесах что слыхал?
— Ну, как же… Вот творил их игумен… А?
Чернец покачал головой, привязал гребешок к ремню и сказал:
— Пустые это слова. Забудь их. Сергий чудес не творил. Не любил, кто и речь такую поведет…
Мужик растерянно глядел на монаха.
— Да как же… — начал он было и осекся.
Уж не ослышался ли? Мыслимо ли, чтоб инок наяву подобное о чудотворце молвил? Что же тогда, если…
Даниил уловил смятение собеседника.
— Аще не господь созиждет дом, всуе трудящася зиждущий, — спокойно произнес Даниил слова псалма, — аще не господь сохранит град, всуе бде стрегий… Забыл? Никто из вас не помнит этого! А Сергий всегда повторял. И все, что свершалось в игуменство его, божьей волей свершалось. Уразумел?
Семен, напряженно слушавший монаха, облегченно вздохнул.
— Так, так! Господи, а я-то… Так! Истинно, на все милость спасителя… Так!
Он провел ладонью по вспотевшему лбу.
— Вот она, тьма-то, как глаза застит! Гляди — и согрешишь по неведению. Понимаю… А верно, что Сергий родом из бояр был?
— Из ростовских.
— Так, так… А не из простого люда?
— Нет. Из бояр. Почему спрашиваешь?
— Всякое слыхал, оттого… Нужду, говорят, понимал игумен. Вот оно и…
— Суесловишь ты, Семен, — упрекнул Даниил. — Все в голове твоей перепутано. Послушать тебя — божий свет для одних убогих зажжен, любой горшечник константинопольского патриарха благостнее. Погрязли все в счетах и помыслах земных. О вечной жизни и подумать некогда.
— Это верно, грешны… — признал Семен. — Да ведь вот Сергий-то… Сам пахал, сам огороды копал, говорят… Ну, и думается, стало быть…
— Опять за свое, — покачал головой Даниил. — Огороды огородами. Огород, поди, и ты копаешь. Что ж, какой подвиг здесь? Дело-то не в том, чтоб заступом ковырять, а в том, зачем браться за него. Ты овощ взрастил — и рад, а Сергию не репа нужна была и не огурцы. Преподобный не грядки разбивал, а ступени храма господня закладывал, о всей Руси пекся… Да. А сирых и обиженных истинно привечал игумен. Любое горе его сердцу близко было. Скорбел о человеках и утешать умел…
Даниил сломил тоненькую ивовую веточку, покусывая, уставился в незримую даль. Взлохмаченные брови его скорбно приподнялись, губы скосила печальная улыбка.
— Сергий… — произнес он.
Даниил взглянул на спящего Андрея, отбросил веточку, поник и задумался.
Семен уважительно молчал, ожидая, пока монах заговорит вновь.
И тот заговорил. Вздернув бороду, кривя сухие губы, словно изобличая кого-то неизвестного мужику.
— Да, из бояр Сергий. Не из последних. А кем смерено, что с отрочества вынес он? Кто всю правду помнит о нем? Отчего с юных лет о монастыре мечтал? Забыли! А надобно знать!
Монах поднялся, подобрал рясу и, отряхивая приставший сор, сердито повторил:
— Надобно!
— Рассказал бы ты о Сергии, — попросил, тоже вставая, Семен. — Право, а?
— Я расскажу! — пообещал Даниил. — Завтра будешь косить?
— Буду.
— Завтра же и расскажу. А сейчас вон куда солнышко-то выкатило…
— Да, заговорились мы с тобой, отче… Эй, Петр! Продери зенки!.. Ма-а-арья-а!
Андрей открыл глаза, увидел среди узких ивовых листиков ровную высокую синеву неба, увидел худые, туго обвернутые онучами ноги Даниила, увидел бегущего по зеленоватой гнилушке рыжего муравья, волокущего куда-то желтоватое яичко, увидел серый комок земли, свалившийся с края канавы, вскочил на ноги, откинул со лба растрепанные волосы и засмеялся, хорошо помня: недавно случилось что-то очень хорошее, но не помня, что, и не желая доискиваться, что же.
Даниил нагнулся, чтобы взять грабли. Жидкие темно-русые косицы съехали с плеч, открыв короткую красную шею. Натянутая на спине рубаха поднялась над портками, под ней резко обозначились бугорки позвонков.
И эти жидкие косицы, и короткая грязная рубаха Даниила, и рыжий муравей, и комок земли — все было чем-то одним, удивительно прекрасным, никогда раньше не ведомым.
— Чего ты? Сон приснился? — ворчливо спросил Даниил.
— Нет. Так…
Голоса крестьян донеслись из-за кустов, послышался и тот, звучный, чуть ленивый, и сразу все припомнилось, снова закружило голову и кольнуло грустью.
— Бери-ка грабли! — посоветовал Даниил. Подсыхая, травы желтеют, и над лугом стелется, беспокоя человека, тонкий аромат увядания.
Монахи, вороша сено, а потом сгребая его в копенки, почти не разговаривали.
Обронит слово один, обронит другой — вот и вся беседа.
Даниил работал угрюмо. Разбуженные мужиком воспоминания тяготили, заставляя раздумывать о происходящем в обители.
Игумен Никон забывал заповеди Сергия. Он принимал в дар земли с крестьянами. Брал вклады бортями, деревнями, живыми душами. Дух стяжательства овладел преподобным. Нарушалась монастырская благость. Обитель начинала походить на боярскую вотчину. Иноки помышляли не о чистоте душ, а о мирских благах. Рассуждали, как тиуны, сколько получат зерна и меда, и, как торгаши, высчитывали, что продать и где, а что попридержать и до какой поры…
Даниил понимал, к чему клонились осторожные расспросы случайного сотрапезника.
Выведывал Семен, каково живется возле монастыря мужикам. Что мог сказать Даниил? Пока им жилось как прежде, а вот как будет житься потом, этого Даниил предрекать не решился. Да и зачем тревожить мужика, уже осевшего здесь?
Однако сознание, что промолчал, не рискнул высказать всего начистоту, унижало, вызывало недовольство собой и гнев на Никона.
Напрасно бормотал Даниил: «…и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий…»
Богородица молитвы не слышала, и гнев Даниила не проходил.
Андрей же, поглядывая на товарища, лишь улыбался. Тревоги Даниила оставались от него скрытыми. О Никоне между ними разговоров еще не возникало, и угрюмость товарища не пугала, не беспокоила.
Вспомнил что-нибудь! Пройдет!
Разве можно всерьез огорчаться воспоминаниями в такой добрый, полный волнующих предчувствий день?
И разве они не вместе, учитель и ученик, только третьего дня удостоенные похвалы приезжавшего в обитель митрополита Киприана?
Вместе!
И Даниил, наверное, не опечален, а просто задумывает новую работу. Наступит срок — он скажет Андрею, что задумал.
И это снова будет радостно.
Будет радостно!
Непременно!
…Монахи закончили сгребать сено раньше крестьян.
— Поможем людям, — сказал Даниил. Задумчиво посматривая в сторону соседей, он не заметил румянца Андрея.
Оба перешли ивняк.
В пять граблей дело заспорилось.
Сбивая копенки, Андрей два раза очутился вдали от всех рядом с Марьей.
Он греб молча, старательно, а движения становились неуверенньши, неточными.
На третий раз Марья скороговоркой бросила:
— Подними глаза-то! Чай, схимы не принял еще…
И засмеялась коротко и приглушенно, с томительным придыханием.
Он вздрогнул, понимая: она смеется для него одного, и замахал граблями впустую.
А Марья, помедлив, протяжно вздохнула и отошла…»
…И как бы потом ни продолжал романист эту главу, он, желая остаться верным действительности искусства, правде поэтического характера Андрея Рублева, должен был бы показать, как усилием воли молодой послушник подавляет свое первое чувство к женщине, отрекается от любви к ней во имя высоко, по-юношески чисто понимаемой любви к людям. Справедливость такого сюжетного поворота не могла бы вызвать сомнений, Мы не знаем, кого полюбил в юности Андрей Рублев, но мы не имеем права отказывать ему в этом прекрасном чувстве так же, как не можем забыть, что его любовь была бы любовью человека, избравшего трудный путь подвижничества. Живописец жил, искал, творил почти шестьсот лет назад. Представления о справедливости, о нравственном долге, о способах достижения великой цели — всеобщего блаженства — он мог составить, лишь исходя из опыта прежних поколений. А этот печальный опыт учил, что мир непознаваем, что горькая судьба людей — следствие первородного греха, что высший долг человека и высшая мудрость его — терпение. Средневековое общество Руси не в состоянии было еще искать начала и концы человеческих невзгод в условиях собственного существования. Оно ищет эти начала и концы в несовершенстве личности и верит, что исправить мир можно одним лишь духовным приобщением каждого к «истинному» учению. Но в таком случае, если быть последовательным и искренним, надо не только провозглашать эти истины, но и следовать им на деле! Вот почему для некоторых русских людей XIV и XV веков «уход от мира» — это прежде всего подвиг во имя человека, сознательное отречение от житейских благ с тем, чтобы проповедью «любви», подкрепленной силой личного примера, «исправить» людской род, избавить его от грядущих бед, «очистить» от пороков. Все творчество Андрея Рублева, исполненное любви к людям, свидетельствует, что он воспринимал монашество именно как «служение человеку». Так должен был он пожертвовать и первой любовью своей. Смешно осуждать это. Можно лишь взволнованно думать о погибшем чувстве, о чьей-то горькой судьбе, о чьих-то нам неведомых слезах и лишь гадать, в лике какой из жен икон и росписей своих сохранил художник неповторимые черты той, что стала когда-то источником его вечной радости и муки. И вот восторженный, глубоко и искренне верующий, готовый во имя веры подавить самое яркое влечение, сталкивается он лицом к лицу с «прозой» жизни, воплощаемой в Никоне. Игумен Святой Троицы хочет строить благополучие церкви на труде и поте меньших братьев — крестьян, заводит холопов. Это волнует часть братии. И неминуемо вызывает смятение, негодующий взрыв в душах Андрея и Даниила. В их глазах Никон — отступник, нарушитель заповедей Сергия, учившего, что есть можно лишь тот кусок хлеба, что заработан самим тобою. Летописи и жития промолчали о том, что происходит в ту пору между игуменом и двумя живописцами. Лишь глухой отзвук какой-то крепкой ссоры слышится в рассказе об истории росписи Троицкого собора. Но уже можно представить, что и как происходило. Воспользовавшись приглашением настоятеля московского Спасо-Андрониковского монастыря украсить новый храм, Даниил и Андрей уходят из Святой Троицы. Видимо, их ждут обратно. Но проходят все сроки, а мастера не возвращаются. Заезжает ли за ними сам Никон, посылает ли кого-нибудь, сказать трудно. Но так или иначе Даниил и Андрей объявляют, что обратно не вернутся, и, возможно, прямо высказывают почему. Для Никона это оскорбление. Имеющий огромное влияние и огромные связи, игумен наверняка принимает какие-то меры, чтобы укротить и наказать строптивых. Как известно, успеха он не добивается. Наверное, работа художников высоко оценена митрополитом, а возможно и великим князем, и они берут мастеров под защиту. Но без неприятностей, тревог не обходится, и связь с Никоном, со Святой Троицей порывается резко и надолго — на двадцать с лишним лет. Начинается новый период в жизни и работе — московский.
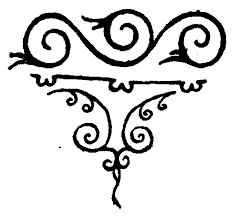
ГЛАВА ПЯТАЯ
 Ненасытная жадность.
С этим ощущением он просыпается. С ним засыпает, жалея, что человеку не отпущено сил по неделям не смыкать глаз, не пить, не есть, только смотреть, смотреть, смотреть, существуя счастьем увиденного.
Стоит бабье лето. Солнце, напоследок особенно щедрое, напряженно сияет в медлительных нитях летучей паутины, в лужах вчерашнего дождя, в темной зелени отав, в серебряной кольчуге Яузы и в ослепительно белых ризах близкой Москвы, спокойно и уверенно утвердившейся на холмах меж Москвой-рекой и Неглинной.
Андрей чувствует, что задыхается. Там, в Москве, он увидел свет, там жили, смеялись, горевали, там погибли его отец и мать.
Отец и мать… Он их никогда не видел. Но Андрею кажется, что на людных московских улицах он еще встретит если не отца и мать, то похожих, близких, родных людей. Москва властно зовет Андрея. И нет нужды, что в скитаниях по городу среди занятого своим делом народа он не находит и следов родного очага… Ахает двухпудовым молотом кузнец. Мятущееся пламя выхватывает из тьмы кузни то край кожаного передника, то заросшую густым волосом щеку, то взбухшие мускулы руки.
Гулко, весело, поддразнивая друг друга, стучат молотки бондарей. Кисло пахнут замоченные в дубовых чанах шкуры у дворов кожевников.
Проплыла от колодца к дому, выгнув спину под коромыслом, дородная молодица, даже не глянула, даже губ не поджала, словно не заметила. Поставь перед такой стену, пройдет насквозь и шага не замедлит.
А вон та обожгла взглядом и опять смиренно перебирает раскинутые бойким купцом полотна, щупает, переворачивает ткань, но ясно — ко всему прислушивается, все замечает и косит, косит тебе в спину осторожными глазами.
Шевелится, орет, гудит, пытаясь сдвинуться с места и не двигаясь никуда, огромный торг. Возы с капустой, репой, сеном, с мешками ржи и овса, дуги, крашеные и простые, звонкие, как гусли, певучьи, как скоморошьи дудки, а там — корчаги, паневы, сафьян, пуговицы вольячные, перстеньки из скани — девичья радость, блюда резные, блюда с финифтью, пироги мясные и рыбные, щи да лапша, да духовитые каши, да квасы, да сбитень.
— Купи! Купи!
Грохочет на бревенчатой мостовой расписной боярский возок. Щелкают бичи над запряженными гуськом конями.
— Э-ге-ге-ге!
Из оконца рука в широком бархатном рукаве сыплет милостыню. Нищие ползут на коленях, хватая рассыпанную подачку.
— Спаси тебя господи… Спаси тебя господи…
А за углом свалка. Кого-то бьют. На помощь человек не зовет. Видно, тать.
Тать помощи не ждет.
Синее небо. Легкая, но крепкая паутина. Дымящиеся посреди улиц свежие конские котяхи. Толчея, говор, шум, и вдруг над резными коньками теремов, над шумом и говором — бум! бум! бум!
Обрывая людей на полуслове, с великокняжеского двора несут густой звон недавно устроенные сербским мастером Лазарем часы — хитрейшая штука, знающая, когда полдень и полночь, размеряющая день на равные части и устрашающая неразумных…
Отбили часы, и снова кипит, живет Москва! Живет!
И Андрей чувствует: и давешний кузнец, и бондари, и величавая баба с ведрами, и та, другая, с полотном, и корявая мостовая, и Лазаревы часы, и терема, и это небо — все: отец и мать, родина, то, что дается человеку однажды и навсегда…
Люди оборачиваются вслед молодому чернецу, бредущему не разбирая дороги, будто ослепшему и блаженно улыбающемуся всем встречным.
Юродивый, что ли?
И на всякий случай крестятся.
А он ходит от терема к терему, от одной тесовой церквицы к другой и каждый раз открывает новые чудеса: там удивительной резьбы крыльцо с изображениями зверей и птиц, там невиданного письма икону, там заставляющую трепетать его сердце роспись стен.
Андрей ласково усмехается наивным, ярко и аляповато раскрашенным зверюшкам на крылечках домов.
Скорбно поднимает брови перед ликом богоматери, чьи печальные глаза и распахнутые руки говорят о готовности отдать сына человеческому роду во искупление вечных грехов.
Долго стоит в Архангельском соборе, переводя взор с икон греческого письма на иконы русских мастеров.
Щурится. Покусывает губу.
Византийцы рисуют лучше, и краски у них согласней. Но наши — мягче, добрей, хотя и не выучились находить для своей доброты нужных сочетаний линий и цветов.
И вдобавок у тех и других нету чего-то единого, цельного, что ищет он сам.
У кого же учиться?
Среди суровых, аскетических ликов, нарисованных выходцами из Византии, яркими искрами сверкают иконы русского северного письма.
Говорят, их делали новгородцы.
Святые и подвижники новгородцев ближе сердцу Андрея. В них есть человечность, они глядят на людей добрыми, участливыми глазами и сами просты. Но порой чересчур просты и опять написаны менее искусно, чем греческие.
И не могут, не должны быть святые, думает Андрей, столь земными и немудреными.
Ведь им открыты истины и тайны бога, они знают, к чему вести людей, а у новгородцев апостолы и отцы церкви смахивают на рыбарей и пахарей, каких встретишь на каждом шагу.
Истина же на земле не валяется, понять жизнь и возвыситься до подвига может — увы! — не всякий рыбарь и пахарь.
Простой люд невежествен, блуждает по миру с закрытыми очами и нуждается в поводырях.
Новгородцы правы только человечностью, но не правы воплощением ее.
Нет. Так писать нельзя.
Но как?
Как?
В это время судьба сталкивает Андрея Рублева с живописью Феофана Грека и с самим замечательным художником.
Это как вспышка молнии, как внезапный удар грома, способные смять, смутить, подчинить себе любую недюжинную натуру.
Это искусство, какого еще не было и какое невозможно было предполагать.
Феофан Грек оглушает.
Он столь необычен, что спор с ним кажется невозможным, а твой собственный дар, все сделанное тобою до сих пор — малым и ничтожным. И первые дни после знакомства с работами Феофана Андрей ходит разбитый, почти больной и не может прикоснуться к краскам.
Не меньше его смущен и Даниил.
Подобной смелости не знали ни тот, ни другой, хотя и слышали о Феофане много еще задолго до прибытия в Москву.
Воистину, одно — слушать рассказы, другое — узреть чудо самим.
Феофан же Грек — подлинное чудо.
Не зря Москва бредит им, и любой сбитенщик, последняя просвирня знают художника в лицо, а знатные люди почитают за счастье посмотреть, как пишет старый мастер.
Говорят, Феофана это не смущает, он умеет работать даже окруженный толпой и в это время разговаривает с людьми, шутит будто ни в чем не бывало.
И пишет, не заглядывая ни в какие старые прописи, а так, как самому подумалось и увиделось.
Уж это-то вне сомнений. Боги и подвижники Феофана ничем не похожи на богов и подвижников других иконописцев. Каждый лик — феофановский лик, и его не спутаешь с иными.
Нет! Не спутаешь!
Москва славит Феофана. Иконописцы старательно перерисовывают его дивные образы, надеясь усердным подражанием постичь тайну поражающего сердце искусства.
А Андрей Рублев не прикасается к краскам.
Еще и еще разглядывает работы Грека.
Молчит.
Мечется ночами по келье.
Даже с Даниилом разговаривает отрывисто.
Бросается к писанию, а от писания — к своим прежним работам.
Иногда потерянно сидит, уронив большие руки меж коленей и безучастно глядя в одну точку.
Но потом вскакивает и нетерпеливо собирается в новое хождение по храмам…
И однажды Даниил застает его на берегу Яузы грызущим сухую травинку, усталым, но спокойно улыбчатым, просветленным и тихим.
Он понял.
Он одержал победу.
Одержал победу задолго до боя, который ему еще предстоит и в котором победителем все-таки признают Феофана.
Он стоит в преддверии зрелости.
Ненасытная жадность.
С этим ощущением он просыпается. С ним засыпает, жалея, что человеку не отпущено сил по неделям не смыкать глаз, не пить, не есть, только смотреть, смотреть, смотреть, существуя счастьем увиденного.
Стоит бабье лето. Солнце, напоследок особенно щедрое, напряженно сияет в медлительных нитях летучей паутины, в лужах вчерашнего дождя, в темной зелени отав, в серебряной кольчуге Яузы и в ослепительно белых ризах близкой Москвы, спокойно и уверенно утвердившейся на холмах меж Москвой-рекой и Неглинной.
Андрей чувствует, что задыхается. Там, в Москве, он увидел свет, там жили, смеялись, горевали, там погибли его отец и мать.
Отец и мать… Он их никогда не видел. Но Андрею кажется, что на людных московских улицах он еще встретит если не отца и мать, то похожих, близких, родных людей. Москва властно зовет Андрея. И нет нужды, что в скитаниях по городу среди занятого своим делом народа он не находит и следов родного очага… Ахает двухпудовым молотом кузнец. Мятущееся пламя выхватывает из тьмы кузни то край кожаного передника, то заросшую густым волосом щеку, то взбухшие мускулы руки.
Гулко, весело, поддразнивая друг друга, стучат молотки бондарей. Кисло пахнут замоченные в дубовых чанах шкуры у дворов кожевников.
Проплыла от колодца к дому, выгнув спину под коромыслом, дородная молодица, даже не глянула, даже губ не поджала, словно не заметила. Поставь перед такой стену, пройдет насквозь и шага не замедлит.
А вон та обожгла взглядом и опять смиренно перебирает раскинутые бойким купцом полотна, щупает, переворачивает ткань, но ясно — ко всему прислушивается, все замечает и косит, косит тебе в спину осторожными глазами.
Шевелится, орет, гудит, пытаясь сдвинуться с места и не двигаясь никуда, огромный торг. Возы с капустой, репой, сеном, с мешками ржи и овса, дуги, крашеные и простые, звонкие, как гусли, певучьи, как скоморошьи дудки, а там — корчаги, паневы, сафьян, пуговицы вольячные, перстеньки из скани — девичья радость, блюда резные, блюда с финифтью, пироги мясные и рыбные, щи да лапша, да духовитые каши, да квасы, да сбитень.
— Купи! Купи!
Грохочет на бревенчатой мостовой расписной боярский возок. Щелкают бичи над запряженными гуськом конями.
— Э-ге-ге-ге!
Из оконца рука в широком бархатном рукаве сыплет милостыню. Нищие ползут на коленях, хватая рассыпанную подачку.
— Спаси тебя господи… Спаси тебя господи…
А за углом свалка. Кого-то бьют. На помощь человек не зовет. Видно, тать.
Тать помощи не ждет.
Синее небо. Легкая, но крепкая паутина. Дымящиеся посреди улиц свежие конские котяхи. Толчея, говор, шум, и вдруг над резными коньками теремов, над шумом и говором — бум! бум! бум!
Обрывая людей на полуслове, с великокняжеского двора несут густой звон недавно устроенные сербским мастером Лазарем часы — хитрейшая штука, знающая, когда полдень и полночь, размеряющая день на равные части и устрашающая неразумных…
Отбили часы, и снова кипит, живет Москва! Живет!
И Андрей чувствует: и давешний кузнец, и бондари, и величавая баба с ведрами, и та, другая, с полотном, и корявая мостовая, и Лазаревы часы, и терема, и это небо — все: отец и мать, родина, то, что дается человеку однажды и навсегда…
Люди оборачиваются вслед молодому чернецу, бредущему не разбирая дороги, будто ослепшему и блаженно улыбающемуся всем встречным.
Юродивый, что ли?
И на всякий случай крестятся.
А он ходит от терема к терему, от одной тесовой церквицы к другой и каждый раз открывает новые чудеса: там удивительной резьбы крыльцо с изображениями зверей и птиц, там невиданного письма икону, там заставляющую трепетать его сердце роспись стен.
Андрей ласково усмехается наивным, ярко и аляповато раскрашенным зверюшкам на крылечках домов.
Скорбно поднимает брови перед ликом богоматери, чьи печальные глаза и распахнутые руки говорят о готовности отдать сына человеческому роду во искупление вечных грехов.
Долго стоит в Архангельском соборе, переводя взор с икон греческого письма на иконы русских мастеров.
Щурится. Покусывает губу.
Византийцы рисуют лучше, и краски у них согласней. Но наши — мягче, добрей, хотя и не выучились находить для своей доброты нужных сочетаний линий и цветов.
И вдобавок у тех и других нету чего-то единого, цельного, что ищет он сам.
У кого же учиться?
Среди суровых, аскетических ликов, нарисованных выходцами из Византии, яркими искрами сверкают иконы русского северного письма.
Говорят, их делали новгородцы.
Святые и подвижники новгородцев ближе сердцу Андрея. В них есть человечность, они глядят на людей добрыми, участливыми глазами и сами просты. Но порой чересчур просты и опять написаны менее искусно, чем греческие.
И не могут, не должны быть святые, думает Андрей, столь земными и немудреными.
Ведь им открыты истины и тайны бога, они знают, к чему вести людей, а у новгородцев апостолы и отцы церкви смахивают на рыбарей и пахарей, каких встретишь на каждом шагу.
Истина же на земле не валяется, понять жизнь и возвыситься до подвига может — увы! — не всякий рыбарь и пахарь.
Простой люд невежествен, блуждает по миру с закрытыми очами и нуждается в поводырях.
Новгородцы правы только человечностью, но не правы воплощением ее.
Нет. Так писать нельзя.
Но как?
Как?
В это время судьба сталкивает Андрея Рублева с живописью Феофана Грека и с самим замечательным художником.
Это как вспышка молнии, как внезапный удар грома, способные смять, смутить, подчинить себе любую недюжинную натуру.
Это искусство, какого еще не было и какое невозможно было предполагать.
Феофан Грек оглушает.
Он столь необычен, что спор с ним кажется невозможным, а твой собственный дар, все сделанное тобою до сих пор — малым и ничтожным. И первые дни после знакомства с работами Феофана Андрей ходит разбитый, почти больной и не может прикоснуться к краскам.
Не меньше его смущен и Даниил.
Подобной смелости не знали ни тот, ни другой, хотя и слышали о Феофане много еще задолго до прибытия в Москву.
Воистину, одно — слушать рассказы, другое — узреть чудо самим.
Феофан же Грек — подлинное чудо.
Не зря Москва бредит им, и любой сбитенщик, последняя просвирня знают художника в лицо, а знатные люди почитают за счастье посмотреть, как пишет старый мастер.
Говорят, Феофана это не смущает, он умеет работать даже окруженный толпой и в это время разговаривает с людьми, шутит будто ни в чем не бывало.
И пишет, не заглядывая ни в какие старые прописи, а так, как самому подумалось и увиделось.
Уж это-то вне сомнений. Боги и подвижники Феофана ничем не похожи на богов и подвижников других иконописцев. Каждый лик — феофановский лик, и его не спутаешь с иными.
Нет! Не спутаешь!
Москва славит Феофана. Иконописцы старательно перерисовывают его дивные образы, надеясь усердным подражанием постичь тайну поражающего сердце искусства.
А Андрей Рублев не прикасается к краскам.
Еще и еще разглядывает работы Грека.
Молчит.
Мечется ночами по келье.
Даже с Даниилом разговаривает отрывисто.
Бросается к писанию, а от писания — к своим прежним работам.
Иногда потерянно сидит, уронив большие руки меж коленей и безучастно глядя в одну точку.
Но потом вскакивает и нетерпеливо собирается в новое хождение по храмам…
И однажды Даниил застает его на берегу Яузы грызущим сухую травинку, усталым, но спокойно улыбчатым, просветленным и тихим.
Он понял.
Он одержал победу.
Одержал победу задолго до боя, который ему еще предстоит и в котором победителем все-таки признают Феофана.
Он стоит в преддверии зрелости.
У нас могут еще существовать сомнения относительно характера Андрея Рублева и внешних проявлений этого характера в повседневной жизни, но не может быть и нет сомнений в основных мотивах и звучании его раннего творчества. Так называемое «Евангелие Хитрово», возможно украшенное Андреем Рублевым еще в пору послушания у Никона, открывает внутренний мир живописца достаточно полно и широко, показывает истоки его творческой манеры и ее самое вполне глубоко. В инициалах и миниатюрах «Евангелия» на первый план прежде всего выступают мягкость, нежность художника как в изображении явлений живого мира, так и в передаче символов евангелистов. Инициалы, выполненные в виде фигурок птиц, змей и фантастических животных, исключительно изящны, и это благородство, эта жизненность формы, как всегда в подлинном искусстве, делают даже отвратительных гадов и драконов приятными для глаза, привлекают к себе, пробуждают высокоэстетические чувства. Орел — символ евангелиста Иоанна — похож у Рублева на кроткого голубя. И дело, конечно, не в том, что молодой живописец никогда не видел живого орла. Если он знал античные мотивы, отраженные им в инициалах, то мог видеть и реалистичные рисунки орлов, представлял себе этих могучих, царственных птиц в конце концов хотя бы по иописаниям. И не в том дело, что Рублев не сумел с достоверностью воплотить подлинный облик сильной птицы на пергаменте. Рисовал Рублев и в эту пору отлично. Но просто он считал необходимым и орлу придать черты доброты, безобидности, мягкости. Считал необходимым! А изображение ангела — символа евангелиста Матфея — не зря расценивается искусствоведами самой замечательной из миниатюр «Евангелия Хитрово». Возможно, именно тут Андрей Рублев нашел впервые тот мотив, который станет определяющим в его шедеврах, — композиционный мотив круга. Образ чистой, неувядающей красоты, кудрявый юноша вписан Андреем Рублевым в точный круг очень гармонично. Контур обрамления как бы обращает стремительное движение ангела в умиротворенный покой, подчеркивает неизменность изменчивого, вечность преходящего. Тонкие оттенки голубого и лилового обращают фигуру ангела в парящую, невесомую. Чтобы показать самостоятельность Андрея Рублева в решении такой трудной темы, очень удачно сравнивают его миниатюру с ангелом из иконы «Благовещение» конца XIV века, носящую ярко выраженный византийский характер. Порывистая фигура ангела из «Благовещения» вся в беспокойных бликах, вся иссечена ими, ее стремительные, прямые линии призваны усилить общее впечатление внутренней взволнованности вестника, его беспокойство и духовную напряженность. Это не случайно. В старой иконе сказалась переживаемая византийским искусством трудная эпоха схоластической, мертвой мысли, эпоха упадка, что не могло не тревожить живописцев, не могло не помешать им воспринимать мир как нечто целое, гармоничное в своих противоречиях. Рублев, воспитанный на легендах о Сергии, на рассказах о небывалом единении русских людей в годину Мамаева нашествия и видящий в порыве 1380 года возможность и пример общечеловеческого братства, чужд византийской неуравновешенности, тревоги и трагичности. Его вера крепка. Убежденность в конечном торжестве идей православия, как идей человеколюбивых, нерушима. И если даже гнусности жизни еще мало известны молодому мастеру и еще не заставили подвергнуть свои мысли и чувства строгому пересмотру, то это не столь важно. Важно, что он вступает в мир, спокойно сознавая возможность преодолеть любые испытания и веря, что в конце концов всегда должна будет во всем восторжествовать справедливость. Отсюда и нежность красок, и смелое соединение движения и покоя, как смелое приятие мира таким, каков он есть. Учась у византийцев, заимствуя у них все лучшее в части формы, Рублев, как и некоторые из его предшественников, уже с первых шагов твердо заявляет о своем собственном мировоззрении, о независимости своей философской и творческой мысли. Это не могло остаться незамеченным, и Епифаний Премудрый уже тогда должен был заинтересоваться удивительно ученым и способным послушником. Наверняка слухи о Рублеве тогда же выходят и за пределы Свято-Троицкого монастыря. Андрей Рублев, конечно же, выступает в это время как продолжатель давно утраченных или искаженных Византией античных традиций. Но не потому только, что угадал, прозрел античную гармонию в образцах византийцев, а потому, что ощутил потребность в такой гармонии, что на короткий исторический миг сама жизнь давала художнику повод к ясному мировосприятию. Доверие к жизни — вот что провозглашает молодой Андрей Рублев. Доверие к людям, к родным русским полям, лесам и небу, доверие к будущему! Никон, загрязнивший источник рублевской веры, не может, однако, загрязнить ее окончательно. Что Никон? Не им началось христианство, не им кончится. Игумен всего лишь слабый смертный. Есть люди помимо него, исповедующие равенство и любовь с прежней силой и искренностью. Андрей Рублев полагает, что ближайшее грядущее за этими подвижниками, а не за Никоном. Он заблуждается. Но это заблуждение души, рвущейся к свету, к людям. Что же означает для Андрея Рублева встреча с Феофаном Греком? Почему она неминуемо приводит их к творческой схватке? Необходимо начать издалека. С тех черных дней, когда лютая конница Батыя спалила Рязань, ворвалась в Киев и захлестнула тугим арканом Владимиро-Суздальское княжество. В огне и дыму рушились стены городов, удивительные храмы и палаты XI–XII веков, обращались в пепел бесценные иконы, плавились чудесные изделия ювелиров, копотью разлетались по ветру страницы прекрасных книг. Мастеров-умельцев гнали, связав веревками, в Орду. У купцов отбирали товары. У крестьян отнимали последний скот и хлеб. Ханские баскаки плетями выколачивали дань. Стравливали князей. Вмешивались в их распри и снова грабили, грабили, грабили, умело поддерживая княжескую рознь и не давая усилиться не одному из князей, чтоб не нажить опасного врага. Великолепная культура Киевской Руси, Владимиро-Суздальского края и Новгорода либо полностью разрушалась, либо приходила в упадок. Для Руси, для русского искусства, в частности, настало невыносимо тяжелое время. Вдобавок почти прекратилась связь Руси с Византией, а Новгороду и Пскову пришлось вступить в единоборство с упорными и наглыми псами-рыцарями. Уже не воздвигаются поражавшие воображение заезжих иностранцев огромные храмы, уже нет таких мастеров живописи, которые украшали киевские церкви и палаты Андрея Боголюбского, уже почти не остается ремесленников-художников. Шестьдесят лет не строятся каменные храмы. Пульс русского искусства едва бьется. Но все-таки он бьется! При этом значительно возрастает роль народного творчества. Это естественно. Искусство, культура XI–XII веков, блестящие и неповторимые, оставались, однако, искусством и культурой больших городов, были замкнуты, как бы отгорожены от влияния идей широких народных масс. Отсюда та умозрительность, та отвлеченность в живописи, какие наблюдаются и во фресках Святой Софии в Киеве и в рельефах Владимирских храмов. XI–XII века дали русскому искусству и подлинно классические произведения, такие, как Ярославская Оранта, как новгородская икона ангела «Златые власа», икона десятинной церкви Новгорода «Знамение», как целый ряд церквей и соборов и многие, многие прочие образцы зодчества и живописи. Однако общая тенденция обособления культуры домонгольской Руси от широких масс, идущая бок о бок с процессами усиления княжеской власти, несомненна. Разрушение городов, уничтожение татарами культурных центров были для русского народа трагедией. Но полудикие кочевники, не обладавшие своей культурой, навалившиесяна Русь подобно чуме, старательно уничтожавшие все, что могло служить народу опорой в его сопротивлении — от каменных стен монастырей до книг, — самой дикостью и беспощадностью своей вызвали отпор народа, обусловили ряд изменений в его мировоззрении, отход искусства от умозрительности, отвлеченности, приближение к материальному миру. Гибель художественных центров, естественно, вызвала на долгое время снижение формального мастерства русских живописцев, книжников, ремесленников и зодчих. Но вместе с тем в искусство начинают проникать живые народные силы, в нем приобретают первенствующее значение идеи, волнующие всю Русь, и в первую очередь идеи стойкости, воинской доблести, преданности своему долгу. Искусство помогает народу хранить память о великом прошлом, что само по себе уже является призывом к великому будущему, морально поддерживает и воспитывает русских людей. Отлично видно это по иконе «Георгия с житием»[3], где примитивность рассказа о герое искупается его страстной убежденностью. М. В. Алпатов справедливо считает, что в истории мучений Георгия безвестный мастер мог представить историю мучений, постигших в Орде князя Михаила Тверского. Но если даже автор иконы не задавался целью провести ясную параллель между Георгием и каким-нибудь конкретным русским князем, смысл его труда остается не менее понятным: прославить человека, готового пойти на любые испытания, даже на гибель во имя своей цели. Тяга к изображению быта, живой жизни заметна в это время в ряде сохранившихся новгородских и псковских икон, в одной из хроник, где миниатюры рассказывают о жизни человечества, начиная с «сотворения мира», в ряде других памятников. Отличают живопись этой поры «житийность», то есть стремление к повествовательности, что давало возможность малоискусным мастерам более наглядно доносить до зрителя свои мысли, и яркость красок, свойственная народному творчеству вообще. Настанет время, русские художники превзойдут византийцев в технике рисунка, но они уже не вернутся к приглушенным, темным тонам греческих икон. Яркие краски, как выражение подъема народного духа, народной радости, останутся в живописи навсегда. Процесс роста художественного самосознания народа усиливается начиная с XIII века. В так называемых «воинских иконах», прославляющих доблесть князей, их мужество и стойкость при защите русской земли, контуры уже много выразительней, фигуры получают объемность, какой до этого русская живопись не знала, и сами святые и мученики выступают близкими земным чаяниям людей. Это большой и показательный сдвиг. Но быстрый расцвет искусства на Руси начинается все же лишь со второй половины XIV века и связан с быстрым усилением политической роли Москвы, с проводимой ею успешной политикой объединения русских земель. Правда, значительная доля нового, необычного приносится в эту пору Новгородом и Псковом. Именно там, на севере, возникают новые типы храмов, ведется большое строительство, а стенная, фресковая, живопись достигает потрясающей впечатляемости, впервые как бы материализуя «горний мир» и проникаясь глубоким человеческим волнением. Новгород вообще находился в пору монгольского завоевания в очень благоприятных условиях по сравнению с другими городами и княжествами. Непосредственному покорению и разрушению он не подвергался. Великому князю подчинялся лишь формально. Псы-рыцари до него также не доходили. И хотя Новгород платил татарам дань, но в XIV веке в связи с общим ростом сопротивления Орде, благодаря известной независимости и от хана и от великих князей город опять накапливает значительные богатства и его культурная жизнь расцветает. Стенная живопись Новгорода и Пскова, чрезвычайно разнохарактерная, была особенно интересна в так называемом Волотовском храме, варварски разрушенном гитлеровцами. Небольшой Волотовский храм, расположенный в селе Волотове — пригороде Великого Новгорода (откуда и название), — был посвящен Иисусу Христу и Марии и весь от пола до купола украшен фресками. Полагают, что расписывался храм в 1363 году. Художник, изображавший историю Христа и Марии, показал себя отличным наблюдателем жизни и внутренних движений человеческой души. Главная роль в росписях отведена Марии. И всюду она предстает вполне реальной земной женщиной, то взволнованной расставанием с родителями, то потрясенной вознесением Христа, то умиротворенной своим материнством. Фигуры волотовских росписей полны порывистости, стремительности, движения или же глубокой, тихой задумчивости и мира. Человек является в творчестве волотовского художника освобожденным от оков догматики, заявляет, о своей самостоятельности, о желании действовать. Это основное в волотовской росписи. Манера фресок Волотовского храма на первый взгляд чрезвычайно сходна с манерой Феофана Грека, начавшего свою работу в Новгороде как раз около семидесятых годов XIV столетия. Неискушенному взгляду трудно отличить кисть волотовцев от кисти византийца. Но при всем сходстве внешних приемов письма русские фрески задушевней, светлей по чувству, в них больше веры в жизнь, чем во фресках Феофана Грека. Волотовский старец Макарий и Макарий Феофана не только люди разных стран и эпох, это по-разному верующие люди. Также близки к манере Феофана Грека, но, бесспорно, являются произведениями русских мастеров фрески новгородской церкви Федора Стратилата. А в фигуре ангела из федоровской росписи уже совсем не трудно увидеть ту гармонию, ту плавность и одухотворенность, которые с такой силой зазвучат в творчестве московских иконописцев рублевской школы. Феофан Грек ко времени прибытия в Новгород был сложившимся живописцем. И не так важно, он ли обогатился искусством волотовских мастеров, они ли научились у знаменитого византийца. Важно, что стремление передать яркие душевные движения человека совпали у новгородских мастеров с подобным же стремлением Феофана Грека, но русские художники использовали новую, своеобразную манеру живописи для выражения именно своего, русского мировосприятия. Иконопись в Новгороде и Пскове сильно отстает от стенописи. Она почти не представляет интереса. Зато в Москве, где каменных храмов мало, первенствующее значение в XIV веке получает именно иконопись, и она жадно, настойчиво впитывает в себя все лучшее, что есть в искусстве живописи Руси того времени. Нет сомнения, что новгородские и псковские фрески оказали большое влияние на работу московских иконописцев, не меньшее, чем искусство иконописцев Византии, отношения с которой уже восстановлены и развиваются непрерывно. Именно под влиянием философии Византии в Московском княжестве XIV века прочно утверждаются символика, иносказание, углубленность трактовки традиционных религиозных образов. Но в отличие от византийских мастеров русские иконописцы, твердо стоя на национальной почве, используют символику не ради отвлеченной проповеди суетности мира, а ради выражения высоких идей человечности, созвучных переживаемому подъему национальных сил в борьбе с Ордой. Отсюда и элементы чувственного, поиски цвета, отказ от канонических форм, от хмурых тонов византийского письма. Предшественники Рублева, у которых он учится, еще не способны достичь вершин в этом синтезе мысли и чувства. Но дорогу они намечают. Стоя на этом пути, Андрей Рублев и сталкивается с Феофаном Греком.
О Феофане Греке написано немало, и его яркое творчество утвердительно говорит само за себя. Уроженец Византии, выученик цареградских мастеров, свидетель упадочной роскоши двора Палеологов, это был человек яркой индивидуальности, пытливого ума и протестующей души. Очевидно, он задыхался в атмосфере Царьграда с его резкими контрастами богатства и бедности, с его задавленной живой мыслью, с его искусством, подчиненным церкви, проклинающей реальный мир, и обреченным на застой. Действительность Византии мешала Феофану свободно работать, угнетала художника, и он покинул родину, отправившись, видимо не случайно, на Русь, где рассчитывал найти не столько приют, сколько обширное поле для своего таланта. Феофан Грек поверил слухам о своеобразии русской церкви, русского искусства, о любви русского народа к живописи, и он не разочаровался. Больше того, именно на Руси он получил возможность говорить полным голосом, был оценен и нашел признание. Можно смело утверждать, что если Феофан Грек дал многое русской живописи, то Русь создала самого Феофана. Кипучая жизнь Новгорода, куда попадает Феофан Грек, русские люди, хоть и не искушенные в тонкостях богословских словопрений, но зато деятельные, энергичные, цельные, сама обстановка Руси, готовящей отпор Орде, ее молодое поколение, уже не ломающее покорно шапку перед каждым татарином, — все это должно было благотворно подействовать на приезжего художника. Он должен был в какой-то степени проникнуться общим настроением или, во всяком случае, ощутить, что тут он может писать смело, так, как ему хочется. Феофана Грека надо считать, и его справедливо считают, не византийским, а русским художником. Однако, не будучи русским по происхождению, воспитываясь в Византии, он не мог стать и не стал, несмотря на свою гениальность, выразителем дум и чаяний русского народа. Гениальность Феофана, смело отходящего от привычных представлений, умеющего проникнуть в человеческую душу, понять порывы и страсти ее, ее противоречивость — все это вне сомнения и вне подражания. Одна из первых работ Феофана Грека в Новгороде — роспись Спасо-Преображенского собора на Ильинской улице. Уцелела и сохранилась до наших дней только часть этой росписи в алтаре, в куполе и в приделе за хорами. Но и то, что уцелело, показывает манеру Феофана Грека и направленность его творчества вполне отчетливо. Изображенный в куполе Спас пронзает мир напряженным, гневным взглядом. Праотцы в простенках между окнами барабана могучи и суровы. Здесь знаменитый Мельхесидек, предупреждающе приподнявший правую руку со свитком «божьего слова». Неприступный Ной, бережно несущий ковчег. Авель — вразрез с канонами, представлявшими убитого Каином брата как женственного, хрупкого юношу, — нарисованный уверенным и сильным, но заранее провидящим свою несчастную судьбу. Это люди твердой воли, способные на подвиг, хотя величие их исполнено мрачности. Столь же характерна роспись придела. Особое внимание следует обратить на здешнюю «Троицу». Основывая Свято-Троицкий монастырь, Сергий Радонежский чуть ли не за полстолетия до создания этой феофановской фрески мечтал о том, чтобы созерцание ликов Троицы, раздумья о ней учили братию дружбе и согласию. Взирая же на «Троицу» Феофана Грека, мыслей о дружбе и согласии не обретешь. На этой фреске средний, могучий ангел с огромными крыльями, осеняющими трапезу, довлеет надо всем. Два других ангела покорно, почти униженно склоняются перед божеством. А Авраам и Сарра, изображенные у подножия, вообще как бы подавлены. Не о братском слиянии говорит Феофан Грек. Не содружеству учит. Он говорит о необходимости подчиняться провидению, учит молчаливой покорности судьбе. О слабости человека вопиют остальные фигуры на стенах придела. В лицах отшельников, праведников, аскетов, мучеников, столпников — безысходная тревога, мука, отчаяние, тоска, страх. Они ведут непосильную душевную борьбу. Иные как бы окаменели, другие готовы разрыдаться. А Макарий Египетский, один из шедевров Феофана, просто страшен в исступлении, с коим отрицает все земное. Седой, иссохший, во всем изверившийся столетний старец со слезящимися, почти ослепшими глазами в отчаянии выставил перед собой руки, отстраняя проклятый, обманувший его мир. Конечно, нет ничего общего между божеством — властителем мира — и простыми смертными Макарием или Ананием. Но именно это и декларировал Феофан Грек, и единство замысла при украшении купола и придела налицо. Был ли Феофан Грек правдив в своем искусстве? Бесспорно. В росписях церкви Спаса на Ильинской улице греческий мастер показывал бесплодность и бессмысленность восточного монашества с его бездеятельностью, созерцательностью и паразитическим «философствованием». Конечно, Феофан преследовал иную цель: доказать суетность и преходящество реального земного мира, но, как это часто бывает с великими художниками, замахиваясь на жизнь, он сокрушал идолов. А замахивался Феофан Грек не шутя и, чтобы удар был неотразимым, бесстрашно обнародовал противоречивость человеческой души, откровенно заявлял как художник, что никакие «подвиги» не способны указать человеку выход из противоречий самой действительности. Отсюда многообразие эмоций, сложная борьба чувств в образах Грека, не поддающаяся определению одним словам. Тоска гиганта по истине, геркулесовой мощи, боль за человека и делали искусство Феофана таким страстным, напряженным, подчиняли ему сердца. Не случайно, вероятно, впоследствии покровителем Феофана становится князь Владимир Андреевич Хоробрый, — двоюродный брат и сподвижник Дмитрия Донского. Хоробрый — личность яркая, волевая, но, как мы знаем, он не раз испытал, каково выносить борьбу между ясно понятым государственным долгом и личными княжескими интересами. К чести Владимира Андреевича надо сказать, что чувство долга почти всегда одерживало у него верх. Среди русских князей XIV–XV веков он единственный, до конца отстаивающий в трудные часы интересы Москвы, несмотря на многочисленные обиды и ущемления со стороны великих князей. И Владимира Андреевича и других русских князей, восхищавшихся Феофаном Греком, должно было поражать и новаторство художника, так как Феофан говорил небывалое небывалым же языком. Феофан Грек добивался выразительности применением ряда неизвестных ранее приемов. При лепке фигур он избегал резких контурных и внутренних линий, что позволяло художнику добиваться эффекта массивности и мощи. Бросая коричневые краски на лица и темно-синие на одежду, Грек клал поверх основных тонов несколько слоев более светлых. При обработке лица делал резкие, как бы судорожные «пробелы». Вблизи эти линии грубы, кажутся небрежными, хаотичными, но издали — а Феофан писал фрески, которые и рассчитаны на разглядывание издали, — эти резкие, «перистые» линии воспринимаются как слитные. Они придают лицам выпуклость и живость, каких не умели добиваться живописцы раннего времени, столь старательно вырисовывавшие все черты персонажа. Верно замечено, что подчас образы Феофана почти гротескны. Но в этой гротескности больше реальности, чем в «гладкой» иконе ангела «Златые власа». Рисунок Феофана Грека отчетлив. Он хорошо знает человеческое лицо. А так как сами идеи Феофана исключают применение ярких красок, то решающее значение в его манере приобретает светотень. С помощью светотени Феофан добивается объемности изображения и вливает в него особый, взволнованный трепет. Даже наш современник, воспитанный на многовековой культуре живописи, глядя на кисть Феофана Грека, не может не ощутить невольного беспокойства и смутной тревоги. Какое же впечатление производило творчество гениального живописца на тогдашних религиозных новгородцев и москвичей, свидетелей создания его икон и фресок?! Оно должно было не только повергать в изумление, оно должно было потрясать и наверняка вызывало чувства, близкие к священному ужасу. Мир изменчив, преходящ, все тленно, земные радости не стоят того, чтобы их добиваться, человек обречен, и его, увязшего в грехах, ждут тяжкие кары, провозглашал Феофан Грек. Правда, прожив почти тридцать лет в Новгороде, а затем прибыв в Москву-победительницу, Феофан несколько смягчается. Жизнь на Руси, вырывающейся из-под татарского ига, среди людей, освобождающихся от чужеземного гнета, не могла не отразиться на чуткой кисти живописца. Но основы мышления Феофана Грека остаются незыблемыми. Он уже стар. Ему поздно менять убеждения, да он и не чувствует нужды в этом. Слишком горек его личный опыт. И от имени народа предстоит говорить не ему! На молодого Андрея Рублева творчество Феофана Грека, бесспорно, производило двоякое впечатление. Своеобразность выходца из Византии, убедительность передаваемых им человеческих страстей и эмоций не могли оставить Рублева равнодушным. Но философия Грека, провозглашаемые им мысли о противоположности земного и «горнего», его мрачность, идущая от неприятия бытия, должны были вызывать у молодого инока Спасо-Андрониковского монастыря резкий протест. Восхищаясь силой живописи Феофана, Андрей Рублев не мог не восставать против направленности этой силы. Поражаясь раскованности человеческих чувств, новизне приемов письма Феофана, гениальный русский мастер в то же время упорно сопротивлялся производимому ими впечатлению, не мог принять его. Не оставляет сомнений, что, взбудораженный Феофаном Греком, Андрей Рублев пишет в эту пору иконы, где упорно отстаивает мировосприятие, отличное от феофановского. Наверное, Андрей Рублев ощущает необходимость оспорить Феофана Грека в живописи, скрестить с ним оружие. И эту возможность ему дают. В 1405 году, великий князь Василий Дмитриевич повелевает расписать законченную постройкой церковь Святого Благовещения. Выбор митрополита и князя падает на трех художников: на Феофана Грека, на Прохора из Городца и на Андрея Рублева. Это почетное поручение. В Москве, во дворе великого князя до сих пор было только два каменных собора: Успенский и Архангельский. Церковь Святого Благовещения стала третьим каменным храмом, Предназначалась она для великокняжеской семьи и ее приближенных. Можно предположить, что участием в этой работе русские мастера обязаны не столько митрополиту Киприану, греку по происхождению, сколько самому великому князю, тем кругам московского боярства и духовенства, которые враждебно относились к притязаниям византийской церкви полностью подчинить себе московскую митрополию, сознательно выдвигали и поддерживали своих, отечественных живописцев. Так работа Прохора, в то время, наверное, известного мастера, и уже, видимо, замеченного двором Андрея, — работа двух русских бок о бок с Феофаном Греком могла обрести не только характер творческого состязания, но и явиться демонстрацией независимости русской церкви от Царьграда. Московские художники, по-видимому, сознавали это. И они не ударили в грязь лицом, выступив как достойные соперники гениального византийца.
Благовещенский собор Кремля дошел до наших дней с перестройками XVI века. Первоначально это был маленький, очень стройный храм с тремя тонкими главками. Поставленный на Соборной площади ближе к стенам и великокняжеским теремам, храм Благовещения контрастировал с мощными Успенским и Архангельским соборами, приобретал черты задушевности и внутреннего тепла. Строили церковь Святого Благовещения псковичи, и можно лишь поражаться тому, как справились строители со своей задачей, не только придав строению звучание скромности и чистоты, но и умело вписав его в дворцовый ансамбль. Соединяя принципы псковской и раннемосковской архитектуры, строители добились большой гармонии и изящества. Здесь сказались те же поиски человечности, завершенности, отразилось то же цельное и светлое восприятие мира, какое отличает и московскую иконопись. Так сам характер храма уже требовал и совершенно определенной внутренней росписи. Фигура, подобная фигуре феофановского Мельхесидека, резко противоречила бы идее, выраженной камнем, и была здесь немыслима. Это наложило на Грека, человека, очень чуткого к форме, определенные обязательства. Выше говорилось, что ко времени переезда в Москву Феофан Грек под влиянием событий и окружающих людей уже смягчил свою манеру. Расписывая церковь Святого Благовещения, он должен был стать еще более сдержанным. Русские же мастера, конечно, стремились творить с учетом всего богатого живописного наследства своей родины. Для Андрея Рублева испытание становилось тем более трудным, что стенописью ему заниматься, пожалуй, не приходилось. Просто нечего было расписывать. Принципы же стенной живописи сильно рознятся от принципов дорублевской иконописи. Рассчитанная на восприятие с большого расстояния, фреска исключает мелочную детализацию, требует умения работать широким мазком. При этом мастер должен обладать абсолютной точностью глаза и руки, ибо поправки, переделки при нанесении рисунка на сырую штукатурку почти исключены: штукатурка сохнет быстро, краски пропитывают ее глубоко, и всякое изменение фрески связано с переделкой всей стены или большей части ее. Поэтому следует думать, что при создании фресок Благовещенского собора Андрей Рублев больше работает как помощник Феофана Грека и Прохора с Городца, еще только осваивая новую область живописи. Зато при создании благовещенских икон Андрей Рублев наверняка ведет работу вполне самостоятельно, в ряде случаев выполняет большую часть письма, хотя по средневековой традиции вряд ли делает все один, а скорее с помощью Прохора и, возможно, других, не упомянутых летописью мастеров. Учитывая особенности рублевского творчества, каким оно предстает в «Евангелии Хитрово», его стремление к законченности и цельности композиции, зная, что Рублев наследник всего богатства выработанных русской живописью форм, можно догадываться об истории создания иконостаса храма. Иконостас церкви Святого Благовещения — явление поразительное, дотоле невиданное. Прежде иконы размещались на стенах и на столбах храмов без определенного порядка, без строгой системы. Перед алтарем ставились лишь низкая алтарная преграда с небольшими изображениями Христа, Марии, пророка Иоанна или архангелов. Однако в русском искусстве еще в домонгольский период существовало стремление к многофигурной, тяготеющей к центру композиции при изображении процессий и предостояний. Эта традиция держится и в XIV веке. Она выразительно представлена в тканной пелене княгини Марии Тверской, созданной в 1389 году. Правда, в центре композиции здесь не Христос, а Нерукотворный Спас, но основной мотив налицо. Видимо, имелись и другие аналогичные образцы, которые были хорошо известны русским мастерам. И вряд ли мысль полностью отгородить алтарь от остального пространства храма могла прийти старшему из тройки мастеров, византийцу Феофану Греку. В форме новой алтарной преграды нашла косвенное выражение идея приятия земного мира. Феофан же этой идее был чужд. Наоборот, Андрею Рублеву, самому молодому из живописцев, воспитанному на идее активного участия церкви в земных делах, мир отнюдь не представляется юдолью безысходных терзаний и слез. Рублев верует в человека и его способность к бескорыстным, великим деяниям. Ему, пожалуй, больше, чем мастерам старшего поколения, должна быть близка народная струя в искусстве, в нем должно сильнее говорить общественное чувство, громче звучать желание показать мир в его единстве. Эти соображения заставляют думать, что мысль создать сплошную, ярко украшенную алтарную преграду могла быть подана впервые именно Андреем Рублевым. Видимо, необычайное предложение приняли не сразу, и кое у кого возникли сомнения в уместности подобного новшества. Но в конце концов идея была одобрена, и всем трем мастерам пришлось изрядно подумать, как лучше ее осуществить. Окончательная форма иконостаса известна. Он делится горизонтальными досками — «тяблами» — на четыре яруса. Нижний ярус, где устроены царские врата, имеет слева от них (справа от зрителя) «местную икону» святого, праздника или божества, которому посвящен храм. Второй снизу ярус, называемый обычно средним, занят деисусом или чином (в старину при Рублеве деисусом называли вообще весь иконостас). Тут представлены Христос на троне, богоматерь, Иоанн Предтеча, архангелы, апостолы Петр и Павел, отцы церкви и мученики. Третий, более мелкий ярус заполнен иконами с изображениями «праздников», то есть евангельских событий. В самом верхнем ярусе стоят погрудные иконы богоматери и пророков. Все фигуры, все иконы как бы тяготеют к Христу из деисусного чина. Христос объединяет их. И если справедливо, что в иконостасе мощно выражена идея заступничества богоматери и святых за людей перед единым вседержителем и судьей, то не менее справедливо, что ей также мощно вторит идея единства, цельности, глубокой внутренней связи между миром небесным и миром земным. И если Феофану Греку, как старшему и опытнейшему, и поручают создать иконы главного, деисусного яруса, то все же он пишет их, подчиняясь идее, которая выношена русскими мастерами, мастерами продолжающими в живописи практику и политику Сергия Радонежского. Иконостас, чьи иконы сближаются по назначению с фресковой живописью и тоже рассчитаны на восприятие издали, в то же время отличен от старой манеры фрескового письма, где фигуры мало или вовсе не связаны друг с другом. Иконостас характерен как раз неразрывной связью своих изображений! И что очень важно, сама форма икон, в каждом ярусе имеющих заранее данные размеры, определяет равновеликость изображенных персонажей, классическое, так называемое «равноголовье», причем фигура божества уже не подавляет простых смертных, делается как бы ближе, доступнее им. Феофан Грек не мог не заметить этого и не мог, конечно, не смущаться подобным «уравниванием» бога и людей. Очевидно, старый мастер не раз покачивал головой, и вздыхал, и недовольно покусывал губы, глядя на то, что получается благодаря московской затее полностью прикрыть алтарь иконами. Андрей же Рублев и Прохор с Городца, наверное, понимающе переглядывались и улыбались друг другу. Не беда, что на их долю выпало всего лишь создать «местную икону» и «праздники». Зато сам Феофан Грек вынужден считаться с замыслом русских! Разница между феофановскими и русскими фресками и иконами в церкви Святого Благовещения вполне зрима. Феофан Грек, работая в Москве, зарекомендовал себя не только мастером рисунка и светотени, но и отличным колористом. Золотистые, оливковые, синие тона работ его с присущим Феофану внезапным ударом алого сливаются в стройную, но, однако, по-прежнему строгую, суровую гамму. Выполняя деисус Благовещения, старый мастер остался верен себе в передаче обликов Марии, Иоанна Предтечи, апостолов и отцов церкви. Строгость, сосредоточенность фигур, благородство цветовых сочетаний в иконах Феофана — неотъемлемое их достоинство. Но старый художник формально воспринял идею иконостаса. Его фигуры на иконах не слиты воедино, обособлены, а краски не вызывают радости! Совсем иначе выглядят «праздники», созданные русскими мастерами. В «Воскрешении Лазаря»[4] павшая на колени перед Спасителем Мария окутана ярким алым плащом, но это не помешало художнику передать ее гибкость и женственность. Он подчеркивает изящество и телесную красоту Марии без колебаний. Так же нежна, стройна и Мария в «Рождестве Христовом», чью плоть не способны скрыть темные одежды. Великолепно, в классических пропорциях, выдержаны фигуры женщин, моющих младенца. Во всех этих иконах историки искусства давно уже отметили черты, которые станут основными в творчестве зрелого Андрея Рублева: замкнутость композиции, объединение многих фигур в ансамбль, нежность светлых цветовых созвучий. Сказалось отличие стиля русских мастеров от стиля Феофана Грека и в иконе «Преображения». Русскими же мастерами создан архангел Михаил, в лике которого много женственного, а в плавном наклоне головы и туловища видно большое внутреннее достоинство. Чьего труда здесь больше — Прохора ли, Андрея ли Рублева, определить невозможно. Но можно твердо говорить, что оба мастера следуют какой-то одной ясной традиции, легко находят общий язык и дополняют друг друга. Если чему-то и учатся русские художники при совместной работе с Феофаном, то эта учеба при росписи церкви Благовещения находит выражение лишь в более глубоком понимании законов цветовых созвучий, в создании благородной гаммы красочных тонов. В остальном они подчеркнуто самостоятельны. На первый русский иконостас надо, пожалуй, смотреть как на поле боя, где художники с разными индивидуальными особенностями и, что всего важнее, с разным мироощущением ведут принципиальный и упорный спор и где ни один не хочет уступить другому. Летопись назвала на первом месте среди трех мастеров Феофана Грека. Вряд ли только потому, что он был самым старшим. Скорее всего еще потому, что обаяние и сила имени делали свое дело. Современники живописцев, хоть и видели, конечно, разницу между манерой Грека и русских художников, склонны были все же считать Феофана более значительным мастером, отдавали ему пальму первенства. Вдобавок на его стороне был авторитет Византии, так сказать, «учителя» Руси! Можно представить, как сам Феофан Грек в кругу подмастерий оценивает кисть Прохора и Андрея. Он не отрицает их большого дарования. За многое одобряет: за точность рисунка, за ритм, за умение вглядеться во внутреннее состояние образа и передать его. Но Феофан Грек пожимает плечами и сердито сверкает глазами, оценивая манеру обоих. Им не хватает серьезности! Они словно не понимают всего величия своего дела! Они готовы улыбаться там, где надо скорбеть! Правда, самый молодой из москвичей, Андрей, лишь начинает путь. Он еще вырастет. Это подлинный живописец, но недостаточно проникшийся мудростью и духом священного писания. С годами его кисть выправится… Феофану Греку вряд ли дано понять, что кисть Андрея как раз еще недостаточно уверена в том, что не по душе самому Феофану, но что она очень скоро окрепнет и очень скоро оставит далеко позади все написанное в 1405 году. А Андрей Рублев? Вот они сидят с его учителем Даниилом в келье, только что вернувшись из Москвы после освящения собора. Андрей глядит на Даниила, устало и почти виновато улыбаясь. Чего бы не сделал сейчас Андрей для своего учителя! Ведь Даниила, хоть и более опытного, расписывать храм не пригласили, просто-напросто обидели, и Андрей, обрадованный почетным предложением, в то же время чувствовал неловкость перед другом, страдал за него, готов был отказаться от росписи, чтоб не усугублять огорчения Даниила. Однако Даниил убедил его в необходимости работы. Подавив горечь, учитель говорил, что нельзя отказываться от исполнения долга, что все равно они будут все время вместе: ведь их мысли одинаковы, и Андрей напишет то, о чем думается обоим. Даниил убедил Андрея. И теперь ученик ждет окончательного приговора своему труду. Даниил разглаживает рясу на коленях. — Я не сделал бы лучше, — просто говорит он. — Хорошо, Андрей. — Я писал так, как учил ты! — порывисто отвечает молодой чернец. — С богом в сердце! Даниил наклоняет голову. — И Феофан верует… Ты следил, как работает он? — Все высмотрел! Но… — Обожди, Андрей. Теперь ты смог бы расписывать стены один, без него? — Смог бы! Только иначе. Феофан словно боится красок. А я их не боюсь! Краска нужна! Разве не для радости прибегаем мы к Спасителю? А Феофан не дает счастья и покоя! Так, как он, я писать не буду никогда! Это сказано в запальчивости. Пройдет немного времени, и мужающий художник вспомнит дни, проведенные в храме Благовещения рядом с оживленным, непоседливым «гречином». Вспомнит, задумается и поймет, что в искусстве Феофана Грека есть много необходимого для всякого мастера, и возьмет это необходимое, чтобы побить противника его же оружием. Но сейчас он еще далек от подобных мыслей и решений. Вдобавок он устал. Несколько месяцев непрерывной, поглощающей все силы работы дают себя знать. И после вспышки Андрей внезапно ощущает вялость. Его взор тускнеет. — Никто не понимает… — произносит он еле слышно. — Митрополит славословит Феофана, иные хвалят и Феофана и нас с Прохором. Иным все равно, что написано. Люди слепы… Даниил испытующе смотрит на товарища, кладет руку ему на плечо. — Да, слепы. И твой подвиг в том, чтобы заставить их прозреть, Андрей. Слышишь? Прозреть! И ты будешь делать это! Будешь!

ГЛАВА ШЕСТАЯ
 Если бы художник мог знать будущее… Дни идут за днями, все дальше отодвигая от молодого живописца написанное им, сглаживая пережитое волнение, позволяя смотреть на иконы и фрески Благовещения спокойней и беспристрастней.
В душе Андрея Рублева растет недовольство достигнутым, верный признак живого таланта, его созревания, залог близких новых свершений. Иконостас храма Благовещения неудачен. Феофан писал по-своему, Прохор по-своему, он, Андрей, по-своему. Чего же требовать от такого «содружества»? А угловатость иных фигур в русских иконах? А скованность их движений? А краски, иногда неуместно яркие и не всегда строго созвучные?
Вот Феофан Грек умеет подбирать цвета и тона. Правда, глухие. Но гармония должна быть присуща радости и свету больше, чем отчаянию и мраку! Надо ее найти. Надо ее показать! Надо!
Он все чаще произносит это слово «надо» в мыслях и в беседах с Даниилом.
Недовольство собой лишь усиливается в обстановке беспокойства, которая овладела москвичами. Москва озабочена событиями в Орде и отношениями с Литвой.
Великий князь уже давно не платил татарам дани, пользуясь смутой, царившей в Сарае, ничтожностью и слабостью ханов вроде Шадибека, занимавших престол после нашествия на Итиль беспощадных полчищ Тамерлана.
Десять лет Русь дышит спокойно. Но ловкий, хитрый, подобно Мамаю, мурза Эдигей, устав сменять безвольных царьков, сам забрал всю ордынскую власть, наводит там жесткие порядки и все чаще напоминает русскому улусу об огромном долге.
Правда, послания Эдигея пока не носят открыто угрожающего характера, но укоры становятся все более частыми, настойчивыми.
Эдигей сожалеет, что великий русский князь «забыл» о прежнем «взаимопонимании» Москвы и Сарая, что после смерти старых советчиков окружил себя новыми, вроде Федора Кошки, нашептывающими пакостные слова о неповиновении татарскому царю.
А послы и торговые люди доносят, будто в ханской столице на русских поглядывают косо, и ходят слухи, что скоро на Русь двинутся войска и накажут строптивых и своевольных.
Великокняжеский двор озабочен тем, чтобы предупредить нашествие татар.
Одни бояре за то, чтобы войти в союз с тестем Василия Дмитриевича, великим князем литовским Витовтом.
Другие — за умилостивление Эдигея. Они твердят, что Витовту тоже подаваться нельзя. Вон всего год назад литовский тестюшка показал себя, вышел воевать новгородские земли. Верь ему после этого!
И все вместе боятся, как бы Эдигей не договорился с Витовтом да не навалились бы оба по примеру проклятой памяти Мамая и Ольгерда на великое княжество.
А нынче не то время, что при князе Дмитрии. Такого войска, как на Дону билось, пожалуй, не соберешь. Шатается удельный народишко, во все стороны косит.
Неуравновешенность, беспокойство завладели Москвой, и тревожно думается, что же будет, если и впрямь Эдигей поднимет своих темников в набег.
Доходят к Андрею и невеселые вести из Святой Троицы.
Никон не одумался.
Все расширяет монастырские земли.
Иные из смердов, что рядом осели, в кабалу попали. Опутал их долгами игумен, как паук сетями доверчивую жертву.
Встают в памяти знакомые лица мужиков. Встает солнечный августовский день с тонким запахом сена и приглушенным, зазывным смехом…
Работа над иконами требует бывать в Москве, закупать нужные товары, а иной раз просят в боярские терема, глядеть да подновлять иконы. Чего не наслушаешься и не насмотришься при хождениях!
Там, слышь, боярин смерда плетями задрал, а смерд-то с князем Дмитрием за Дон ходил!
Там, напротив, другой боярин все имущество людям роздал и невесть куда ушел, сказывали, на самый Афон подался, большой вроде грех замаливать.
Там, говорят, баба младенца с петушиной ногой родила, заплакал младенец, изрек: «Горе!» — и на второй день помер. Не к добру…
Идешь мимо хором и мимо слепых изб, знаешь, что один ест калачи с маслом, а другой корку со слезой, видишь бархат и рубище, злато и медь, и тяжко делается.
Неустроенно живет человек! Забыли люди, что все они одно семя адамово, и коснеют в злобе, в бедах и взаимных счетах!
Суеверны. Не умеют и не хотят разом смириться и правду божью постичь.
И трудно винить их, как разберешься в горе каждого. Только сожмется иной раз сердце, как узнаешь, сколько терпит другой русский человек, и слеза взор затуманит, когда видишь, не поддается он, не отчаялся еще, а ломит и ломит работу, не кривя душой ради нечестного барыша или подлой выгоды, надеясь на светлый праздник для тех, в ком совесть жива!
И снова тянет к кисти, чтобы крикнуть этим упорно верящим в правду страдальцам: «Так! Так! Будет праздник!»
Так и рвешься к холсту, чтобы лаской и теплом воззвать к другим: «Оглянитесь! Ведь все вы люди! Все русские! И велик бог ваш, и не оставит вас, только живите по заповедям Христовым!»
Андрей верит, что услышанный зов не пропадет. И тут ему выпадает случай впервые говорить самостоятельно, без чужой подсказки, без чужого руководства.
Его не забыли. После иконостаса Благовещенского собора имя Андрея Рублева произносят и в народе и в княжеских теремах.
Говорят, народился на Руси художник, способный потягаться с лучшими византийскими мастерами. Молод да благочестив и, видно, угоден богу. На иконы его взирать — легко становится, словно омывают они глаза и думы. Войдешь в храм с невеселыми мыслями, а там словно благодати коснешься, при выходе и солнце тебе ярче светит и мир добрее кажется.
Видно, этот чернец воистину богом послан. Ведь и правда, разве так уж плохо на Руси? Разве не одолели поганых, разве не утишили ворогов, разве не сумеем и с другими напастями справиться? Сумеем! Встанем стеною, навалимся дружно, и никакие ханы не одолеют, никакое лихо не возьмет! Есть худые люди, жадные, своих гнетущие, об одном богачестве помышляющие. Есть! Да не их правда верх одержит! Христианская.
А мастер Андрей, слышь, Сергия Радонежского выученик. Самого чудотворца! Вон откуда ниточка-то вьется! Стало быть, он свой, истину говорит…
Так или приблизительно так воспринимается бодрое светлое творчество Рублева в народе.
Оно отвечает и потребностям части московского боярства, московских князей в искусстве, укрепляющем надежды на будущее.
Один из братьев великого князя, Юрий Дмитриевич Звенигородский, задумав заново украсить храмы своего города, обращается к Даниилу и Андрею Рублеву с предложением поехать в Звенигород, возглавить работу тамошних и приглашенных из других монастырей мастеров.
Лучшего нельзя себе представить! Вот и можно, наконец, осуществить не дающие покоя мечты!
Однажды у ворот Спасо-Андрониковского монастыря останавливаются телеги со двора звенигородского князя.
Княжеский тиун ищет чернецов Андрея и Даниила.
Князь наказал забрать мастеров и довезти в покое.
Андрей и Даниил собираются. Это недолгие сборы. Бельишко да кисти, вот и все.
Тиун таращит глаза. Он ожидал увидеть благообразных седых старцев, а к нему выходят люди моложе его. Один особливо юн. Смоляная бородка весело курчавится, быстрые глаза щурятся от солнечного света улыбчиво, добродушно.
Тиун неуверенно стягивает шапку, переступает с ноги на ногу, переводит взгляд с одного чернеца на другого и, наконец, обращается к тому, что постарше:
— Отче Андрей, прислал по тебя князь Юрий Митрич…
— Даниил я, — усмехаясь, отвечает чернец. — Андрей вот.
И кивает в сторону юного монаха, который весело смеется ошибке княжеского слуги.
Если бы художник мог знать будущее… Дни идут за днями, все дальше отодвигая от молодого живописца написанное им, сглаживая пережитое волнение, позволяя смотреть на иконы и фрески Благовещения спокойней и беспристрастней.
В душе Андрея Рублева растет недовольство достигнутым, верный признак живого таланта, его созревания, залог близких новых свершений. Иконостас храма Благовещения неудачен. Феофан писал по-своему, Прохор по-своему, он, Андрей, по-своему. Чего же требовать от такого «содружества»? А угловатость иных фигур в русских иконах? А скованность их движений? А краски, иногда неуместно яркие и не всегда строго созвучные?
Вот Феофан Грек умеет подбирать цвета и тона. Правда, глухие. Но гармония должна быть присуща радости и свету больше, чем отчаянию и мраку! Надо ее найти. Надо ее показать! Надо!
Он все чаще произносит это слово «надо» в мыслях и в беседах с Даниилом.
Недовольство собой лишь усиливается в обстановке беспокойства, которая овладела москвичами. Москва озабочена событиями в Орде и отношениями с Литвой.
Великий князь уже давно не платил татарам дани, пользуясь смутой, царившей в Сарае, ничтожностью и слабостью ханов вроде Шадибека, занимавших престол после нашествия на Итиль беспощадных полчищ Тамерлана.
Десять лет Русь дышит спокойно. Но ловкий, хитрый, подобно Мамаю, мурза Эдигей, устав сменять безвольных царьков, сам забрал всю ордынскую власть, наводит там жесткие порядки и все чаще напоминает русскому улусу об огромном долге.
Правда, послания Эдигея пока не носят открыто угрожающего характера, но укоры становятся все более частыми, настойчивыми.
Эдигей сожалеет, что великий русский князь «забыл» о прежнем «взаимопонимании» Москвы и Сарая, что после смерти старых советчиков окружил себя новыми, вроде Федора Кошки, нашептывающими пакостные слова о неповиновении татарскому царю.
А послы и торговые люди доносят, будто в ханской столице на русских поглядывают косо, и ходят слухи, что скоро на Русь двинутся войска и накажут строптивых и своевольных.
Великокняжеский двор озабочен тем, чтобы предупредить нашествие татар.
Одни бояре за то, чтобы войти в союз с тестем Василия Дмитриевича, великим князем литовским Витовтом.
Другие — за умилостивление Эдигея. Они твердят, что Витовту тоже подаваться нельзя. Вон всего год назад литовский тестюшка показал себя, вышел воевать новгородские земли. Верь ему после этого!
И все вместе боятся, как бы Эдигей не договорился с Витовтом да не навалились бы оба по примеру проклятой памяти Мамая и Ольгерда на великое княжество.
А нынче не то время, что при князе Дмитрии. Такого войска, как на Дону билось, пожалуй, не соберешь. Шатается удельный народишко, во все стороны косит.
Неуравновешенность, беспокойство завладели Москвой, и тревожно думается, что же будет, если и впрямь Эдигей поднимет своих темников в набег.
Доходят к Андрею и невеселые вести из Святой Троицы.
Никон не одумался.
Все расширяет монастырские земли.
Иные из смердов, что рядом осели, в кабалу попали. Опутал их долгами игумен, как паук сетями доверчивую жертву.
Встают в памяти знакомые лица мужиков. Встает солнечный августовский день с тонким запахом сена и приглушенным, зазывным смехом…
Работа над иконами требует бывать в Москве, закупать нужные товары, а иной раз просят в боярские терема, глядеть да подновлять иконы. Чего не наслушаешься и не насмотришься при хождениях!
Там, слышь, боярин смерда плетями задрал, а смерд-то с князем Дмитрием за Дон ходил!
Там, напротив, другой боярин все имущество людям роздал и невесть куда ушел, сказывали, на самый Афон подался, большой вроде грех замаливать.
Там, говорят, баба младенца с петушиной ногой родила, заплакал младенец, изрек: «Горе!» — и на второй день помер. Не к добру…
Идешь мимо хором и мимо слепых изб, знаешь, что один ест калачи с маслом, а другой корку со слезой, видишь бархат и рубище, злато и медь, и тяжко делается.
Неустроенно живет человек! Забыли люди, что все они одно семя адамово, и коснеют в злобе, в бедах и взаимных счетах!
Суеверны. Не умеют и не хотят разом смириться и правду божью постичь.
И трудно винить их, как разберешься в горе каждого. Только сожмется иной раз сердце, как узнаешь, сколько терпит другой русский человек, и слеза взор затуманит, когда видишь, не поддается он, не отчаялся еще, а ломит и ломит работу, не кривя душой ради нечестного барыша или подлой выгоды, надеясь на светлый праздник для тех, в ком совесть жива!
И снова тянет к кисти, чтобы крикнуть этим упорно верящим в правду страдальцам: «Так! Так! Будет праздник!»
Так и рвешься к холсту, чтобы лаской и теплом воззвать к другим: «Оглянитесь! Ведь все вы люди! Все русские! И велик бог ваш, и не оставит вас, только живите по заповедям Христовым!»
Андрей верит, что услышанный зов не пропадет. И тут ему выпадает случай впервые говорить самостоятельно, без чужой подсказки, без чужого руководства.
Его не забыли. После иконостаса Благовещенского собора имя Андрея Рублева произносят и в народе и в княжеских теремах.
Говорят, народился на Руси художник, способный потягаться с лучшими византийскими мастерами. Молод да благочестив и, видно, угоден богу. На иконы его взирать — легко становится, словно омывают они глаза и думы. Войдешь в храм с невеселыми мыслями, а там словно благодати коснешься, при выходе и солнце тебе ярче светит и мир добрее кажется.
Видно, этот чернец воистину богом послан. Ведь и правда, разве так уж плохо на Руси? Разве не одолели поганых, разве не утишили ворогов, разве не сумеем и с другими напастями справиться? Сумеем! Встанем стеною, навалимся дружно, и никакие ханы не одолеют, никакое лихо не возьмет! Есть худые люди, жадные, своих гнетущие, об одном богачестве помышляющие. Есть! Да не их правда верх одержит! Христианская.
А мастер Андрей, слышь, Сергия Радонежского выученик. Самого чудотворца! Вон откуда ниточка-то вьется! Стало быть, он свой, истину говорит…
Так или приблизительно так воспринимается бодрое светлое творчество Рублева в народе.
Оно отвечает и потребностям части московского боярства, московских князей в искусстве, укрепляющем надежды на будущее.
Один из братьев великого князя, Юрий Дмитриевич Звенигородский, задумав заново украсить храмы своего города, обращается к Даниилу и Андрею Рублеву с предложением поехать в Звенигород, возглавить работу тамошних и приглашенных из других монастырей мастеров.
Лучшего нельзя себе представить! Вот и можно, наконец, осуществить не дающие покоя мечты!
Однажды у ворот Спасо-Андрониковского монастыря останавливаются телеги со двора звенигородского князя.
Княжеский тиун ищет чернецов Андрея и Даниила.
Князь наказал забрать мастеров и довезти в покое.
Андрей и Даниил собираются. Это недолгие сборы. Бельишко да кисти, вот и все.
Тиун таращит глаза. Он ожидал увидеть благообразных седых старцев, а к нему выходят люди моложе его. Один особливо юн. Смоляная бородка весело курчавится, быстрые глаза щурятся от солнечного света улыбчиво, добродушно.
Тиун неуверенно стягивает шапку, переступает с ноги на ногу, переводит взгляд с одного чернеца на другого и, наконец, обращается к тому, что постарше:
— Отче Андрей, прислал по тебя князь Юрий Митрич…
— Даниил я, — усмехаясь, отвечает чернец. — Андрей вот.
И кивает в сторону юного монаха, который весело смеется ошибке княжеского слуги.
Звенигород. Веселые, в шумных лесах холмы, овраги со студеными ручьями, белые стены княжеских палат, старые монастыри. Гнездо сына Дмитрия Донского — Юрия, отца будущего яростного противника московских князей — Дмитрия Юрьевича Шемяки, проклятого народом. Княжеские палаты, где никогда не теряют надежды получить великое владимирское княжение, где настроены по отношению к московскому двору недоброжелательно, пытаются соперничать с ним. Как раз в это время, в 1406 году, умирает мать Василия и Юрия, супруга Дмитрия Донского. По смерти владения княгини отходят к ее сыновьям. Василий получает бóльшую часть: ведь он старший. Делят земли и добро в согласии с завещанием Дмитрия Донского. Там все оговорено. Оговорено и то, что если умрет Василий, то великокняжеский стол и все имущество должны отойти к Юрию… Это не по нраву ни Василию, думающему о семье, ни московским боярам, крепко связанным с семьей великого князя. Зато это по нраву Юрию Звенигородскому. Князь Юрий не упускает случая напомнить каждому о своих правах, а так как глубокая религиозность в ту пору считается необходимым признаком достоинства и благородства, князь не думает уступать брату Василию и здесь. Пусть видят, что Юрий Звенигородский чтит бога больше, чем сидящий на Москве братец. В Москве воздвигли церковь Благовещения, зато в Звенигороде при помощи Юрия строят собор Саввино-Сторожевского монастыря. Юрий намерен богато украсить этот собор, а заодно обновить росписи и других храмов, сделанные давно и не очень искусными богомазами. Зазвать лучших московских живописцев не так-то просто. Вдруг воспротивится князь Василий. Но у Юрия есть крепкая заручка. Основатель Саввино-Сторожевского монастыря преподобный Савва Сторожевский — ученик Сергия Радонежского, тот самый временный игумен монастыря Святой Троицы, что шесть лет возглавлял тамошнюю братию во время «молчания» Никона. Савва знает Даниила Черного, и тот не откажет в просьбе старому сподвижнику Сергия. Стало быть, не откажет и Андрей Рублев. Вероятно, князь Юрий Дмитриевич, приглашая художников, действует через церковные круги. Его расчет оправдывается. Москвичи прибывают. Теперь звенигородские храмы не уступят московским. Князь Юрий доволен. Даниила и Андрея встречают с почетом. Им обещают дать все, что понадобится. Только пусть потрудятся во славу божию и верного раба божия Юрия и семени его…
Даниил взволнован предстоящей встречей с товарищем по жизни в Святой Троице. Пока телеги, подпрыгивая на корневищах лесных дорог, вваливаясь в ухабы и покачиваясь на размытыхколеях, ползут к Звенигороду, Даниил то и дело возвращается памятью к давно прожитому. Рассказывает, что Сергий очень любил Савву, часто беседовал с ним с глазу на глаз, с удовольствием слушал его чтение, во всем доверял. Савва еще тогда в обитель пришел, когда вокруг глухой лес шумел и ни один мужик поблизости не селился. Вместе с игуменом он голодал, корчевал пни, переписывал книги на бересте; вместе с ним провожал князя Дмитрия на Мамая, был в церкви, когда Сергию довелось «прозреть» великую победу над татарами, и делил с «чудотворцем» тверское изгнание при Тохтамыше… Андрей слушает. Живое воображение рисует недосказанное, и недавнее прошлое предстает открытой и ищущей добра душе его как удивительно счастливое время великих подвижников и полководцев. Героические подвиги предшествующего поколения, его высокая нравственная чистота, готовность к самопожертвованию ради родной земли и истин христианства стесняют дыхание, вызывают зависть. О, если б довелось ему сподобиться судьбе Пересвета или Осляби, вдохнуть вечернюю свежесть задонских лугов, отдать кровь за братьев своих! Встать на стенах Москвы и, подобно суконщику Адаму, ударить стрелой в сердце татарского царевича, терпеть вместе со всеми горожанами мор и голод, но не уступить силе… О, если бы! Но все это далеко… И вот Саввино-Сторожевский монастырь. Светлая речушка Разварка сливает близ монастырского холма свои неторопливые воды с прозрачными водами Москвы-реки, еще узкой, мелкой, словно золотящейся от песка. Игумен Савва дряхл. Слезящиеся глаза не сразу узнают Даниила, седая голова трясется, большие, потемневшие от старости руки с толстыми узлами вен непрерывно ощупывают посох, словно игумен боится потерять его. — Слава богу, слава богу… — бормочет Савва, узнав, что мастера доехали благополучно и что князь Юрий приветил их. — Слава богу… А вот Стефан-то умер. Да. И не повидались… Да. Молодой еще был… Андрей догадывается что игумен вспомнил о недавно умершем Стефане Махрищском, основателе Авнежского монастыря, тоже ученике Сергия. Стефану за несколько дней до смерти исполнилось восемьдесят лет, но, полный давних грез, девяностовосьмилетний игумен Савва все еще видит старого товарища молодым. — Все, все умирают, — продолжает бормотать Савва. — Одни молодшие остаются. Авраамий вон да Кирилл… Павел-то жив? — Здравствует преподобный Павел, — почтительно отвечает Даниил. — Да… Павел… Мало… Мало… Прошло время… Мало… Игумен поникает. Живописцы осторожно переглядываются. Даниил жалостливо изгибает брови, щеки его дрожат. Но Савва внезапно оживает. — Ты ступай, ступай, — помахивает он рукой Андрею. — Да. Иди. А ты, — рука игумена тянется к Даниилу, — ты сядь… Знаю тебя. Ты из Киева к нам пришел. Мне образ божьей матери писал… Сядь… Андрей немного задет, но уходить надо. Понятно, что старому игумену хочется поговорить с Даниилом. Ведь у обоих много общих воспоминаний. Только досадно, что тебя чуть ли не прогнали. В монастыре оставаться не хочется. Мешают любопытные взоры чернецов. Андрей уходит на берег Разварки, ложится на траву, и постепенно мысли его меняют направление, он начинает мечтать о том, как распишет монастырский собор. Для князя Юрия, сына Дмитрия Донского, он хотел бы написать так, как не писал никто и никогда. Он изберет такие евангельские истории и такие жития, какие могут прославить мудрость, стойкость и верность. Ему уже чудятся горы Фаворские и лики мучеников… Постепенно всплывающие перед внутренним взором образы захватывают художника, вызванная Саввой обида тает, расходится, как случайное облачко в летнем небе. Андрей не замечает, как подходит Даниил. Тот окликает товарища, садится рядом. — Жалко игумена? — спрашивает Андрей, заметив хмурое лицо учителя. Даниил смотрит вопросительно, не понимая, потом догадывается о смысле вопроса и отрицательно качает головой. Нет. Дело не в игумене Савве. Тот не боится предстать перед судом Всевышнего. Совесть его чиста. Но игумен Савва опечален гордыней князя Юрия Дмитриевича. Злобствует князь на брата, сидящего в Москве, занимающего Владимирский стол. Носит в сердце темные замыслы, нет-нет да проговорится о них, и сына малолетнего поучает, что дядя чуть ли не враг ему. Не приводят к добру такие поучения. Испокон века Русь и христианская вера от княжеских распрей терпели и страдали. Но не склонен князь внимать увещаниям. На своем стоит, не желая мириться с волей отца. Вот похвалялся, что московских мастеров для того сманил, чтобы Василия в украшении храмов превзойти. Недобр, корыстен Юрий. Горько сознавать сие… Горько думать, куда гордыня князя завести может… Андрей ошеломлен. Не таким виделся ему звенигородский князь. Нарочно пропускал молодой мастер мимо ушей рассказы о вспыльчивости, жестокости и хитрости Юрия. Думал, наветы. А оказывается, совсем не тот князь, каким его видеть хотелось. Но ведь это значит, что и в наветах доля истины есть… Андрей темнеет.
До нас дошла неизмеримо малая часть работ Андрея Рублева и Даниила Черного в Звенигороде. Но и то, что сохранилось, позволяет не только увидеть, как потрясающе быстро развернулся гений художника, но и оценить по достоинству смелость 25–26-летнего мастера, без обиняков, бесстрашно показавшего в легендарных образах священного писания и краске свое отношение к действительности. Как иначе расценить изображенную на одном из алтарных столбов Успенского собора «На Городке» сцену, где старец Варлаам поучает молодого царевича Иосафа? Любой современник Рублева знал историю Варлаама и Иосафа очень хорошо. Юный царевич, косневший в язычестве, встретил отшельника, который «просветил» его и тайно крестил. Сделавшись царем, Иосаф ввел в своей стране христианство и затем, понимая, что мирские радости, власть и богатство ничего не могут прибавить его душе и способны скорее обречь ее на мучения, сам удалился в пустыню, где нашел «истинное» счастье. Искусствоведение давно усматривало в этой сцене намек мастера на отношения князя Юрия Звенигородского с Сергием Радонежским. Считалось, что Рублев хотел напомнить своей фреской о «духовной» близости игумена и Юрия. Основатель Троицкого монастыря действительно был крестным отцом князя, не раз беседовал с последним, когда тот уже стал юношей, получил от отца свой удел. Но за четырнадцать лет, протекших со смерти Сергия Радонежского, его поучения звенигородский князь забыл основательно. И хотя изображенная Рублевым сцена вполне невинна, и ее можно действительно воспринять как хвалу чтящему бога князю Юрию, на самом деле в ней заключалось скорее строгое напоминание звенигородскому владыке о заветах Сергия, совет смириться, не умышлять против старшего брата и всего народа. Нет сомнения, что князь Юрий правильно понял молодого послушника, но вынужден был смолчать и проглотить поучение юнца. Своей репутацией крестника Сергия Радонежского он дорожил бесконечно! Можно предполагать, что затронутую в этой сцене тему Андрей Рублев продолжил и в других, не уцелевших до наших дней росписях. Во всяком случае, совершенно новое толкование образов святых Флора и Лавра в медальонах тех же алтарных столбов вряд ли объясняется простым стремлением художника к неосмысленному воспроизведению юношеской красоты. Флор и Лавр почитались на Руси как покровители воинов и коней. С их образами связывались представления о ратных подвигах. Казалось бы, всего естественней для любого живописца изобразить этих святых твердыми, волевыми, почти суровыми. Но Андрей Рублев словно забывает, кто такие Флор и Лавр, рисуя обоих задумчивыми, размышляющими о трудностях земного пути человека, озаренными чистой радостью праведной жизни, но никак не рвущимися в битвы и походы. Что это? Неразумие? Нет, еще одно поучение, напоминание о необходимости и князю «помнить бога», поступать справедливо, не идти против судьбы. Тут же имеется еще одна сцена — монах, старец Пахомий склоняет голову перед ангелом, поднимающим руку к небесам и стремящимся как бы ободрить старца. Дружелюбие, согласие Пахомия и обитателя иных, заоблачных сфер переданы по-рублевски убедительно. Мастер пытается внушить зрителю, что праведность земного бытия и «вечная жизнь» слиты неразрывно, что в искренности и чистоте помыслов человека хранится залог его бессмертия. Эта ясная мысль продолжает думы, высказанные Андреем в остальных росписях. Время не пощадило замечательных фресок. Но можно догадываться, как мощно, светозарно звучали в Успенском соборе бирюзовые, небесно-голубые, розовые и золотистые тона кисти Рублева, творящего раскованно и страстно. Источники не сохранили известий о том, как вел себя князь Юрий Дмитриевич, войдя в расписанный храм, впервые разглядывая стены и новые иконы. Видимо, сначала князь набожно крестится, пораженный праздничностью картины, не знает, на чем остановить глаза. Улыбаясь, щурясь, поглаживая бородку, самодовольно стоит он посреди храма: наследник великого княжения, крестник Сергия. За князем толпятся близкие, челядь, слуги. Слышны вздохи, благоговейный шепот, похвалы мастерам, которые держатся чуть в стороне, бледные, с усталыми и странно сосредоточенными лицами. Князь смотрит… Но вот рука его, гладящая бородку, на миг застывает, довольная улыбка сменяется растерянной, Юрий переступает с ноги на ногу. Князю кажется, что пол разверзся и он летит в бездну. Огоньки свечей сливаются в какое-то бесовское мерцание, в ушах звенит бросившаяся в голову кровь, в груди возникает сосущая, тоскливая пустота. У Юрия такое ощущение, что его нагим выставили на позорище. Усилием воли князь заставляет себя снова улыбнуться, нарочито спокойно продолжает водить ладонью по бороде. Но он слышит, что хвалебный шумок за спиной оборвался и сгущается неловкое смятенное молчание. Не он один, все догадались, к чему здесь, на стенах, рассказаны истории о царевичах и монахах… В мозгу князя вспыхивает подозрение: «Брата Василия наущения! Подучили мастеров!» Ему трудно сдержаться, но Юрий сдерживается. Показать свою досаду, свой гнев — значит признать правоту этих московских выкормышей. Нет, не дождутся такого! И князь направляется к мастерам. Выпрямившись, плечом к плечу стоят Даниил и Андрей, прямо, без подобающего чернецам смирения смотрят в глаза князя. Юрий первый отводит взор. — Благодарю вас, отцы, — выговаривает князь и с плохо спрятанным раздражением добавляет: — Не по годам мудрость ваша, как зрю. Зело хитро пишете. Лишь дивиться можно, как умудрены сему были… — Писали, яко господь бог вразумил! — напряженно и твердо звучит голос Андрея. — Во славу божию старались, князь, по мере малых сил наших твой храм украсить. Прости, коли что не понравилось… И нечего сказать князю Юрию, остается лишь хвалить новоявленных Варлаамов, и тем усерднее, чем злее скребут на сердце кошки. Андрей Рублев и Даниил взволнованы. Андрей чувствует, что сегодня они с Даниилом достойны быть продолжателями дел славных учителей и предков.
Несколько позднее росписи Успенского собора «На Городке» Андрей Рублев и Даниил Черный создают «погрудный чин» для собора Саввино-Сторожевского монастыря. От этого чина уцелели всего три иконы. Но эти три иконы стоят иных картинных галерей. Останься из всего творчества Рублева лишь они одни, русский народ и тогда мог бы гордиться тем, что его великие сыновья, жившие и работавшие за сто лет до гениальных мастеров Возрождения, в ином предупредили, а в ином и превзошли их. Вероятно, иконы созданы году в 1407-м, через год после столкновения Москвы с Литвой, закончившегося мирными переговорами Василия Дмитриевича и Витовта, и в год смерти Саввы Сторожевского. Мир с Литвой москвичей радовал. Радовал он, конечно, и Рублева. А смерть еще одного ученика Сергия должна была вызвать в художнике простую человеческую боль, обострить его чувство долга перед памятью учителей и наставников. Нужда в проповеди человеческого достоинства, нужда в споре с мрачным, безысходным мировоззрением, сковывающим душу и парализующим волю людей, отнюдь не миновала. Совсем недавно, год назад, во всех церквах читали прихожанам посмертное послание скончавшегося митрополита Киприана. Родом серб, Киприан воспитывался и получил образование где-то на юге, возможно, в самом Царьграде, обратил на себя внимание патриарха Филофея и в 1376 году был посвящен им в киевские митрополиты. Это было сделано без согласования с Москвой, ущемляло права московского великого князя и митрополита. В «тактичности» византийцев, по сути дела навязавших Руси своего ставленника, когда еще здравствовал митрополит Алексий, народ, церковь и князья усмотрели оскорбление. Одобряемый духовенством и боярством при сочувствии всех верующих, Дмитрий Донской в конце концов не допустил Киприана к митрополичьей кафедре в Москве, и преемником Алексия был избран русскими епископами угодный великому князю митрополит Митяй. Киприану вопреки надеждам на получение Московской кафедры пришлось надолго осесть в Киеве и ограничить свою деятельность управлением лишь православным литовским духовенством. Двусмысленность положения, сознание собственного бессилия, конечно, беспокоили и раздражали митрополита без паствы. Лишь в 1380 году, когда Митяй умер, великий князь согласился принять Киприана, и тот было выехал в Москву, но уже через два года оказался вынужденным опять убраться в Киев: Дмитрий заподозрил митрополита в сношениях с Ольгердом. Напрасно Киприан взывал к патриаршему суду, ездил в Константинополь, оправдывался и обвинял. Москва держалась твердо. Только через год после ранней смерти Дмитрия Донского опальный владыка водворился, наконец, в московской митрополии. Вряд ли Дмитрий Донской был прав в своих подозрениях по отношению к Киприану. Тот показал себя не только как последовательный проводник московской политики, но и как умелый дипломат. Несмотря на происки западных церковников, он сохранил единство церкви, что на практике означало тогда сохранение великокняжеского влияния на западные и южные области страны. Широко образованный, Киприан перевел много греческих книг, ввел новый, согласный с византийским церковный устав, чем положил конец ряду недоумений и столкновений между русским и приезжим из Царьграда духовенством, сумел понять особенности своей митрополии и уважал русских людей. Но все же он был церковником чисто византийской выучки, с византийским отношением к миру и его явлениям. Это всегда ощущалось русскими, а в посмертном послании митрополита прозвучало на всю Русь с особенной ясностью. Блестящее по стилю послание Киприана апеллировало к чувствам верующих, призывало их презреть все мирские заботы, не надеяться на земную жизнь, этот короткий сон меж двойным пребыванием в небытие — до рождения и после смерти, — рисовало путь человека как бессмысленный и грешный. Умелая проповедь митрополита обретала особую власть над душами православных тем, что произносилась как бы уже из потустороннего мира. Эта проповедь вызывала у слушателей слезы, она была, бесспорно, искренней, но подавляла, шла вразрез с традицией русских «подвижников», с исторической задачей народа, с его стремлением изменить условия своего существования, довести до конца дело освобождения от татарского ига. У людей вроде Андрея Рублева мрачное «вещание» Киприана встретить сочувствия не могло, как не встречало сочувствия суровое, неприветливое творчество Феофана Грека. И, выполняя чин для монастыря Саввы Сторожевского, Андрей Рублев еще раз возвышает голос в защиту человека. Только теперь это голос мастера, уже знающего свою силу, прозревшего ту истину, что правда и борьба не довольствуются оружием вчерашнего дня, выковывают его для себя заново. Мы судим об Андрее Рублеве этой поры по иконам Спаса, архангела Михаила и апостола Павла. Они, по выражению М. В. Алпатова, «как античные мраморы ничуть не утратили художественной ценности из-за своей фрагментарности». Трудно, да просто и невозможно передавать словами впечатление от ваяния, музыки и живописи. Каждую картину и скульптуру надо видеть, каждую сонату прослушать самому. И не раз, не два. Многократно. Это общеизвестно. Всмотритесь же в эти три иконы Рублева. Поставьте себя на миг в положение зрителя — его современника, рядового московского или звенигородского жителя, пришедшего в монастырь испросить у бога, единственной надежды своей, милости и помощи. С детства ходите вы в храмы. С детства приучены трепетать перед грозным, властным божеством. Бог глядит на вас гневным взором. Ему ведомы все ваши грехи, каждый неправедный шаг, и он угрожает вам, требует отчаянного покаяния, беспрекословного поклонения, отречения от себя. Трудно защитникам и заступникам вашим — архангелам, апостолам, мученикам и самой деве Марии — молить бога за подлый, растленный человеческий род. Никнут они перед Спасителем, не в силах произнести слова оправдания людям или в судорожном отчаянии, зная, что бессильны слова, просто протягивают длани к создателю: «Смилуйся!..» С опущенными долу головами, покорные, безмолвные, притихшие, входят в храм молельщики. Ведь прожить без греха нельзя! Все тут грешны, и все страшатся господней кары. Холодок камня. Переливы свечей. Разноцветные сияния лампад. Осторожное шарканье ног. Глухой стук: кладут обещанные поклоны, бросаясь ниц перед алтарем, вошедшие до вас. Со стесненным сердцем, проникшись трепетом, решаетесь вы обратить тоскливый, робкий взор к всемилостивому Спасу… И не сразу верите глазам. Грозного, беспощадного бога, какой всегда взирал на вас с недоступных горних высот, больше не существует. Остановился перед своим народом и повернул лицо к нему иной Спаситель. Всезнающий, все прозревший, но спокойно уверенный в неизбежности совершающегося. Слышит Спаситель моления людских заступников, и задумчив взгляд его, устремленный в неведомую простым смертным даль. Жалко людей, обреченных на тягостное существование, но нельзя еще открыть им завесу грядущего. Можно лишь явить добрый образ свой… Икона Спаса из Саввино-Сторожевского монастыря наверняка казалась образованному современнику Рублева удивительной при первом же знакомстве с нею, хотя бы в силу совершенной неожиданности своей, в силу невиданности. Она не могла не потрясать, так необычны были в ней и поворот головы, и человечное выражение лица Спаса, и проникновенный, кроткий взгляд его, взор, видящий невидимое другим. Таким проницающим будущее взором смотрит, кроме рублевского Спаса, лишь Мадонна Рафаэля. Но она открыла свои изумительные глаза только сто лет спустя. Сто лет спустя! А все эти сто лет с алтаря русского монастыря над незатейливой речкой Разваркой тепло глядел на человечество лишь рублевский Спас. Особая выразительность этого образа достигнута Андреем Рублевым приемом настолько смелым и своеобразным, что он ускользал даже от гениальных мастеров Возрождения, оставался для них недостижимым. Впервые в истории живописи русский мастер соединил две точки зрения на образ, поставив фигуру Спаса в трехчетвертном повороте, а лицо повернув прямо к зрителю. Так «Нерукотворный Спас» Андрея Рублева, неколебимый, твердый, в то же время предстал живым, близким людям и озабоченным их судьбой. Не менее впечатляющи и архангел Михаил с апостолом Павлом. Каждый из них несет неповторимые черты рублевского стиля. С грустью склоняет кудрявую голову опечаленный людским горем архангел, словно все уже сказав, не решаясь больше беспокоить Спасителя, покорно ожидая его милости. Принес свои мольбы, сам понимает, что молит за недостойных, но не может не заступиться за них Павел. Глубоко и скорбно задумался он, исходив всю землю, насмотревшись на людскую ложь и зло и понимая, что только одна доброта может спасти мир. Вторя теплым, душевным движениям фигур, плавно льются их контуры, тихо и нежно струятся краски, будто бы подсказанные художнику задумчивой прелестью русской осени: холодновато-голубые, как осеннее небо, золотистые, будто леса в последнем убранстве, мягко-розовые, как неторопливая октябрьская заря… Соединенные самой природой, гением художника они соединены с самым гуманным его творением тех лет, и красота их слилась с представлением о духовной чистоте человека впервые. Мысля образами священного писания, — а в его время это общепринято, и, стало быть, язык художника народен, вседоступен, — Рублев, однако, порывает с канонами, раскрывая в ликах и фигурах божественных персонажей очень земные, знакомые любому человеку чувства. Мастер проникает в психологию своих образов так глубоко и воспроизводит их внутренний мир так тонко, что каждая икона получает многогранность, в каждом лике соединяются различные движения души и сердца. Мы знаем только три иконы из Звенигородского чина, всего же их было, как предполагают, семь. Значит, современники Андрея Рублева видели еще четыре гениальных творения, и воздействие Звенигородского чина на зрителя XV века оказывалось еще более могучим. Победа в споре с митрополитом Киприаном, с Феофаном и его последователями, победа в схватке с упадочнической, вырождающейся философской мыслью византийских церковников переходила на сторону Рублева. Но Рублев не только утверждал новое в религиозной мысли, не только с предельным мастерством выражал христианские идеи своих учителей. Он шел дальше — к приятию человека, к приятию жизни во всей ее материальности. Сам он мог недостаточно ясно сознавать это, оставаясь верным сыном церкви, строгим исполнителем ее обрядов и предписаний. Однако его художественное мышление неприметно для живописца уже вступало в непримиримое противоречие с его философией.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
 Признание!
Великий князь, московские духовные лица, бояре, даже простолюдины говорят о чернеце Спасо-Андрониковского монастыря как когда-то о Феофане. Люди приходят в монастырь, чтобы поглядеть на молодого инока, «сподобленного зреть бога», умудренного, сказывают, паче седых отшельников.
Бабы, провожая его жалостливыми взглядами, медленно крестятся. «Ишь, какой ладный, да крепкий, да молодой, а постригся, за весь мир печалится… Заступник наш!»
А он чувствует себя под любопытными взглядами, среди шепотков, среди почтительно расступающейся толпы неловко, стесненно.
Искусство словно отстранило его от людей. Но разве этого ему хотелось?
Разве ради славы прошли лихорадочные, бессонные ночи, напряженные дни, изматывающие тело и душу?
Хорошо, что заворачивает зима, вьюги заметают дороги, наваливают сугробы, а морозы загоняют людей в терема да избы, поближе к печам, к теплу и тишине родных углов. Богомольцев становится мало. На монастырском дворе, в церквах одни свои.
Андрей, наверстывая упущенное, читает новые греческие и переводные книги, но самое важное — ему опять неудержимо хочется писать.
Он не может не писать.
Там, в Звенигороде, он окончательно поверил в себя. И теперь пишет, пишет, предугадывая в нынешних иконах то, что скажет будущей весной…
У игумена возникает желание создать новую иконописную мастерскую.
Андрей загорается.
Это ему по душе.
Ведутся разговоры, где устроить помещение, считают, сколько пойдет леса на постройку, советуются, как сделать мастерскую и светлой и теплой, рядятся с торговцами тесом и стеклом, и вот уже втягиваются в ворота первые сани-волокуши с обледенелыми бревнами, валит под оконцами келий пар от лошаденок с курчавой, потной шерстью.
Возчики, народ здоровый и занятой, распутывают смерзшиеся веревки, с трудом удерживаясь от брани: в святом месте нельзя.
Привычными, задубелыми пальцами, а то и зубами они мало-помалу справляются с делом. А вот монах, сунувшийся помогать, все бьется над одним узлом.
— А ну-ка, отче, позволь!.. — отстраняет монаха кряжистый бородач. — Это тебе, видать, не сподручно… Во как надо, гляди!
Андрею и досадно, что его так легко и без всякого почтения отодвинули в сторону, и хорошо. Тут, среди мужиков, которым недосуг разбираться, кто ты да что, художник ощущает себя свободным, ему просто и приятно.
Хорошо и со старыми товарищами, уважительно, без славословия говорящими с ним об иконописной работе. Каждый из них много трудится сам: переписывают книги, собирают рукописи, изучают языки, ведут летописи, мастерят всякую утварь…
Есть, конечно, совсем немудреный народ, не смыслящий даже грамоте, неприметный.
Но есть и блестящие ораторы, знатоки всех богословских тонкостей.
Андрей таких уважает, только странно ему при беседах с иными слышать какую-то недоговоренность, видеть текучие уклончивые взгляды.
— Зависть… — вздыхает Даниил.
Андрей огорчен и недоумевает. Чему завидовать? Ведь каждая икона, каждая фреска даются мучительным напряжением сил, стоят огромных затрат чувства и после работы уже ничего иногда не хочешь, не можешь ни о чем думать… И этому завидовать? Завидовать тяжкому кресту, взваленному на слабые человеческие плечи?
Горько изломив брови, подолгу стоит он, глядя в замерзшее окно кельи.
Все отдано им дару художника, и ничего у него нет, кроме этого дара, тоже отдаваемого другим.
А где радость и покой?
В самом начале — ссора с Никоном. Потом неприязнь Феофана и других московских иконописцев. Скрытый гнев князя Юрия, и вот теперь завистники в самом монастыре…
Он знает, кое-кто поговаривает, будто нет в иконах Рублева божественного страха, смирения, трепета.
Разговорчики глухие. Шептуны боятся великого князя, довольного росписями, сделанными для Юрия Звенигородского. Но они есть, есть, и неизвестно, как еще обернется завтрашний день.
Андрей проводит рукой по усталым глазам, гонит прочь сомнения, тревоги и погружается в молитвы, знакомыми словами заглушая все будничное, мелкое, подленькое, не имеющее права вторгаться в огромный, светлый мир его веры.
Пусть завидуют, негодуют, гневаются, пусть винят — он будет делать то, что подсказано сердцем.
Признание!
Великий князь, московские духовные лица, бояре, даже простолюдины говорят о чернеце Спасо-Андрониковского монастыря как когда-то о Феофане. Люди приходят в монастырь, чтобы поглядеть на молодого инока, «сподобленного зреть бога», умудренного, сказывают, паче седых отшельников.
Бабы, провожая его жалостливыми взглядами, медленно крестятся. «Ишь, какой ладный, да крепкий, да молодой, а постригся, за весь мир печалится… Заступник наш!»
А он чувствует себя под любопытными взглядами, среди шепотков, среди почтительно расступающейся толпы неловко, стесненно.
Искусство словно отстранило его от людей. Но разве этого ему хотелось?
Разве ради славы прошли лихорадочные, бессонные ночи, напряженные дни, изматывающие тело и душу?
Хорошо, что заворачивает зима, вьюги заметают дороги, наваливают сугробы, а морозы загоняют людей в терема да избы, поближе к печам, к теплу и тишине родных углов. Богомольцев становится мало. На монастырском дворе, в церквах одни свои.
Андрей, наверстывая упущенное, читает новые греческие и переводные книги, но самое важное — ему опять неудержимо хочется писать.
Он не может не писать.
Там, в Звенигороде, он окончательно поверил в себя. И теперь пишет, пишет, предугадывая в нынешних иконах то, что скажет будущей весной…
У игумена возникает желание создать новую иконописную мастерскую.
Андрей загорается.
Это ему по душе.
Ведутся разговоры, где устроить помещение, считают, сколько пойдет леса на постройку, советуются, как сделать мастерскую и светлой и теплой, рядятся с торговцами тесом и стеклом, и вот уже втягиваются в ворота первые сани-волокуши с обледенелыми бревнами, валит под оконцами келий пар от лошаденок с курчавой, потной шерстью.
Возчики, народ здоровый и занятой, распутывают смерзшиеся веревки, с трудом удерживаясь от брани: в святом месте нельзя.
Привычными, задубелыми пальцами, а то и зубами они мало-помалу справляются с делом. А вот монах, сунувшийся помогать, все бьется над одним узлом.
— А ну-ка, отче, позволь!.. — отстраняет монаха кряжистый бородач. — Это тебе, видать, не сподручно… Во как надо, гляди!
Андрею и досадно, что его так легко и без всякого почтения отодвинули в сторону, и хорошо. Тут, среди мужиков, которым недосуг разбираться, кто ты да что, художник ощущает себя свободным, ему просто и приятно.
Хорошо и со старыми товарищами, уважительно, без славословия говорящими с ним об иконописной работе. Каждый из них много трудится сам: переписывают книги, собирают рукописи, изучают языки, ведут летописи, мастерят всякую утварь…
Есть, конечно, совсем немудреный народ, не смыслящий даже грамоте, неприметный.
Но есть и блестящие ораторы, знатоки всех богословских тонкостей.
Андрей таких уважает, только странно ему при беседах с иными слышать какую-то недоговоренность, видеть текучие уклончивые взгляды.
— Зависть… — вздыхает Даниил.
Андрей огорчен и недоумевает. Чему завидовать? Ведь каждая икона, каждая фреска даются мучительным напряжением сил, стоят огромных затрат чувства и после работы уже ничего иногда не хочешь, не можешь ни о чем думать… И этому завидовать? Завидовать тяжкому кресту, взваленному на слабые человеческие плечи?
Горько изломив брови, подолгу стоит он, глядя в замерзшее окно кельи.
Все отдано им дару художника, и ничего у него нет, кроме этого дара, тоже отдаваемого другим.
А где радость и покой?
В самом начале — ссора с Никоном. Потом неприязнь Феофана и других московских иконописцев. Скрытый гнев князя Юрия, и вот теперь завистники в самом монастыре…
Он знает, кое-кто поговаривает, будто нет в иконах Рублева божественного страха, смирения, трепета.
Разговорчики глухие. Шептуны боятся великого князя, довольного росписями, сделанными для Юрия Звенигородского. Но они есть, есть, и неизвестно, как еще обернется завтрашний день.
Андрей проводит рукой по усталым глазам, гонит прочь сомнения, тревоги и погружается в молитвы, знакомыми словами заглушая все будничное, мелкое, подленькое, не имеющее права вторгаться в огромный, светлый мир его веры.
Пусть завидуют, негодуют, гневаются, пусть винят — он будет делать то, что подсказано сердцем.
Три года подряд Москва сходится с Литвой на поле брани: в 1406 году возле Крапивны, в 1407 — под Вязьмой и в 1408 году на берегах Угры. Каждый раз тесть и зять, постояв друг против друга, встречаются и улаживают разногласия миром. Тем не менее, очевидно, боязнь Витовта[5], так настойчиво рвущегося к северным землям, считающего, что расположенные на западе Новгород и Псков должны находиться под его рукою, именно эта боязнь склоняет великого князя Василия Дмитриевича к старобоярской партии, стоящей за более тесные отношения с Золотой Ордой, за умиротворение Эдигея. Боярин Кошка, роды Плещеевых, Вельяминовых, Челедняных, Жеребцовых — племянников митрополита Алексия, руководителя молодого Донского — навлекают на себя немилость. О недавнем налете Эдигея на стольный Владимир стараются позабыть. Сами-де виноваты, слушали «молодых», несмышленых, горячих, дерзили ордынцам, вот и поплатились! Ну, ништо. На Москву-то хан не пошел. Знать, силы, не хватило. Однако злобить Эдигея не след. Надо мирно с татарами дела улаживать, а против Витовта меч держать… На татарском дворе в Кремле оживление, пиры. Василий Дмитриевич, сближаясь с Новгородом, выпускает из темницы захваченных в 1404 году новгородского архиепископа Иоанна и пленных бояр. В Сарай едут послы. Их поезд, по обычаю, близкие провожают до Спасо-Андрониковского монастыря. Тут остановка, молебен в храме, благословение игумена, поцелуи, объятия, всхлипыванья боярских жен. Потом послы уезжают, провожающие возвращаются в Москву, и наступает прежняя тишина. Высокие стены обители, голые деревья да снег, снег, снег… Но в тот вечер не у одного чернеца возникают опасливые, неодобрительные думы. Не одному крутой поворот московской политики представляется рискованным. Все надеются, конечно, что ничего плохого не случится. Но все же поведение Василия Дмитриевича, вроде забывшего, как поступал с татарами его отец, отдает изменой делу долгой общей борьбы. В келье Андрея и Даниила темно. Лишь еле-еле теплится, не в силах осветить всю икону, лампадка в углу. Учителю и ученику не спится. Их тоже мучат сомнения. Верно ли поступил великий князь? Не лучше ли было договориться с Витовтом, может, в чем и уступить, да не якшаться с поганым мурзой? Ведь никогда «дружба» татар Русь к хорошему не приводила. Ведь били их раньше, и давно уж Орду в грош не ставили, чего же теперь убоялись? Неужто Эдигей страшней Мамая? Неужто лучше дань платить и опять насилия терпеть, чем собрать дружины да пригрозить? Небось тот же Витовт бы помог да другие города русские встали бы… Успокоение можно найти только в мысли, что великий князь перехитрит татар, как удавалось ему это и до сих пор. Друзья заговаривают о Василии Дмитриевиче. Нет, не таков он, чтобы покориться Орде! Вспоминают, что при нашествии Тамерлана великий князь сам встал во главе русских войск, что татарских послов отпускал доселе с пустыми руками, что сам водил рати на Витовта, и на новгородцев… Вспоминают все самое хорошее, чтобы утишить свои сомнения, не дать им разрастись. И в конце концов оба убеждают себя, что Василий Дмитриевич мудрей своих бояр. Тишина, ночь, снега… Спит Москва. Затихает шепот и в келье художников. Слепая вера! Сколько раз платились за нее русские люди!
Великие князья московские были богомольны. Свои храмы и монастыри они посещали часто. Любил ездить по обителям и Василий Дмитриевич. До Спасо-Андроникова монастыря же было от Кремля не больше часа пути. Значит, великий князь бывал в эту пору у игумена Александра. А если так, то он не мог не видеть Андрея Рублева, не полюбопытствовать, что пишет редкий мастер и не поговорить с ним. Возможно, заходила при этом речь о татарах, и прямодушный живописец высказал, на что надеются иноки обители. Великий князь и сам льстил себя надеждой, что обведет Орду вокруг пальца. Ему приятно было услышать слова Андрея Рублева, и великокняжеское расположение к художнику усилилось. Андрею же Рублеву доставило радость убедиться, что Василий Дмитриевич вовсе и не помышляет отступать от заветов отца и митрополита Алексия. Политическая невинность гениального инока легко объяснима: он переговоров с иноземцами и татарами не ведет, закулисных сторон жизни княжеского двора не знает, казну не считает, числа ратников не предполагает, в походы не ходит. Его дело поддерживать веру. Со всей искренностью Андрей Рублев ее и поддерживает и сам верит, что для Руси наступает светлое, хорошее время. И не исключено, что олицетворением этого светлого времени для живописца является как раз личность Василия Дмитриевича, в котором Рублев хочет видеть воплощение своих лучших надежд. Другое положение у великого князя. Первые пятнадцать лет его правления события складывались для Москвы крайне благоприятно. В Орде разброд. Тамерлан до Москвы не доходит. Женитьба великого князя на дочери Витовта смягчает как-никак отношения с Литвой хотя бы на первых порах. Разве что вечные распри с Новгородом… Но когда их не существовало? Зато Рязань и Тверь ведут себя мирно, споры и несогласия с ними поутихли. Братья, кроме Юрия, все держатся дружно. Москва богатеет. Казна великого князя наполняется. Рать выросла. Казалось бы, все идет как по маслу. Но обстановка к началу четырехсотых годов начинает меняться, а к 1408 году становится просто опасной. И здесь долг государственного деятеля заключается не в том, чтобы жить иллюзиями и полагаться на свою счастливую звезду, оглядываясь на вчерашнее благополучие, а в том, чтобы энергично воздействовать на события, реально оценив расстановку сил и определив главного противника. Этими способностями Василий Дмитриевич — увы! — не обладает. Витовт мнится ему и части бояр главной угрозой, а татары — второстепенной. Полагаются неизвестно на что. Тешат себя взаимным подбадриванием, русским «авось», недооценивают ордынских политиков, в последнее время как будто умеривших свои требования, чуть ли не верят в возможность русско-татарского союза, вместо того чтобы перед лицом извечного врага держать меч наготове. Легкомыслие, выросшее не на почве реальных успехов, а на непонимании хода событий. За это платятся. Этой же трескучей, вьюжной зимой в Москве, в неизвестном нам монастыре, угасает человек со смуглым лицом и большими черными глазами южанина, когда-то быстрыми, блестящими, а теперь неподвижными, тусклыми, глубоко запавшими в орбиты. Он лежит в маленькой келье на постели со сбившимся тюфяком, покрытый поверх рядна тяжелым тулупом, но овчина не избавляет от холода, подступающего к сердцу откуда-то изнутри, из самых глубин беспомощного тела. Человек стар. Отливающая желтизной седая голова высохла, близость смерти обострила черты лица, и теперь умирающий чудовищно похож на тех отшельников и подвижников, что были созданы когда-то его беспокойной кистью. Он все время находится в полузабытьи, где-то на грани между сном и бодрствованием, и уже сам не знает, что ему мерещится, а что происходит наяву. В жаркий царьградский полдень он идет по шумной улице с другом юности, весело убеждает его не покидать город, вокруг — пестрое движение толпы, солнце, синева, и вдруг в это радостное сияние вторгается чья-то рука с жестяной кружкой, настойчиво заливающая в твой рот холодную воду. Монах-сиделец, услышав бред больного, решил напоить его. И нет Царьграда. Ничего нет. А потом появляются из дымки виноградные холмы страны болгар. Склоняется над его ложем улыбчивое женское лицо, и жаркая волна пробегает по бессильно распростертому телу: «Ты?..» Но не мягкая упругость — каменная твердость в приникшей к тебе груди, и жадные губы давно забытой женщины жгут, как огонь, впиваются, не давая дышать, и человек задыхается, мечется, стонет, остатками сознания решая вдруг, что это не женщина, а сатана, карающий за греховную слабость. Никто не ждет, что больному полегчает. Но за день до кончины тот приходит в себя, взор его яснеет, и слабым голосом человек спрашивает у приблизившегося инока, какой нынче день. — Среда… Больному трудно сообразить, сколько же времени прошло? Неуверенно он осведомляется и об этом. — Вторую неделю, брат… Вторую неделю! Значит, с ним плохо. Плохо… — Никто… не приходил? — после долгого молчания выговаривает больной. — Были… Живая искорка вспыхивает в тусклых глазах, согревая взор умирающего. — Князь… Владимир? — Нет, брат. Ты молчи, лежи. — Ученики?.. — Молчи, молчи… Нет. Из Спасо-Андрониковского двое. Даниил да Андрей… Больной долго лежит не шевелясь, прикрыв глаза. Потом из-под серых ресниц выкатывается одинокая слезинка. Нету сил смахнуть ее. Монах тихонько выходит сказать, что Феофану Греку лучше и чтобы поспешили с причастием. Никто не слышит, как шелестят слова умирающего: — Горько… будет… ему. Напрасно… надеется… Правды… нет… у сильных… …Через два дня тело предают земле. Насыпают холмик. Ставят простой деревянный крест. Князя Владимира Андреевича, покровителя художника, на похоронах нет. Дела держат князя в Можайске. Лишь через два месяца Владимир Андреевич заезжает в монастырь, обещает дать денег на каменное надгробие, но потом забывает о своем обещании, и могила гения постепенно зарастает, крест на ней подкашивается, и уже через десяток лет никто, кроме нескольких глубоких стариков, не помнит, кто же тут похоронен. Говорят, какой-то гречин или серб. Кто его знает? Мало ли помирает всяких — и своих и чужих… Последняя мартовская метель воет, как волчица, у которой подавили щенят. Она беснуется до полночи, а наутро в воздухе пахнет свежей водой, оголтело орут на улицах воробьи, курлыкают голуби, и в полдень капает. Санные полозья развозят по колеям оттаявший навоз, вдоль дорог вытягиваются буро-зеленые ремни, снег в сугробах ноздряст, блестящ, небо с каждым днем все выше, синее, пора снимать шубы, и уже стоят лужи, когда по наледям, царапая кое-где проглянувшую землю, вползают в Москву зимние возки бояр — вестников из Сарая. В княжеских теремах суета, волнение. Все с замиранием ждут, что скажут приезжие. Великий князь Василий Дмитриевич посапывает от нетерпения. И с первых же фраз вернувшихся князь перестает сопеть, откидывается на резную спинку стольца и выпячивает грузное брюхо. В тот же день по всей Москве разносится слух: — Мурза Эдигей гнева на Василия Дмитриевича не держит, поверил послам, будто великому князю туго из-за Литвы, с уплатой выхода готов обождать, а Витовта бранил. Москвичи угадывают замысел великого князя: стравить Орду с Литвой, и многие, поощряемые духовенством, ликуют и хвалят мудрость своего повелителя. Пусть-ка Эдигей и Витовт погрызутся. Пусть друг другу горло перервут! Конечно, верить в свою силу и ловкость легче и приятнее, чем здраво рассудить, возможна ли схватка татар и Литвы, этих частых союзников, союзников по самому географическому положению и по общности интересов, заключенных в ослаблении Москвы. Но тем не менее большинство бояр, посадских и духовенства, видимо, радуются и уверены, что тишина и покой на Руси будут длиться долго. Свидетельств этой беспечности можно отыскать в летописях достаточно. Завидев лодки сверху, толкущийся на берегу народ машет руками, от толпы отрываются и мчатся навстречу босоногие мальчонки, приглушенно орут: — Годи! Годи! На езу, занеся выше головы острогу, каменеет бородач в одном армяке. Растопырив кривые ноги, он таращится на рябящую воду, ждет, ждет и вдруг со всей силы мечет острогу в текущий, живой блеск реки. — А-ах! — отзывается берег. Иной раз боец, не устояв, тоже вваливается в воду, но, захлебываясь, цепенея от холода, остроги не выпускает. Вытащенная на берег огромная щука бьет хвостом, хлопает пастью, мальчишки и девки с визгом отскакивают от нее, галдят, а виновник торжества, скинув мокрую одежду, синий, с вытаращенными глазами, прыгает тут же во всем естестве, норовя попасть ногой в сухую порчину, и покрикивает: — Не замай! Пущай ее. Не замай! Смеется народ, плещет река, облачко, как пух, над деревенькой плывет, лодка качается, и то ли от ряби волн, то ли от качки, то ли от смеха девок кружится, кружится голова и бродит по лицу невольная хмельная ульгбка… Весна! Весна! Простор, воля, предчувствия небывалого, желание обнять весь мир! На ночлегах в прибрежных деревеньках душно лежать в избе среди храпящих хозяев и товарищей, вдыхать кислый запах овчин, дыма, человеческих тел, слушать писк младенца и сонный вой молодайки над люлькой: «А-а-а, а-а-а…» Осторожно ступая через спящих, выйди на крыльцо. Тишь. Темень. Еле уловимое движение воздуха, а с реки, из ивняков, звонкий щелк, трели, свист — соловьиная ночь, праздник соловьиный, птичья слава всему сущему на земле. Над рекой, в неподвижном тумане, кусты шепчутся человечьими голосами, звенят смехом, как бубенчиками. Проходи, проходи, прохожий, не спугни соловьев, не мешай бубенчикам! Месяц май. Маята. И почти мольба: — Посиди со мной. Одна я… Одна… Было или не было: тонкие серые щели, запах сена, жадные ладони, прощально гладящие голову, плечи, грудь и утешения: — Мой грех… Не гневись… Господь простит за чистоту твою… Сразу тебя увидела и не вольна стала… Мой грех… Больно и радостно. Страшно и хорошо… Было или не было? Случилось или привиделось? А вокруг опять солнце, простор, река, птицы… Дорога. И он вбирает в себя каждое сверкание завившейся кольчиком речной струи, каждый выкрик куличков, порхающих на отмелях, каждый плеск играющей рыбы, каждый человеческий голос, каждое лицо…
Сидит на завалинке дед. На голове — три седых волосика, а спутанная борода — кустом во все лицо, и из куста — два больших детски голубых глаза. — Ты, дедушка, князя Дмитрия помнишь? — Как не помнить… Князя Ивана сын… Батюшка все Тверь воевал, а сынок-то самих нехристей… — То, дедушка, князь Калита на Тверь ополчался, а не отец Дмитрия. — Про него и речь, голубь… — А разве ты и Калиту помнишь? — Помню, милый. Как же… О ту пору пожгли нас татары, братана увели, сестру ссильничали, утопилась девка… Да. А я в лес убег. Во-о-она туда, за Клязьму. — Много же прожил ты, дедушка… — Зачем? Я чужой век не заедаю… — Прости, дедушка, не так сказалось… К тому я, что повидал ты немало, натерпелся. — Повидал, Натерпелся. Так! Скоро и помирать пора. — А не страшишься смерти, дедушка? Удивленно глядят детские глаза. — Чего же мне бояться-то, милый? Чай, не грабил, не убивал, веры не продавал. А коли и есть грехи, то господь милостив… Милостив господь наш, кормильник. Не обидит.
Подошел к сооруженному в полдни костерку мужик, вырубавший слегу в береговой рощице. Поздоровался, бросил топор, присел на корточки. — Издаля, отцы? Ражий мужик. Плечи — бугры. В раскрытом вороте рубахи — дубовая шея, густой черный волос. — Из Москвы. — О-о! Все надо знать мужику. И то, что великий князь здоров, и то, что бояре служат правдою, и то, что храмы новые строят, и то, долго ли еще ордынский выход платить? — То, брат, не нам решать. То великий князь ведает. Скребет мужик за пазухой. — Оно-то так… Однако платить не надо. — А как татары найдут? — Что ж татары?.. На их силу свою найдем.
Попросились на ночлег в крайней избе. Ни добра, ни худа изба — как все… Хозяин пустил. Время ужина прошло. Хозяин достал из печи горшок каши, хлеб на стол положил. Хозяйка сидит на лавке под образами, будто каменная. — Или больна? — Не… Сынок помер у нас. Третьего дня похоронили… Кушайте, отцы… — Ах, горе… Сколько сынку было? — Четырнадцатый годок шел. Невесту приискали. Опустил мужик голову, поник, осунулся. Словно в дреме роняет: — Веселый был… Сильный… Уж с конями управлялся, пахать его нынче ладил… Теперь кому все? Зачем?.. Не живут детки у нас… Этот последний… Тихо в избе. Только сверчок трещит-посвистывает. Очнулся мужик, глянул, что никто еды не касается, вздохнул, выпрямился, взял ложку: — Ничего. Горе одолевать надо. Кушайте, отцы.
Май. Маята. Радость и горе,слезы и смех, свадьбы и похороны — дорога, жизнь. Но и в отчаянье не опускают руки русские люди. Держатся твердо. Верят, все к лучшему. Не может земля вечно на бедах стоять. Застилает глаза дрожащая пелена. Но этих слез не стыдно. Не стыдно плакать за христианский народ, за родную, прекрасную, измученную, но славную, гордую землю. И верится — не пропадет она! Нет! Не пропадет! Не для того дивно изукрашена она лесами дремучими, лугами сочными, пашнями и городами цветущими! Не для того. И ответом на возглас души поднимается вдали стольный город Владимир, сияющий на веселом солнце множеством церковных глав, высоко и смело поднявший над Клязьмой золотые купола величественного Успенского собора. Чернецы бросают шесты и крестятся. Лодки плывут по течению сами собой…
Двести пятьдесят лет отделяли Андрея Рублева и его товарищей от того времени, когда тезка художника великий князь Андрей Боголюбский, захватив киевский стол, не пожелал остаться в нелюбимом городе и, забрав часть святынь из его храмов, ушел с дружиною на север, к Суздалю. Но и Суздаль был не по нутру властному, умному политику и полководцу. Крепко сидели там старые боярские роды, косо поглядывали на князя, не желавшего считаться с их мелкими интересами, с их «извечными» правами, с запечной, усадебной «философией»: допреж всего мое, а коли не так, хоть трава не расти. В широких планах Андрея Боголюбского, замышлявшего объединение под своей властью всех русских земель, старое боярство ничего хорошего для себя не усматривало. Князь понимал, что тут помощи не дождешься, — медведь сам себя на рогатину не насадит. И Андрей Боголюбский бросил суздальцам вызов, обосновавшись во Владимире, сделав столицей этот пока неказистый, но зато свободный от боярского засилья городок. А засев во Владимире, князь постарался, чтобы новая столица не уступала старым. Энергичный в бою, Андрей был энергичен и в строительстве. За всю свою историю не знал потом Владимир такой кипучей деятельности каменотесов, зодчих, живописцев, чеканщиков, литейщиков, плотников — всякого ремесла знатоков, умельцев из разных краев, но прежде всего собственных владимирских. Говорят про русского человека, что он одним топором любую диковину сделает, дали бы только размахнуться… Андрей Боголюбский размахнуться давал. В его интересах было, чтобы «мизинные люди», средь которых князь искал опоры для борьбы с боярством, без хлеба не сидели, под окнами Христа ради не волочились и жили бы ладно, своими домами и в случае чего не выдали бы… И засверкали плиты белого камня, запахли смолою леса вокруг новых палат и церквей, заплескалась известь, застучали молотки резчиков, запылали горны медников. Началось! Основанный еще Владимиром Мономахом, город быстро разрастается. Расширяется княжеская крепость. Стены охватывают уже не только «княжью» часть, но и посад, где живут «мизинные люди». Знаменитые «Золотые», «Серебряные» и «Медные» ворота владимирского укрепления делаются не только неприступными, но и величественно-красивыми. Возникают в селе Боголюбова, близ города, чудесные великокняжеские палаты: замок Андрея, где под прикрытием могучих стен высятся связанные сенями и башнями собор и терема, белеет церковь, радуют глаз колонны стройного кивория и располагаются добротные службы. В память о погибшем в походе на булгар любимом сыне Изяславе князь повелевает возвести над светлой речкой Нерлью, среди лугов, церковь Покрова. Нет нигде в летописях имен мастеров, сложивших ее. Словно сама русская природа взметнула храм над изгибом реки, создав ту гармонию льющихся и прямых линий, печали и счастья, какую знают только она да народ. Дробится в резных стенах храма солнце, играет тень, а в Нерли непрерывно струится отражение церкви, и видишь не холодный камень, а живую, трепетную душу человека, вложенную в эти арки и порталы для того, чтобы потомки ведали: прекрасна жизнь, какие бы испытания ни выпали на твою долю. Если здания заслуживают поэм, то церковь Покрова на Нерли заслуживает их едва ли не первой. А в самом Владимире князь Андрей заложил Успенский собор. При Андрее Боголюбском собор был одноглавым, более легким, нежели стал потом, при Всеволоде Большое Гнездо, пристроившем еще четыре главы. Но и при Андрее храм мыслился как главный собор всей русской земли. Вскоре после постройки храм сильно пострадал от пожара. Он словно разделил судьбу князя Андрея, предательски убитого заговорщиками. «Мизинные люди» отплатили за смерть князя, отрезав убийцам — Кучковичам пятки, прогнав бояр лесом по шишкам и колючкам до безымённого озера и утопив там. Озеро с той поры получило имя. Его прозвали «Поганец». А вновь отстроенному храму придали черты еще большей непоколебимости и силы. Храм отстроили всего два десятка лет спустя после смерти Боголюбского. И, может быть, в новой постройке сказались воспоминания о князе Андрее, то желание видеть княжескую власть могучей и справедливой, какое испытывал владимирский простолюдин. Могучим князь Андрей был. Справедливым не был. Но, защищаясь от своих притеснителей — бояр, народ хотел видеть в князе своего заступника и видел… Успенский собор, заложенный Андреем Боголюбским, перестроенный при Всеволоде, много раз страдавший от ордынцев, изрядно обветшалый, теперь отделывали наново. Его и предстояло расписать московским мастерам.
Андрей Рублев и Даниил Черный стоят в пустом, гулком соборе, где по лесам ползают, замазывая старые росписи, стеноделы. Леса мешают охватить одним взглядом все огромное пространство собора. Надо написать иконостас, а на сводах, на столбах и на западной, противоположной алтарю, стене показать Страшный суд. Расставив ноги, запрокинув голову, следит Андрей, как стремятся ввысь могучие столбы храма, как плавно круглятся арки, как падает свет из узких окон, как плавает в барабане, под куполом, в жидком, зеленоватом золоте солнечных полос, крутящаяся пыль. Кому не известны фрески новгородской церкви Спаса на Нередице и собора Снетогорского монастыря? Кому не известна роспись Дмитриевского собора во Владимире? Гнетущи в росписях Снетогорского монастыря встающие из гробов мертвецы, наивно, но отталкивающе изображенные страховидные апокалипсические звери, блудница и уродливый черт, подпаливающий нагого богача, В Нередице — грозный бог, дряхлые, перепуганные Адам и Ева и опять черт с огнем. Правда, здешний черт обладает народным юмором. Мастер вложил ему в уста ехидный ответ просящему пить богачу: «Друже богатый, испей горящего пламени!» Но фрески, хоть и носящие народные черточки, сохраняют основной мотив возмездия — гнева божьего — неприкосновенным. Расписанный в византийских традициях Дмитриевский собор являет глазу апостолов, старцев и праведников, исполненных страха, тревоги и сознания глубокой греховности. Фигура божества тут не сохранилась, но, надо полагать, сделана она была тоже весьма грозной. По преданию, убедительным доводом для приятия самого учения христианства послужила как раз «запона» с изображением грешников на Страшном суде, показанная русским князьям приезжим греческим монахом. Страшный суд. Страшный суд… Андрей обходит храм. Снова останавливается, уже на другом месте, и снова глядит, глядит и глядит. Они с Даниилом разъединились. Тот тоже ходит и глядит. Разбрелись и прочие мастера. А ключарь собора поп Патрикей растерялся и не знает, что ему делать. Сказали: води. Он и водил. А теперь за которым ходить? Но поп Патрикей не из тех, кто не умеет найти выход из положения. Достойно ступая, он удаляется к дверям и тоже останавливается, сложив руки на брюхе и строго следя за всем, что происходит и на лесах и внизу, на полу собора. Поп Патрикей немолод, грузен, туповат, но старателен и честен. За эту старательность и честность ему снисходительно прощают многое. Поп стоит у входа в храм и косит глазом на паперть: не принесло бы кого из прихожан. Патрикей не в своей тарелке. Оно, конечно, может, московским мастерам так требуется… Однако все же таки Успенский собор, благость, а эти… Вона чернявый присел, ровно с полу ему виднее… А энтот, постарше да поголенастей, словно цапля, вытянулся и замер: во, во сейчас клювом долбанет… Слава богу, опять пошел… И чернявый поднялся… Куда это его понесло? Вверх полез… Ну, пущай его. Вверху, если и присядет — с улицы не видать… Поп Патрикей стоит на страже. Беспокойно крутившиеся большие пальцы его замедляют движение. Весеннее тепло расслабляет, наливает тело истомой. Прикрыв ладонью рот, ключарь судорожно зевает, крестится. Господи прости! И чего эти москвичи так долго лазят да высматривают? Чего раздумывают, коли дело проще пареной репы? Нешто есть о чем раздумывать? Страшный суд — он и есть Страшный суд. Кара господня, коей никому не миновать, хоть наизнанку выворотись. От божьего гнева за Можай не убежишь, в клети не схоронишься. Везде настигнет. Праведных вознаградит отец небесный, а нечестивых ввергнет в геенну огненную. Праведных же по пальцам сочтешь, а грешников на земле, что репьев в собачьем хвосте. Жариться им на сковороде, окаянным, в котлах с кипящей смолой вариться, по гвоздям ходить… Поп чувствует зуд в пятках, невольно переступает с ноги на ногу и снова крестится. Увы ему, Патрикею! Не соблюдал и он, раб лукавый, заповедей Христовых. Грешным делом, жен чужих желал не единожды, с клиром, не говоря о прочих людях, собачился, и хоть от убийства уберег господь, но ведь, случись лихо, доведись с ворогом схлестнуться, рука тяжелая, благословишь невзначай по виску нечестивца, вот и сию заповедь преступишь… О горе, горе! Сокрушишься и возрыдаешь, аки Адам вне рая. Худо плоть устроена. Куда ни ступи — соблазн, а глаза ненасытные, словно нарочно, на запретные плоды таращатся, и в душе змеюка вожделений шевелится, так и сосет сердце, так и сосет… Ключарь Успенского собора поп Патрикей мрачнеет. Медное, топором деланное лицо его окаменевает от горьких раздумий. Вспоминаются попу тесная изба с гуляющим по потолку дымом, грязные, голозадые братья и сестренки, ползающие возле очага, мать, всегда пузатая, с буро-желтыми пятнами на лбу и на щеках, с полуоткрытым, как у задыхающейся рыбы, ртом, отец — деревенский священник, поставленный в пастыри из мужиков и обученный молитвам «с голоса» епископа, понеже не разумел в грамоте ни уха, ни рыла. Вспоминаются рваные сапоги, тертая редька, пустые щи, щербатые миски, тюфяки с блохами, теленок, мычащий в загородке у двери. Вспоминается, как отец, так до гроба и не разобрав, какая молитва к чему, крестя младенца, вопит из молебна на исход души, а новопреставленных напутствует псалмами о благодеянии божием[6]. Возвратясь же домой, кряхтит и вместе с дьячком, таким же горемыкой, недоумевает, к чему бы это для новорожденных слова о злых и малых днях сложены. Не догадавшись же, напивается, и плачет, и жалуется на судьбу, обрекшую его, коновала, в церкви служить. Первый на всю округу отец коновал был и поначалу, когда сан принял, продолжал еще по привычке жеребцов холостить, кровь скидывать, завертки ставить, но пригрозили проклятием, и пришлось верное дело бросить, почему семья и впала в нужду и в отчаяние. Оглушила жизнь отца, так и помер, не опомнившись. А самому Патрикею наука в голову через затылок входила. Сколько за учебу тычков да затрещин получено! А первые-то годы священства? Нешто на молоке да меде прошли они? Мужик отпахал, отработал да и лежи, а ты, как проклятый, и паши, и сей, и жни, и требы совершай. Слава богу, случай выпал, голос Патрикея проезжавшему через деревеньку протодьякону Дмитриевского собора отцу Филофею понравился, и попа для начала в церковь Святого Николы на посадской стороне перевели, а уж отсюда в Успенский храм взяли. То восемнадцать лет назад было. А третьего года отдал душу господу прежний ключарь, Павел, и сделали ключарем Патрикея. Грех нынче на судьбу жаловаться. Великое доверие ему оказали, ризницу со всеми сокровищами на руки передали, господне имущество охранять повелели. Достиг. Удостоился. А жизнь-то прошла. И немало скверны в ней было и посейчас есть. Перед господом же отвечать придется, сколь икон ни занавешивай… Как же ему, чистому, да при всех ангелах, при деве Марии о своем блуде расскажешь? Язык же не повернется! Очнувшись, поп Патрикей вскидывает голову, гонит печальные мысли прочь и, напрягая зрение, вновь принимается следить за работающими в храме… А там мастера уже сошлись в кружок, о чем-то толкуют и кучкой неторопливо пробираются к выходу, по пути отряхивая испачканные известью и пылью рясы…
«Майя 25 начата быть подписывати великая и соборная церковь Пречистыя Владимирския…» — вот и все, что говорит об этом летопись. Историки искусства видят во владимирских работах Андрея Рублева умелое сочетание живописи с архитектурой храма, поражаются богатству характеров, данных мастерами во фресках, отмечают, что тут Рублев подошел к решению новой задачи, воспевая спокойствие, душевное благородство и целостность образов своих апостолов, ангелов и праведников. Но думается и о другом. Думается о той дерзкой, может быть заставившей его самого вздрогнуть, минуте, когда настойчивые раздумья и поиски вдруг разрешились простой, точной, ясной и никогда, никому в голову не приходившей мыслью: написать Страшный суд праздником. Где, когда осенила Андрея Рублева эта острая, светлая мысль? На лесах ли Успенского собора, где он, грязный и усталый, в последний раз окидывал взором гулкий храм? В беседе ли с каким-либо владимирцем, рассказывавшим одну из бесчисленных легенд? В келье ли перед сном, когда, закрыв глаза, полный дневных впечатлений, Андрей уже готовился уснуть? Неизвестно. Но такая минута была. В ней бессознательно слилось все: и надежда на будущее Руси, и встречи на Клязьме, и сама Клязьма с ее весной, и память о погибших за родину, и теплое чувство к товарищам, в желание чем-то помочь людям, чьи радости так непрочны, а горе устойчиво, и стремление возвысить души ободряющим словом, и вера, что слово это — слово самого Христа, сказавшего: «Придите ко мне все страждущие и обремененные…» Была такая минута, великая для русского искусства, и Андрей Рублев испытал ее. Знал ли он, что пойдет вразрез с обычными толкованиями темы «Страшного суда» в живописи многих столетий? Да, знал. «Изрядный философ» не отдавать себе отчета в значении и немыслимой смелости нового замысла не мог. Но он не только не побоялся смелости своих мыслей, он убедил в их правоте своих помощников, вдохновил Даниила и других друзей, заставил их загореться небывалой идеей, и это само по себе было уже подвигом художника. — Гневен и страшен бог, — говорили византийские книжники. — Милостив бог! — говорил простой русский народ, свято верящий в творца мира, но никогда не плошавший сам и готовый и недруга боем встретить и последнюю рубаху попавшему в беду отдать. — Милостив! — повторил аомощникам Андрей. И лихорадочное воображение его уже представляло, как звучно и радостно трубят архангелы, как устремляются к престолу вседержителя толпы народа, влекомые мудрыми апостолами, стремятся познать вечное блаженство праведные жены и как ликуют, словно возносясь ввысь, сами праздничные, певучие краски… Можно не сомневаться, что в эти дни Андрея Рублева лихорадило. Что он уже не знал покоя, забывал об еде и сне. Что работал исступленно, с той неиссякаемой и неведомой равнодушным силой, какую дает уверенность не в себе, нет, а в необходимости твоей работы. Каждый день приносит Рублеву новые и новые задачи, но цель ясна, и он решает их почти все, одну за другой с легкостью, какую приносит ясная цель. Расположение сцен. Их единство при страстной характеристике каждой группы. Созвучия цветов. Но потом, при дальнейшем развитии собственного стиля, с его благородной культурой ясной, гибкой линии, легко и органично воспринятая у Феофана Грека выразительность широкого мазка, светотени и «пробела». Это возмужание, которое уже не противится слепо всему, что нашел соперник, а способное с благодарностью взять у него лучшее для своих целей. Это торжество большой, красивой и благородной души человека, торжество его ума и воли, торжество тяжелого, выматывающего силы, но зато приподымающего весь народ труда. Подвиг, награда за который в нем самом. Рублев видел роспись Дмитриевского собора полностью: видел там и неподкупного судью и мучающихся грешников. Надо полагать, что, посылая художника во Владимир, его просто обязали познакомиться с Дмитриевскими и прежними успенскими фресками, как образцовыми, каким надо следовать. Ведь невозможно допустить, что новая роспись Успенского собора не была предварительно «обговорена», и Рублева с Даниилом Черным отправили писать то, что им вздумается. И Андрей с Даниилом ознакомились с византийскими фресками хорошо. Москвичи даже как бы повторили внешнюю сторону старых росписей, внешне следовали указанному образцу. Но тем более сильно, тем более громко прозвучали фрески Андрея и Даниила, внутренне, по идее резко отличные от фресок византийцев XII века, не просто спорящие с догматическими представлениями о будущем человека, но и отрицающие их! Старцы Дмитриевского собора жестоки, безжалостны. Старцы Успенского простодушны, добросердечны. Апостол Петр в Дмитриевском соборе смотрит на спутников хмуро, испытующе, недоверчиво. Петр в Успенском соборе увлекает праведников за собой, широко открыв ясные, чистые глаза. Он как бы прислушивается к озабоченному чем-то Иоанну, но сомнений никаких не испытывает и стремительно продолжает шагать к «вратам рая», призывно указуя людям дорогу. И с какой доверчивостью, с какой глубокой выстраданной надеждой тянутся к «райскому ключарю» люди, как воодушевлены им, как рады обрести истину! Это вовсе не те праведники, что бредут по стенам Дмитриевского собора, подавленные сознанием греховности человеческой природы и лишь умерщвлением в себе всего живого получившие право на блаженство. Трубящий ангел Андрея и Даниила возвещает не о часе расплаты, а скорее о часе сбывшихся надежд, и, воздушный, нежный, глядит на призванных с понимающей улыбкой. Не передать одним словом всех чувств, охвативших праведных жен, чьим глазам открылись райские кущи. Жены словно застыли в восторженном созерцании нежданной, потрясшей их милости «создателя». Но это мгновенное, естественное оцепенение людей, которые вот-вот бросятся в едином порыве вперед, навстречу своему счастью. Стремительное движение толпы праведников и «неподвижность» группы жен обычно дают повод предполагать, что первая сцена рисована Даниилом, а вторая, как более успокоенная, Андреем. Но ведь московские мастера, как известно, великолепно использовали архитектуру Успенского собора, расположив фрески на столбах, арках и стенах так, что фигуры композиции, в отличие от византийских канонов, представляют не отдельные, ничем не связанные сцены, а одно огромное целое и все устремлены ввысь, к залитому светом куполу. Неудержимая сила влечет их к сияющей цели. И если трубящий ангел, встречающий вас у входа, словно ждет, чтобы вы поторопились, а отцы церкви и апостолы, следуя за Петром и Павлом, только исполнены надежд, еще не приобщены созерцанию божества, то праведные жены уже увидели «горний свет» и, естественно, в отличие от других замерли в невыразимой радости. Каждая группа успенских росписей выражает как бы разные эпизоды шествия, и мнимая «неподвижность» жен так же необходима и оправдана, как порывистость Павла и решительность Петра. Поэтому усматривать в одном случае только «особенность руки» Даниила, а в другом Андрея вряд ли справедливо. Вообще, если учесть некоторые черты более поздней росписи Троицкого собора, где Андрей и Даниил снова работают рука об руку, есть некоторые основания предполагать, что Даниилу более по душе передача бурных эмоций, внешняя патетика образа и что действительно в сцене шествия праведников, как и при выполнении фигур старцев, большая часть труда принадлежит не Андрею Рублеву, а ему. Но все же только часть. Скорее всего кисть Рублева касалась и этих фресок так же, как кисть Даниила касалась других. Уважая мнение и вкус товарища, советуясь, как лучше выполнить ту или иную деталь, и Андрей и Даниил, наверное, не раз сторонились, позволяя другу положить на свою работу тот мазок, какой казался ему нужным. Каждая фигура успенской росписи, каждое лицо, запечатленное Андреем и Даниилом в этих фресках храма, поразительно индивидуальны. Одно волнение, один порыв ведут праведников, но все это разные люди, каждый со своим характером, и каждый переживает событие глубоко лично, по-своему. Это относится и к пророкам, и к отцам церкви, и к женам. Всматриваться в их облики, открывая все новые и новые, ранее ускользнувшие от взора оттенки чувств, можно бесконечно, и каждый раз это «всматривание» дает новую радость. Вот они, русские люди такой, казалось бы, далекой эпохи! Как чудесны они в искренности, в трепетности переживаний, в благородстве простых, но освещенных внутренним огнем лиц! Люди, встреченные когда-то Андреем и Даниилом на жизненном пути, возле Святой ли Троицы, в Москве ли, на Клязьме ль — те самые, что привыкли говорить: «Милостив бог!» — выражая этим уверенность русского человека в будущем и надежду на торжество справедливости. Вот они, такие далекие, и волей художников такие близкие нам! Андрей Рублев и Даниил Черный истово верят. в вышнего судию, в бога. Во имя христианских идей они и пишут. Но одно дело идеи художника, другое — реальный результат творчества, обращенного к людям. Намереваясь воспеть милостивого бога, Андрей и Даниил воспели свой родной народ, его духовную цельность, нравственную чистоту, утверждали право человека на участь лучшую, нежели та, какую он испытывает. Так любовь к жизни, к людям прорывалась наружу даже в рамках самой каноничной, казалось бы, формы и опровергала ту слепую веру, какую думали возвеличить живописцы. Собранный, оживленный торопится Андрей каждое утро в храм. Шутит с товарищами, ласково, весело оглядывает встречных. Но вот волосы повязаны ремешком. Вот скрипят и качаются под ногой леса. Вот расставлены горшочки с красками. Взята кисть… Теперь большой рот чернеца сжат. Улыбка пропала. Глаза прищурены. Первый мазок. Еще. Еще. Все забыто. Он ничего не слышит и не помнит. Он уже не чернец Спасо-Андрониковского монастыря, посланный во Владимир. Он сам апостол Петр. Сам отшатнувшаяся от неожиданного лицезрения благодати «праведная жена». Сам пророк… И лицо Андрея незаметно для мастера повторяет мимику персонажей. Он пишет. И, наконец, большая часть росписи окончена. Не ощутить, что работа удается, мастера не могли. Это придавало им силу и уверенность, особенно необходимые, чтобы изобразить уже не ожидающих блаженства, а пребывающих в оном, показать жителей «райских кущ». Тут бурные движения, внутренняя напряженность персонажей, вообще «земное» должно было уступить место чему-то другому. Но чему? Бесплотное в краске не воплотишь, полный покой души — это смерть тела, а рисовать-то можно только тело… Здесь кисти художников и потеряли только что обретенную мощь. Лица праведников и праведных жен Андрей и Даниил писали старательно, с увлечением, не забывая придать яркую выразительность и лицам второго плана. Лица же большинства ангелов, стоящих за плечами апостолов, закрыты сияниями, будто художники просто не знали, как еще поступить с ними, что должны выражать эти лица. Вынесенные на первый план апостолы и ангелы несравнимы с изображенными тут же действующими, охваченными общим человеческим волнением. Нельзя же было писать Петра и Павла, восседающих на суде, такими же страстными, как в шествиях! Однако как показать апостолов на суде? Что им делать там, рядом с милостивым богом, к трону которого они готовы столь уверенно повести толпы народа? Как передать, наконец, и само «блаженство», какое обещали показать они, Андрей и Даниил, своим праведникам? Возникший вопрос требовал немедленного практического ответа. Андрей с Даниилом ответили. Но высшее «совершенство», степень высшего «блаженства» обернулась неподвижностью и холодом. Ни мастерская лепка фигур, ни заимствованная у Феофана Грека смелость мазка, ни гибкие линии не спасали. Форма без содержания пуста. А «рассуждения» апостолов, не совсем уместная грусть ангелов — все идущее от ума, а не от непосредственного чувства, почвы которому не находилось, никакого содержания выражать и не могло. Инстинктивно чувствуя это, Андрей и Даниил пытались одухотворить и евангелистов: живые черточки есть и в Матфее, что сидит с ушедшим в себя взором, и в грустно задумчивом Иоанне, и в печальном ангеле справа от Луки. Но если что-то достигнуто даже в этих фресках, то лишь за счет сближения «удостоенных» с еще «неудостоенными». Андрея и Даниила это наверняка смущало. Но, сыновья своего времени, оба, видимо, решили просто: не в том дело, что вообще невозможно воплотить в образах бесплотное, а в том, что «господь не сподобил их» этому. Однако беспокойство и неудовлетворенность покинуть художников не могли. Их должно было тревожить то простое и очевидное соображение, что восторг праведников и жен несоизмерим с предстающими им в действительности картинами. Значит, полного удовлетворения роспись собора ни Андрею, ни Даниилу не принесла. Возможно, они даже переписывали иные фрески. А время не ждало. Лето промчалось как один день. Близились холода. Надо было завершать труд. И однажды мастера спустились с лесов в последний раз. Измученные. С покрасневшими от напряжения белками усталых глаз. Болезненно щурящиеся от яркого света. В заляпанных красками рясах. По привычке ступающие и по земле, как по шатким доскам… Роспись и огромный иконостас были закончены. Беспокойство в душу заронено, потребность думать и творить возбуждена вновь.
Может быть, в тот день, когда освобожденный от лесов храм открылся опешившим владимирцам, простодушный поп Патрикей, растерянно поискав глазами искаженные лица грешников и не найдя их, не узрев ни жутких чертей, ни карающего господа, ни гневных апостолов, в первую минуту онемел, не сразу сообразил, Страшный суд перед ним или что еще, наяву ли видит он свой собор, или во сне. Но все происходило наяву. Наяву толпился растроганный причт, наяву опускались на колени прихожане, наяву слышался тихий женский плач… И наяву какая-то властная сила распрямляла спину самого Патрикея, распирала ему грудь жалостью и радостью, звала его самого за апостолом Петром. Поп Патрикей не мог знать, что жить ему остается всего два года. Что всего два года спустя ворвавшиеся во Владимир татары потребуют у него, слабого и подверженного соблазнам, отдать ключи, показать, где лежит казна храма и запрятаны серебряные и золотые сосуды. Не знал, что тогда он плюнет в бороду татарскому мурзе. Не знал, что ему будут вбивать под ногти щепу, «жарить» его на сковороде и, привязав нагое, в ожогах, кровоточащее тело к хвосту коня, в последний раз крикнут: «Скажешь?» А он, разлепив разбитые губы, с тоской глянув на небо, снова лишь плюнет в наклонившееся над ним хищное скуластое лицо и уже не узнает собственного раздирающего крика… Но в ту минуту перед росписями москвичей Патрикей, задыхаясь, наверное, верил: ему под силу любой крест. И не сдержал, наверное, он, грешный владимирский поп, хороших слез.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
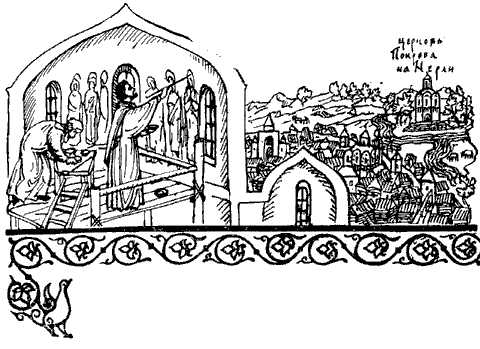 Тысяча четыреста пятый — тысяча четыреста восьмой. Четыре года. Четыре года непрерывной работы, поисков, бурного роста таланта, ослепительного расцвета дарования.
От иконостаса Благовещенского храма с еще несмелыми, во многом традиционными образами — к звенигородской проповеди князю Юрию, к полной самостоятельности в лике Спаса и отсюда — к потрясающему по дерзости разрыву с канонами, к глубокой человечности фресок Успенского собора во Владимире.
Могучий взлет гения! Зрелость.
Потом сразу же молчание. Не на год. Не на три. Почти на два десятилетия.
Молчит он сам.
Молчат летописи.
Молчат позднейшие источники.
Ни слова.
Нигде.
Почему? Что случилось? Отчего вдруг иссякает, словно под землю уходит, не оставляя никакого следа, полноводная, неоглядная река таланта? Какая карстовая пещера подстерегает ее? В какую бездну падает поток, вместо того чтобы утолять жажду людей? Это еще одна и, может быть, самая трудная загадка жизни Андрея Рублева.
Тысяча четыреста пятый — тысяча четыреста восьмой. Четыре года. Четыре года непрерывной работы, поисков, бурного роста таланта, ослепительного расцвета дарования.
От иконостаса Благовещенского храма с еще несмелыми, во многом традиционными образами — к звенигородской проповеди князю Юрию, к полной самостоятельности в лике Спаса и отсюда — к потрясающему по дерзости разрыву с канонами, к глубокой человечности фресок Успенского собора во Владимире.
Могучий взлет гения! Зрелость.
Потом сразу же молчание. Не на год. Не на три. Почти на два десятилетия.
Молчит он сам.
Молчат летописи.
Молчат позднейшие источники.
Ни слова.
Нигде.
Почему? Что случилось? Отчего вдруг иссякает, словно под землю уходит, не оставляя никакого следа, полноводная, неоглядная река таланта? Какая карстовая пещера подстерегает ее? В какую бездну падает поток, вместо того чтобы утолять жажду людей? Это еще одна и, может быть, самая трудная загадка жизни Андрея Рублева.
…Где трусцой, где шажком тянутся по первопутку сани с московскими мастерами в родной город. Пустынны поля с торчащими из-под тонкого снегового покрова черными будяками. Ветер раскачивает будяки, и они дрожат, будто замерзшие странники. Леса безмолвны. Осыпанные снегом лапы елей и ветви берез уныло поникли долу. По ночам слышен волчий вой. Впереди долгая зима. Андрею и Даниилу обжигает щеки. Из-под копыт разбежавшихся коньков летят в лица комки снега. Подняв воротники, тулупов, съежась, мастера лежат в сене, провожают взором уплывающие назад поля, боры, косогоры. Усы, бороды и края воротников от дыхания обледенели. На ухабах бьет. Говорить не хочется. На душе ясно и тихо, как в ясный морозный день. Они потрудились на славу, и смотреть в глаза товарищам будет не стыдно. Теперь одна дума: скорей бы добраться! Скорей бы! И вот, наконец, вдали, в морозной дымке, проступают синеватые очертания московских стен… Поворот. Лес ненадолго закрывает город, а когда дорога вновь вырывается из чащи, уже видны золотые искры куполов, шапка дыма над посадами, башни Кремля. Дома! Дома! Полозья, скучно скрипевшие всю дорогу, визжат веселыми, разыгравшимися щенками. Тулупы становятся жаркими, тяжелыми. Даже ветерок не так уж колюч, как мнилось. — Вправо сворачивай! Вправо! — Гляди, гляди, кто идет! — Отче Василий, издалека ли? Садись!.. Ништо. Добрались!.. Что у вас слыхать? — У нас что ж? Вашими молитвами… Живем. Во Владимире-то как? — Слава богу! — Наслышаны о чудной росписи вашей… Игумен ждет… Говорят, небывало храм украсили… — Расписали, расписали!.. В Москве что делают? Нет ли новых икон? Книг ли? Мастерскую возвели ли? Вопросы, охи, снова вопросы, а Яуза уже — вот она, и ворота скрипят, и знакомые домики, лица, улыбки… Дóма! Дóма!
Как всегда после долгого отсутствия все привычное еще дороже, вызывает смутную нежность и непонятное волнение. Игумен Александр слушает рассказы, разглядывает рисунки владимирских икон и фресок, беспокойно мигает. Уж очень необычно. Хорошо, но необычно. Никто так доселе не писал. Понравится ли великому князю? Одобрит ли работу? Игумен осторожен. Он не спешит огорчать мастеров своими сомнениями. Велит отдыхать. Художники удаляются. А игумен еще долго сидит над их рисунками, и раздумья его невеселы. Трудно с великим князем. Своенравен, неуступчив, придирчив и бранчлив. Попов с мест сгоняет за пустые промашки. В монастыри ездит следить за соблюдением уставов, за ходом служб… Упаси господи, если чернец ему чем не понравится или священник по-старому, не по киприяновым поправкам, служит… Службы-то все выучил! А вот в княжестве тишины никак не наведет! Мыслимое ли дело так Витовта озлоблять, что он уже и епископам русским и в Царьград жалобы шлет, обвиняя Василия в подстрекательстве простолюдинов против княжеской власти? Неумен, груб, прости господи, великий князь! Неумен! И не глянется ему роспись Успенского собора. Игумен тревожится. И не напрасно. B Кремль, к великому князю Василию Дмитриевичу, мастеров отчего-то не зовут. А когда кличут, Василий хотя и сдерживается, но всю речь ведет о том, что церковь страдает от своемыслия, от забвения истинного бога. Он наставляет мастеров не тщиться в гордых домыслах, а учиться у святых живописцев Константинополя, смиренно следовать по их стопам. Андрей выходит от князя с красными пятнами на скулах. Не удержался, молвил: — Прости, княже! Русские мы, у русских святых и учились как могли! Не по-монашески молвил. Не по-иночески. Согрешил. Гнев вызвал. Вот и вся награда за Владимир… За весь труд… Больно сжимается сердце. Хочется встать посреди Красной площади, вздеть голову к небу и крикнуть: «Господи, за что? Где справедливость твоя, господи?!» Но Андрей Рублев не остановится. Не крикнет. С опущенной головой он вернется в Спасо-Андрониковский, в свою келью, и станет класть поклоны… Он инок. А добродетель инока — смирение и терпение. Терпение и смирение… Но не проходит и десяти дней, как Андрей вскакивает среди ночи от тревожного, прерывистого звона. Звонят колокола Донского… Гудят свои… Кремль заговорил… Бьют, бьют, будят, зовут, кричат! Что?.. Что?! Что?!! И первая же мысль: «Эдигей!» Невозможно. Нет! Но это так. Эдигей. Татары.
Зная расположение к мастерам их игумена, зная характер, склонности и недальновидность Василия Дмитриевича, зная, что двор великого князя в эти дни живет лихорадочной жизнью: войска Эдигея приближаются к московским границам, их надо пропустить на Литву, — можно предположить, что первые дни возвращения мастеров в Москву проходят именно так, как описано. Это горькие дни. Но они лишь преддверие трагичных. Одна тысяча четыреста восьмой год — страшный год для русской земли. Бездарная политика бездарного великого князя и иных бояр приносит те плоды, каких и следовало ожидать. Ордынские дипломаты, ведя тонкую игру, убеждают московский двор в намерении Эдигея напасть на Литву, лестью и мягкостью усыпляют бдительность самодовольного Василия Дмитриевича, ловко используют его враждебность к Витовту, и великий князь разрешает ханским полчищам беспрепятственно пройти по своим владениям. Хотя бы тень сомнения! Хотя бы самое естественное соображение: не рискнет Эдигей схватиться с Витовтом, оставив в тылу такую силу, как дружины Москвы, Можайска, Рязани, Владимира, Ростева, Нижнего, Кашина, Твери и многих других городов! Нет! Никаких сомнений! Великий князь и духовенство при деятельной поддержке «старых бояр» идут на сговор с теми самыми татарами, с которыми Русь столько лет ведет борьбу, которым сами не платят дани. Беспечность такова, что даже мер предосторожности не принимается: в крепости не свозят съестные запасы, дружины не приводятся в готовность, видимо, из нежелания «обеспокоить» Эдигея, не отвратить мурзу от нападения на Литву. Верх великокняжеской мудрости! Лишь один из всех полководцев начеку: дядя великого князя, пятидесятилетний Владимир Андреевич Серпуховской, по прозвищу «Хоробрый», один из героев Куликовского побоища. Он уже похоронил всех давних соратников, постарел, но здравого смысла и энергии не утратил. Владимир Андреевич татарам не верит. Держит ухо востро. Его дружины собраны на всякий случай в кулак, воины пристально следят за передвижениями Эдигея. Нет нужды, что татары двинулись зимой, а не осенью, как движутся обычно, чтобы поспеть на убранный урожай. Осенью хлеб брали, зимой — муку загребут. Какая разница? Это пусть себя московский племянник вместе с дурнем митрополитом сладкими надеждами утешают! А его, Владимира, на мякине не проведешь. И едва приходит весть, что Эдигей «внезапно» от Оки круто повернул на Москву — дружина Владимира Андреевича уже в седле и устремляется к столице. Они гонят коней, не жалея плеток, захлебываясь ледяным воздухом, теряя всадников, упавших на скользкой дороге, не помышляя об отдыхе, зная только одно: татар надо опередить! И в бешеной скачке опережают Эдигея. Вокруг Москвы — пустыня. Жители — кто сбежался в Кремль, кто подался на север. Пуст и посад. И, еще не въезжая в город, дорожа каждой минутой, князь Владимир, обернувшись к ратникам, машет рукой на посад: — Сжечь! Он не оставит татарам лес для осадных орудий и лестниц, жилье и дрова! Москва окутывается черным дымом, опоясывается огненным кольцом. Так Владимир Андреевич въезжает в Кремль. Всего через день после бегства из Кремля великого князя Василия Дмитриевича. Растерянный, охваченный паникой, «хитроумный политик» бежал с частью бояр в Кострому. Народу сказано: собирать полки. Какие полки можно собрать в Костроме — одному богу известно, но люди пока верят, и ладно. Владимир Андреевич озабочен иным. Он не забыл случившегося в 1382 году, не забыл бунта «московской черни», едва не похоронившего ту ветвь их рода, что владеет самой Москвою. Хоробрый перво-наперво приказывает запереть ворота города и никого из Москвы не выпускать: ни попов, ни княгинь, ни бояр. Это сразу подымает дух взбудораженного, испуганного населения, успокаивает народ: значит, Москву нынче не сдадут! Будут за нее биться! А коли так — устоим. От Тохтамыша-то устояли? Устояли! А с тех пор и стены выше и ворота прочней сделались. Поди-ка, Эдигей, достань! В Кремле берутся на заметку запасы хлеба, мяса и овощей. Народ вооружается. Каждый, кто может носить оружие, получает его. На стены Кремля выдвигаются пушки. Заряды забиты. Фитили под рукой. Жерла холодно смотрят на ордынскую дорогу. Иди, нехристь! Москва ждет.
Где находится в декабре 1408 года Андрей Рублев? В источниках сведений об этом нет. Мы знаем лишь, что братия многих монастырей уходит от Эдигея на север, в пресловутые «северные городки». Так, монахи Свято-Троицкой обители во главе с игуменом Никоном спасаются бегством в Белозерье не то к преподобному игумену Кириллу, «собеседнику» Сергия, не то к Ферапонту, другу Кирилла. Местопребывание иноков Спасо-Андрониковской обители летописи упомянуть не сочли нужным. Скорей всего потому, что этот монастырь, как одна из московских крепостей, покинут монахами не был, а тоже запер ворота, готовясь выдержать осаду и разделить участь столицы. Возможно, князь Владимир Андреевич позаботился не только снабдить монахов оружием, но и послал в Спасо-Андрониковский кого-либо из воевод и опытных ратников, чтобы те возглавили оборону. Но естественнее все-таки предположить, что, имея сведения о значительных силах Эдигея, спасо-андрониковцы, забрав припасы и ценности, подобно прочим москвичам, ушли под прикрытие кремлевских стен. Из Троицкого монастыря можно было бежать на север. Монастырь и расположен на главной дороге — в северные городки и отстоит от Москвы в 70 верстах. У монахов оставалось время уйти, почти не подвергаясь опасности быть настигнутым отрядами татар. Спасо-андрониковцы преимуществами паствы Никона не обладали, а рассчитывать, что пешком и на телегах удастся оторваться от летучих конных отрядов, конечно, не могли. Они должны были остаться в Москве. Значит, остались в городе и Андрей Рублев с Даниилом Черным и видели все, что происходило во время осады в Кремле и перед его стенами. Надо представить себе переполненный жителями, решившийся на битву город. Забитые санями улочки. Ржанье — голодных коней на соборной площади. Тяжкий дух в избах, где люди лепятся даже в сенях. Закиданные соломой полы церквей и спящие вповалку перед алтарями погорельцы. Крик грудных младенцев на лестнице митрополичьих покоев. Дымные костры вдоль стен и на самих стенах. Закопченные, в прожженных тегиляях, обмороженные ратники. Каждодневное, еженощное ожидание штурма. Грязь, голод, вши. Причитанья, пакостные, блудливые глаза маловеров. И рожденная на вшивой соломе, вскормленная черствым осадным хлебом, крещенная морозами несгибаемая решимость народа стоять до конца. Спокойная сосредоточенность мужчин, которая рождается крайним ожесточением. Терпеливые глаза женщин, готовых по примеру бабок заживо сжечь себя и детей, но не пойти на поругание. И это не праведники?! Это обреченные на вечные муки?! У Андрея Рублева щекочет в горле. Нет! Не может бог покарать такой народ! Все искупает человек, твердый в несчастье, идущий на смерть ради жизни других! И ничего так не хочется, как разделить до конца судьбу простых, грешных мужиков и баб этих, не добивающихся мученического венца, но принимающих и его как должное… Одними молитвами себя не успокоишь. Тянет к людям, властно влечет туда, где опасность всего больше — на стены, к ратникам. Тут, у заиндевелых крепостных зубцов, гуляет жестокий сквознячок-костолом. Ратники, согреваясь, топчутся, охлопывают ладонями бока, толкают друг друга, но смеха и прибауток не слышно: на расстоянии полета стрелы маячат татарские разъезды. Что задумывают? Когда ринутся? Неведомо. Жди каждый миг… Может быть, приходят в эти минуты мысли об отце. Стоял вот так, как стоишь ты, поеживался, не выпуская из рук копья или топора, думал о матери, о тебе, приютившихся Христа ради у чужого порога, вглядывался в даль, ожидая полков Дмитрия Донского. Не дождался… Вот у этих ворот, может, и упал, разрубленный. А мать?.. Страшно подумать, что с ней сделали… В сердце нет ни смирения, ни кротости. Глаза сужаются. Крылья крупного носа раздуваются от тяжелого, шумного дыхания. Нет нужды, что на Андрее черная ряса. Приведет бог, он возьмет пику убитого, схватит камень — что подвернется, но в стороне не останется. Для Рублева естественна ненависть к угнетателям, это, конечно, и ненависть к «нехристям», разоряющим монастыри и церкви. Гнев на ордынцев угоден богу, готовность бить татар «указана свыше». Убийство «поганых» не грех, а «святой» долг и подвиг. Впечатлительный, чувствующий сильно и глубоко живописец в душе давно, конечно, решился на «мученичество». Это должно еще сильнее обострять его зрение, должно навечно врезать в память сцены осадной жизни, выражения человеческих лиц, углубить понимание человеческой психологии. В те дни подвергается, конечно, испытанию и его отношение к великому князю. Ничтожество Василия Дмитриевича очевидно. Обманувший надежды великий князь прежнего уважения у художника вызывать не способен. Рублев не забывает заповеди: «не судите, да не судимы будете», он, возможно, «прощает» Василию Дмитриевичу, как христианин, невольную слабость, но уже само прощение — это дым над обломками сгоревшего псевдовеличия московского владыки. На стенах Москвы, в ней самой, среди простонародья, гуляют воспоминания об осадегорода Тохтамышем. Тогда князь Дмитрий тоже бежал на север, и его не дождались. Ничего, обошлись и без князей! Суконщики да гончары вместо бояр-воевод управились… Вона как можем, если что! Но Андрей Рублев вряд ли разделяет настроения простого люда. Его долго учили, доказывая примерами из «истории», что княжеская власть «от бога», что князья — это меч церкви, слуги ее, да и жизнь убеждает Андрея: без твердой княжеской руки ничто на Руси не устоит. Ведь и тогда, при Тохтамыше, город все-таки сдали. «Покарал» господь защитников Москвы за бунт против Дмитрия. Тяжело думать, что и отец с матерью могли грех на душу принять, «помутиться» верою, но «истина» чернецу Рублеву «дороже всего». Наверняка в дни «московского сидения» Андрея Рублева, подобно другим мыслящим современникам, все острее начинает беспокоить «забвение людьми бога», то есть бросающаяся в глаза разница интересов имущих и неимущих, ведущая к антагонизму между тогдашними сословиями. Он не может не видеть проявлений этой враждебности даже среди засевших в крепости, подверженных одной угрозе людей… Как известно, Эдигей не сумел взять Москвы, несмотря на всю тщательную дипломатическую подготовку внезапного нападения. Простояв месяц в селе Коломенском, хан получил тревожные вести из орды: там готовили его свержение. Это заставило Эдигея вступить в переговоры с осажденными. Положение татар под Москвой было безнадежным, но ордынские дипломаты вновь одержали победу, предъявив московским боярам тяжелейшие требования и грозя в случае отказа удовлетворить эти требования беспощадным штурмом. Конечно, знать о положении дел в Орде руководители московской обороны не могли. Конечно, сама неумеренность татарских требований воздействовала на психологию бояр, как бы убеждая в решимости и уверенности противника. Тем не менее быстрое согласие боярской верхушки дать Эдигею чудовищно громадный по тем временам выкуп — три тысячи рублей! — можно объяснить и «оправдать» лишь нежеланием подвергать риску себя и свое добро. Три тысячи в конце концов платить придется не из своего кармана, а за счет крестьян, ремесленников и торгового люда, а с безоружными подданными управляться всегда легче, чем с вооруженным врагом! Пусть Эдигей берет выкуп и уходит… Вряд ли решение бояр и митрополита было встречено с энтузиазмом простыми русскими людьми. Они же видели: татары в бой не рвутся, чего-то боятся. Сам же народ готов был к любой схватке. Верил, что могут подойти полки с севера. Возможно, получил известие, что Тверь отказала Эдигею в помощи против Москвы. Как же было не возмущаться «миротворством» князя Владимира Андреевича и прочих «сильных»? Любой бондарь и пахарь понимал: татарский «выкуп» ляжет на его плечи. Платить будет он, простолюдин, а не князь Владимир Андреевич и иже с ним! Летописцы (а им, слугам церкви и князя, и делать больше ничего не оставалось!) написали об «удивлении и ликовании» москвичей, прознавших об уходе татар. Полностью верить этим летописным «ликованиям» нельзя. Радость по поводу избавления от Эдигея должна была омрачаться у простого народа сознанием выпавшего на его долю иного бедствия: уплаты колоссальной суммы противнику, который, по сути, потерпел поражение, не взяв города. Боярский поступок обязательно должен был вызвать неприязнь к руководителям обороны, пробудить раздражение, усилить ненависть простого люда к своим «владыкам». Мы не знаем, в чем нашли выход эта ненависть и раздражение. Однако москвичи никогда кроткими овечками, умиленно принимавшими любой акт властей, не были. И если они в 1408 году не побили камнями митрополита и бояр, как сделали это в 1382 году, то уж на словах, наверное, честили горе-вояк без обиняков и, пожалуй, иному боярину бросали обвинения прямо в лицо. Нравы эпохи такую «демократию» допускали. Полчища татар не ограничились «стоянием» под Москвой. Ими был опустошен Переяславль, ограблен Ростов, расхищен Дмитров, сожжены Серпухов, Клин, распят Городец, вытоптан городок Верея. Крупный отряд полонил Нижний Новгород. А на обратном пути в Орду, так сказать «мимоходом», Эдигей разорил Рязань. О деревушках и селах, попадавшихся татарве, нечего говорить. Все было залито кровью, предано огню, запасы же зерна, хлеба, скот, драгоценности — все, что можно увязать в суму, погрузить на сани, угнать или просто сожрать, — все было увязано, погружено, угнано и сожрано. Едва осада оказалась снятой, москвичи узнали о размере постигшего Русь бедствия. Призрак нищеты, призрак голодной смерти замаячил перед взором вернувшихся на родные пепелища, замахнулся косой на Москву. Это неминуемо усиливало всегда существующее недовольство народа, способствовало росту противо-княжеских и противобоярских настроений. Когда летописец сетует, говоря: «бедное сие и нужное время», надо, видимо, угадывать за недоговоренностью этих строк не только сожаление по поводу последовавших в скором времени новых татарских набегов, голода и мора, доведших Русь до людоедства. Надо угадывать за этими строками растерянность официального историка, напуганного ожесточением простых людей, которым поистине терять было уже нечего, которые наверняка решались на стихийные выступления и протесты против власть имущих. Прямых сведений о каких-либо расправах крестьян и горожан со своими «владыками» в источниках нет. Но это отнюдь не причина для утверждения, будто подобных выступлений и протестов не было. В особенности среди мрущих от голода крестьян. Невозможно представить, чтобы исстрадавшийся мужик с поклоном встречал боярского тиуна, явившегося забрать у его голодных детей последнюю овцу или последний куль зерна. Не поклоном — колом встречают в таких случаях. Но и в ответ не похвалы получают. Современники, конечно же, отлично знают, что там тиуна убили, там деревню выжгли, там на боярина напали. Знают, что на дорогах появились шайки татей, понимают, какая сила вывела людей из родных изб, заставила променять соху на кистень, грабли — на рогатину. Хорошо говорит об ожесточении и отчаянии народа маленькая, сохранившаяся до нашего времени подробность. В пору трехгодичного голода и мора Москва была завалена трупами. Очевидно, население растекалось из города, а оставшиеся и думать не желали о столице великого князя, так что Василию Дмитриевичу приходилось платить большие деньги за уборку и захоронение разлагавшихся прямо посреди улиц тел. Навалившийся вновь на Москву «ордынский выход» не случайно, видимо, выплачивается великим князем в лихолетье, в пору народных бедствий, так аккуратно, как не выплачивался уже давно. Тут не только боязнь Орды, но и желание обрести в татарах союзников против возможной смуты со стороны кого-либо из князей, если они решат воспользоваться трудной обстановкой[7]. Поездки на поклон ханам возобновляются, Орда опять используется борющимися князьями как жупел. Сын Василия Дмитриевича, великий князь Василий Васильевич, будучи разгромлен Улу-Махметом и вынужденный платить новый огромный выкуп, вернулся в Москву под охраной сильных татарских отрядов. Новые «москвичи» получили землю, привилегии, заставили потесниться старых бояр. Стыдливые историки прошлого объясняли это событие только горестной необходимостью для князя подчиниться требованиям Улу-Махмета. Какая уж там «необходимость»! Даже собственные бояре великого князя пришли в замешательство и возроптали, а они всегда стояли горой за прямых наследников Ивана Калиты, цепко держась полученных от них привилегий. Теперь же поступок Василия Васильевича, напуганного недавним изгнанием из Москвы дядей Юрием Дмитриевичем и решившего любой ценой остаться сильным в военном отношении, вызвал боярский взрыв и дал восторжествовать Шемяке. Последние события совершались, правда, уже после смерти Андрея Рублева. Но этот процесс внутренних «неустройств» начался и протекал, то затухая, то усиливаясь, на глазах у художника вплоть до его преждевременной кончины. Стало быть, усиливалась и тревога художника за будущее родины, за судьбу исповедуемых идеалов. Искренний мечтатель, идеалист поневоле, Андрей Рублев, естественно, тяготится неприглядной политической действительностью. Его должны отталкивать «мероприятия» бояр и великого князя, направленные на усиление эксплуатации народа, но не могут привлечь и отчаянные вспышки мужицкого гнева, глухой гул народного недовольства. Где же выход? Где истина? В 1410 году на Владимир налетела орда царевича Талыча. Дикие степняки ограбили город. С Успенского собора были ободраны золоченые покрытия глав. Знакомец художника поп Патрикей, ключарь собора, подвергся в самом соборе пыткам и был убит, так как не хотел указать тайник, куда запрятали драгоценные церковные сосуды и утварь. Стойкость и мужество беззащитного ключаря потрясли современников Рублева. Конечно, они потрясли и живописца… Заурядный поп оказался великим! Как же можешь опустить руки ты, возмечтавший о себе как о «призванном»?! В подвиге Патрикея Рублев мог найти «указание», как жить. Терпеть, терпеть и терпеть, страдая за веру! Но практически это означало проповедовать необходимость все той же отсутствующей в действительности «братской любви» бояр к смердам и смердов к боярам; необходимость обличать словом и делом и тех и других, если они отступают от идеи «всеобщего духовного мира». Об этом периоде жизни Андрея Рублева и Даниила Черного известно только, что летописи о художниках ни разу не упоминают и что оба становятся священниками. Крупинка… Но о скольком заставляет задуматься эта «крупинка»! В частности же она позволяет говорить об изменившемся отношении к Рублеву его недавних высоких покровителей. Обстановка, как мы знаем, не такова, чтобы вести строительство новых храмов и помышлять об их пышном украшении. Московскому правительству сейчас не до строительства, и это, конечно, гасит интерес к художнику, к его работе. Но одним отсутствием новых храмов и падением интереса к Рублеву объяснять почти двадцатилетнее молчание живописца и молчание о нем нельзя. О внутреннем состоянии Андрея Рублева в эти годы мы догадываемся, однако допустить, что художник вообще ничего не пишет — нелепость. Нет, Рублев пишет сам, воспитывает блестящую плеяду последователей, стойко проповедует человечность, доброту, веру в людей. Значит, речь идет о какой-то изоляции Андрея Рублева, о подобии остракизма, которому его подвергают недавние высокие почитатели таланта. Не случайно, по-видимому, официальные московские летописцы уже ни разу, нигде не называют имени Рублева, даже в связи с росписью Троицкого собора, и сведения об этой росписи мы черпаем лишь из «жития», принадлежащего перу Пахомия. Возможна ли такая перемена отношения к художникам? Да. В гнетущей атмосфере неуверенности в завтрашнем дне такая перемена — и именно к Андрею Рублеву! — более чем возможна. Русскую землю постигли величайшие беды. Они ожесточают низшие, наиболее страдающие слои населения, будят недовольство паразитами, усевшимися на хребте народа и не сумевшими оградить людей от несчастий. В такие времена проще и легче всего объяснять народу случившееся как небесную кару, как «божий гнев», как испытание, посланное «за грехи». Средневековье и не может дать другого объяснения таким, скажем, стихийным бедствиям, как засухи, дикие пожары, обмеления рек или эпидемии. Так бог вновь является растерянному «московиту» непостижимой, враждебной, гневной и беспощадной силой. Мистические настроения обретают благодатную почву, в особенности среди обладателей земных благ, и растут, видимо, прямо пропорционально величине этих самых благ, доводя религиозность князей и бояр до исступленности. Религия в данном случае весьма удобна. Она не только снимает с плеч «власть имущих» ответственность за политические просчеты, освящает их корысть, успокаивает совесть, но и помогает приводить человечье стадо к смирению и покорности, запугивая «гневом божьим» и переваливая вину с больной головы феодала на здоровую голову смерда. «Закоснел в пороках, завидуешь, ропщешь, посягаешь на чужое — вот тебе и наказание!» В этих условиях рублевская вера в доброго, участливого, пекущегося о людях бога могла вступать в противоречие с проповедью церковных властей, могла вызвать подозрения. Неблагоприятность положения Андрея Рублева и его товарищей должна усугубиться тем, что митрополичью кафедру занимает личность, как нельзя более подходящая для роли пастыря-усмирителя, — истовый византиец Фотий. Этому «деятелю церкви» все русское было чуждо и непонятно. Вряд ли полностью принимал он и живопись Андрея и других близких Рублеву иконописцев. Теперь же Фотию представлялась прекрасная возможность прямо обвинить мастеров в забвении византийских традиций, в недостатке «благочестия», да, пожалуй, и в отсутствии «истинной веры». Росписи и иконы Рублева выдвигать такого рода обвинения позволяли, хотя, конечно, Андрей Рублев никогда и помыслить не мог, что изменяет «вере». Обвинение же в «заблуждении» ничего приятного за собой не несло. И даже одно сознание, что тебя способны выставить как «отступника», конечно, должно было отрицательно сказываться на творчестве Рублева и его сподвижников, выбивать их из колеи, мешать живой работе. С тем большим эффектом, что и сам Андрей Рублев, конечно, вынужден пересматривать в новых условиях свои взгляды, подвергать проверке прежние представления, искать новые образы и формы для своих идей. В условиях любого общества с антагонистическими классами всякий большой художник, откликающийся на страдания человечества, как правило, слышит от общества «анафему» именно в пору самых напряженных духовных поисков. Это извечная поддержка, какую получают лучшие сыновья народа от благодарных современников; одним из современников, задавленным нуждой, не до искусства, а другие требуют, чтобы искусство, взятое ими на содержание, не смело отдаться искреннему чувству. Очевидно, так случилось и с Андреем Рублевым. Оттого-то и не знаем мы, что он пишет в эти годы, зато знаем, что и он и Даниил становятся священниками, «заслуживают» среди монахов славу «достойных», «смиренных», «благочестивых», «совершенных в добродетели». Молитвы, изнурительные посты, бесконечные «обетьи», выполнением которых Рублев, вероятно, стремится «приобщиться» истине, — вот что бросается в глаза летописцу. То есть как раз то, что мешает художнику работать, сбивает с пути, подрывает силы Рублева. Однако среди «богоугодных подвигов» есть один, для Рублева весьма полезный. Это «молчание», позволяющее углубиться в себя, мыслить глубоко и спокойно. Выдерживал ли Рублев подвиг «молчания» или нет — неизвестно. Но что он стремился к раздумьям в одиночестве, «затворничал» — вряд ли неправдоподобно. Возможно, такое поведение художника смягчало отношение к нему властей предержащих, примиряло со «смиренным» иноком. Однако «смирение» Рублева было весьма относительным. «Смирялся» он внешне, а внутренне готовился к новому, ослепительному и могучему взлету, к новой страстной проповеди. Ему, видимо, пришлось немало пережить в трудное время лихолетья. Духовные колебания, неприязнь светских и церковных властей, физические невзгоды, постоянное нервное напряжение творца — все это, ясно, накладывало на Андрея свою печать. Да и молодость уходила. Ложились на лоб морщины, темнела кожа под глазами, пробивалась ранняя седина, все чаще вспыхивала в глазах тоска… Одно лишь оставалось неизменным: кроткая душа поэта, кровоточащая при виде страданий людей. Так близился час полного раскрытия этой души. Долгожданный — для художника, вечный — для русской земли.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
 В начале 1422 года по Москве прошел слух, что игумен Свято-Троицкого монастыря Никон затевает постройку каменного собора и уже сговорился с артелью псковских мастеров.
Слуху поверили не сразу. Возвести каменный храм — не часовню срубить. Надо прежде всего купить камень, да перевезти его, да мастерам платить — и кладчикам, и резчикам, и кровельщикам, — да и украсить храм надо.
Неужели у Никона на все хватит? Когда же успел с силой собраться? Ведь Эдигей от монастыря одни головешки оставил!
Потом другой слух прошелестел: монахам князь Юрий Дмитриевич помогает.
Это успокоило иных наивных простолюдинов, было смутившихся тем, что братия Никона обогатилась так быстро, да еще в лихое время.
Князю драть семь шкур со своего люда, набивать казну в любую пору как бы положено. Если же на храм князь эти деньги жертвует — вовсе хорошо: богоугодное дело творит.
Но наивность — качество, присущее далеко не всем. Лишены его и многие в среде московского боярства и духовенства.
Возвести храм в память о Сергии Радонежском, почтить «чудотворца» — все это почтенно, похвально, однако и «святые дела» надо совершать подумавши.
Народишко в русской земле совсем худ стал, оголодал, оборвался, зверем поглядывает, бога забывать начал, а тут ему, как нарочно, Никон свои достатки показывает!
Так рассуждали одни, полагавшие, что не нужно лишний раз напоминать измученному народу о богатствах феодалов и церкви.
Иначе рассуждали другие, те, для кого политика Никона была неприемлема в самой своей основе.
Их немного, пожалуй, насчитывалось, таких «ревнителей» веры, однако они существовали.
Замысел возвести над мощами Сергия Радонежского храм, оплаченный жизнями, голодом и подневольным трудом замученных людей, должен был казаться этой малой части верующих пределом нравственного падения.
И когда слух о намерении Никона подтвердился, когда в Святую Троицу потянулись подводы с камнем из Коломны, когда проехали в монастырь псковичи, — тогда этой горстке верующих «предательство» Никона стало очевидным.
Впрочем, Никону до бессильных чудаков дела было мало.
Воля и энергия властолюбивого игумена от чьих-то там мнений ничуть не страдали.
Никон ломил свое.
Очевидно, он олицетворял тот тип людей, которых «любовь к человечеству» ожесточает в самой крайней степени и способна «возвысить» до уничтожения самого человеческого рода.
И храм, первый каменный храм Свято-Троицкого монастыря, знаменитый Троицкий собор, возник.
Мастера закончили его постройку в 1423 году.
В начале 1422 года по Москве прошел слух, что игумен Свято-Троицкого монастыря Никон затевает постройку каменного собора и уже сговорился с артелью псковских мастеров.
Слуху поверили не сразу. Возвести каменный храм — не часовню срубить. Надо прежде всего купить камень, да перевезти его, да мастерам платить — и кладчикам, и резчикам, и кровельщикам, — да и украсить храм надо.
Неужели у Никона на все хватит? Когда же успел с силой собраться? Ведь Эдигей от монастыря одни головешки оставил!
Потом другой слух прошелестел: монахам князь Юрий Дмитриевич помогает.
Это успокоило иных наивных простолюдинов, было смутившихся тем, что братия Никона обогатилась так быстро, да еще в лихое время.
Князю драть семь шкур со своего люда, набивать казну в любую пору как бы положено. Если же на храм князь эти деньги жертвует — вовсе хорошо: богоугодное дело творит.
Но наивность — качество, присущее далеко не всем. Лишены его и многие в среде московского боярства и духовенства.
Возвести храм в память о Сергии Радонежском, почтить «чудотворца» — все это почтенно, похвально, однако и «святые дела» надо совершать подумавши.
Народишко в русской земле совсем худ стал, оголодал, оборвался, зверем поглядывает, бога забывать начал, а тут ему, как нарочно, Никон свои достатки показывает!
Так рассуждали одни, полагавшие, что не нужно лишний раз напоминать измученному народу о богатствах феодалов и церкви.
Иначе рассуждали другие, те, для кого политика Никона была неприемлема в самой своей основе.
Их немного, пожалуй, насчитывалось, таких «ревнителей» веры, однако они существовали.
Замысел возвести над мощами Сергия Радонежского храм, оплаченный жизнями, голодом и подневольным трудом замученных людей, должен был казаться этой малой части верующих пределом нравственного падения.
И когда слух о намерении Никона подтвердился, когда в Святую Троицу потянулись подводы с камнем из Коломны, когда проехали в монастырь псковичи, — тогда этой горстке верующих «предательство» Никона стало очевидным.
Впрочем, Никону до бессильных чудаков дела было мало.
Воля и энергия властолюбивого игумена от чьих-то там мнений ничуть не страдали.
Никон ломил свое.
Очевидно, он олицетворял тот тип людей, которых «любовь к человечеству» ожесточает в самой крайней степени и способна «возвысить» до уничтожения самого человеческого рода.
И храм, первый каменный храм Свято-Троицкого монастыря, знаменитый Троицкий собор, возник.
Мастера закончили его постройку в 1423 году.
Свидетельство современников о первоначальном нежелании Андрея Рублева и Даниила Черного расписывать Троицкий собор игумена Никона — самое драгоценное из всего, что мы знаем о художнике. Хорошо, что Пахомий Логофет в простоте своей оговорился и, желая возвеличить Никона, открыл нам взгляды Рублева. Никон живописца, судя по всему, возмущал. Ничем другим не объяснишь в свете известных нам обстоятельств постройки Троицкого собора, почему Никону пришлось «умолять» художника дать согласие на роспись храма и создание иконостаса. Андрею Рублеву и Даниилу Черному, похоже, претило приложить руки к детищу Никона, они как бы боялись загрязнить себя участием в создании храма. Может вызвать сомнение в связи с этим наша мотивировка ухода Андрея и Даниила из Свято-Троицкого монастыря в начале четырехсотых годов. Если Никон знал, почему художники ушли в ту пору из его монастыря, знал их отношение к «стяжательству», то как решился приглашать Андрея и Даниила? Видимо, дело в том, что Никон считал себя кругом правым. Накопленные при эксплуатации закабаленных мужиков средства использовались игуменом действительно не только на «мирские» потребности братии. Никон сам вел подчеркнуто неприхотливую жизнь, держал в ежовых рукавицах и свое стадо. На харчах игумена монахи не отъедались. Капитал частью расходовался на «общежитийное» хозяйство, частью на приобретение книг, икон и храмовых украшений, частью накапливался для большого строительства. Оттого Никон и полагал, что может смотреть в глаза кого бы то ни было с чистой совестью: ведь лично на себя игумен не тратил ни единой мужицкой полушки. Его не смущало и монастырское ростовщичество, поскольку и ростовщические проценты предназначались, так сказать, «для бога». Троицкий собор — все по той же логике! — Никон строил не для себя, а в память Сергия Радонежского, ради торжества «святой православной церкви»! И хотя Никон мог догадываться, какой прием встретит в Спасо-Андрониковском монастыре, он ехал туда с твердым убеждением, что докажет своим бывшим инокам их старую «ошибку», без особого труда добьется согласия Рублева работать в Троицком соборе. Напористый игумен, вопреки своим ожиданиям, сначала получил, видимо, спокойный (другого в монастырских условиях не дашь!), но решительный отпор. Андрей Рублев и Даниил Черный поехать к Никону отказались. Как протекала их первая беседа, можно лишь догадываться. Но художники от Никона не зависели, удерживать свое мнение относительно игумена-стяжателя не только не должны были, а как «истые правдолюбцы», готовые ради веры на все, и не могли. Четверть века не виделись эти люди, четверть века каждый укреплялся в своем, и вот судьба свела их лицом к лицу, свела снова в споре о «заветах Сергия». Как же было не высказать всего, что накипело на сердце? Видимо, Никон не сумел найти веских доводов против выслушанных обвинений, не сумел доказать свою правоту, и необоримое желание зазвать прославленных мастеров вынудило игумена перейти к униженным просьбам. Андрей Рублев и Даниил Черный игумена Никона как церковного деятеля не уважали. Но зрелище дряхлого старика, живущего в монастыре в ожидании их согласия, оставить художников равнодушными не могло. Никон, пожалуй, хорошо использовал последний способ воздействия на мастеров, взывая к их человечности. Тут он не просчитался. Лед был сломан. Андрею и Даниилу могла прийти мысль, что Никон — одно, а память о Сергии, храм, все равно уже построенный, — другое. Что никто не может помешать художникам увековечить такую память о Сергии, какую берегут они сами. Стоило лишь начать думать подобным образом, чтобы вскоре склониться к мысли о возможности поездки в Святую Троицу. Убыстрила решение, очевидно, властная, жгучая жажда творчества, охватившая Андрея и Даниила. Ведь столько лет оба не писали фресок! А тут — целый собор! И собор над мощами Сергия, где можно, невзирая ни на кого, писать о том, что передумано, выстрадано, бережно выношено в душе! Громко сказать о том, во что веришь! И сказать там, где «заветы Сергия» забывают. Устыдить и призвать поколебавшихся. Порадовать праведных. Исполнить долг!.. Игумен Никон дождался согласия Андрея Рублева и Даниила Черного. Он облегченно вздохнул и, конечно, возблагодарил господа. Теперь игумен знал: Троицкий собор превзойдет красотою прочие храмы. Никон не ошибался. Он не подозревал только одного: что эта красота останется навеки страшнейшею уликой против церкви и ее лживости.
Человек идет по дороге своей юности. Она все та же: такая же неровная, пыльная, ныряющая то в луговые травы, то в пахучую тень боров. Такие же маленькие елочки стоят на косогорах. Такие же жаворонки журчат в небе. Такие же лешачьи дудки мельтешат в заболоченных кустах. Но человеку уже не пятнадцать лет. Ему уже за сорок. Он знает: эти кочки, эти жаворонки, эти лешачьи дудки — не те… Не те! Птицы твоей юности не запоют, травы не зашелестят… На развилке дорог стоит древний дуб. Обрубок дуба, то ли сожженный молнией, то ли сломленный бурей. Он виден издалека: черный, с расщепленной вершиной, одинокий и безрадостный. Дорога ведет к обрубку. Все ближе и ближе. Человек останавливается перед мертвым деревом. Вот оно. Узнаешь? Нет, человек не хочет узнавать дуб. Не хочет! И вдруг глаза его видят прилепившуюся к черному стволу тонкую серую веточку с двумя крохотными листочками. Узловатую дубовую веточку с нежным зеленым пламенем жизни. Тогда он узнает и, задыхающийся, оглушенный, растерянный, стоит перед деревом, пока не окликают с удаляющихся телег: — Андре-ей! Человек, очнувшись, спешит за товарищами. Но в кончиках его пальцев навсегда остается ощущение трепетной, шершавой кожицы вырезного листика. Маленького. Беззащитного. Проросшего каким-то чудом. Бессмертного.
Человек идет дорогой своей юности. Такие же облака кучатся в глубокой синеве, нагромождая ярус на ярус. Такая же стремительная тень бежит от них по полям, попеременно гася краски хлебов, земли и трав, но бессильная погасить их совсем. Такие же соломенные крыши деревенек золотятся вдали. Такой же ветерок бодрит грудь. Человеку не пятнадцать лет. Ему уже за сорок. Он знает: птицы, травы и облака — не те! Не те! Но он не растерял способности отзываться на зов живого и любить живое. Его пальцы хранят шершавую ласку листика с процветшего обрубка. И, зная, где оборвется дорога, он с благодарностью думает об одиноком, изуродованном дубе, последним усилием выбросившем праздничный, ликующий побег. И человеку легко.
Дорога юности… Она провела Андрея Рублева мимо той самой Клязьмы, по которой они с Даниилом когда-то давно плыли во Владимир, она провела его и через Радонеж. Через родной городок, после набега Эдигея захиревший, неотстроенный, малолюдный и печальный. Видит ли Андрей тех людей, что знали его еще мальчиком? Говорит ли с ними? Вспоминают ли они вместе о далеких, кажущихся прекрасными днях? Может быть. Но в Радонеже путники, конечно, останавливаются: городок испокон века служил и служит «перевалочным пунктом», местом отдыха для едущих из Москвы в Свято-Троицкий монастырь. Здесь, в Радонеже, как и всюду, снова видит художник следы тяжелого неустройства русской земли, снова слышит голоса нужды и горя. Нет, не лучше, а хуже стала за прошедшие годы жизнь. Еще невыносимей тяготы людей. Не сбылась наивная мечта юности о близком блаженстве человечества. Может быть, не сбудется уже до твоего последнего часа… Но сбыться должна! Когда-нибудь должна! Ведь страдания и жертвы бесцельными не бывают!
…Вот сейчас, едва выедут из леса, покажется Маковец. Тот ли? Узнает ли Андрей эти места? Сердце бьется быстро, гулко. Глаза неотрывно смотрят на просвет в конце лесной чащи. И вот… Но где же раздольные луга, где знакомые рощи, где густая грива окружавшего монастырь бора? Он видит пашни, вырубки, какие-то убогие деревеньки, похожие на отчаявшихся выходить божию милость странниц, в изнеможении, в горестном разду-"мье опустившихся на землю и глядящих перед собой опустошенным, тупым взором. А на месте густого бора над Консерой — расчищенная пустошь, редкие молодые деревца, глухая ограда обители, сияющий золоченый купол храма. На миг Андрей Рублев опускает глаза. Не от блеска золота. От смятения, рожденного созерцанием близости человеческой нищеты и монастырского богатства. Живописцу больно. Он встречает понимающий взгляд Даниила. Товарищ кладет руку на плечо Андрея. Это призыв ободриться и смирить сердце. Это напоминание о том, что человек не властен изменить мир, что он не может прозреть «божьего промысла» и не должен роптать всуе… Старец Андрей Рублев переводит дыхание, подымает глаза и истово крестится.
Старые товарищи. Любопытные взгляды новых чернецов. Сначала неуверенные, но потом все более смелые расспросы и рассказы. Троицкий собор. Стоя перед храмом, Андрей Рублев испытывает смущение. Скромны стены Троицкого собора, сложенные из простых плит тесаного белого камня, разделенные неглубокими, килевидными пилястрами и украшенные всего одной неширокой лентой «плетения» с крестами, пальметами и трилистниками. Просто, строго, почти бедно… Это напоминает о простоте и бедности Сергия Радонежского. И трогает. Трогает! И заставляет думать о седом сгорбленном Никоне мягче и добрее. Может быть, и прав Никон, не остановившийся ни перед чем, чтобы сохранить память об учителе в сердцах грядущих поколений. Опять это… Опять не оставляющий Андрея проклятый вопрос о том, кто прав, вопрос о том, как жить, вопрос о том, какие пути ведут к человеческому братству, Видно, надо просто верить: все совершенное должно было совершиться, все явленное — явлено во испытание и ведет к великой цели. Надо верить в это и все терпеть! С такими чувствами впервые и касается Андрей Рублев коленями лещадного пола Троицкого собора.
История создания шедевров мирового искусства — всегда история долгих поисков формы, способной вместить и излить идею человечности, выношенную нацией в ту или иную эпоху ее общественного развития. То, что кажется подчас плодом мгновенного озарения, детищем счастливого краткого взлета мысли и чувства художника, на самом деле всегда только итог кропотливого, многолетнего труда, изнурительной, тяжкой работы. Иногда эту работу — во всяком случае значительную часть ее — проделывают предшественники гения, иногда весь труд приходится на его собственную долю. Порой, как это было с «Сикстинской мадонной», все вмещается в работу над одним полотном. Чтобы отложить, наконец, кисть, и уверенно сказать: «Кончено!» — Рафаэлю понадобилось четыре года. Порой мастер подходит к «внезапному» свершению путем работы над другими полотнами. Но всюду, всегда — опытом и трудом. Миг, заставляющий ожить линии и краски, ослепительная вспышка таланта, добывается, как изначальный огонь, только терпением. И эти общие, известные положения нелишне повторить сейчас, приблизившись к новой загадке творчества и жизни Андрея Рублева, к загадке иконы Святой Троицы, единственно достоверной иконы его кисти, написанной не в содружестве с кем-либо. Предание связывает создание этой иконы, написанной «в похвалу Сергию», с поездкой Андрея Рублева к Никону для украшения Троицкого собора. Отдельные исследования относят появление «Святой Троицы» к более раннему времени, хотя не берутся уточнять окончательную дату рождения ее. Однако существует и такое мнение, что «Святая Троица» должна быть помечена 1408 годом. Никаких точных указаний на действительное время создания иконы в источниках обнаружить не удается и вряд ли удастся найти вообще. И все же одно убедительное свидетельство эпохи, одно убедительное указание на время написания «Святой Троицы» существует. Это сама икона. Но, прежде чем говорить о «Святой Троице», надо обратить внимание на иконостас, где она была поставлена.
Никаких сомнений в том, что фрески и иконостас Троицкого собора выполнены под руководством Андрея Рублева и Даниила Черного, ни у кого из историков искусства не существует, и не существовало бы даже при отсутствии точных летописных свидетельств: живопись говорит сама за себя. Фигуры деисусного чина расположены в том же порядке, как располагал их некогда при украшении Благовещенского собора Феофан Грек, но здешние персонажи человечны, и чин воспринимается не как сумма отдельных изображений, а как одно цельное полотно. «Праздники» же почти неотличимы от «Праздников», написанных Рублевым и Прохором из Городца в том же Благовещенском соборе. Они представляют как бы тонкие, проникновенные вариации на прежние темы. Великолепная чуткость к формам человеческого тела, понимание красоты как воплощенного внутреннего благородства, чистота эмоций, трогательная отзывчивость изображенных художниками участников евангельских событий, легкость решения сложнейших повествовательных сцен — все это свидетельствует именно о рублевском отношении к миру, о рублевском мастерстве воспроизведения его. Но вместе с тем в троицком иконостасе есть одна поразительная особенность. Особенность, давно замеченная, хорошо известная и в то же время трудная для понимания. Трудная настолько, что способна поставить зрителя в тупик. Дело в том, что, изучая иконостас Троицкого собора, обычно без всякого труда различают руку нескольких мастеров, писавших здешние иконы, легко устанавливают их своеобразные творческие почерки, но лишь с оговорками, очень и очень осторожно решаются говорить «о принадлежности» той или иной картины кисти самого Андрея Рублева. Центральная икона деисуса — «Спас в силах» — настолько индивидуальна по характеристике лика, по напряженной манере письма и своеобразной красочной тональности, что Рублеву ее вообще никогда не приписывали, а полагали автором Даниила Черного. (Считалось, что друзья поделили работу при создании главных «святынь»: один взял на себя «Троицу», второй «Спаса»). Но даже в наиболее рублевских фигурах деисуса — в апостоле Павле и Дмитрии Солунском, где так много поэтичности и сохранились пресловутые «плавь» и «белильные отметки» на ликах, что объявлялось «несомненным» признаком рублевской кисти, уместней видеть отличную школу великого мастера, чем непременно его самого. Во всяком случае, не эти иконы являются высочайшим достижением живописи эпохи, не они становятся этапом русского искусства, ибо Рублев здесь только повторен, а не выступает в новом качестве. То же самое можно сказать о «Воскрешении Лазаря», где в пленительном образе Марии больше трогательности, беззащитности, доверчивости, чем в подобной же иконе Благовещенского собора. Уверенность и человечность кисти здесь подтверждены, но не служат средством для выражения каких-либо новых мыслей и эмоций. Значения иконы это умалить не может. Но убеждает в том, что больших усилий для ее создания Рублеву (если «Воскрешение Лазаря» писал он) не понадобилось. Большинство же остальных икон вне сомнения принадлежит ученикам Андрея Рублева. Ученикам верным, последователям умным, помощникам прекрасным, но художникам вполне самостоятельным. Возможно, одним и тем же мастером выполнены фигура Николая-чудотворца и «Причащение хлебом», где образы трактованы довольно сухо, а лики апостола Петра и Николая, похожие на лица крестьян, говорят о вполне определенных симпатиях автора, намекают на его происхождение из народа. В «Положении во гроб» другой мастер стремится передавать сильные душевные движения. Бесконечна и нежна здесь скорбь матери, непередаваемо отчаяние жен, но иконе не хватает полноты рублевского лиризма, она звучит трагично. Изумительны «Жены у гроба», икона, возглашающая радость победы над смертью, с ее тремя женами-мироносицами, ангелом, повелительно взметнувшим ослепительно белое крыло над пустым саркофагом Христа, и расступившимися перед крылом горами. Просто, чисто сочетаются в иконе зеленые, желтые, красно-коричневые тона. Потрясающе убедителен на их фоне резкий удар белого. Фигуры жен — олицетворение женской грации и изящества. Они превосходят нежностью и гибкостью все ранее созданные образы иконописи, включая и образы самого Рублева, но здесь красота юной плоти все же лишь красота формы, а не внутреннего побуждения, что лишает ее значимости и неодолимой притягательной силы. Первоклассно выполнены «Сретение», «Тайная вечеря», «Вход в Иерусалим», «Крещение», но и здесь, строго говоря, видны лишь могучий отсвет рублевского гения, следование Рублеву, а не дальнейшее развитие его. Замечено, что для мастеров всех этих икон как бы существует некая мера, некий идеал, к достижению которого они в меру своих возможностей и стремятся. Если это действительно знаменитая «Троица», то, значит, она написана ранее поездки Рублева к Никону. Непонятно только, что же тогда делает, что пишет во время пребывания в Свято-Троицком монастыре сам Рублев? Какую картину создает, отдавая ей большую часть времени и сил? Над чем трудится так долго и упорно, что Никон, чувствуя приближение смерти, торопит живописцев «спешно бо они творяше дело»? Какую задачу никак не может решить, если ему уже оказалась по силам даже «Троица»? Неизвестно. Иконы, которая превосходила бы этот шедевр Рублева, в иконостасе нет, и современники о существовании чего-либо подобного ей не упоминают. Зато они прямо указывают, что Рублев, приглашенный Никоном, написал образ «живоначальные Святой Троицы» «в похвалу отцу своему Сергию». Это свидетельство тем не менее полагают недостаточным для датировки «Троицы» временем работы у Никона. Находят, что икона могла быть привезена художником в монастырь из Москвы. Допустим такую возможность, оставив пока открытым вопрос, чем же занят Рублев при росписи Троицкого собора. Всмотримся в «Святую Троицу» Андрея Рублева так, как умел всматриваться в чужие работы сам художник. Догмат троичности божества возник в христианской религии на основе заимствования у диалектики античности. В нем нашло искаженное отражение античного представления о мире, как несомненной «вещности», единстве противоположностей, целостности взаимоисключающих частностей. Говоря о возникновении христианства, Энгельс писал, что в последние дни античного мира: «Всеобщему бесправию и утере надежды на возможность лучших порядков соответствовала всеобщая апатия и деморализация»[8] и указывал, что при тогдашнем положении вещей «утешение должно было выступить именно в религиозной форме»[9]. Догмат троичности и призван был выразить надежду на возможность установления утраченной человечеством гармонии, указывал путь к гармонии через страдание и примирение с неизбежным, через познание и проповедь «истинного учения». Таков идеалистический смысл этого догмата. Как писали «Троицу» до Рублева, мы знаем. Иллюстрируя легенду о явлении патриарху Аврааму и жене его Сарре трех ангелов, возвестивших скорое чудесное рождение Саррой сына, художники дали два типа изображения библейского предания. Один тип, самый ранний, встречается в византийских и русских иконах вплоть до конца XIV века. Ему следовал в своей новгородской работе и Феофан Грек. Средний ангел рисовался здесь довлеющим над двумя остальными, превосходящим их. Это соответствовало рассказу о том, что бог спускался на землю в сопровождении, так сказать, рядовых чинов ангельского лика. Новая догматика отвергла прежнее толкование. Она утверждала: явленные Аврааму и Сарре три вестника были тремя воплощениями единого божества. В соответствии с этим появился в иконописи и второй тип «Троицы». Тут фигуры ангелов рисовались равновеликими, а головы их окружались одинаковыми кресчатыми нимбами, что должно было намекать на единство «внутренней сущности» вестников. Сразу задаешь себе вопрос: неужели ни один из предшественников Андрея Рублева не обладал ни талантом, ни достаточной техникой, чтобы выразить единство ангелов не одним лишь формальным приемом? Двух ответов не существует. Опытные и талантливые художники и в Византии и на Руси были и до Рублева. С ним рядом в конце концов жил Даниил Черный, работала целая плеяда талантливых учеников. Отчего же никто до Рублева не сделал того, что сделал он сам? Отчего никто не сосредоточил внимания именно на внутреннем единстве «божества», отчего все ограничивались лишь показом момента торжественного вещания Сарре, показом величия «творца мира»? Двух ответов не существует и здесь. Для одних «единство бога» является самим собою разумеющимся, доказательств не требует. Им вовсе не нужно говорить об этом. Для других, более пытливых и умных, очевидна опасность, таящаяся в невинной на первый взгляд задаче воплотить, доказать средствами искусства недоказуемый догмат, требующий только веры, а отнюдь не понимания, которое уже по одному существу своему противоречит вере. Андрей Рублев не менее религиозен, чем первые из этих живописцев, и не менее мудр, чем вторые из них. Не испытывая сомнений в догме, он, бесспорно, сознает, на что решается, принимаясь за свою «Троицу». И тем не менее решается. Отходит от принятые форм. Не просто иллюстрирует легенду, а считает нужным говорить о догмате троичности, доказывать его, убеждать в общности единичного и множественного, в единстве целого и частного. Выступает не как начетчик, а как философ, настойчиво бьющийся над познанием сущности бытия, пытающийся проникнуть в его тайны, найти ответ на вековечные, пока еще не решенные эпохой загадки природы и общественной жизни. Откуда такая властная потребность в познании, в страстной проповеди? Что вызывает эту неутолимую жажду, что питает могучую творческую волю Рублева, его беспредельную решимость сказать все до конца? Сказать даже ценой отказа от многих прежних средств выразительности, достигнутых годами тяжкой работы? Где эпицентр могучего толчка, вызывающего бурную вспышку деятельности гения, его новое, не имеющее равных дерзание, его новую, не сравнимую ни с чем дотоле написанным картину? В благочестивом чтении священного писания? Во внезапном, ниспосланном свыше наитии? В «откровении», которого сподабливается истязатель плоти и «молчальник»? В созерцании «богоугодных» сцен монастырской жизни? Признавая «Святую Троицу» произведением, написанным вне определенных условий конкретной действительности, рискуешь докатиться до признания «причин» именно такого сорта и очутиться в объятиях церковников. Конечно, нежелательность таких объятий — еще не доказательство написания иконы в каком-то определенном году. Однако это обстоятельство достаточно серьезное, чтобы задуматься о действительных причинах, побудивших Андрея Рублева толковать библию. Ответить, когда Андрей Рублев написал «Троицу», значит не просто прибавить к биографии художника еще одну дату, это значит найти в нем основное как в живописце и человеке, это значит окончательно вырвать гения из рук церкви. Тут вздохом об утрате «достоверных» свидетельств отделаться нельзя. Тут следует вновь вглядеться в эпоху.
До 1408 года внутренняя и внешнеполитическая обстановка складывается для Руси в общем весьма удачно. Золотая Орда обессилена распрями. Тверь с 1399 года, после смерти великого князя Михаила, давшего клятву за детей, внуков и племянников не искать ни великого княжения, ни Новгорода, выступает как дружественный удел. Великий князь рязанский признает Василия Дмитриевича «старшим братом», обязуется следовать его воле. Все братья Василия Дмитриевича, кроме Юрия Звенигородского, дают такие же обещания. Мелкие удельные князьки — те и подавно не помышляют о самостоятельности. С Новгородомперед самым нашествием Эдигея устанавливаются более или менее нормальные отношения. В Московское княжество притекают бояре, служилые люди, ремесленники, смерды. Тут расчищаются дремучие чащи, пробиваются новые дороги, возникают деревеньки и села, расширяется запашка, оживляется торговля. Благополучно складывается в эту пору и судьба Андрея Рублева. Время надежд и бодрости! Нападение Эдигея словно гром среди ясного дня. Наступающие следом за татарами мор и голод, хоть и связаны отчасти с ордынским нашествием и радости принести не могут, все же почти такая же неожиданность. В этом несчастье никого не обвинишь. Рассуждая здраво, следует его просто перетерпеть, уповая на урожайные годы и на прекращение эпидемий. Наблюдаемое в эту пору просвещенными людьми эпохи обострение социальных отношений, очевидная несовместимость интересов крупного и мелкого феодала, вообще феодалов и крестьянства ставятся поэтому в один ряд со стихийными бедствиями. Относительная свобода еще не прикрепленного к одному месту крестьянина, неразвитость товарно-денежных отношений, неизжитая феодальная раздробленность, своеобразие исторического момента — всенародная борьба с татарским игом — все это ведет к запутанности, сложности внутренней жизни русского общества. Не случайно в XIV веке непрерывно рассуждают о всеобщем равенстве, а летописец, подметив, что этого самого равенства, о котором столько толкуют, все же в природе не существует, лишь сетует: «Все один род и племя Адамово, и цари, и князья, и бояре, и вельможи, и гости, и купцы, и ремесленники, и рабочие люди — один род и племя Адамово, а забывшись, друг на друга враждуют и ненавидят, и грызут, и кусают». Классовая борьба представляется удрученному летописцу нелепой семейной неурядицей, где все забылись, но вскоре должны опомниться и обрести некогда существовавшие мир и благоволение. Это мнение не единичное для той поры. Оно вовсе не результат умышленной слепоты. В нем прекрасно отражены наивность и непроизвольные заблуждения тогдашнего русского человека. Не уходит далеко от подобных представлений о сословном обществе и первая четверть XV века. Не уходит покамест дальше современников и Андрей Рублев. Иконостас Троицкого собора рассказывает, что в период с 1408 года по двадцатые годы XV века живописец воспитывает целую группу учеников, исповедующих как раз те самые убеждения, о которых только что шла речь. Значит, наблюдаемые процессы расслоения, классовой дифференциации, отдельные вспышки розни еще не предстают Рублеву во всей их значимости. Он еще не имеет причин глубоко задуматься над ними, еще живет запасом иллюзий и легенд, рожденных 1380 годом, Куликовской битвой, «подвигами» Сергия Радонежского и собственными воспоминаниями о недавнем «благополучии» земли. Вдобавок стрелка политического барометра, подрожав на «переменно», все определенней клонится к «ясно». Вызванное нашествием Эдигея усиление местнических княжеских тенденций быстро идет на убыль. Литва держится по отношению к Москве как союзница. Эпидемии и голод минуют. В Золотой Орде снова возникают раздоры, ее влияние опять ослабевает. Последнее не слишком заметно простолюдину, с которого «ордынский выход» дерут вне зависимости от смещений и убийств ханов. Но для москвича, принадлежащего к духовной иерархии, «неустройство» Орды — факт важный и утешительный. Личная судьба Андрея Рублева в это время, как можно догадаться, не слишком завидна, но и не так уж страшна. Во всяком случае заниматься живописью и обучать молодых мастеров ему никто не мешает. Это отсутствие объективных причин для острого, жгучего беспокойства за судьбы народа и человека, для тревожных попыток понять суть вещей и ход времен, проникнуть философской мыслью причины «ненавистной розни мира сего» говорит, что «Святая Троица» не могла быть написана до поездки к Никону, убедительней, чем важные сами по себе высокое мастерство, отстоянность убеждения и чувства, видные в иконе, свидетельствующие о полной зрелости мастера, о его работе над «Троицей» уже в последний период деятельности. Зато в пользу версии, что «Святая Троица» создана именно для Троицкого собора, создана в годы работы в Свято-Троицком монастыре, факты не просто говорят, а кричат. Чтобы услышать этот крик, нужно очень немногое: отказаться от благоговения перед авторитетами прошлого столетия. Троицкий собор закончили постройкой в 1423 году. Как правило, храм на Руси начинали украшать год-два спустя. Делать исключения именно для Троицкого собора никаких оснований не существует. Напротив, указание Пахомия Логофета на то, что храм расписывался незадолго до смерти игумена Никона, упоминание о боязни Никона умереть, не увидев завершения работы художников, прямо убеждают в существовании определенного, не малого разрыва между датой окончания постройки собора и датой начала его. росписи. Следует, видимо, считать, что Андрей Рублев и Даниил Черный появляются в Свято-Троицком монастыре не раньше 1425–1426 годов. А 1425 год в русской истории год чрезвычайно знаменательный. Умирает великий князь Василий Дмитриевич, и тотчас следует пролог к страшной, кровавой феодальной распре, затягивающейся на три досятка лет, отбрасывающей Русь чуть ли не ко временам Калиты: заявляет свои права на великое княжение Юрий Дмитриевич Звенигородский, он же князь Галичский. Василий Дмитриевич, в согласии с установившимися в семье Калиты порядками, в полном соответствии с волей фактических правителей Москвы — бояр, умирая, завещал престол своему десятилетнему сыну Василию. Московским боярам было выгодно, чтобы Москвой продолжала владеть одна семейная ветвь, и вовсе не улыбалась перспектива уступить первенствующую роль боярам еще какого-либо князя. Юрий Дмитриевич, конечно, понимал это, силу московских «коренных» боярских родов знал, но момент был долгожданный, повториться не мог, и Юрий отказался признать завещание старшего брата, отказался признать великим князем десятилетнего племянника, потребовал передачи великого княжения себе. Начиналась усобица для семьи Калиты небывалая, хотя возможность такой усобицы опытные политики-москвичи предполагали давно: князь Юрий никогда не забывал духовной грамоты своего отца — Дмитрия Донского. В грамоте же этой говорилось ясно: «А сына своего князя Василья благословляю на стариший путь… А по грехом отымет Бог сына моего князя Василья, а хто будет под тем сын мой, ино тому сыну моему княж Васильев удел…» У Дмитрия Донского были особые причины составить именно такое завещание. Эти причины давно миновали, однако Юрий Дмитриевич Галичский формальное право претендовать на московский престол получил и теперь использовал. Отпор галичскому князю последовал сразу же. Политические и имущественные интересы московского боярства были фактом куда более серьезным, чем мертвые буквы грамоты, хотя бы написанной Дмитрием Донским. Но Юрий был не из тех, кто легко уступает силе и поддается на уговоры. Возникла реальная угроза открытого военного столкновения Москвы и Галича. Дружины готовились к схватке. Лишь в 1428 году, трезво оценив преимущества противника, Юрий временно «утишился» и признал первенство племянника, впрочем ненадолго. Очень интересно здесь одно летописное свидетельство. В 1428 году митрополит Фотий ездил в Галич для переговоров с Юрием, и произошло взаимное запугивание. Причем если Фотий грозил духовным оружием, силой великокняжеских дружин, то Юрий — «чернью». К приезду митрополита он созвал и «расставил» на галичской горе, как говорит летописец, простолюдинов из города и окрестных сел, демонстрируя этим «многолюдство» своего княжества. Созвал ли Юрий народ, стеклись ли простолюдины на знаменательную встречу сами, ожидая перемен в судьбе, выгод от «воцарения» галичского князя на Москве, — судить трудно. Но сам призыв галичского князя к народу, призыв, нашедший отклик, весьма показателен. Его повторил и сын Юрия — Шемяка в 1446 году. Юрий и его сын явно использовали недовольство масс угнетателями, сыграли на чувствах притесненных людей. Не так важно, что галичские князья не думали всерьез опираться на ратников «в овечьих шкурах». Важно, что смерды и ремесленники готовы были стать ратниками, готовы были свести стародавние счеты с вековечными врагами внутри самой русской земли. В годы феодальной распри народ пользуется всяким случаем, чтобы дать выход ненависти к «знатным» и «родовитым». Конечно, между 1425 и 1428 годами, в пору «ссоры» Москвы с Галичем, такие случаи выпадают часто. «Чернь» отстаивает свои интересы, поддерживая то одну, то другую борющиеся стороны, эксплуатируя вынужденную «мягкость» господ, но очень редко, видимо, открыто сопротивляясь уплате налогов, долгов, выполнению повинностей и т. д. Тем не менее «шатание» с 1425 года должно становиться все более зримым, ощутимым, опасным. Вдобавок к этому в 1425 году происходит еще одно событие, чрезвычайное по своим последствиям, подготовившее, по существу, отпадение южной Руси от центральной. Великий литовский князь Витовт добивается, наконец, осуществления давней мечты: собор русских епископов еще при жизни князя Василия Дмитриевича ставит киевским митрополитом угодного Витовту болгарина Григория Цамблака. Возникают две митрополии. Это грозит распадением единой русской церкви, да со временем к нему и приводит. В те же годы на страну снова обрушиваются голод, а потом новая эпидемия. Стихийные бедствия, от которых еле оправились, естественно, должны усиливать социальную рознь, ожесточать людей, толкать «чернь» на отчаянное сопротивление поборам. Вот действительность, какую наблюдает Андрей Рублев в годы работы в Свято-Троицком монастыре. Тут не захочешь, а задумаешься о причинах «неустройства» мира, обеспокоишься за судьбу родины и русского человека. Не захочешь, а будешь искать смысл бытия, будешь пытаться понять движущие человечеством законы. И уж непременно вспомнишь желание Сергия Радонежского, чтобы «страх ненавистной розни мира сего» люди побеждали «созерцанием святой троицы», как образца согласия, залога возможности такого согласия в торжестве христианской веры. Вспомнишь! Время нового и очень сильного обострения внутреннего положения в великом княжестве, время вспыхнувших с новой силой противоречий между бедным и богатым, между правым и сильным, неминуемо должно было дать новый, мощный толчок творческой мысли Рублева. А ведь тема «Троицы» решена художником совершенно необычно. В образах ангелов выявлен, подчеркнут как раз философский смысл догмата троичности: возможность гармонического единства противоположностей. Высказана страстная тоска по этому единству, жажда его, убежденность в его необходимости и достижимости. Этим смысл и значение «Троицы» Андрея Рублева не исчерпывается. Но именно это, наряду с исследованием стилевых особенностей иконы, с определяющей точностью указывает, что «Троица» действительно написана в Свято-Троицком монастыре между 1425–1428 годами, когда художник был встревожен вполне определенными событиями, разгаром той самой «ненавистной розни мира сего», что страшила Сергия Радонежского. Легко понять состояние Андрея Рублева. Он вернулся почти четверть века спустя в те места, где укреплялась его наивная вера, где им владели юношески чистые мечты о всеобщем благе, где он познал первые радости творчества. Но мечты не сбылись. Радость творчества омрачена выпавшими на твою долю невзгодами. Счастье все так же недостижимо, внутреннего покоя нет, жизнь остается по-прежнему запутанной, несправедливой, безотрадной, угрожает стать еще губительней для человека. Вот в этой обстановке и может вспыхнуть ярким огнем горючий материал выношенных Рублевым дум о смысле бытия, нравственном долге человека. Художник мыслит образами. Задолго до окончательного воплощения замысла в ясных красках иконы. Рублев должен вдруг увидеть трех ангелов, явившихся на землю вовсе не для возвещения Сарре и Аврааму чудесного рождения у них сына, а для того, чтобы научить людей искоренять вражду, обретать дружеское согласие отказом от корысти, готовностью к самопожертвованию… Озноб вдохновения. Прилив той головокружительной смелости, что на миг обрывает дыхание и останавливает сердце. «Святую Троицу» так не писали и не пишут. Пусть! Он напишет только так. Не для московских бояр. Не для князя Юрия. Не для игумена Никона. Их помыслы художнику Андрею Рублеву чужды. Их правда — не его правда. Старец Андрей верует: истина не вотчина, чтобы ею владеть кому-то одному, оставляя других нагими и сирыми. Она — одна для всех. И пусть в годы всеобщего ожесточения слушать об этом не любят. Андрей Рублев повторит свое давнее убеждение, не считаясь ни с кем. Он выбрал крест и донесет его до конца, какой бы тяжестью ни давило на плечи!
Под тяжестью взятого бремени Андрей Рублев не согнулся. Свою «Троицу» написал. Ясность замысла предопределяла необходимость ясной формы иконы, строгость ее композиции, яркость и чистоту цветовых созвучий, но в этой предопределенности состояла невыразимая трудность письма. Формального опыта для решения такой задачи было мало. Требовались смелость мыслителя, дерзость борца, такая вера в собственные силы, которой не страшен риск отказа от уже достигнутого. Все эти качества у Андрея Рублева нашлись. Для его иконы мелочные подробности созданных ранее «Троиц» были не нужны, — Рублев без колебания опустил чудесные обстоятельства появления божества, отказался от изображения Авраама и Сарры, пиршественных яств, сцены с закланием. Он лишь намекнул на место действия, показав мамврийский дуб и палаты патриарха. Сознательно порвав с традицией, художник выделял основное — образы трех духовно единых существ, склоняющихся перед чашей — символом смертной чаши, которую во имя рода человеческого готов испить Христос, показанный в средней фигуре. Многих мастеров до Андрея Рублева и самого Андрея Рублева уже в начале его пути влекла форма круга, которая служила олицетворением неба, совершенства, высоты ищущего духа. В «Ангеле» из «Евангелия Хитрово» молодой художник, пытаясь передать единство движения и покоя, заключил шагающего ангела в круг. Но там круг оставался противопоставленным изображению. В «Троице» мастер гениально решил не доступную ранее никому задачу, выразив геометрическую линию ритмичным движением самих фигур. На какого бы ангела ни смотрел зритель, взор его невольно будет скользить к соседнему, следуя за наклоном голов и фигур, пока вновь не сосредоточится на том, чья одежда отмечена золотым клавом, — на «Спасителе». Круг в иконе поэтому не только не стесняет движения, но становится одновременно условием и следствием его, а наблюдаемое в наклонах голов и фигур «нарушение» симметрии воспринимается как сущность гармонии. Андрей Рублев, подчиняясь могучей жизненности найденного приема, вышел и из рамок плоскостного решения темы. Естественные движения ангелов придают «Троице» своеобразную перспективность (перспективы в нашем значении слова иконопись не знала), вся группа выглядит сферичной, уходящей в глубь доски и выступающей из нее. А это закономерно создает второй план, где горка и дерево повторяют ритмику двух правых фигур, а стройное здание завершает большую упругость левой, уравновешивая волнообразное течение контуров, делая всю композицию спокойно-устойчивой. Андрей Рублев не «прорисовывал» и не «процарапывал» грунт картины, как часто делали другие мастера, сначала нанося на левкас рисунок, а затем уже покрывая его краской. Абсолютная уверенность в собственной технике позволяла ему писать краской сразу. Тем поразительней, как безошибочно выбраны и соединены Рублевым цвета, выражающие движение линий, как сливаются гармония рисунка и колорита. Рублев безупречно владел искусством чистых, нежных тонов, их тонкого сочетания. Но в «Троице» внутренняя задача была иной, нежели в «Ангеле» из Звенигорода. Художник в самом центре картины положил звонкую синеву ляпис-лазури рядом с тяжелым, сочным темно-вишневым цветом, создал яркий цветовой контраст одежд Христа, определяемый самой решительностью характера образа, волевой устремленностью к искупительной жертве. Немыслимое в другой иконе Рублева, это сочетание здесь необходимо. В самой контрастности его заключено созвучие, какого еще не знало искусство живописи. Это поистине диалектика цвета! И ей сознательно подчинены цвета одежд боковых ангелов. Предметность цвета, его скольжение и завершение в аккорде центра равных себе в живописи эпохи не имеют, как не имеет равных по глубине философской мысли сама картина, хотя она писалась как икона. Верно замечено, что, отступив от традиционных способов изображения «Троицы», Андрей Рублев вольно или невольно отказывался от роли иллюстратора определенного религиозного догмата. Но Рублев вольно или невольно вышел и из роли толкователя догмата. Стремясь утвердить свою веру в возможность гармонии бытия, Рублев должен был утверждать ее материальными средствами, в материальных образах. Его божество обрело зримые черты, переживания и чувства человека, а сама икона зазвучала гимном жизни. Жизни, где счастье и горе, радость и печаль, раздумье и действие, бытие и смерть — все нераздельно, все прекрасно, как вечное, отрицающее само себя движение. Прометеева любовь к людям, к родной земле воспламенили душу художника. Он, «смиренный старец», силой гения своего прозревал закономерности развития жизни, прорывался сквозь схоластику и символику «учения отцов церкви» к ясному осознанию мира и места человека в нем. Страстное отрицание гнусной действительности, ее фарисейства, непреклонная вера в лучшее будущее, громогласный зов к этому лучшему будущему беспощадно ломали прокрустово ложе богословских представлений самого Рублева, наполняли его «Святую Троицу» покоряющим человеческим смыслом, не имеющим ничего общего с лицемерием христианства. Это был подвиг в самом высоком, в самом светлом значении слова. Он требовал всех сил души. Он требовал испепеляющего, ничего не признающего, кроме себя, труда. Вот почему, видимо, в иконостасе Троицкого собора до сих пор столь безуспешно пытаются отыскать хотя бы еще одну «бесспорную» икону гения…
Он не молод. В голове и бороде уже залег вечерний туман седины. Привычка к чтению ссутулила спину, свела когда-то прямые плечи. Глаза выцвели. И взгляд уже не прежний. Не удивленно-радостный, а усталый, сосредоточенный, часто устремленный мимо предметов и людей на не видимое никому иному. Никто, даже Даниил, не знает, что пишет, по неделям не выходя из уединенной кельи, Андрей Рублев. Художник не показывает икону, молчит, если решаются спросить, скоро ли он закончит труд. Одряхлевший Никон только вздыхает, поглядывая на жилье старца. Как-то попробовал игумен поторопить Андрея, ссылаясь на немочи свои… Поведал, что боится умереть, не доведя украшение собора до конца. Мастер выслушал Никона, тронул бороду, ответил просто: — Не для тебя, отче, пишу, а для бога. Если же спешишь — кого другого призови, я в Москву уйду. И Никон отступился. Терпит. Ждет. Лишь беспокоится, когда Андрей вдруг бросает работу, подолгу сидит в храме или по кельям товарищей, а то и просто уходит вдруг из монастыря, скитается целыми днями вокруг обители, хмурится, если ищут или даже ненароком встретят. А художник, верно, устав от неудач, иной раз чувствует, что все становится ему безразличным, что вовсе не хочется ему приготовлять краски, искать их созвучия, а волновавшее вчера вдруг кажется мелким, жалким и вся работа ненужной, бесполезной. Тогда он поворачивает начатую икону ликами к стене, снимает заляпанный подрясник, надевает обычную одежду и уходит за ворота… В один из таких дней ноги сами приводят Андрея на дальний луг, к разросшимся орешникам и неглубокой канаве. Пасмурно. Ветер сгоняет тучи… Очнувшись от тоскливого забытья, старец морщит лоб, недоуменно озирается, не понимая, как и зачем оказался тут, чем знакомо ему место. А оно чем-то знакомо. И вдруг совсем рядом принимается бить перепел. Не обращая внимания на человека, серый петушок взобрался на вывороченный ком земли и, часто вытягивая шейку, словно выталкивает из горлышка свое звонкое: «Подь полоть! Подь полоть!» Перепел? Нет! Тогда квохтала тетерка. Вон там. А Даниил стоял возле самых кустов и опирался на косу. А вот здесь они пролезли в орешник… Андрей растерянно озирается. Господи! Сколько же лет прошло? Ветки трещат. Он лихорадочно ищет и находит и прелые листья, и дрожание солнечных пятнышек на них, и пологий склон, где тогда сидели… Черные, медленные глаза смотрят из прошлого, грудной голос с усмешкой зовет: «Чай, ее принял схимы еще…» Андрей опускается на землю. О боже! Принял! Принял! Ради тебя, Марья, ради сына твоего, ради всех принял! Принял! И страшно, горько знать, что ничего не достиг, что вся жизнь прошла зря, что впустую отречение твое, призыв твой к людям, не внимающим голосу добра и участия! Страшно и горько, Марья! Думаешь, я слеп? Нет! Вот ходил в деревеньку напиться. Постучал в крайнюю избу. Выглянула молодуха, испугалась, заулыбалась униженно, и — видно же! — солгала зачем-то: «Нету хозяина… Нету…» Услышала, что воды прошу, облегченно вздохнула, засуетилась. Разве не знаю, Марья, что меня за монастырского тиуна приняли? Что испугались, как напасти, рясы моей?! Думали, за долгом или на повинность гнать пришел… Марья, знаю! Страшно! И другое страшно. Князь Юрий наезжал. Не видела? Я зато видел. Помню князя с давних пор. Обрюзг, на ходу оглядываться начал, косит недоверчиво, ухмылка злая… Благословил игумен Никон его. И того, другого князя, еще мальчика, видел я. Нынешнего великого князя. Привозили мальчика на благовещение богородицы. Брел он по храму среди бояр своих, словно придавленный огромной шапкой. Покорно брел, Марья. И его с боярами благословил игумен. Одному богу молятся все, пойми! Одни иконы все целуют! Мои иконы! И все сгубить друг друга хотят… Страшно, Марья! Бессилие страшно! Бесплодные годы страшны! Разве для того все отдал, для того своей юности, лучших сил не пожалел? Разве для того?! Кто ответит мне? Кто?! Кто?! Андрей сидел на земле, дрожащими пальцами раздирая давящий ворот рубахи, пронзенный острой жалостью к себе, сознанием тщетности всей жизни. Как тогда, в далекой юности, вновь распахнулась перед ним бездна одиночества. Но теперь облегчающие слезы не приходили. Да он и знал: слезы помочь не могут. Ничто не поможет. Никогда… И дрожь в пальцах пропала. Удушье прошло. Медленно поднялся он с земли, словно вырастал из нее, из тех прошлых листьев юности и нынешнего отчаянья, из давнишних очарований и потерь, и распрямил наперекор давящей боли еще крепкие плечи, и поднял лицо к миру, который так безжалостно, так долго хотел раздавить в нем человека. Давно набегавшие облака прорвались ливнем. Ветер ударил Андрея в горящий лоб, рванул рясу, закинул за плечо бороду, попытался свалить с ног. Холодные, резкие струи дождя пробивали тело до кости. Надо было спрятаться, переждать непогоду, поберечься. Он стоял на лугу, давясь водой и вихрем, но не отворачиваясь, не втягивая голову в плечи, не ловя хлопающих пол рясы. — Ну! — кричало в нем все. — Ну же! Ну же, вали с ног, залей, брось, как лист, смешай с грязью! Ну!! Но дождь и вихрь не могли одолеть его. Тогда он зашагал к Маковцу. Ступал твердо, не обходя ни осклизлых кочек, ни высоких мокрых трав, вызывающе, широко открыв слепнущие от ливня глаза, неторопливый, прямой, непокорный. Небо могло расколоться и рухнуть. Земля — исторгнуть огонь и мертвецов. Леса — вырваться с корнями, реки — хлынуть из берегов, горы — столкнуться и сплющиться. Брат встать на брата, друг — на лучшего друга, сын — на отца, край — на край и царство — на царство. Все было бессильно теперь перед ним, ничто не властно поколебать его. Позади остался последний рубеж. Вот в такой день — в один из таких дней — Андрей Рублев и бросил в середину своей «Троицы» ляпис-лазурь и густой поток вишневого. И уже не отрывался от иконы, пока не кончил ее. Уронив кисть, он отступил в сторону. Долго стоял неподвижно, не отводя взора от задумчиво-грустных ликов ангелов. Прерывисто вздохнул. В груди нарастала незнакомая еще, звонкая, могучая волна. Андрей Рублев обвел глазами келью. Почуял острый запах рыбьего клея и олифы. Услышал за стеной чей-то разговор. Глухие удары била, созывающего на вечернюю службу. Все оставалось прежним, и все же было теперь почему-то иным. Он не сразу понял почему. Потом опять увидел «Троицу». Уже не свою. Уже принадлежащую людям. Уже ставшую частицей самого бытия. И, преодолевая ломоту в ногах, немолодой художник благоговейно опустился на колени перед тем, чему служил всю свою жизнь — перед ней самой.
Поставив икону возле царских врат, Андрей Рублев вышел из храма. Отовсюду спешили чернецы. Поддерживаемый под руки, ковылял от трапезной игумен Никон. Молодой, светло-русый послушник, поспешая, чуть не натолкнулся на мастера, заалелся, виновато пролепетал: — Отче… Отче… Андрей мягко тронул юношу за плечо, благословил и присел на пенек. Над головой свистнула птичка. Он поднял голову: малиновка. Малиновка тоже смотрела на человека, словно раздумывала: улетать или не улетать? — Не улетай! — посоветовал он. — Зачем? Птичка все-таки улетела. Но земля пахла землей, среди листьев сквозило небо, от пенька отдавало сыростью, оставленная птахой веточка раскачивалась, а Андрею Рублеву ничего другого и не нужно было.
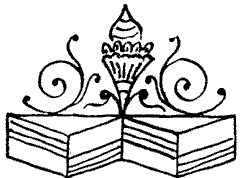
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
 Притихла безлюдная, тревожная Москва, где свирепствует язва.
Пустынны палаты великокняжеской семьи.
Пустынны митрополичьи покои. Наглухо заколочены боярские дома. Все, кто мог, выбрались из столицы.
А кто не мог — заперли ставни, заложили ворота, спустили с цепей собак. Выходят лишь на базар, по воду да в церковь…
На улицах валяются обезображенные трупы. В тишине издалека слышен зловещий скрип: приближается телега с пьяными крючниками. Крючники шагают за телегой, напялив на головы мешки с прорезями для глаз. Наткнувшись на тело, цепляют его багром и, поднатужась, крякнув, закидывают на другие тела, наваленные в телегу.
Крючников шатает. Иные сами валятся с ног.
Трупы везут за город, где согнанный народишко выкопал рвы. Тут стоит тягучий, мутящий, сладкий запах тлена.
Крючники опрокидывают возы, кое-как забрасывают трупы землей и неторопливо возвращаются за новой поклажей.
Тогда из ям и кустов появляются спрятавшиеся было бродячие псы. Они разрывают могилы быстро и ловко, не тратя времени на обычную грызню. Они уже знают, что грызться незачем: добычи хватит на всех…
Мор. Язва.
Люди сторонятся друг друга. На базаре денег из рук в руки не берут. Нищих, которым нечем поживиться, словно ветром выдуло. Исчезли скоморохи и гусельщики.
Только церкви звонят.
В церквах молят бога избавить Москву от бедствия, пожалеть ее христианский люд.
Тысячи губ касаются одних и тех же икон, тысячи губ целуют одну и ту же поповскую руку.
Спаси, господи!
И зараза проникает под любые запоры, сквозь любые изгороди и стены.
Поистине бич божий…
Андрей и Даниил снова вернулись в Спасо-Андрониковский монастырь. Они слышат зловещий звон храмов. Они видят смерть. Но оба тверды. И, едва успев отряхнуть дорожную пыль, оба приступают к росписи монастырской церкви Всемилостивого Спаса. В зачумленной Москве это подвиг. Это вызов гибели. Это смелая вера в жизнь. Но дни Андрея и Даниила уже сочтены.
С тоской представляешь себе, как это могло случиться. Ворота монастыря не запираются и в самую опасную пору эпидемии. Нищие, юроды, просто прохожие и проезжие текут через двор Спасо-Андрониковского по-прежнему. И пусть теперь это не широкий поток, а иссякшая речонка, зато речонка гнилостная, опасная.
Как грязь на отмели, оседают в монастыре больные. Христианская же любовь требует не просто заботы и сострадания. Она повелевает самоотречение. Повелевает не сторониться несчастных, а, напротив, пренебрегать всякой осторожностью, «влагать персты в язвы» недужных, уповая на провидение и завоевывая этим право на вечную жизнь.
Так заболевает один инок, потом другой, потом сразу несколько чернецов…
Лекарство же одно — молитва.
И это страшная страница в судьбе Андрея Рублева.
Росписи и иконы церкви Спаса погибли. Как развивался дар гениального живописца после создания «Троицы», установить невозможно. Увековечил ли Даниил Черный в тех фресках и иконах, что написал после ранней смерти Андрея, память о гениальном друге — неизвестно.
Мы знаем лишь, что Даниил пережил Андрея ненамного и что потерю товарища перенес тяжело. О смерти Рублева летописцы молчат вообще. В «благочестивом» же предании о смерти Даниила правда угадывается без труда…
Эта смерть была трудной. Старый иконописец провел последние часы в забытьи и бреду. Измученный жаром, метался он на постели, дышал жадно, хрипло.
Воспаленный мозг Даниила рождал лихорадочные видения. Губы торопливо шептали бессвязные слова.
И вдруг в полосе мятущихся теней, в бесовской пляске отрывистых картин засиял свет, судорожное мелькание лиц и фигур исчезло, в оглушительной тишине покоя возник улыбающийся Андрей.
Тот, каким Даниил впервые увидел его когда-то давным-давно на тропинке обители.
Доверчивый, открытый, добрый…
Андрей протягивал руки, что-то говорил, а рядом с Андреем стояли, улыбались и звали Даниила люди в светлых одеждах, с золотыми нимбами вокруг голов.
Господи! Даниил узнал их! Это были Спас из Звенигорода, владимирские апостолы, Мария из храма Троицы…
Значит, Андрей не напрасно столько страдал! Он знал истину и теперь был в раю!
Воспоминание о товарище придало умирающему силы. Даниил открыл глаза, приподнялся. Вокруг постели скорбно толпились ученики.
— Андрея… видел… — пролепетал Даниил Черный, пытаясь улыбнуться. — В радости. Призывает меня…
Старый иконописец рухнул на постель. По сухому телу пробежала судорога. Дыхание оборвалось.
Легенду о смерти Даниила Черного, за миг до кончины увидевшего гениального друга среди жителей райских кущ, церковь запомнила, чтобы создать Андрею Рублеву славу «святого», славу «отшельника», рвавшегося окончить ненавистное земное существование и «воспарить» к престолу «всевышнего».
Между тем в легенде нет ничего легендарного, предсмертный шепот Даниила потрясающе человечен и горек, рисует и Андрея и Даниила глубоко земными и потому прекрасными людьми!
Старый монастырский художник очень глубоко уважал Андрея. Конечно, он верил, что Рублев заслужил «пребывание в раю». Болезнь вызывала бред. И естественно было для Даниила увидеть в бреду именно «райские кущи», Андрея среди тех самых апостолов и подвижников, которых столько лет писали оба мастера.
Немного слов произнес Даниил перед смертью, а сказал много.
Сказал, что трудна и горька была жизнь Рублева.
Сказал и то, что Андрей Рублев умел и смеяться, и радоваться, и верно дружить…
Этого церковь постаралась не заметить, и это был первый ее плевок на надгробие гения.
А всего через семьдесят лет прах художника осквернили вторично.
Сделал это «почитатель и ценитель» Андрея Рублева знаменитый епископ Иосиф Волоцкий. В ту пору полыхал жаркий спор о праве церкви иметь земельные владения, шла острая идеологическая борьба, корни которой были в задавленном положении крестьян, ремесленников и мелкого посадского люда, возмущенного усилением гнета светских и духовных феодалов.
Иосиф Волоцкий яростно защищал интересы крупных землевладельцев.
Нищета же заявляла о себе, отходя от официальной церкви и создавая «еретические» религиозные учения.
Это был классический случай, когда… «борьба демократии и пролетариата шла в форме борьбы одной религиозной идеи против другой»[10]. «Брожение умов» сказывалось и в искусстве иконописи. Иосиф Волоцкий расправлялся с «еретиками» круто. В живописи же он хотел противопоставить противникам какой-либо непререкаемый авторитет.
Наиболее почитаемым среди живописцев и просвещенных людей времени было здесь имя Андрея Рублева.
Иосиф Волоцкий и взял на себя «труд» укрепления рублевского престижа.
Использовать имя гения было легко. Жизнь Рублева была почти неизвестна, реальные причины, породившие его картины, отошли в прошлое, были уже непонятны.
Творчество Рублева в таком виде представлялось безопасным и очень удобным для противопоставления искусству, откликавшемуся на жгучие вопросы дня.
«Иосифляне», недолго думая, совершили «аутодафе», объявив Андрея Рублева «своим».
«Стоглавый сбор» запретил писать «Троицу» иначе, нежели писал ее Рублев.
Так страстное, взволнованное искусство великого мастера и наивного демократа сделали орудием подавления живой мысли, непокорного духа угнетенных и обездоленных.
Так омертвили самого Андрея Рублева. Так задушили созданное им направление живописи.
История церкви вообще есть история издевательства над народными ценностями.
Изумительное создание русских зодчих — церковь Покрова на Hepли уцелела до наших дней, как известно, лишь благодаря чистой случайности. В 1784 году духовные власти решили ее разобрать и не разобрали только потому, что пожалели денег: дорого запросил за разборку подрядчик.
Владимирский Успенский собор при Николае I «реставрировали» так, что в нем лопнули паруса и подпружные арки, началось расслоение стен.
Дикому «отбитию» подверглись в 1870 году древние фрески церкви святого Георгия в Ладоге, так как местному духовенству захотелось «изукрасить» храм поярче.
Подобных примеров можно набрать десятки. Все отбитые, выведенные известью и замазанные маслом росписи не перечислишь.
Замазывались церковниками и фрески самого Рублева.
Но лучше всего об отношении церкви к искусству столь прославляемого ею же мастера рассказывает история «Троицы» Андрея Рублева. Чудотворная! Дивная! Божественная! Святая! Каких эпитетов не прилагали к «Троице» ревнители благочестия, начиная с XV и кончая XIX веком!
Икону одели в богатейшую золотую ризу, о ней говорили со значительным и загадочным видом. А когда в 1904 году живописец Гурьянов, приглашенный в Троице-Сергиеву обитель для реставрации рублевской иконы, благоговейно снял с нее украшения, глазам ошеломленного художника предстала… роспись в палехском духе.
Наверное, реставратор не сразу пришел в себя и не сразу обрел дар речи. Во всяком случае, ему не так просто было убедить монастырское начальство, что палехские фигурки на иконе «несколько не такие», каким следовало бы здесь находиться. Гурьянову в конце концов разрешили расчистить икону. Ему пришлось снять несколько слоев позднейшей бездарной мазни, прежде чем удалось добраться до красок, положенных Андреем Рублевым!
Работа Гурьянова имела неоценимое значение. Впервые народ получил возможность увидеть шедевр Рублева. Однако тотчас же после реставрации духовные власти распорядились вновь надеть на икону золотую ризу, снова спрятали ее.
Лишь Октябрьская социалистическая революция, вернувшая народам бывшей России отнятые у них ценности, вернула им и творческое наследие Рублева.
Еще шли бои.
Еще рвались к Петрограду и Москве интервенты и белогвардейцы.
Еще не хватало хлеба.
Еще были завалены тифозными больными госпитали.
Еще за рубежами страны почти никто не верил, что молодая власть рабочих и крестьян устоит.
А великий вождь восставшего пролетариата Ленин, провидя светлые годы, звал к борьбе за новую, социалистическую культуру.
Владимир Ильич учил: «…от раздавленного капитализма сыт не будешь. Нужео взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить социализм!»[11]
30 июля 1918 года на заседании Совета Народных Комиссаров Ленин поставил свою подпись под списком выдающихся людей прошлого, чьи имена советская власть хотела увековечить.
В этом списке среди имен художников первым было имя Андрея Рублева.
Притихла безлюдная, тревожная Москва, где свирепствует язва.
Пустынны палаты великокняжеской семьи.
Пустынны митрополичьи покои. Наглухо заколочены боярские дома. Все, кто мог, выбрались из столицы.
А кто не мог — заперли ставни, заложили ворота, спустили с цепей собак. Выходят лишь на базар, по воду да в церковь…
На улицах валяются обезображенные трупы. В тишине издалека слышен зловещий скрип: приближается телега с пьяными крючниками. Крючники шагают за телегой, напялив на головы мешки с прорезями для глаз. Наткнувшись на тело, цепляют его багром и, поднатужась, крякнув, закидывают на другие тела, наваленные в телегу.
Крючников шатает. Иные сами валятся с ног.
Трупы везут за город, где согнанный народишко выкопал рвы. Тут стоит тягучий, мутящий, сладкий запах тлена.
Крючники опрокидывают возы, кое-как забрасывают трупы землей и неторопливо возвращаются за новой поклажей.
Тогда из ям и кустов появляются спрятавшиеся было бродячие псы. Они разрывают могилы быстро и ловко, не тратя времени на обычную грызню. Они уже знают, что грызться незачем: добычи хватит на всех…
Мор. Язва.
Люди сторонятся друг друга. На базаре денег из рук в руки не берут. Нищих, которым нечем поживиться, словно ветром выдуло. Исчезли скоморохи и гусельщики.
Только церкви звонят.
В церквах молят бога избавить Москву от бедствия, пожалеть ее христианский люд.
Тысячи губ касаются одних и тех же икон, тысячи губ целуют одну и ту же поповскую руку.
Спаси, господи!
И зараза проникает под любые запоры, сквозь любые изгороди и стены.
Поистине бич божий…
Андрей и Даниил снова вернулись в Спасо-Андрониковский монастырь. Они слышат зловещий звон храмов. Они видят смерть. Но оба тверды. И, едва успев отряхнуть дорожную пыль, оба приступают к росписи монастырской церкви Всемилостивого Спаса. В зачумленной Москве это подвиг. Это вызов гибели. Это смелая вера в жизнь. Но дни Андрея и Даниила уже сочтены.
С тоской представляешь себе, как это могло случиться. Ворота монастыря не запираются и в самую опасную пору эпидемии. Нищие, юроды, просто прохожие и проезжие текут через двор Спасо-Андрониковского по-прежнему. И пусть теперь это не широкий поток, а иссякшая речонка, зато речонка гнилостная, опасная.
Как грязь на отмели, оседают в монастыре больные. Христианская же любовь требует не просто заботы и сострадания. Она повелевает самоотречение. Повелевает не сторониться несчастных, а, напротив, пренебрегать всякой осторожностью, «влагать персты в язвы» недужных, уповая на провидение и завоевывая этим право на вечную жизнь.
Так заболевает один инок, потом другой, потом сразу несколько чернецов…
Лекарство же одно — молитва.
И это страшная страница в судьбе Андрея Рублева.
Росписи и иконы церкви Спаса погибли. Как развивался дар гениального живописца после создания «Троицы», установить невозможно. Увековечил ли Даниил Черный в тех фресках и иконах, что написал после ранней смерти Андрея, память о гениальном друге — неизвестно.
Мы знаем лишь, что Даниил пережил Андрея ненамного и что потерю товарища перенес тяжело. О смерти Рублева летописцы молчат вообще. В «благочестивом» же предании о смерти Даниила правда угадывается без труда…
Эта смерть была трудной. Старый иконописец провел последние часы в забытьи и бреду. Измученный жаром, метался он на постели, дышал жадно, хрипло.
Воспаленный мозг Даниила рождал лихорадочные видения. Губы торопливо шептали бессвязные слова.
И вдруг в полосе мятущихся теней, в бесовской пляске отрывистых картин засиял свет, судорожное мелькание лиц и фигур исчезло, в оглушительной тишине покоя возник улыбающийся Андрей.
Тот, каким Даниил впервые увидел его когда-то давным-давно на тропинке обители.
Доверчивый, открытый, добрый…
Андрей протягивал руки, что-то говорил, а рядом с Андреем стояли, улыбались и звали Даниила люди в светлых одеждах, с золотыми нимбами вокруг голов.
Господи! Даниил узнал их! Это были Спас из Звенигорода, владимирские апостолы, Мария из храма Троицы…
Значит, Андрей не напрасно столько страдал! Он знал истину и теперь был в раю!
Воспоминание о товарище придало умирающему силы. Даниил открыл глаза, приподнялся. Вокруг постели скорбно толпились ученики.
— Андрея… видел… — пролепетал Даниил Черный, пытаясь улыбнуться. — В радости. Призывает меня…
Старый иконописец рухнул на постель. По сухому телу пробежала судорога. Дыхание оборвалось.
Легенду о смерти Даниила Черного, за миг до кончины увидевшего гениального друга среди жителей райских кущ, церковь запомнила, чтобы создать Андрею Рублеву славу «святого», славу «отшельника», рвавшегося окончить ненавистное земное существование и «воспарить» к престолу «всевышнего».
Между тем в легенде нет ничего легендарного, предсмертный шепот Даниила потрясающе человечен и горек, рисует и Андрея и Даниила глубоко земными и потому прекрасными людьми!
Старый монастырский художник очень глубоко уважал Андрея. Конечно, он верил, что Рублев заслужил «пребывание в раю». Болезнь вызывала бред. И естественно было для Даниила увидеть в бреду именно «райские кущи», Андрея среди тех самых апостолов и подвижников, которых столько лет писали оба мастера.
Немного слов произнес Даниил перед смертью, а сказал много.
Сказал, что трудна и горька была жизнь Рублева.
Сказал и то, что Андрей Рублев умел и смеяться, и радоваться, и верно дружить…
Этого церковь постаралась не заметить, и это был первый ее плевок на надгробие гения.
А всего через семьдесят лет прах художника осквернили вторично.
Сделал это «почитатель и ценитель» Андрея Рублева знаменитый епископ Иосиф Волоцкий. В ту пору полыхал жаркий спор о праве церкви иметь земельные владения, шла острая идеологическая борьба, корни которой были в задавленном положении крестьян, ремесленников и мелкого посадского люда, возмущенного усилением гнета светских и духовных феодалов.
Иосиф Волоцкий яростно защищал интересы крупных землевладельцев.
Нищета же заявляла о себе, отходя от официальной церкви и создавая «еретические» религиозные учения.
Это был классический случай, когда… «борьба демократии и пролетариата шла в форме борьбы одной религиозной идеи против другой»[10]. «Брожение умов» сказывалось и в искусстве иконописи. Иосиф Волоцкий расправлялся с «еретиками» круто. В живописи же он хотел противопоставить противникам какой-либо непререкаемый авторитет.
Наиболее почитаемым среди живописцев и просвещенных людей времени было здесь имя Андрея Рублева.
Иосиф Волоцкий и взял на себя «труд» укрепления рублевского престижа.
Использовать имя гения было легко. Жизнь Рублева была почти неизвестна, реальные причины, породившие его картины, отошли в прошлое, были уже непонятны.
Творчество Рублева в таком виде представлялось безопасным и очень удобным для противопоставления искусству, откликавшемуся на жгучие вопросы дня.
«Иосифляне», недолго думая, совершили «аутодафе», объявив Андрея Рублева «своим».
«Стоглавый сбор» запретил писать «Троицу» иначе, нежели писал ее Рублев.
Так страстное, взволнованное искусство великого мастера и наивного демократа сделали орудием подавления живой мысли, непокорного духа угнетенных и обездоленных.
Так омертвили самого Андрея Рублева. Так задушили созданное им направление живописи.
История церкви вообще есть история издевательства над народными ценностями.
Изумительное создание русских зодчих — церковь Покрова на Hepли уцелела до наших дней, как известно, лишь благодаря чистой случайности. В 1784 году духовные власти решили ее разобрать и не разобрали только потому, что пожалели денег: дорого запросил за разборку подрядчик.
Владимирский Успенский собор при Николае I «реставрировали» так, что в нем лопнули паруса и подпружные арки, началось расслоение стен.
Дикому «отбитию» подверглись в 1870 году древние фрески церкви святого Георгия в Ладоге, так как местному духовенству захотелось «изукрасить» храм поярче.
Подобных примеров можно набрать десятки. Все отбитые, выведенные известью и замазанные маслом росписи не перечислишь.
Замазывались церковниками и фрески самого Рублева.
Но лучше всего об отношении церкви к искусству столь прославляемого ею же мастера рассказывает история «Троицы» Андрея Рублева. Чудотворная! Дивная! Божественная! Святая! Каких эпитетов не прилагали к «Троице» ревнители благочестия, начиная с XV и кончая XIX веком!
Икону одели в богатейшую золотую ризу, о ней говорили со значительным и загадочным видом. А когда в 1904 году живописец Гурьянов, приглашенный в Троице-Сергиеву обитель для реставрации рублевской иконы, благоговейно снял с нее украшения, глазам ошеломленного художника предстала… роспись в палехском духе.
Наверное, реставратор не сразу пришел в себя и не сразу обрел дар речи. Во всяком случае, ему не так просто было убедить монастырское начальство, что палехские фигурки на иконе «несколько не такие», каким следовало бы здесь находиться. Гурьянову в конце концов разрешили расчистить икону. Ему пришлось снять несколько слоев позднейшей бездарной мазни, прежде чем удалось добраться до красок, положенных Андреем Рублевым!
Работа Гурьянова имела неоценимое значение. Впервые народ получил возможность увидеть шедевр Рублева. Однако тотчас же после реставрации духовные власти распорядились вновь надеть на икону золотую ризу, снова спрятали ее.
Лишь Октябрьская социалистическая революция, вернувшая народам бывшей России отнятые у них ценности, вернула им и творческое наследие Рублева.
Еще шли бои.
Еще рвались к Петрограду и Москве интервенты и белогвардейцы.
Еще не хватало хлеба.
Еще были завалены тифозными больными госпитали.
Еще за рубежами страны почти никто не верил, что молодая власть рабочих и крестьян устоит.
А великий вождь восставшего пролетариата Ленин, провидя светлые годы, звал к борьбе за новую, социалистическую культуру.
Владимир Ильич учил: «…от раздавленного капитализма сыт не будешь. Нужео взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить социализм!»[11]
30 июля 1918 года на заседании Совета Народных Комиссаров Ленин поставил свою подпись под списком выдающихся людей прошлого, чьи имена советская власть хотела увековечить.
В этом списке среди имен художников первым было имя Андрея Рублева.
Почти шесть столетий… Ничтожно количество уцелевших до нашего времени подлинных икон и фресок Андрея Рублева. Ничтожны дошедшие о художнике известия. И все же путь Андрея Рублева, чью жизнь церковь замалчивала, просматривается достаточно ясно. От наивной веры юности, очарований и надежд молодости Андрей Рублев пришел к серьезным раздумьям над жизнью и в самые отчаянные годы Русской земли — к обновленной, яркой вере в человека. Андрей Рублев жил в XV столетии, задолго до таких мыслителей и живописцев, как Микеланджело, Рафаэль и Леонардо да Винчи. Но он дал искусству не меньше, чем они, превзойдя и оставив далеко позади остальных своих современников как на Руси, так и в Европе. Поповщина, говоря словами Ленина об Аристотеле, убила в нем все живое и увековечила мертвое[12]. Христианские проповеди Рублева, его вера в бога, объясняемые эпохой художника, — все это чуждо нам и не может быть принято. Но не это главное в Рублеве. Главное в нем — его запросы. Его жажда познания, его сомнения, его любовь к человеку, его прославление человека. Нельзя не обнажить голову перед пытливым московским монахом, который и шестьсот лет назад сумел сохранить во всех тяжких испытаниях, среди мерзостей и гнусности своего времени полное доверие к жизни и к будущему. Нельзя не гордиться тем, что имя Андрей Рублев — русское имя. Пятьсот с лишним лет, говоря об Андрее Рублеве, представляли себе уединенную келью и неподвижную фигуру загадочного чернеца со скрытым в тени лицом. Одинокой кельи никогда не существовало. Загадочный чернец не отворачивался. Он только ждал, когда же люди увидят его доброе улыбчивое лицо. Мы видим. И, упорные борцы за торжество на земле человеческого разума, принимаем и прославляем художника Рублева, так страстно и так долго мечтавшего о великом братстве людей.

МАЛОУПОТРЕБЛЯЕМЫЕ И УСТАРЕВШИЕ СЛОВА И ТЕРМИНЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В КНИГЕ
Гладь — прием иконописи, при котором краска клалась ровно, мягко и неконтрастно. «Выход» — так называемый «ордынский выход» — налог, который уплачивался ханам. Деисус — общее: украшенная иконами алтарная перегородка в церкви (первоначально: моление, изображение Христа между богоматерью и Иоанном Предтечей). Клав — широкая полоса яркой ткани, вшитая в одежду другого цвета. Канонарх — служитель в церкви, чьей обязанностью является своевременная передача нужных книг священнику. Проторь (старорусское) — убыток, расход. Плетение — один из видов каменного орнамента в храмовой архитектуре. Параманд — жезл, знак власти митрополита и патриарха. Парус(а) — в архитектуре переходная часть, соединяющая купольный свод с квадратным основанием. Санкирь — темный, зеленовато-коричневый оттенок темперы. Кроме санкиря, наиболее употребительными были в иконописи также вохра (желтый), бакан (коричнево-красный), багор (лиловато-красный), празелень (сине-зеленый), лазурь, белила и т. д. «Силы» — один из отрядов «ангельского воинства» наряду с «херувимами» и «серафимами». Темник — (татарское) начальник «тысячи» — отряда в тысячу всадников. Тиун — управитель, надсмотрщик, собиратель налогов. Темпера — краски, употреблявшиеся русскими иконописцами. Их растирали на яичном желтке и разводили квасом. Темперой писал и Андрей Рублев.КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Ленин В. И., Собрание сочинений, тт. 29, 35. Сборник «Ленин о культуре и искусстве». Государственное издательство, М. — Л, 1938. Алпатов М. В., Всеобщая история искусств, тт. I, II, III. Государственное издательство «Искусство», М., 1955. Алпатов М. В., Андрей Рублев. Государственное издательство «Искусство», М., 1959. Алпатов М. В., Андрей Рублев. М. — Л., 1943. Грабарь И., История русского искусства, тт. I и VI. Изд. И. Кнебель, Москва. Демина Н. А., Поэзия живописи Андрея Рублева, журн. «В защиту мира», 1954, № 47. Лазарев В. И., О методе работы в рублевской мастерской. Доклады и сообщения филологического факультета Московского Государственного университета, вып. I, M., 1946, стр. 60. «Житие… Сергия Чудотворца и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в XV веке». СПБ, 1885. Полное собрание русских летописей. «Житие преподобного Никона Радонежского» (Пахомий Логофет). Черепнин Л. В., Русские феодальные архивы, тт. I и II. АН СССР, М. — Л., 1948. Голубинский Е., Преподобный Сергий и созданная им Лавра, 1909. Горский А. В., Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, М., 1890. Греков П. Д., Борьба Руси за создание своего государства. АН СССР, М. — Л., 1945. Порфиридов Н. Г., Древний Новгород. АН СССР, М. — Л., 1947. Воронин Н. И., Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польский. Государственное издательство «Искусство», М., 1958. Успенские М. и В., Заметки о древнерусском иконописании. Св. Алимпий и Андрей Рублев, СПБ, 1901. Лебедева Ю. А., К вопросу о раннем творчестве Андрея Рублева. Журн. «Искусство», 1957, № 4, стр. 66–69.Иллюстрации
 Феофан Грек. Мельхиседек. Деталь фрески церкви Спаса на Ильине в Новгороде. 1378.
Феофан Грек. Мельхиседек. Деталь фрески церкви Спаса на Ильине в Новгороде. 1378.
 Феофан Грек. Авель. Деталь фрески церкви Спаса на Ильине в Новгороде. 1378.
Феофан Грек. Авель. Деталь фрески церкви Спаса на Ильине в Новгороде. 1378.
 Феофан Грек. Старец Макарий.
Феофан Грек. Старец Макарий.
 Ангел. Миниатюра из «Евангелия Хитрово».
Ангел. Миниатюра из «Евангелия Хитрово».
 Инициалы из «Евангелия Хитрово».
Инициалы из «Евангелия Хитрово».
 Архангел Михаил. Деталь иконы из Звенигорода.
Архангел Михаил. Деталь иконы из Звенигорода.
 Павел. Деталь иконы из Звенигорода.
Павел. Деталь иконы из Звенигорода.
 Авраам. Фреска Успенского собора во Владимире. 1408.
Авраам. Фреска Успенского собора во Владимире. 1408.
 Группа апостолов и пророков. Деталь фрески «Шествие праведных в рай» Успенского собора во Владимире. 1408.
Группа апостолов и пророков. Деталь фрески «Шествие праведных в рай» Успенского собора во Владимире. 1408.
 Апостол Петр. Деталь фрески «Шествие праведных в рай» Успенского собора во Владимире. 1408.
Апостол Петр. Деталь фрески «Шествие праведных в рай» Успенского собора во Владимире. 1408.
 Праведные жены. Детали фреcок Успенского собора во Владимире. 1408.
Праведные жены. Детали фреcок Успенского собора во Владимире. 1408.
 Праведные жены. Детали фреcок Успенского собора во Владимире. 1408.
Праведные жены. Детали фреcок Успенского собора во Владимире. 1408.
 Дерево. Деталь фрески «Младенец Иоанн Предтеча с ангелом» Успенского собора во Владимире. 1408.
Дерево. Деталь фрески «Младенец Иоанн Предтеча с ангелом» Успенского собора во Владимире. 1408.
 Богоматерь. Икона из Успенского собора во Владимире.
Богоматерь. Икона из Успенского собора во Владимире.
 Дмитрий Солунский. Деталь иконы Троицкого собора Троицкого монастыря.
Дмитрий Солунский. Деталь иконы Троицкого собора Троицкого монастыря.
 Жены у гроба. Деталь иконы Троицкого собора Троицкого монастыря.
Жены у гроба. Деталь иконы Троицкого собора Троицкого монастыря.
 Троица.
Троица.
 Троица. Средний ангел.
Троица. Средний ангел.
 Спас. Деталь иконы из Звенигорода.
Спас. Деталь иконы из Звенигорода.
Последние комментарии
1 день 19 часов назад
1 день 23 часов назад
2 дней 1 час назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 5 часов назад