Берег принцессы Люськи

Утром я просыпаюсь от Лехиных чертыханий. В палатке темно, и я могу разглядеть только белый глазок лампочки на рации и скрюченную фигуру возле нее. Рация у нас старенькая, еще военных лет. Я знаю, что надо лежать тихо-тихо, иначе Леха будет здорово злиться.
Дробь ключа кончилась, белый глазок потух. Можно начать разыскивать штаны, чтобы закурить. Сейчас Леха передаст мне очередные директивы и всякие экспедиционные новости.
— Ну как?
— Питание совсем село, — устало отвечает Леха. — Мыши и то громче шебуршат. Кое-как одну телеграмму примял.
Он протягивает мне листок. Я вылезаю из палатки и — с трудом разбираю торопливые каракули: «Вывезите поселка направленного вам специалиста-ботаника, окажите необходимую помощь точка Князев». Князев — это начальник нашей экспедиции.
— А зачем нам ботаник?
Леха пожимает плечами. Он сидит, у входа в палатку в одних трусах и дрожит.
— Кстати, могу сообщить, что это девица. Симпатичная, мне базовский радист по секрету отстучал.
— На это у вашего брата питания хватает, — машинально ехидничаю я.
В самом деле непонятно. У нас крохотный отрядик из трех человек и ясная задача, далекая от ботаники, так же как, скажем, от балета: мы мотаемся на вельботе вдоль берега Чукотского моря и занимаемся почетным делом — стратиграфией морских четвертичных отложений. Можно, конечно, протянуть мысль о всеобщей связи наук, но...
Я смотрю на Леху. В волосах у него запутались клочки оленьей шерсти от спального мешка, он совсем посинел от холода и нетерпеливо ждет результата моих размышлений. Такому только и не хватает женского общества.
— Да-а... Загадки эфира. Может, ты перепутал? Может, не нам ботаника? — с надеждой переспрашиваю я. — Да уберись ты в палатку, посинел ведь, как эмалированный чайник.
«Ей-богу, удар судьбы, — думаю я. — У нас железный мужской коллектив. Зачем нам четвертый лишний? Тем более симпатичная девица. Дуэли устраивать?»
Погода явно портится. На западе, над губой Нольде, небо в рваных переходах от темного к совершенно белому. Северо-западный, ветер несет влажный холод, запах йода и тоскливые чаячьи крики. Я думаю о Мишке Бороде. Его нет уже третий день. В одиночку бродит Борода по желтой августовской тундре, спотыкается на кочках, обходит ржавые, плоские как блин тундровые озера. Отчаянные вопли гагар будят его по ночам. А ведь здесь даже белые медведи есть. Кто знает, к чему может привести мрачный медвежий юмор?
Уха съедена. Мы лежим у костра. Ветер уносит сладковатый махорочный дым.
— Нельзя ехать в поселок, пока Борода не вернулся.
— О величайший из геологических начальников!
Леха щекочет мне живот травинкой.
— Мы и так даже элементарщины по технике безопасности не соблюдаем. Подумай, ходить в маршрут в одиночку!
— О великий мандарин тундры, — вкрадчиво гнусит Леха. — Поедем в поселок. Несчастная девушка ждет нас. Сидит на катерном причале и смотрит в море. Она ждет нашу шхуну с белыми парусами. Я жэ думаю только о Мишкином счастье.
— При чем тут Мишка?
— О великий... — Леха вдруг начинает неудержимо смеяться.
Глядя на него, я тоже не могу не улыбнуться, а из кустика рядом с палаткой вылетает знакомая птаха и начинает возбужденно прыгать по веткам.
«Что случилось, что случилось?» — озабоченно чирикает птаха.
С трудом я узнаю, в чем дело. Оказывается, Леха все же дурачил меня. Он кое-что знает о ботаничке.
Этой весной в бухте Провидения параллельно с нами базировалась партия Академии наук. В кино Мишка познакомился с девушкой из этой партии. Она собирала типовой гербарий севера Чукотки и здорово интересовалась морским побережьем. Мишка пригласил ее к нам и растолковал, как приехать, наобещал при этом сорок коробов, наговорил о помощи, удобствах, о тесном содружестве геологии и ботаники. А через день нам дали самолет, и мы улетели.
Перед тем как уйти в маршрут, он предупредил Леху.
«Плыть или не плыть? Своей работы хватает. Только вчера вернулись из маршрута», — думаю я.
— Никудышный руководитель, — в голосе у Лехи негодующий пафос. — Ты иге думаешь о личном счастье своих подчиненных. Тебя не пустят в коммунизм.
Может, этот ботаник для Мишки та самая, единственная, которая с первого взгляда…
Леха умолкает. Театрально вытирает пот с лица.
...Нам бы отдохнуть до обеда, потом обработать записи. Страшно важно, что принесет Борода. Он отправился на холмы Нгаунако. Холмы — за нашей территорией, но только там мы можем окончательно убедиться, что в четвертичное время трансгрессия не заходила значительно на юг. Ведь это страшно важно! По ракушкам, по отшлифованным галькам, по окаменевшей ряби древних волн мы лепим хронологию былых времен, и где-то в ее середине пройдет драгоценная полоса золотоносных отложений. Нам нельзя ошибаться, нам нельзя поместить ее ни раньше, ни позднее, потому что по нашей схеме будут искать другие. От нас зависит их успех. Такое уж нынче взаимосвязанное время.
«Что случилось, что случилось?» — по-прежнему заботится птаха. Милое пернатое чудо!
Я не знаю, что правильнее, но плыть надо. Может, она и на самом деле для нашего Бороды «та самая, единственная».
Голос Лехи гремит репродуктором: шейх Чукотского моря и его верный друг Леха совершат прогулку на собственной яхте и заодно сделают полезное дело.
Наша прогулочная яхта — это десятки раз латанный и перелатанный вельбот. У мотора загадочное зарубежное происхождение. Ребята говорят, что зверь-двигатель — шведский, я же, чтобы не быть беспринципной амебой, утверждаю его южноамериканское происхождение. Во всяком случае, он старше всех нас троих, вместе взятых. Мы очень любим наш мотор, любим боевые шрамы на его корпусе, расхлябанный джазовый стук цилиндров, самодельный винт. Мы же дети XX века, любовь к технике у нас в крови.
Бороде оставляем записку.
Темная вода реки, в устье которой мы стоим, выводит нас в море. Светлые, солнцем и холодом напитанные брызги взлетают над носом. Вельбот танцует вместе с темными накатами волн, вой мотора отмечает ритм танца. Кажется, что мы стоим на месте, а танцуют низкие, уходящие от нас берега. Чайки-нахалюги борются с ветром, косят глазом: чем бы поживиться. Пара нерп всплывает вблизи. У нерп грустные загадочные глаза. Наверное, они много знают о чайках, о рыбах, о том, что раньше было в Чукотском море, но не могут рассказать нам. Поэтому им грустно. Покружившись, нерпы исчезают, безнадежно махнув хвостом.
На правах шейха я лежу на носу вельбота. В кухлянке тепло. Леха на руле. У него морской прищур, мокрое лицо. Где-то по соседству остров Врангеля.
— Брошу я вас с Мишкой, — бубнит Леха, — уплыву на Врангеля. Буду жить простой и здоровой жизнью предков.
— Ну и сиди на своем острове. Мы с Мишкой будем вести простую и здоровую жизнь на Марсе.
...В поселке нас знает каждая собака в буквальном смысле слова. Редкие катера забредают сюда летом, и новые люди здесь очень заметны.
К деревянному причалу подходят первые любопытные. Как всегда, впереди дядя Костя, пекарь, один из самых добродушнейших на земле стариканов. Мы привязываем вельбот и тут же на берегу делаем перекур.
Неторопливо греет августовское солнце, у самой воды возятся несколько чукчат, все как на подбор в одинаковых крохотных кухлянках, где-то тюкают топоры. На земле оленеводов и охотников царит мир.
Мы толкуем о ходе рыбы, о копытке в одном из дальних стад. Конечно, нам хочется поскорее посмотреть на Мишкиного ботаника, но мы знаем, что чуть позднее нам и так все скажут.
— А вас тут девушка одна ждала, — говорит дядя Костя. — Улетела сегодня.
— Как улетела? — дружным опереточным дуэтом спрашиваем мы.
— Вертолет тут был из ледовой разведки. Уговорила. Они сначала на Врангеля зайдут, потом к вам...
— Улетела, — кивают нам знакомые чукчи.
— Сегодня улетела, — попыхивает трубочкой старина Пыныч.
— Улетела, улетела, — гомонят на берегу ребятишки в кухлянках.
Наверное, вид у нас обескураженный, потому что каждая морщинка на лице дяди Кости начинает выражать участливое сожаление. Тюкают топоры, прохладный ветер с моря гоняет папиросные дымки.
Эта история начинает меня злить. Мы мрачно бредем на почту, потом в магазин. По дороге приходится раскланиваться направо и налево. Ребятишки бесхитростно повторяют нам историю про вертолет, девушку и занятых пилотов. Делать нечего, надо подаваться обратно.
Зверь-двигатель угрожающе пропускает такты. На всякий случай держимся поближе к берегу. Светлые волны хлещут камни по щекам, а те воспринимают это с завидным спокойствием.
— Черт бы побрал эту девицу! Наверняка какой-нибудь крокодил в юбке.
— Почему?
— Красивых в экспедицию не загонишь. Есть такой объективный закон природы. А если попадет, так и в тундру — с пудрой. Видал. Знаю.
Мы упражняемся в шутках о любви с первого взгляда. Видимо, живность в Чукотском море не любит грубых острот: нерп нет, чаек тоже. Ветер резвится не на шутку. Страшновато. Как-то там Мишка? По вечерам о друзьях думаешь чаще и теплее.
Все же в самом устье мотор заглох.
Стемнело, и, выгребая, мы немного ошиблись и наскочили на мель. Вельбот стукнуло днищем, несколько ведер воды заплеснуло в лодку. Мы вымокли и разозлились. Пока гребли вверх к палатке, стало и вовсе темно.
Перед палаткой горит костер. У меня легчает на сердце, потому что у костра двое. Значит, Мишка вернулся. Пришел наш шалопутный Борода, как всегда, точно в срок. Не поломал ноги на кочках, в мерзлотных трещинах возле озер, не случился у него приступ аппендицита и не встретились медведи с мрачным юмором — пришел Мишка. Теперь нам наплевать, кто там второй: будь то сама Сильвана Пампанини или крокодил в юбке.
Идем усталые, мокрые и злые. Палатка и кусок тундры возле нее давно уже считаются нашим домом. Лежа бормочет поговорку о татарине. Но через минуту мы уже забываем о поговорках, и вообще о многом забываем.
Мишка сидит как обычно. Рыжая борода лезет в вырез кухлянки, голова поросла свинячьим ворсом. Нос картошкой, лицо чуть опухло от морских и тундровых ветров. Хорош!
Но рядом с Мишкой сидит и смотрит нам навстречу чудо природы.
У этого чуда кругловатое лицо, пикантно вздернутый носик, и еще у чуда есть глаза. Бывают голубые глаза-озера, бывают темные глаза-колодцы, бывают глаза-пропасти. У данного чуда природы совершенно определенно глаза-пропасти. Вероятно, мы с Лехой немного ошалели. Мы машинально проделываем традиционный ритуал знакомства...
— Вы же, наверное, есть хотите? — заторопилась она. — Я тут не теряла времени даром. Знаменитый черепаховый суп из свиной тушенки.
— Да нет... Мы недавно обедали... Но вообще-то можно, — смущенно врет Леха.
Не узнаю своих парней. А Люся — чудо природы — будто ничего и не замечает.
— Вы, как бесстрашные викинги, появляетесь ночью и в штормовую погоду. Я уж думала, одной придется хозяйничать. Миша пришел полчаса назад. Жаль, что я не смогла плыть на вашей шхуне...
Викинги... Шхуна... А я-то думал, что только мы любим эту романтическую чепуху.
Суп по всем правилам завернут в спальный мешок. Даже чашки — о боже! — вымыты. Нет, такое только в книгах. Я слышу тихий стон Мишки Бороды. Что случилось с нашим мужественным бродягой?
Рядом с кастрюлей стоит бутылка вина.
— Айгешат! — стонет Мишка.
— Это для знакомства.
— Мадемуазель, — склоняет голову Леха. — В этих ватных штанах мне трудно походить на герцога, но позвольте поцеловать вашу руку. В знак уважения. У вас экспедиционная душа — это высокий дар.
Люся приседает в реверансе, Леха серьезно целует ей руку и вдруг кидается в темноту. Через минуту он возвращается. В руке у Лехи тундровая незабудка — есть такой крохотный веселый цветок. Мы знаем, где Леха ее взял. Незабудка была, наверное, единственная во всей округе и росла возле тропинки, по которой мы ходили к лодке. Не знаю, как объяснить этот биологический феномен, но незабудка еще цвела в середине августа и была такая же крохотная и такая же голубая, как и те, что цветут в июне. Мы дорожили незабудкой.
— Вот, — сказал Леха, — я думаю, братва на меня не обидится.
Братва молча выражает согласие.
Вино мы пили столовой ложкой. Люся наливала каждому ложку по очереди, а потом сама отпивала из этого же кубка. Незабудку она проколола сквозь свитер на груди.
— Сегодня я ваша королева, — говорит она. — Я одаряю вас милостями. Возвращайте только ложку.
— Люся, ты нарушаешь объективный закон природы, — бормочет Мишка и краснеет. — При твоей внешности и так здорово знать психологию таких опустят, как мы, — это просто чудо!
— Сегодня мне все говорят комплименты. Один пилот сказал, что у меня настоящие голливудские губы.
— А как ты ухитрилась попасть на вертолет?
— Очень просто. Они чудные, эти пилоты. А я здорово умею сочетать очарование с ледяной вежливостью. Вы свои, вам можно открыть этот секрет...
Не знаю уж, что там она умеет сочетать, но вот создавать настоящую обстановку эта дивчина умеет.
И в самом деле, все обычно и все как-то иначе. Возможно, несколько ложек портвейна слегка затуманили нам головы, потому что мы уже несколько месяцев и близко не видали ничего спиртного. Костер горит ровно и жарко, как и положено гореть порядочному костру. Исхоженная нашими ногами чукотская тундра тихо смотрит из темноты, только со стороны моря идет легкий обычный гул да сонно вскрикивают на озерах птицы. По-домашнему похлопывает за спиной палаточный брезент.
Мы толкуем обо всем сразу.
— А жаль, что у нас есть радиосвязь! Представляете, парни, возвращаешься на базу и вдруг узнаешь, что целая куча наших ребят уже бегает сейчас по Венере и шлет оттуда веселые телеграммы?
— Или узнаешь, что новейший электронный анализатор обнаружил ошибки в наших расчетах...
— Не ехидничай, Леха, — перебиваю его, — у нас впрямь как-то атрофируется чувство удивления. Наверное, первому смешному паровозику люди удивлялись гораздо больше, чем удивишься ты, если и на самом деле попадешь на Марс.
— Конечно, наша психология отстает от техники. Я бы хотела жить в те времена, когда открывали материки и острова и украшали их женскими именами. Тогда чувства были гораздо непосредственнее и проще. Хочу, чтобы какой-нибудь остров носил мое имя. Это же обидно: в космос — можно, а чтобы в честь тебя был назван хоть плохонький островок — нельзя.
— Хочешь, мы назовем этот берег твоим именем?
— Правда? Можно?
Уж не знаю, почему, но сегодня все можно. Глухо дышит, посапывает сзади нас тундра, звезды тихо ухмыляются, глядя на трех ошалевших парней. Тонконогая загадочная девушка сидит вместе с ними. Она прижала колени к подбородку и смотрит на костер.
Леха тащит доску от консервного ящика.
— Только я не хочу быть королевой. Раньше острова называли в честь королев. А королевы всегда старые.
— Хорошо, мы назовем тебя принцессой.
— А ребята на курсе зовут меня просто Люськой.
— Отлично, ты будешь принцессой Люськой.
Леха выводит на доске крупными буквами: «Берег принцессы Люськи».
— Ну вот, все как в Антарктиде.
— Жаль, что это понарошку. Но все равно, ребята, ,для нас это будет мой берег.
Мы толкуем о работе. Люсе для диплома необходимо сделать несколько ботанических разрезов по долине какой-нибудь реки из бассейна Чукотского моря. Тогда диплом, как она сказала, будет «железный»; кроме того, это важно и на самом деле, не только для диплома. Мы слушаем с удовольствием, хотя ничего не понимаем в ботанике.
Миша Борода заговорил было о плоской галечке на холмах Нгаунако, куда нам предстоит завтра пойти, и о том, как здорово может насолить нам эта галечка — перевернуть всю схему, над которой мы бились целое лето. Но Люся слушала уже через силу. Надо было ложиться спать. Мы вытащили свои мешки из палатки — палатка у нас одна. С моря тянуло сыростью, но дождя нет, и мы отлично выспимся на улице, особенно если подложить под мешки телогрейки: оленья шерсть очень сильно впитывает влагу с земли.
— Холодно, — доносится из палатки. И снова, как дружное опереточное трио, мы выдергиваем телогрейки из-под мешков. Они так же дружно летят в палатку. Ей-богу, мы как три брата-акробата, и никто не желает уступать. В палатке еще пошуршало, и стало тихо. Братья-акробаты улеглись на землю.
— Ребята, а вы мне завтра поможете? — сонным голосом спрашивает Люся.
Мы делаем вид, что спим. Наверное, она не слышала, что завтра нам позарез надо в маршрут».
Конечно, утром мы не пошли ни в какой маршрут. С самого утра мы снова почувствовали себя безгласными подданными нашей принцессы, и дощечка, воткнутая у костра, напоминала об этом. Идем делать геоботанический разрез.
На секретном совещании решено, что глупо и непорядочно лишать человека «железного» диплома из-за пары маршрутных дней. Их мы наверстаем. Работы мы не боимся. Кроме того, наука ждет эти ботанические разрезы.
Нужно пересечь всю долину Ионивеем и через определенные интервалы «брать квадраты». На этих квадратах Люся отбирает травку и ягель, меряет мощность дернового слоя, даже считает число кочек на квадратный метр. Через несколько часов у нас уже выработалась специализация: я считаю кочки, Леха «прислуга за всея, а Миша Борода и здесь оказался главным пахарем.
На долю принцессы остается общее руководство.
— Так, Борода, давай эту травку сюда.
— Шеф, как там ведут себя кочки?
— Лексей, точи карандаш.
Давненько мы не работали с таким азартом... На обратном пути не можем не покопаться в своем южноамериканском любимце.
— Как думает Люся, в каком царстве было сделано это чудо техники? — спрашивает между делом Леха.
— В Англии, — незамедлительно следует ответ.
— Ладно, Борода, прощаем тебе принцессу, — говорим мы вечером, когда остаемся одни. — Все же это компанейская девица. Мы даже благословим ваш брак.
— Бросьте вы, хватит!
— А что это ты, рыжий, мнешься? Даже краснеешь...
— Мне неловко говорить об этом, но, знаете, Люся просила помочь ей сделать еще пару разрезов километров за десять-пятнадцать отсюда.
...Мы снова сидим у костра.
— Это не вертолет? — прислушиваясь, спрашивает Люся.
Мы слушаем. Гудит, как огромный шмель.
— Нет. Вертолет не так. «Па-па-па-па!» — изображает Леха, как должен, по его мнению, шуметь вертолет.
Мишка молчит, он все время молчит при Люсе. Влюбился, что ли, на самом деле? Вроде бы на него не похоже. Мишка — железный парень. Его призвание — геология. Впрочем, возможно, и стоит полюбить такую девушку, как Люся.
Та знакомая птаха, что прилетает к нам каждый вечер, заливается в глубине своего куста отчаянно веселой трелью. Люся берет камень и швыряет в куст. Птица умолкает, а Люся продолжает слушать далекий гул мотора. Может быть, она ждет этих пилотов, покоренных комплексом очарования и ледяной вежливости? Только мне здорово не нравится, когда кидают камнями в знакомых птах.
— Миша, а почему тебя зовут Борода-всегда-в-маршруте? — вдруг спрашивает Люся. — Под Джека Лондона работаете? Время-не-ждет, Борода-в-марш-руте.
— Это они, — кивает на нас смущенный Мишка.
— Скучно быть все время в маршруте... Одичать ведь можно.
— Скучно, когда неинтересно. А для. Мишки геология — главное, — говорю я.
Что-то Люся сегодня мне не нравится. Сидит, закутавшись в исполосованную «молниями» штормовку. Думает, очевидно, о чем-то своем, очень далеком. Может быть, в мыслях она сейчас на университетской набережной, среди модно одетых, остроумных ребят.
— Можно ведь быть доктором наук и быть дикарем в музыке, дикарем в других науках. Так оно и бывает, — говорит Люся.
— Азарт нужен, — говорит тихо Леха. — Если у тебя есть азарт вообще, а не одна страсть к своей науке, — дикарем не будешь.
— Наш век — век специализаций. Кандидат наук по гайкам, кандидат по шайбам и кандидат по болтам, на которые надевают эти гайки и шайбы. Наукой гореть сейчас не стоит, потому что, ей-богу, вы, ребята, не решите, к чему ваше призвание — к гайкам или к шайбам.
— К технике, — злобно отвечаю ей.
Чем-то странным веет сегодня от принцессы. Или я к ней придираюсь?..
— А ваш вельбот что: шхуна или корвет? — вдруг спрашивает Люся.
Я немного теряюсь.
— Шхуна! Корвет — корабль военный.
— Шхуна! Знаете, кто вы? Хотите, я всех троих посвящу в сан рыцарей тундры?
Люся снимает с Мишкиного пояса финку и по очереди стукает нас по плечу. Она стоит на коленях, в узких брюках и свитере. Я замечаю, что у Люськи очень-очень тонкая талия. Мы с Лехой отводим глаза в сторону, Мишка смотрит ей в лицо.
— Ребята, — снова делает она неожиданный переход, — так вы сделаете мне те два разреза вверх по течению?
— Давай я один... — обращается ко мне Мишка. Он не глядит на меня. — За пару дней управлюсь, а вы пока в маршрут...
Но у нас нет сейчас двухдневных маршрутов.
— Ладно, старик. Сделаем втроем. Только потом, сам понимаешь.
— Ой, спасибо! — хлопает Люся в ладоши. — Значит, так: два разреза — семь и пятнадцать километров от устья. Как делать, вы уже знаете, а я тем временем займусь описанием прибрежной.
— Зачем спешка-гонка? — спрашивает Леха. — Пойдем с нами.
«Набери побольше материала для «железного» диплома», — говорит Мишка своим видом.
— В Москву очень хочется, — как-то ненатурально смеется Люська. — Я забыла сказать вам: эти летчики обещали залететь за мной через пару дней.
Так вот почему она слушала вертолет!
— Брось ты, Люся, этот вертолет, — говорю я. — Вертолеты будут. Но такой тундры, такого августа больше не будет. И таких подданных у тебя, принцесса, не будет.
Люся серьезно слушает.
Мы уходим чуть свет: позавтракаем на месте. Люся еще спит. Мишка немного замешкался. Он догоняет нас, как лось перемахивая через кочки. В рюкзаках непривычное ботаническое снаряжение. Молчит Леха, молчу я, только Миша весело посвистывает.
...Мы устали, как упряжные собаки. То ли работа непривычная, то ли просто ее очень много. Рвем травку — это тебе на диплом, Люся! Считаем-пересчитываем кочки — это за то, что у Мишки, кажется, закружилась голова. Считаем шаги, чтобы знать, когда остановиться и снова щипать травку, — это за то, что встретилась девушка, так же, как и мы, понимающая романтику. Что ж, поработаем!
Мы сделали все как надо. В рюкзаках приятная трудовая тяжесть. Оказывается, когда дело сделано, даже чужая работа, все равно приятно. В чьем-то дипломе, в чьей-то науке будет доля и твоего труда. Долой узость специализации!
У палатки тихо. Наверное, наша принцесса работает на берегу.
— Трудяга, — говорит Леха и... замолкает. Мы смотрим туда же, куда и он. В центре выжженной костром площадки стоит дощечка «Берег принцессы Люськи» и рядом записка, воткнутая в расщепленную палочку. Мишка быстро берет записку, потом протягивает нам.
«Мои рыцари тундры, — читаем мы, — к сожалению, вертолет прилетел на день раньше. Он идет прямо в Провидение. Для меня это очень удобно. Диплом — не диссертация, напишу без этих разрезов. А лучше привезите мне их в Москву. Пока. Люська, принцесса».
Я смотрю на Мишку. Он берет рюкзак за уголки и медленно начинает вытряхивать гербарий прямо на землю. Он молчит. Леха рывками опустошает свой рюкзак и вдруг подходит к дощечке. Заносит сапог, и «Берег принцессы Люськи» со свистом летит сторону.
— Зря ты, Леха, — голос у Бороды как будто спокоен. — На свете Людмил тыщи. Есть и другие...
Птаха в кустике вдруг тихонько пискнула и взлетела на самую верхушку. Она качается на тонкой веточке и косит на нас черным блестящим глазом. У птахи желтая грудь и невзрачные серые крылья.
— Это что, канарейка? — спрашивает Леха.
Мы молчим.
О. Куваев / Рисунки Р. Вольского
(обратно)
Тринадцать шагов
 1. Водолаз Владимир Дорошенко.
2. Перед спуском.
3. Боцман Аверченко — «дядя Федя».
1. Водолаз Владимир Дорошенко.
2. Перед спуском.
3. Боцман Аверченко — «дядя Федя».
Первый шаг сделан. Володя качнулся и легким гребком восстановил равновесие. «Ух-ух-ух», — отдается в ушах. Напрягается, кажется, каждая клеточка легких. Пузырьки рвутся наружу, торопливо бегут к поверхности.
Там, наверху, стоит знойная осень. Желтые берега, ободранные морем, прокалены солнцем. Шелестит иссохшими ветками стрельчак, встречая норовистый ветер. Стрельчак расселился на завалах и пустырях, где греются заржавленные мотки колючей проволоки, буро-красные, похожие на спекшуюся кровь, осколки бомб. За бонами тяжело ворочается море. Солнечные блестки трепещут, кружат на зеленой волне.
А здесь мрак и холод. Застывший мир глубины.
Второй шаг. Откуда-то пробивается дрожащая дорожка света. Глаз едва-едва различает ее в фосфорических пятнах бугристых фукусов, колючих саргассум, нежных порфир и одонталий — водорослей, плотно заселивших чрево мертвого корабля. Движутся призраки, существа из чужих, неведомых миров. Один призрак, горящий изнутри чудовищно ядовитой зеленью, ударяется в иллюминатор, трясется, как разозленный старец, и выпускает липкую струю. Все неземное, не знающее солнца, тепла, кружит, пузырится, шарахается в стороны. Реальность обретает здесь фантастические формы, и фантазией кажется сейчас тот мир из которого несколько минут назад спустился Володя.
Тяжелая свинцовая подошва скользит по накрененной палубе отсека, отмеряя третий шаг. В одной руке Володя держит длинную доску. Прижимает к груди как самую дорогую, самую хрупкую вещь.
Он как будто идет с зажженным факелом у пороха. А с факела срываются искры. Он как будто идет над бездной по натянутой бечеве, и неизвестно, на котором шагу она лопнет — на четвертом или на десятом.
Пятый шаг. У шлема колеблются два безобидных проволочных усика. Это проводники ртутного детонатора. Сам детонатор не толще карманного карандаша, но от его взрыва рванут тротиловые шашки, привязанные к доске. Тридцать пять килограммов тротила должны разнести особо стойкую броню артиллерийского погреба, не поддающуюся никакой резке.
Чувствительный детонатор взрывается от малейшего толчка, от едва заметного сотрясения. С детонатором и толом надо пройти тринадцать шагов. Из них шесть — по палубе, шесть — спустившись в трюм, и один, последний, — по отсеку второго днища, где и лежит бронеплита.
Могила корабля на той глубине, куда с большим трудом может проникнуть человек. Если в скафандре образуется крошечный прокол, то вода под громадным давлением вонзится в тело, как длинный стальной шприц.
На шестом шагу Володя отдыхает, прислонившись к шершавой стенке надстройки. Легкие с трудом втягивают воздух.
Его фамилия — Дорошенко. Но ребята прозвали его «Кранцем». Кранец — это та пузатая, плетенная из пеньковых шкертов груша, которая висит по бортам кораблей и при швартовке смягчает удары. Заслуженный, ободранный о причалы кранец такой же большой и рыжий, как и сам Володя. Кирпичная шевелюpa водолаза вьется колечками около висков. Серые глаза выглядывают из-под лохматых бровей.
Володю считают человеком без нервов. Командир не случайно послал с зарядом тола именно его. На большой глубине затормаживается мышление, теряется способность ориентироваться. Но Володя умеет не поддаваться страху.
И сейчас он стоит у ржавой стенки. Рядом люк. По нему надо спуститься в трюм.
Ногой он нащупывает край люка. Он знает: трапика нет, сорван. Вот здесь, пожалуй, пригодился бы фонарь. Впрочем, нет. С ним хуже. Фонарь дает лишь маленький клин света, он только притуплял бы бдительность. А сплошная темнота заставляет измерять каждый сантиметр, двигаться вперед, ощущая невидимые препятствия всем существом, каждым нервом.
Володя повисает над люком и начинает потихоньку стравливать, выпускать из скафандра поступающий по шлангам воздух. Скафандр тяжелеет, тонет, и ноги водолаза проваливаются в пустоту. Калоша касается какой-то решетки, перегородившей вход в трюм. В тесной трубе прохода Володя не может нагнуться, ощупать ее. Он ходил здесь раньше, но не замечал решетки. Володя вспоминает истлевшую на сгибах кальку, на которой изображена схема чужого миноносца, непрошеного гостя, нашедшего могилу в наших водах. На кальке не обозначено никакой решетки... А сорванный взрывом трапик лежал внизу и никому не мешал. Откуда же вдруг под ногами решетка?
Еще сильнее прижав к себе тол, Володя сгибает колени, пытаясь свободной рукой дотянуться до решетки. Спина и колени упираются в стенки. Нет, нащупать не удается...
Володя снова стравливает воздух. Скафандр уменьшается в объеме, и тотчас тело наливается свинцом. Обнявшая со всех сторон толща воды сжимает мускулы. Кровь густеет. Сердцу трудно проталкивать ее по артериям. В виски барабанят металлические шарики.
В глазах вертятся, прыгают, мечутся красные круги. Все проваливается в пустоту. Глубинное опьянение. На волоске повисает сознание. Но в какую-то долю секунды оно улавливает грохот в наушниках.
— До... до... ой... Ж-ж-ем! Володя нажимает затылком
клапан, и в скафандр врывается живительный воздух, нагнетаемый оттуда, сверху, из солнечного мира.
— Что ты молчишь? Отвечай! Ждем! — доносится более явственно голос боцмана Аверченко.
Надо быстрее ответить ему, успокоить, но Володя никак не может разжать губ.
Боцмана водолазы зовут просто дядей Федей. Володя на миг представляет старого эпроновца. Он сейчас прижался к телефонной трубке, ветер треплет седые волосы, которые еще сильней оттеняют запеченное на солнце морщинистое лицо.
— Отвечай же! — голос дяди Феди срывается. Слышно, как он хрипло кашляет.
В глубине смерть и жизнь стоят рядом. И если водолаз молчит, с ним что-то стряслось, ему нужно помочь немедленно.
Володя выжимает одно слово:
— Иду...
И чувствует, как решетка вдруг слабо плывет вниз, уходит из-под ног. Стоп! Да это же плавает трап. Спрессованные толщей потоки носят здесь тяжести, как легкие пушинки. Открытие неприятно поражает Володю. Плавающие куски железа могут заклинить выход, придавить шланг, ударить по детонатору.
Одна калоша попадает на сорванный ствол пушки. Калоша скользит. Идти вдоль переборки — значит сделать лишних десять шагов. Надо идти только по прямой. По прямой шесть шагов. А потом спускаться через грубо проделанную электрорезкой дыру в нижний отсек корабля и сделать один шаг. Последний. Тринадцатый.
Эта дыра невелика. Обычно водолазы пробирались сквозь нее, освободившись от инструмента и выпустив из скафандра почти весь воздух. Но ведь тол не бросишь...
Седьмой шаг. Какой-то светящийся комочек вьюном взлетает кверху, и снова пространство заполняется густой тушью. Ни отблеска, ни малейшего лучика. Все вокруг, как в фотографическом мешке, непроницаемо для света. На земле никогда не бывает такой густой темноты.
Володя идет так, будто ему завязали глаза. Свободную руку он выбросил вперед. Шаг. Калоша попадает между двух обломков железа. Он пробует вытащить ее, но подошва, видимо, зацепилась за болты. Осторожно он опускается на колени и кулаком выбивает калошу из щели. Два тонких усика детонатора колышутся от толчков.
Девятый шаг Володя делает еще осторожней. Хочется, броситься вперед, рывком преодолеть последние три метра. Будь что будет! Кому суждено жить — не умрет. «Но погоди, — останавливает себя Володя. — Чаще умирает слабый. Он бросается под пулю, у него нервы не выдерживают».
— Где находишься? — подключается дядя Федя.
— Десятый шаг.
Дядя Федя молчит, не выключая передатчика. Видимо, отыскивает на кальке место, где остановился Дорошенко. Потом тихо спрашивает:
— Устал?
Таким тоном может говорить человек, все испытавший и видевший, человек, поднявший со дна не одну тонну металла, не одну сотню неразорвавшихся мин. Он сейчас уже стар, этот человек, сердце не выдерживает больших перегрузок. Ему дали пенсию. Но боцман все равно остался у дела, без которого жизнь пуста и все радости не в радость.
На своем веку Аверченко научил немало людей нелегкой водолазной работе. И сейчас Володя хотел бы сказать, как он благодарен ему: «Ты для нас очень много сделал, старик. Ты научил нас любить море и не бояться опасности ».
— Дядя Федя! — говорит Володя.
— Слушаю, — отвечает боцман и переключается на прием.
— Ничего... проверка связи.
— Чудак — рассмеялся дядя Федя.
Очень уж длинны эти четыре последних шага. Проклятая чертова дюжина!
«Но ты же мог отказаться! Тогда пошел бы с этим толом Костя Губченко, или Миша Подзираев, или Семен Дьячков».
Сейчас они стоят у телефона. Когда товарищ внизу, они всегда стоят у телефона и не скупятся на добрые слова. А когда он поднимется на поверхность, они снимут шлем, дадут папироску, помогут освободиться от скафандра и спокойно займутся своими делами. Володя вдруг ясно ощутил теологу солнца, запах раскаленной палубы и соленый привкус ветра.
— Сынок! — позвал дядя Федя. — Даю побольше воздуху! Тебе уж не так далеко идти. Ты понял?
Еще один шаг. Наедине с дядей Федей он сказал бы, что, наверное, трусит...
Совсем недавно Володя работал с Костей Губченко в трюме. От горелок автогена под потолком образовалась подушка гремучего газа. Бели бы пламя резака попало в нее, она взорвалась бы как бомба. Костя первым почуял опасность. Страх не парализовал его, а заставил действовать быстро и решительно. Губченко оттолкнул Володю вниз, а сам поднес горящий резак, как спичку» к пороху. Тугой взрыв всколыхнул глубину, но Костя уже нырнул за Володей и остался цел. Боксеру нужно угадывать удар противника, подводнику важно вовремя заметить опасность.
Двенадцатый шаг. Притаилась дремлющая во взрывчатке сила. Ждет, когда человек разбудит ее. Володя касается рукой проводников, связки пакетов, крепко затянутых шкертом. Пока все в порядке. Он слышит свое дыхание — резкий вдох и выдох. Он ощупывает неровные, острые края изрезанного металла. Черт, как тесна эта дыра!
Слышится голос дяди Феди:
— Сынок, попробуй пролезть вниз головой, крепче держи тол.
Дядя Федя подсказывает как раз в самый нужный момент.
— Больше воздуху! — кричит Володя изо всех сил.
Скафандр расширяется. Володя пытается перевернуться. Но как назло, калоши не отрываются от палубы. Тогда он ложится и на свободной руке делает стойку. Скопившийся в скафандре воздух медленно поднимает его ноги. Он зависает над самой дырой. Обеими руками просовывает доску с толом вниз и стравливает воздух, опускаясь, как ныряльщик в замедленной съемке. Володя не чувствует скорости, не может судить, на сколько сантиметров продвинулся вниз: темнота.
Вдруг резкий толчок в плечо останавливает падение. Тридцатипятикилограммовый груз неожиданно выскальзывает из рук. Черт возьми, сейчас, в эту секунду!..
Головой он ударяет по клапану, выпускает из скафандра почти весь воздух, быстро скользит вниз и успевает схватить доску со взрывчаткой. Тут же шлем ударяется о днище.
— Больше, больше воздуху! — хрипит ссохшееся горло.
Тринадцатый шаг. Он делает его на последнем остатке сил. На жестоком упорстве. Где было положено начало этому упорству? В детстве или в буднях трудной и опасной работы? Если человек хочет дойти до цели, у него всегда остается для последнего шага этот запас упорства. В большом и малом.
Всегда и во всем.
Пальцы прикручивают к усикам детонатора концы провода. Через несколько минут взрыв разнесет крепкую броневую плиту артиллерийского погреба. Пальцы прыгают...
«Тише, тише! — успокаивает себя Володя. — Ну куда теперь торопиться? Ведь тринадцать шагов позади. А там, наверху, ничего интересного. Море и волны — только и всего...»
Е. Федоровский, наш спец. корр. / Фото автора
(обратно)
Лодка вернулась на базу
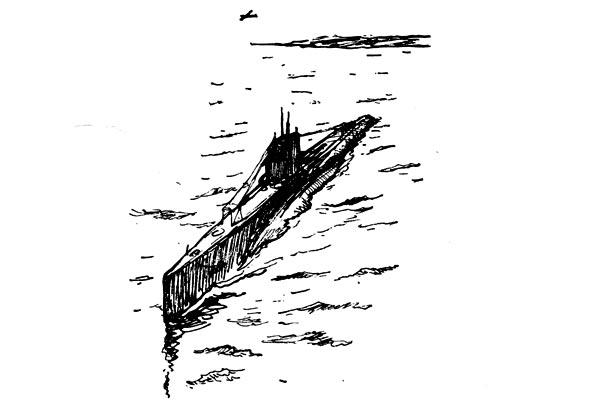
— Встать! Смирно!
Горин выслушал доклад дежурного.
— Здравствуйте, товарищи курсанты!
— Здра... жела... тарищ... тан второго ранга!
Перелистывая журнал длинными сухими, пальцами, Горин отыскал нужную страницу.
— Наверное, вместо Борыкина будет, — свистящим шепотом сообщил соседу курсант за первым столом.
— Вместо Борыкина не буду, — сказал Горин, продолжая писать в журнале. — А вот вместо капитана третьего ранга Борыкина, который заболел, занятие сегодня проведу я. Чем вы занимались вчера? Ну, вот вы... — обратился он к смуглолицему курсанту, который с любопытством рассматривал незнакомого преподавателя.
— Курсант Николаев. В прошлый раз изучали живучесть технических средств.
— Ну, если так, идите к доске и нарисуйте продольный разрез подводной лодки... Не стесняйтесь, рисуйте во всю доску, так, чтобы на лодке можно было плавать.
«Кого-то он мне напоминает, — подумал Горин, глядя на Николаева. — Есть что-то в нем застенчивое, неуверенное, а между тем он явно не из робких. Затылок с белым вихром...»
Курсант сильно нажимал на доску, мел под его рукой крошился а сыпался на пол. Лодка получилась похожей на камбалу.
— Корабль солидный, — серьезно сказал Горин. Николаев оглянулся и покраснел. Хотел было
стереть, но Горин остановил:
— Нет, нет, не стирайте. Надо бороться за живучесть своей лодки.
В классе кто-то хмыкнул.
— Плохо, что вертикальный руль забыли. — Горин перевел взгляд с доски на Николаева и вдруг вспомнил: «Да он же на Кедрова похож! Такой же затылок... вихор... Старшина Кедров!»
Горин встал, медленно прошел к доске, одним росчерком нарисовал руль.
— Чтобы никто из вас не забывал об этом руле, представим такой случай. Привод оборван, вертикальный руль повернулся до упора вправо в заклинился. Что будет с лодкой, курсант Николаев?
— Она будет... она будет поворачивать все время вправо.
— А это значит, — закончил за него Горин, — лодка пойдет по замкнутому кругу. А ведь ей надо на базу, домой. Лодка выполнила задание, находится под боком у врага, у нее кончаются все запасы, а она ходит по кругу. Что же делать, курсант Николаев?
Горин стоял перед Николаевым, высокий, прямой, подтянутый, и, не мигая, смотрел в серые прищуренные глаза курсанта. А мысли ушли в тот далекий день, в мрачный, сырой рассвет.
...Густой туман висит над морем. Едва различимая темная полоса вражеского берега медленно поворачивается в круглом глазу перископа...
— Что же делать? — машинально повторил вопрос Горин.
Николаев молчал. Молчал и класс. Горин подошел к окну.
— Была осень 1942 года, — начал он тихо. — Одна из подводных лодок Балтийского флота ночью торпедировала фашистский транспорт. Потом ее глушили бомбами. Лодка меняла глубины и курсы, уходила от преследования. И вдруг перестала управляться. На стодвадцатиметровой глубине она упрямо двигалась по кругу. Все попытки поставить корабль на курс оказывались безуспешными. Кончался запас электроэнергии и кислорода.
К рассвету командир принял решение всплывать. Надо было двоим выйти наружу, пройти в корму и залезть в концевую систерну (Систерна — отсек корабля для приема забортной балластной воды.). И по ней проползти с инструментами и фонарями к приводу руля и там найти и исправить повреждение...
— Но ведь лодку могли заметить? — прошептал Николаев.
— Тогда пришлось бы уходить на глубину. Из-за двух людей в систерне не погибать же всему экипажу...
Горин замолчал. «Разве расскажешь этим хлопцам, как это было?..» Конечно, должен был идти механик лодки, а кто пойдет вторым? Вызвался идти командир отделения рулевых Кедров. Ему тоже надо было идти. Он хорошо знал приводы руля. Командир сказал:
«Мы постараемся вас дождаться. Только быстрей налаживайте. Быстрей...» Все знали, что в случае опасности лодка будет срочно погружаться, и те двое останутся в систерне.
— Так вот, в систерну полезли механик и старшина, — громко проговорил Горин. — Оказалось, что от сотрясений срезался палец тяги. Пришлось ставить новый. Через три часа руль был восстановлен. Лодка вернулась на базу.
...Три часа в систерне.
Нет, они не ощутили, как длинны были эти часы.
Они помнят, как раздался звонок.
Сотни раз они слышали этот сигнал, означающий команду: «Открыть кингстоны». Но тогда они были в отсеках, со всеми... Нет, никогда звонок не звенел так нестерпимо, неправдоподобно долго.
Сейчас хлынет вода.
А Кедров? Механик в этот момент видел его глаза, Серые глаза, потемневшие от ужаса.
Они считали секунды: раз... два... три...
Почему так долго нет воды? Не работает гидравлика? Тогда откроют вручную.
Опять — раз, два...
Кингстон не открылся. И снова они работали, работали, забыв о времени.
Оказывается, командир после звонка отменил команду. Об этом они узнали после. Командир увидел немецкий самолет. Разведчик летел прямо на лодку. И почему-то отвернул. Может, не заметил? Или лодку, стоящую рядом с немецким берегом, посчитал за свою?..
— Вот что делали подводники, когда на лодке заклинился вертикальный руль, — закончил Горин.
— Разрешите вопрос?
— Пожалуйста.
— Этих людей наградили?
— Наградили. Орденом Ленина. Только, говорят, механик в этой систерне поседел...
После занятия, когда Горин, попрощавшись, вышел из класса, Николаев спросил приятеля:
— А ты заметил, у него вся голова седая и на орденской колодке ленточка ордена Ленина?
Евгений Волков
(обратно)
Страна «Средиземномория»

Древние мореплаватели называли Средиземное море Великим Морем Заката. В какой-то мере это название даже символично. Воды Средиземного моря были свидетелями заката многих великих цивилизаций — Древнего Египта и Рима, Финикии и Эллады...
Ныне человек все увереннее берет в свои руки власть над планетой. Проекты, которые еще вчера казались фантастическими, становятся сегодня темой научных дискуссий (Об одном из таких проектов — создании электростанций на Красном море — уже рассказывалось в нашем журнале (см. «Вокруг света» № 3, 1961 г., «Гидростанции на море»).). И кто знает, быть может, уже наше поколение увидит, как начнет усыхать... само Средиземное море...
Больше тридцати лет прошло с тех пор, как появилась книга немецкого инженера Германа Зергеля «Опускание Средиземного моря». В последнее время о ней заговорили вновь.
Средиземное море, по мнению многих ученых, стало морем сравнительно недавно. Каких-нибудь пятьдесят тысяч лет назад к востоку и западу от Сицилии простирались два огромных пресноводных озера. Созданные самой природой «плотины» отделяли эти озера от океана, Черного моря и друг от друга. Одна из плотин соединяла южную оконечность Испании с Марокко, другая — Италию и Тунис, третья — Грецию и Малую Азию. Потом разразилась беспримерная геологическая катастрофа: «плотины» исчезли,
открыв дорогу водам Атлантики. На месте пресноводных озер и суши образовалось море.
Восстановить затопленную площадь, исправить невольную ошибку природы — такова цель проекта Германа Зергеля.
Каждый год жаркое солнце уносит с поверхности Средиземного моря больше четырех тысяч кубических километров воды. Реки, впадающие в Средиземное море, существенной роли в его водном балансе не играют. И все же море не мелеет: Атлантический океан и Черное море приносят ему взамен свыше трех тысяч кубических километров воды.
Еще тысяча кубических километров возвращается к нему с неба в виде дождя. Отвратить дождь человек пока не может. Но изолировать Средиземноморье от атлантических и черноморских вод ему по силам.
Зергель предложил построить две плотины — через Гибралтар и Дарданеллы. Лишенное притока новых вод, Средиземное море начнет усыхать. Уровень его будет ежегодно понижаться приблизительно на один метр. Уже через «десять лет можно будет использовать образовавшуюся разность уровней Атлантики и Средиземного моря для получения дешевой энергии, которую дадут турбины, заложенные в тело Гибралтарской плотины.
Через сто лет в распоряжении человека окажутся 150 тысяч квадратных километров обнажившейся суши. Сардиния сольется с Корсикой. Станут единым островом Мальорка и Менорка. Адриатическое море добавит Греции изрядный кусок земли. Между Тунисом и Сицилией, Сицилией и Апеннинским полуостровом останутся только узкие проливы, которые также легко перекрыть плотинами. Тогда усыхание Средиземного моря пойдет еще быстрее. В результате люди получат 600 тысяч квадратных километров великолепнейшей земли.
Конечно, все это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Если Дарданеллы, которые в самом широком месте едва достигают 1 300 метров, перекрыть не так уж трудно, то с Гибралтаром все обстоит значительно сложнее. В самом выгодном для сооружения плотины месте глубина пролива равняется 300 метрам, а ширина — 25 километрам. Чтобы противостоять напору стометрового уровня океанских вод, плотина должна быть очень мощной, иметь форму гигантской тридцатикилометровой подковы с шириной 500 метров у основания. Это беспримерное сооружение сравнимо, пожалуй, только с плотиной Берингова пролива, проект которой выдвинул советский инженер Борисов.
Однако не только мощные плотины предстоит соорудить строителям. В результате обмеления моря многие сегодняшние порты не смогут принимать корабли. А ведь на морских картах Средиземное море испещрено линиями постоянных рейсов. Чтобы и впредь оно оставалось очагом торговли и морского пароходства, нужно будет построить каналы, сложные системы шлюзов и даже новые порты.
И все-таки 600 тысяч квадратных километров новой земли — территория большая, чем Франция, — это говорит само за себя! К тому же значительно улучшится климат средиземноморских стран. Сейчас оливковые рощи Южной Испании и виноградники Франции часто страдают от раскаленного дыхания Сахарской пустыни. Опускание Средиземного моря изменит систему преобладающих ветров, в результате саму мы и суховеи окажутся запертыми в пустыне.
Итак, проект Зергеля сулит большие выгоды. Но говорить всерьез о его осуществлении нельзя до тех пор, пока не покончено с «холодной войной», навязанной человечеству империалистами. Она отнимает у народов ежегодно сумму средств, равную стоимости всех товаров, обращающихся в мировой торговле. Если направить эти средства на мирные нужды, людям будут по плечу самые грандиозные проекты преобразования земли.
Е. Парнов, М. Емцов
(обратно)
Золотая чаша

Золотистый песок и пахучие сосны, неширокая лента спокойной Вислы. Повернуты окнами к солнцу трех-четырехэтажные светлые дома; покрашенные в яркие цвета просторные балконы-лоджии делают их необычайно привлекательными.
Вечерний воздух чист и звучен: негромкая веселая мелодия разносится по всему поселку. В большом зале клуба танцует молодежь, стучат шары бильярда, бойкие девушки разносят по столикам пирожные и кофе.

«Приятное курортное местечко», — думаешь, глядя на новый поселок, раскинувшийся на окраине польского города Тарнобжега. Здесь живут рабочие серной шахты и химкомбината — производств, считающихся одними из самых тяжелых, грязных и вредных для здоровья. И вдруг — курорт!
Таков поселок. Ну, а шахта? Чтобы попасть к ней, нужно перебраться по новому мосту на другой берег Вислы. Шахта находится в 15 километрах от поселка. Каждое утро рабочих доставляют сюда автобусы.
И вот нашему взору открывается огромная овальная чаша. Длина — несколько сот метров, глубина — 25—30. Добыча здесь ведется открытым способом.
Дно чаши абсолютно сухое, только в двух-трех местах пускают солнечных зайчиков крохотные лужицы. Куда же деваются грунтовые воды, ведь разработка расположена на берегу реки?
Сопровождающий нас молодой геолог из управления показывает на толстую трубу, торчащую из земли. Два ряда мощных насосов, окаймляющих котлован, перехватывают воду глубоко под землей, на подступах к. разработке. Они словно надежная плотина, вставшая на пути подземных вод.
На дне чаши — золотой поясок. Это тянется семиметровый слой серы, освобожденный от скрывавших его пластов. Сколько смелого научного предвидения, настойчивости и труда проявили польские геологи во главе с профессором Павловским, чтобы обнаружить этот драгоценный поясок! И теперь серные залежи — одни из крупнейших в мире — законно считаются в Польше национальным богатством. Из этой и других золотых чаш, которые скоро возникнут на привислинских равнинах, черпает страна миллионы злотых, так необходимых для развития народного хозяйства.
...В золотой поясок вгрызаются ковши нескольких экскаваторов. Отсюда, сверху, они кажутся совсем крошечными. А людей не видно. И не потому, что их невозможно разглядеть. Ручной труд на карьере совсем исключен. Рабочие — это в большинстве своем машинисты экскаваторов, транспортеров, мотовозов, механики-наладчики.
Многоковшовый экскаватор — огромная землеройная машина чехословацкого производства — снимает земляную крышку и подает землю на широкую ленту транспортера, который тянется через всю разработку к вершине отвала.
У открывшегося слоя серы трудятся обычные экскаваторы, которые грузя? серу на другой транспортер, движущийся в противоположную сторону, к дробильне. Из дробильни сера попадает в вагонетки, и мотовозы доставляют их за несколько километров к химкомбинату.

На самой высокой точке отвала — красная будка главного диспетчера. С высоты ему видна вся разработка. Он связан с машинистами телефоном и, когда необходимо, включает и выключает моторы транспортеров. Вот и все. Полная механизация, высокая производительность и отличные условия труда.
Создание серной разработки и химкомбината, оборудованных и организованных по последнему слову техники, стало возможно благодаря сотрудничеству между братскими странами — Польшей и Чехословакией.
...В управлении шахты висит большая карта — огромная золотая чаша разработки выглядит на ней маленьким овальным пятнышком. От него отходят все увеличивающиеся овалы, секторы, квадраты разных цветов. Это показаны разведанные запасы серы, которые намечено разрабатывать в будущем. Серы здесь десятки миллионов тонн. Рядом — разноцветные значки: это новые фабрики по очистке и обработке серы, фабрика удобрений, еще одна шахта.
Золотая тарнобжегская чаша не иссякает, она становится с каждым годом все больше и обильнее.
Текст Ю. Попкова / Фото Леопольда Вдовинского (Наши спец. корр.)
(обратно)
Осада
 Этот симпатичный зверек может стать опаснее хищного зверя, если он болен чумой
«Не забыть:
Этот симпатичный зверек может стать опаснее хищного зверя, если он болен чумой
«Не забыть:
иголки примусные, топорище, подковы, комбижир, перец, карабин, чашки Петри, бланки актов списания, определитель блох, зубную щетку, сапоги Дерипалову...»
Для непосвященного такой набор слов покажется смешным и чуть-чуть нелепым, а для меня в свое время это было очень важно и совершенно всерьез. Такими заметками полны лежащие передо мной записные книжки. Листаешь их — и вспоминаются тропы, пробитые для вьючных перевозок через желтые зернистые снега перевалов, походные столы посреди обвисших под дождями палаток, заваленные картами и схемами; вспоминается хрип прокуренных голосов при разборе конфликта с сезонными рабочими и настороженное изящество вежливых споров в парадных стенах конференц-залов. Листаешь записки — и перед глазами встает обширное, многообразное, устоявшееся и динамичное хозяйство — противочумная система.
Исследовательские институты, научно-производственные станции, их многочисленные отделения — большая сеть учреждений, большой коллектив, большая работа. Суть этой работы — война с чумой. Вспоминаются люди — солдаты этой самой мирной из войн...
«13.VII. Нашли!»
Это я помню хорошо. Утром у палатки появился Володя в халате и белой шапочке. Он молча смотрел на меня, пощипывая короткие жесткие усы. Потом мотнул головой: «Пойдем!» Он улыбался одними глазами и как-то странно — хитро и удовлетворенно, почти торжествующе. В лаборатории — десятиместной палатке, разделенной занавесями на отсеки, — тошнотно пахло вскрытыми сурками и лизолом. Под бельевым баком ревел трехголовый примус. На столе стоял микроскоп, под его объективом — чашка Петри с тонким слоем агара.
Я нагнулся к окуляру. На слабо-желтом фоне лежали бесцветные нашлепки — колонии микробов. Тут были и четкие плотные блины, и рыхлые, с неровными краями, и крупные зернистые точки. В центре поля зрения — кружок с краями, постепенно переходящими в прозрачный легкий фестон — знаменитый: «кружевной платочек», как его» называют микробиологи.
Все улыбались. И было странно, что люди улыбаются, глядя на эту чашку. Здесь, за хрупкой пленкой стекла, находилась чума в ее наиболее концентрированном виде. Различимый глазом сгусток: одной из самых страшных и беспощадных смертей, отряд микроскопических солдат непобедимой: некогда армии.

«Моровая язва». «Черная смерть»... Прошли века, прежде чем крепнущая наука лишила эти слова их пугающей силы — неотвратимости, вселявшей ужас перед непознанным. На борьбу с чумой встали врачи, среди которых русским принадлежит одно из первых мест. Многие годы борьбы и кропотливой работы в зачумленных селениях, десятилетия экспериментов и поисков; опыты на себе, когда не только вся жизнь, но и сама смерть беззаветно отдавались науке и человечеству, — вот что потребовалось для того, чтобы мы могли сейчас спокойно улыбаться, глядя на кусочек чумы.
Безобидная на вид, изящная полупрозрачная капелька...
Неделю назад кто-то из ловцов поставил капкан у входа в сурчиную нору. Каждый день проверял он его по два раза. Сурок попался в капкан лишь на пятый день. Он кувыркался, яростно орал, скаля выпачканные землей мощные желтые резцы. На следующий день он лежал на столе лаборатории. Лаборант Иван Иванович быстрыми, привычными движениями вскрывал сурков, проводил их внутренностями по слою агара в чашке Петри, делал записи в журнале...
Следующий! У этого сурка, того самого, что попался вчера в капкан, тоже не было никаких патологических изменений, лишь в печени маленький светлый узелок. Всего лишь точечка убитой чем-то ткани. Подозрительно... Мазок узелком по агару. Чашку закрыть — ив термостат... Запись. Следующий!
Прошло два дня. Володя еще до завтрака начал осматривать чашки. И вот увидел! Платиновой петлей он перенес кусочек микробной колонии на чистый агар для контроля, заразил морскую свинку...
За полтора прошедших месяца через лабораторию прошли сотни сурков. Десятки подозрительных колоний Володя исследовал различными способами, и все безрезультатно. Но это... Володя смотрел на меня и хитро пощипывал ус.
Так была обнаружена первая культура чумы в том сезоне. Потом обнаружили еще одну, еще и еще. Мы установили эпизоотию и начали изучать ее интенсивность, размещение больных сурков на местности.
Чумой болеют дикие грызуны. Это так называемая болезнь с природной очаговостью. Блохи передают возбудителя чумы от больных зверьков здоровым. Человек вовлекался в эту цепь случайно.
Раньше бывало так: болезнь передавалась от человека человеку, выплескивалась за границы природного очага, и начиналась эпидемия.
Территория, на которой взаимодействуют бактерии, грызун и блоха, является «природным очагом», зоной распространения болезни в природе, убежищем эпизоотии. Здесь чума тлеет, вспыхивая то в одном, то в другом месте.
Созданная в нашей стране противочумная система ликвидировала часть природных очагов чумы. Исключена возможность эпидемий этой болезни в нашей стране. Чума уползла в свои древние бастионы: в природные очаги пустынь Средней Азии, высокогорий Тянь-Шаня.
Она блокирована, осаждена.
Вот невзрачная, потрепанная книжечка... Она была со мной на Тянь-Шане. Читаю записи:
«Тургень, Фунтики, Дерипалов».
Я тогда работал зоологом в истреботряде. Были раньше такие большие отряды, до ста и более человек, которые занимались исключительно истреблением грызунов, носителей чумной инфекции.
Рабочий идет по склону горы, в каждую обитаемую нору сурка засыпает ядовитый порошок и плотно забивает нору дерном. Об этом легко сказать: идет, засыпает, забивает. Идти надо по камням, по крутым склонам то вверх, то вниз на высоте трех — трех с половиной тысяч метров. Надо обязательно найти все жилые норы и тщательно закопать каждый вход, иначе пары синильной кислоты улетучатся. А если хоть один сурок выживет и выйдет наружу, то непременно расчистит все ближние забитые норы и выпустит оттуда своих полузадохшихся приятелей.
Этим методом часть тянь-шаньского очага была уже оздоровлена. Метод, правда, не очень эффективный да к тому же довольно дорогой, и не только себестоимостью, но и ценой шкурок тех сурков, что оказываются погребенными под землей. Пушнина ведь!
В последнее время отряды начали совмещать исследовательскую работу с истреблением. Грызунов для бактериологических исследований ловят капканами, а остальных травят. Это уже проще, и отпадает нужда в больших отрядах. С работой справляются десять-двенадцать ловцов, если они опытные.

За временными рабочими я и ездил в село Тургень. Завербовал там на летний сезон тридцать человек. Среди них были Фунтиковы: четыре брата и мать. Фунтиковы работали у нас уже несколько сезонов. Это были ветераны, опытные и умелые. Их звено мы называли «фунтики». Сейчас трудно уже вспомнить каждого из братьев, но до сих пор в памяти лицо их матери, крупное, с большими глазами, освещенное огнем печурки, на которой варятся в котле пузатые пельмени. Большое дело в отряде — хорошая повариха.
Когда люди в отряд набраны, остается еще масса проблем, которые не возникают в городе или хотя бы в большом населенном пункте, где есть мастерские и множество всяких услуг, нужных человеку.
В том же Тургене я впервые встретил Дерипалова, человека для экспедиции незаменимого. Беззубый старик с огромным носом, виртуоз-слесарь, безукоризненный плотник, смекалистый столяр, печник выдумщик — настоящий сказочный умелец! Придешь к нему, скажешь: «Надо, Никифор Тихоныч, квашню сделать центнера на полтора вместимостью», или: «Что-то у меня часы пошаливают. Посмотри, Тихоныч». Дерипалов сдвигает на лоб фантастические очки, собранные из кусочков стекла, проволоки и системы веревочек, и, сморщив нос, говорит: «Дело не хитрое, потерпи до завтра».
Он брался за все, о чем бы его ни попросили, и ни разу не оконфузился.
Был у нас в отряде шофер Вася Перов, добрых двух метров ростом, широкоплечий и медлительный, невозмутимый и добродушный. Он носил светлые усы и белую высокую фуражку, что делало его похожим на водевильного полководца. Ездил он на «бобике», маленькой приземистой машине «ГА3-67» из породы «зеленых козлов», модели еще военных времен. Вася мог ездить только с откинутым брезентовым верхам, так как голова его, когда он садился за руль, была выше ветрового стекла.
И вот однажды на ровной дороге он перевернулся. Это событие до сих пор обсуждается в шоферских кругах, как пример явлений, не поддающихся объяснению. Как бы то ни было, а «бобик» лежал вверх колесами и показывал всем свое грязное пятнистое брюхо. Вася стоял рядом, чесал в затылке, сдвинув фуражку на глаза. Самым загадочным было то, что он не получил ни одной царапины. Единственным, что он вынес из этого циркового номера, было убеждение, что они с «бобиком» не созданы друг для друга.
«Бобик» поставили на колеса, он был на ходу, но капот и крылья оказались изрядно попорчены. И опять тот же Дерипалов два дня стучал, выпрямлял и клепал. И не только починил поломки, но даже сделал новый глушитель.
Вася перешел на грузовик, на его место пришел другой Вася, Бедрик. Бедрик тоже был очень хорошим парнем, а главное, мог ездить с поднятым верхом. Проблема поездок в дождь была решена.
Любой противочумный отряд, а тем более истреботряд, — хозяйство сложное. Чем только здесь не занимаешься; объезжаешь молодых лошадей, изучаешь бухгалтерское дело и даже строишь дороги!
Вот между страничками записной книжки лежит засушенный эдельвейс: короткий, будто ватой облепленный стебелек, узенькие беловатые листочки, три пушистых шарика. Вспоминаю, при каких обстоятельствах я его сорвал.
Перевал Джапалы, высота 3 600 метров. Ничего особенного, средненький перевал. По одну сторону — узкое лесистое ущелье, по другую — широкая долина сыртов, сердце чумного очага. Там хоть на машине разъезжай! В сыртах мы должны были работать двумя отрядами. И вот, когда мы задумались, как перебрасывать через перевал отряды, а потом два месяца снабжать их, и было решено осуществить давнишнюю идею: построить по ущелью дорогу для грузовиков и провести в сырты «бобик».
Восемь дней мы пробивались по ущелью, оставляя за собой некое подобие дороги. Валили деревья, мостили болотца — сазы, скапывали откосы. Когда, наконец, машины дошли до подножия перевала, где у нас была база и стояли вьючные лошади, все отказались от отдыха: рвались в сырты.
Мы нагрузили «бобик», его одноосный прицеп, и Вася Бедрик повел машину, будто ездить через перевалы, по конным тропам было для него плевым делом. Мы ехали впереди на лошадях. «Бобик» натужно ревел, Вася, высунув круглую голову, смотрел на передние колеса. Перед самым перевалом «бобик» засел в сазе...
Мы долго бились с ним, хрипло ругаясь и проклиная все на свете перевалы, болота и машины. Пришлось отцеплять прицеп и перетаскивать его через саз вручную. Когда машина все же выбралась на перевал и остановилась у каменного тура, низкое солнце затянули слоистые серые тучи.
 Наша кавалерия идет на штурм, осаждать бастионы чумы
Наша кавалерия идет на штурм, осаждать бастионы чумы
Я спрыгнул на землю и, пугая лошадей, заорал: «Для отдачи салюта становись!» Мы всадили в белесое небо нестройный залп и вразнобой крикнули «Ура!». Необычные звуки пронеслись над широким хребтом и быстро растворились в холодном воздухе. Эха не было. Кругом — ниже нас — бугрились темные хребтины гор, вниз, в уже скрытую сумраком долину, уходила узкая тропа. Далеко слева тянулась от одного края неба до другого белая зубчатая стена. На одном конце ее торчал конус Хан-Тенгри.
Я обернулся. Вася протирал тряпочкой ветровое стекло. Ребята курили. На прицепе, под заляпанным грязью брезентом, торчали углы ящиков, термостатов — мы везли лабораторию.
— Поехали, что ли? — спросил Вася.
Там, на перевале, я и сорвал хилый эдельвейс и положил его в записную книжку.
Вот еще одна запись:
«Пленка № 3. Кадр 24. Чумная нора внизу третьей щели Джагака».
Хорошо помню, как фотографировал эту старую полузасыпанную нору сурка. Здесь была найдена чумная блоха. Мы всячески пытались тогда докопаться, в чем же отличие этого участка от других, где чума не обнаружена. А такое отличие есть.
О том, где хранится в природе возбудитель чумы, как распределена инфекция на местности, всегда в среде чумологов было много споров. В последние годы создана теория «элементарных очагов чумы». По этой теории эпизоотия существует на местности не сплошь, а длительно хранится, тлеет в «точках», в «фокусах», в «элементарных очагах», где «особенности жизни грызунов и блох, свойства микроклимата нор создают наилучшие условия для длительного существования чумной бактерии. Элементарные очаги служат угольками, из которых при определенных соответствующих условиях только и может вспыхнуть пламя эпизоотии. Следовательно, чтобы уничтожить чуму, достаточно подавить элементарные очаги. Это чрезвычайно заманчиво, ибо сулит большую производительность оздоровительных работ при затрате тех же средств в тот же отрезок времени. Таково самое схематичное изложение теории элементарных очагов чумы.
На Араломорской противочумной станции как будто научились различать элементарные очаги в природе, очерчивать их на местности. Аральцы считают, что в пять лет можно ликвидировать найденные очаги. У этой теории есть противники. Споры, борьба мнений — это все так и нужно, это правильно, лишь бы не было равнодушных.
Самое главное сейчас — быстрейший поиск эффективного метода ликвидации очагов чумы.
Чума осаждена, она в кольце, через которое ей не прорваться. Перед советским здравоохранением встает задача — уничтожить самую возможность возникновения чумы, ликвидировать все ее природные очаги. Биологи создадут мощное атакующее оружие, и тогда начнется последний штурм.
Самая свежая книжечка в моей «коллекции» — памирская. Там, на Памире, мы тоже искали чуму. Заключительная запись:
«Перевал Кой-Тезек. Последние сурки у дороги».
Был август 1960 года. Наши машины прошли перевал и начали спуск к Хорогу. У дороги промелькнули в низкой траве три желтых живых «столбика» — последнее «сторожевое охранение» сурчиной армии. Сурки дают хороший мех, мясо у них отличное, жир ценится в медицине, да и вообще они звери симпатичные. Но в тянь-шаньском природном очаге сурки болеют чумой. По косвенным данным можно было подозревать, что и на Памире возможен чумной очаг.
Третье лето противочумные отряды искали на Восточном Памире чуму. И вот мелькнули в траве последние сурки; мы смотрели на пыльную белую дорогу, глубокими сильными бросками спускавшуюся с перевала: позади было три месяца работы.
За это время шире стала красная штриховка на нашей рабочей карте Восточного Памира, заметно уменьшилась необследованная область. Мы везли с собой несколько толстых журналов, исписанных убористым почерком. За каждой их страницей — недели труда, сотни выставленных ловцами капканов, десятки километров, пройденных по ущельям зоологами, десятки вскрытых в лаборатории сурков, сотни исследованных блох. За каждой страницей — множество чашек Петри с культурами микробов, изученными начальником отряда Казимиром Дерлятко. И в каждой строке каждой страницы в графе «Результат бакисследования». одно и то же слово — «отрицательный». Больных сурков нет.
Машина, миновав крутизну, набирала скорость. Кончился сезон, мы возвращались. В столице Таджикистана ждал наших отчетов начальник противочумной станции Федяшев. Отряды отчитаются и будут разрабатывать новые планы. Осада продолжается.
Э. Дубровский
(обратно)
За голубым барьером
 Рассказ о фильме, который не выйдет на экран
Рассказ о фильме, который не выйдет на экран
За окнами вагона горячий южный ветер. Мы едем на Каспий, четверо людей разных профессий и возрастов, объединенных одной любовью к подводным путешествиям. Но сейчас мы не только спортсмены. Умение обращаться с киноаппаратом под водой послужит большому и нужному делу: нас пригласили сделать фильм для Туркменской научно-исследовательской рыбохозяйственной лаборатории.
В 1930—1934 годах советские ихтиологи перевезли из Черного моря в Каспийское около трех миллионов мальков кефали. В новой «квартире» нашлось много корма и не было опасных соседей — хищников. Новоселы быстро размножились, заполнили все южные заливы и бухты. С 1940 года начался промысловый лов кефали на Каспии.
Но хитрая рыба не шла в сети. Она обходила их, перепрыгивала через неводы, удирала с мест кормежки, как только туда приближалось судно. Поэтому уловы каспийской кефали до сих пор были незначительны.
После длительных наблюдений ученые установили, что летом кефаль кормится в мелких заливах, а осенью уходит в открытое море. А если вовремя запереть сетями залив? Это может резко повысить улов ценной, откормившейся за лето рыбы.

Но можно ли «пасти» кефаль, как отару овец? Хватит ли для нее корма в заливах? Какое количество рыбы скапливается на летних пастбищах и много ли обещает осенний улов? На эти вопросы можно ответить, лишь заглянув глубоко под воду. Наши «глаза» — кино- и фотоаппараты, заключенные в водонепроницаемые боксы, — и должны были помочь ученым.
Багаж Ольги Хлудовой, Жени Шишова и мой — мотки капроновых веревок, резиновые жгуты для гидрокостюмов, тяжелые боксы, свинцовые пояса, ящики с ластами и масками. Научный руководитель нашей маленькой экспедиции Николай Николаевич Кондаков вез с собой только легкий рюкзак, сачок и невесомый, но значительный груз знаний ученого-ихтиолога и художника. Его багаж не обременял никого, а у нас вызывал затаенное чувство зависти. Наконец пересадки, железнодорожные станции и морские вокзалы — все три тысячи километров от Москвы до Красноводска остались позади.
Для работы под водой был составлен большой и подробный план. Кроме кефали, мы должны были запечатлеть на пленку образ жизни и быт любителя больших глубин — осетра, сфотографировать ночной лов кильки. Были разработаны заботливые инструкции: что можно, чего нельзя, как вести себя и что делать. Но как уберечь перед работой цветную кинопленку — основу основ всего, что предусмотрено в планах и инструкциях? Столбик термометра даже в тени доползал до отметки 45. По этому угрожающему поводу собрался настоящий ученый совет. К счастью, кто-то вспомнил о глубоком холодном подвале, где хранился уголь.

А раннее утро следующего дня застало нас в море. Захватив спасенную пленку, мы бежали от солнца. Сейнер «Сырок» — плавучая база лаборатории — увозил нас по прохладным волнам к заливу.
Серебристые рыбы, как торпеды, вылетали из глубины. Стайки их легко обгоняли судно. Это и была кефаль, которую мы собирались посетить «на дому».
...На плоском песчаном берегу мы подготовились к погружению. С наслаждением сбросили обувь. Но тут-то нам и начало мстить солнце. Мы бежали по совершенно огненному песку, по-козлиному перепрыгивая через колючки тамариска.
Все выглядело не так романтично, как рисовалось воображением в Москве. Мы искали спасения от солнца в воде. Но как можно было назвать ее «прохладной», если температура воды 35—36 градусов!

В довершение всех бед залив был мелок и, как нам показалось, пуст. Мы старательно прочесывали его, всюду искали кефаль, но только раки да бычки таращили глаза в наши объективы. В этот день мне и Ольге Хлудовой суждено было увидеть кефаль только на столе под навесом от солнца. А Женя, который куда-то уплыл во время съемок, сидел в тени этого навеса и ехидно на нас посматривал. Лаборантки мазали ему сожженную спину мазью: личное знакомство с кефалью требовало жертв...
На следующее утро мы по совету Жени изменили тактику: не гонялись за рыбой, и она сама пришла нам позировать. Лежа в воде у самого берега, мы замирали. Солнце немилосердно жарило наши спины. Теперь мы поняли, откуда берутся «подводные» ожоги.
Перед нами разыгрывалась такая картина: кефаль стайками и в одиночку подплывала к берегу, копошилась в песке, набирала его в рот вместе с обрывками водорослей и выплевывала фонтанчики мути в наши объективы. Рыба будто не замечала нас, но немедля удирала, если кто-нибудь делал неосторожное движение рукой. Вероятно, кефаль чутко реагировала на колебание воды, поэтому мы и не могли застигнуть ее врасплох, когда искали, плавая по заливу.
Набравшись опыта, мы расширили район киносъемок, передвигаясь на моторном катере вдоль берега. Нам помогал моторист катера Курбан Назаров. Жизнь на море многому научила его, и он безошибочно указывал места кормежки и отдыха кефали.
Теперь, по плану, нужно было заняться килькой.
Ночное погружение опасно. Главное — не потерять ориентировку: знать, где дно, а где поверхность воды. Привязываем к поясам веревки — страховые концы — и просим поярче осветить судно. Надежная работа аквалангов успокаивает, все глубже и глубже погружаемся в черную пустоту. Повисаем на глубине 20 метров. Судна уже не видно. Теперь ориентирами служат светящаяся внизу лампа да трос, уходящий вверх. Ждем, когда начнут поднимать сети. Светлая точка то затухает, то вспыхивает, постепенно увеличивается и превращается в клубок мелкой рыбешки, «которая кружится вокруг лампы. Мы снимаем этот фантастический танец кильки, похожий на кружение «мотыльков.
Ночной лов кильки — дело новое, прогрессивное и еще мало изученное. Теперь мы можем посоветовать рыбакам опускать лампу ниже в конусную сеть — тогда в нее заходит больше рыбы.

...После ночных погружений дневные кажутся приютной подводной прогулкой. Мы исследуем дно на глубине 20—30 метров, где будут поставлены сети на осетров. С удовлетворением выясняем, что дно такое, каким хотели его видеть, — мелкий песок, покрытый ракушечником. Потом беспрепятственно снимаем на кино- и фотопленку попавшихся в сети древних обитателей глубин, очень похожих силуэтами на акул.
Ихтиологи отбирают несколько экземпляров для исследований, а весь остальной улов сбрасывают в море: промысел осетров летом запрещен. Рыбины, словно в обмороке от счастья, долго раскачиваются на волнах.
Курс наш — на север. «Сырок» быстро бежит, подгоняемый сводкой погоды: радист принял радиограмму о надвигающемся шторме. Вечером в Баку ветер достигал 11—12 баллов, утром его ждут в наших краях.
Нам удалось перехитрить ветер — бросить якорь за каменистой грядой, у входа в Кара-Богазский залив. Ветер налетел плотной стеной и двое суток пытался сорвать судно с якоря. Огромные волны с ревом поднимали столбы пены и брызг, а над землей висела густая мгла, и тучи песка закрывали солнце. Было темно, как вечером. Песок носился в воздухе, долетая до сейнера, стоящего в двух километрах от берега.
С каким трогательным доверием относятся к человеку птицы и звери, когда попадают в беду! Два розовых скворца залетели к нам на спардек и притихли в углу. На якорную; цепь у лебедки уселся пустынный щеглок. Железные борта защищали его от ветра, и он разрешал себя трогать, закрывая при этом глаза.

Только на четвертые сутки мы отважились войти в Кара-Богазский залив на катере. В 1847 году по этому проливу, который туркмены называют «Черная пасть», лейтенант Жеребцов провел паровой корвет «Волга». А мы вынуждены были причалить к берегу, пройдя лишь половину пролива. С тех пор уровень моря понизился и обнажил поперечную каменистую гряду. Вода с ревом преодолевает двухметровый барьер: единственный в своем роде морской водопад! Пена огромными хлопьями плывет вниз по течению, создавая иллюзию ледохода. Ученые рассказывали, что большое количество рыбы гибнет в пересоленном Кара-Богазе. Течение перебрасывает ее через порог, водопад увлекает вниз, и обратно в море рыба вернуться уже не может. Берега пролива ниже порога действительно сплошь покрыты рыбьими скелетами.
Мы прошли берегом к тому месту, где серо-свинцовая вода Кара-Богаз-Гола поглощает в своей мути голубую воду Каспийского моря. Плоские берега, покрытые соленой грязью, тянутся бесконечно, теряясь в желтом мареве за горизонтом, — суровая, неповторимая по красоте картина...
За три недели мы прошли на «Сырке» более тысячи километров, отсняли под водой и над водой около двух километров кинопленки. Наш фильм не будет демонстрироваться в кинотеатрах. Но он поможет ученым заглянуть за голубой барьер. Мы запечатлели на кинопленке тайны подводного мира. И когда эти тайны будут разгаданы учеными, рыбаки смогут регулировать жизнь моря, брать уловы не наугад, а распоряжаясь в Каспии, как хозяин, который знает, где и сколько надо посеять и где и сколько «урожая» снять.
А. Рогов, наш спец. корр. / Фото автора
(обратно)
Песнь Новой Каховки

Подняв воротник полушубка, нахлобучив на лоб кепку, он шел навстречу ветру и пел. Порыжелые листья, шелестя по асфальту, проносились мимо него и с размаху шлепались в маленькие блестящие лужицы. Из серой пелены, нависшей над аккуратными белоснежными домами, падали мелкие капли... А он пел.
Каховка. Каховка, родная
винтовка!
Горячая пуля, лети!
— Куба! — показал я на флажок, приколотый к борту полушубка.
Он утвердительно мотнул головой и лихо заломил на затылок кепку.
— Тракторист?!
Смуглое мальчишеское лицо расплылось в довольной улыбке. Он выпалил длинную испанскую фразу и схватился за руль воображаемой машины.
Вместе мы подошли к большому светлому зданию, увенчанному высоким шпилем. Перед ним простиралась широкая асфальтированная площадь, по которой не спеша разгуливали голуби. А еще дальше, за желтыми кронами деревьев плескалось Каховское море.
* * *
В Новой Каховке их 99 — бойких и задорных кубинских парней. Из тысячи кубинцев, занимающихся в училищах механизации сельского хозяйства нашей страны, кубинцы Новой Каховки — самые молодые. Есть среди них и совсем юные.
Ласаро Гарсиа четырнадцать лет, у него чуть вздернутый нос, внимательные, порою грустные глаза. Он вспоминает о том, как ему повезло: ведь из его семьи хотел поехать учиться в СССР не только он, но и старший брат. Но отец поддержал младшего сына: «Ласаро поедет!»
Старший брат даже заплакал от огорчения. Ласаро, как может, утешает его: почти в каждом письме рассказывает ему о Советской стране и шлет фотографии ее героев — Матросова. Гагарина. Титова.
Письма... Почтальон их приносит ежедневно пачками. Родные и знакомые пишут о том, как идут дела дома, спрашивают, не теряют ли ребята времени даром: кооперативу нужны знающие люди.
А они, в свою очередь, обстоятельно описывают свое житье. Рассказывают о светлых классах, лабораториях, мастерских, в которых учатся и работают. О колхозе, где помогали собирать урожай. О спортивном и музыкальном кружках созданных для них при училище.
Роберто Пачеко можно назвать «рекордсменом» — чуть не каждый день он отвечает на три-четыре письма. В последнем письме мать просила передать привет его воспитателям и прислать ей семена цветов: пусть на Кубе растут русские цветы!
* * *
В руках стройного Ригоберто Искьердо обычная указка. Он водит ею по развешанным на стенах схемам и с воодушевлением что-то рассказывает. Двадцать пар внимательных глаз неотрывно следят за перемещением деревянного острия.
Неожиданно в бурном потоке испанской речи прорываются два русских слова: топливный насос. Иссиня-черное лицо сидящего у окна парня наклоняется над тетрадкой — ему не совсем понятно, как же работает этот четырехплунжерный топливный насос.
Ригоберто перетаскивает схему к центру доски и с жаром повторяет все сначала...
— Каждый день у них по семь уроков, но этот не по расписанию. Ребята сами решили «повторить» мотор, — объясняет мне переводчик Мануэль Фернандес. — Ну, а на практике они уже все водят и комбайны и тракторы.
— А почему именно Искьердо помогает остальным?
— Он самый знающий, окончил восемь классов. Ведь многим довелось учиться лишь три-четыре, а то и один год...
* * *
Онель хитро прищурил черные глаза, загнул кверху большой палец и, причмокнув, сообщил: «Гавана — город что надо...»
Мы рассмеялись — это было почти по Маяковскому:
Если Гавану окинуть мигом — Рай-страна, страна что надо...
Юноша тоже улыбнулся, йотом задумался и продолжил свой рассказ.
Как и для негра Вилли, о котором писал поэт, не была Гавана раем для Онеля. Мальчику исполнилось пять лет, когда он стал сиротой. Очень рано Онель узнал, что такое подневольный труд. Во времена Батисты перепробовал много профессий: гнул спину на плантатора, бегал с подносом в ресторане, несколько месяцев крутил баранку автомобиля.
В пятнадцать лет Онель вступил в Народно-социалистическую партию. А когда свершилась революция, с винтовкой в руках охранял ее завоевания. И вот сейчас юноша сменил оружие на штурвал трактора и ручку с чернилами...
— А потом что ты собираешься делать, Онель?
— Буду трактористом и буду строить.
— Строить?
— Да, строить, новую хорошую жизнь. Это теперь наша общая профессия. Мы ходили здесь смотреть электростанцию. Муй бьен, очень хорошо! Хочу стать инженером, чтобы работать на такой же кубинской электростанции.
* * *
Затаив дыхание они взволнованно слушали. О легендарном комдиве Василии Ивановиче Чапаеве, несгибаемом большевике Фурманове, бесстрашной Анке-пулеметчице...
Когда же седой генерал поведал о том, как погиб верный ординарец комдива Петька Исаев, хмуро потупились смуглые лица. Словно только что был здесь простой русский парень, пожал их руки, тоже умеющие держать винтовку, и навсегда ушел. И каждый почувствовал, что парень этот им сродни...
А генерал перевел взгляд за окно, где на фоне Каховского моря ярко зеленела крыша Дворца, культуры, и продолжил рассказ.
Ровно 41 год не был в этих местах боевой соратник Чапаева и Фрунзе, Герой Советского Союза Николай Михайлович Хлебников. С тех памятных дней, когда дрались здесь против врангелевцев красные бойцы.
— Не было тогда Новой Каховки. Вот там, — протянул генерал к окну руку, — стояли бедные избенки деревни Ключевая — правый фланг нашего Каховского плацдарма. На эти рубежи лезли иностранные танки. А наши бойцы с бутылками и гранатами шли на эти танки и уничтожали их.
Блестят глаза юного Эрнандеса Педро — ему нравится рассказ генерала.
— Отсюда Красная Армия пошла на штурм Перекопа, чтобы выбросить вражеское отребье с родной земли. «Родина или смерть!» — этот ваш лозунг был лозунгом и наших бойцов...
Зал разрывают аплодисменты, бурные, как плеск каховскйх волн, что гонит вдали за окном порывистый ветер.
А. Пин, наш спец. корр.
Фото М. Фернандеса и В. Лебеденко
Новая Каховка, октябрь 1961 г.
(обратно)
Наступление на великую пустошь

Есть места на географической карте, одни названия которых вызывают приступ жажды. Кызылкум, Каракумы, Голодная степь...
Земля-мумия, бесплодная пустошь, воинственная орда суховеев, совершающих отсюда опустошительные набеги на плодородные оазисы. Чем же она издревле влечет к себе не только скотовода, но и земледельца? Почему занимает она, эта земля, такое большое место и в рабочих планах советского человека, стоящего коммунизм? Сколько внимания уделено ей XXII съездом партии!
Дело в том, что бесплодие летучих песков и иссушенных пепелищ степей в Средней Азии только кажущееся, только полуправда. Загляните сюда ранней «весной — вы увидите этот край в розовых облаках тюльпанов, в красном зареве маков, в сладком дурмане расцветшего тамариска. Какое половодье жизни даже при скудных запасах зимней влаги!
А если напоить эту землю вдосталь? Она превратится в плодороднейшую пашню. Известно, что один гектар орошенной земли в южных районах дает человеку в четыре-пять раз больше плодов, чем в средней полосе страны. Это гектар-богатырь! Его сипа прежде всего в обилии тепла и света. Белые снега хлопка; фрукты, сладкие, как мармелад; крупные грозди винограда; густые джунгли кукурузы — вот что такое гектар-богатырь на южных землях. Подсчитано, что с каждого миллиона обращенной к жизни земли на юге можно получать в год около 1,5 миллиона тонн хлопка-сырца, плюс 500 тысяч тонн риса, плюс 330 тысяч тонн молока, плюс 200 тысяч тонн мяса и еще много другой продукции. Неудивительно, что затраты на орошение окупаются здесь за один-два года.
Уже сейчас мы орошаем свыше 9 миллионов гектаров земли. Но это лишь предисловие к новой географии южных районов страны. Партия и Советское правительство поставили перед народом величественную задачу — начать генеральное наступление на засушливые земли. К концу семилетней программы мы должны ввести для использования под поливные посевы и насаждения еще многие сотни тысяч гектаров земли, а за 20 лет площадь орошаемой земли должна возрасти втрое!
«Имеется в виду — говорил на XXII съезде КПСС Н.С. Хрущев, — создать новый крупный район хлопководства в бассейне реки Сыр-Дарьи, где, по предварительным подсчетам, можно оросить 800—850 тысяч гектаров земель Голодной степи на территории Узбекской, Казахской и Таджикской республик...»
Голодная степь — огромная глинисто-бурая равнина, чуть седеющая полынью, с высоким безоблачным небом, с зыбкой голубоватой грядой холмов на горизонте. Здесь рано кончается праздничное весеннее цветение. Уже в мае жгучие суховеи гасят желто-красные огоньки цветов. Наступает незаконнорожденная «осень», равнина наливается серым зноем.
Многие столетия мечтали народы Средней Азии оросить эти земли, вернуть их к полнокровной жизни, превратить в край изобилия. Полноводная Сыр-Дарья течет здесь совсем рядом. Выбегая на просторы Голодной степи, река описывает полукруг, напоминающий дугу необъятного лука. Вот бы взять богатырю в руки этот лук и запустить в иссушенную степь стрелы новых каналов!
 Вода пришла в Каракумы.
Фото Е. Кассина
Международная выставка художественной фотографии, Москва, 1961.
Вода пришла в Каракумы.
Фото Е. Кассина
Международная выставка художественной фотографии, Москва, 1961.
Таким богатырем, живым Фэрхадом XX века, стал наш народ. В самый разгар борьбы за
упрочение советской власти, 17 мая 1918 года, В.И. Ленин подписал декрет об ассигновании 50 миллионов рублей на оросительные работы в Туркестане.
Наступление на Голодную степь началось, а в наши дни продолжается с новой силой, с новым размахом!
Был расширен и удлинен существовавший ранее Мирзачульский канал, который носит сейчас имя С.М. Кирова. Вскоре после Отечественной войны плотина перегородила русло Сыр-Дарьи у западных ворот Ферганы, и над скалами легендарного Фархада встала электрическая заря новой Фархэдской ГЭС.
В апреле 1956 года в таджикской части Голодной степи, у Ленинабада, заработали турбины Кайрак-Кумской гидроэлектростанции «Дружба народов». Возникшее здесь Таджикское море питает сыр-дарьинской водой полмиллиона гектаров земли. В том же году началось строительство столицы Голодной степи — Янгиера. Степь, потеснившись, дала место современному городу с многоэтажными домами, широкими проспектами, с электрической сетью и зелеными садами.
В 1958 году были вынуты первые кубометры на месте будущей плотины Чардаринского гидроузла, и недалеко то время, когда новое море разольется у границ Голодной степи с Кызылкумом. Оно оросит еще 200 тысяч гектаров плодородных земель и даст воду пастбищам.
В декабре 1960 года коричневая, вскипающая пузырями вода тронулась в глубь степи по 92-километровому Южному Голодностепскому каналу. 20 миллионов кубических метров земляных работ, десятки сложных гидротехнических сооружений — вот что такое ЮГК, еще одна стрела из сыр-дарьинского «лука». Сейчас строится вторая очередь канала — еще 34 километра.
К концу семилетки площадь освоенных земель Голодной степи достигнет 450 тысяч гектаров. Этот оазис будет давать стране около одного миллиона тонн хлопка — столько же, сколько дает сейчас вся Ферганская долина.
Наступление на степь идет с подлинно индустриальным размахом. У покорителей Голодной степи есть мощные тылы. Есть Беговатский цементный комбинат и завод железобетонных изделий, Джизакский силикальцитный и Янги-Юльский бетонные заводы, Гулистанский ремонтно-механический завод.
Покорение пустыни немыслимо без глубокого научного осмысления взаимоотношений между влагой, почвой и растениями. Умирающую от жажды землю нельзя, например, беспредельно поить водой: она окажется смертельным лекарством. Влага проникнет глубоко в землю, соединится с солеными грунтовыми водами. А почва — как фитиль: по тонким капиллярам жгучие соли поднимутся к поверхности и осядут на ней пухлыми белыми комочками. Избыток влаги приводит и к заболачиванию почв: земля-мумия становится землей-утопленницей, также бесплодной для растений.
Вот почему в Голодной степи, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, большое внимание ирригаторы уделяют борьбе с фильтрацией. Здесь испытываются всевозможные «ловушки» для воды: машины трамбуют ложе каналов, чтобы сделать его водонепроницаемым, каналы одевают в бетонные и полиэтиленовые «рубашки». Есть в Голодной степи и «воздушные» водные магистрали — система железобетонных лотков, установленных на специальных опорах. С лотков вода подается к растениям по гибким брезентовым шлангам.
Орошение в Голодной степи идет рука об руку с мелиорацией. Проводя каналы, гидростроители одновременно закладывают в землю «насосы» — дренажные трубы, по которым рассол уходит из почвы в специальные сбросы.
Все это признак высокой культуры землеустройства. Наступление на Великую пустошь идет и на другом фронте — на юге Туркмении. Там уже протянулся на 540 километров Каракумский канал. Долгое время считалось, что провести канал через песчаную пустыню невозможно. Канал, дескать, «прозалится» в жадное, ненасытное чрево пустыни. Так казалось многим авторитетным гидростроителям. Казалось, но уже не кажется Канал принес свой звенящий груз на хлопковые поля Мургабского и Тедженского оазисов. В прошлом году гидростроители приступили к созданию третьей очереди канала — к концу семилетки аму-дарьинская вода разольется по бесчисленным ашхабадским арыкам.
Впереди идет вода, а следом расцветает, как горная роза, жизнь.
В Мургабском и Тедженском оазисах 17 тысяч гектаров пустыни аму-дарьинская вода превратила в живое зеленое море, по которому брызнули миллионы крупиц «белого золота». 17 тысяч — это только начало. Через 20 лет площадь поливных земель в зоне канала увеличится до 600 тысяч гектаров!
В степях, где нет хороших земель для создания хлопковых оазисов, сельские труженики снимают прекрасный «урожай»... каракулевых шкурок. Колхоз имени Жданова Калачского района с 1957 года заготовляет вдоль канала корм для овец и получает дополнительно тысячи ценных овчин. Золотым ручейком возвращает пустыня воду, которой напоил ее человек. Та самая пустыня, где четыре года назад верблюд улыбался от счастья, когда находил в песках вкусную колючку.
Комсомол среднеазиатских республик взял шефство над всеми работами по ирригации и освоению Голодной степи и зоны Каракумского канала.
...Весь среднеазиатский юг нашей страны тонет в гуле исполинских работ, преобразующих эту землю. Мы строим наше замечательное завтра, рассчитывая свои усилия на два десятилетия вперед. Какие же новые моря заплещутся в берегах через несколько лет? Какова стратегия наступления на Великую пустошь?
Киргизия... Страна гор и высоких вершин, в которые вцепились алмазные когти ледников. Отсюда, с ледяных круч, срывается стремительный Нарын — «отец» Сыр-Дарьи. Если построить на его пути, в северо-западном углу республики, Токтогульское водохранилище емкостью в 17 миллиардов кубических метров воды, то можно укротить строптивый нрав Нарына, а значит, обеспечить и более регулярное поступление воды в Сыр-Дарью. Возле Токтогула лежит теплая долина Кетмень-Тюбе. Она зазеленеет хлопковыми плантациями, закипит листвой кукурузных полей, наполнится пьянящим ароматом цветущих деревьев.
Водные ресурсы Сыр-Дарьи зависят не только от «отца» Нарына, но и от «матери» Карадарьи, протекающей по знаменитому хлопковому оазису — Ферганской долине. Можно «построить» в этой долине Кампыр-Раватское море емкостью в 960 миллионов кубических метров, и тогда уменьшатся колебания уровня воды в Сыр-Дарье, а хлопкоробы смогут оросить не одну тысячу гектаров пустынных земель, еще оставшихся в Фергане. Ярче засверкает ферганский бриллиант в короне среднеазиатских оазисов.
А земли Южного Казахстана? Пока эти огромные пространства подобны сухим ветвям у живого дерева природы. Эти ветви могут зазеленеть, если в среднем и нижнем течении Сыр-Дарьи построить два гидроузла — Казалинский и Яны-Курганский.
Много забот у небольшой речки Чирчик. Она обслуживает Ташкентскую область, орошая 335 тысяч гектаров полей. У хлопотливой «хозяйки» этого хлопкового оазиса в засушливый сезон не хватает воды. Хлопковые кустарники, эти изнеженные «дети солнца», переходят на голодный водный паек. Чирчику надо помочь — построить Чарвакское водохранилище емкостью в 1,2 миллиарда кубических метров воды. Призрак засухи навсегда отступит от ворот Чирчикской долины.
Полнее могут быть использованы и мутные воды Аму-Дарьи. Среднегодовой сток этой реки колеблется от 60 до 65 миллиардов кубических метров воды. 50—55 миллиардов из них могут работать на преобразование пустыни. Часть воды уже забирает Каракумский канал. Другую часть можно отвести в прямоугольники рисовых полей в нижнем течении реки. Перспективный план предусматривает создать в низовьях Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи новые районы рисосеяния с площадью орошаемых земель около 900 тысяч гектаров. На Аму-Дарье необходимо для этой цели построить два гидроузла — Тюя-Муюнский и Тахиа-Ташский.
Недалеко от Бухары лежит огромный массив плодородных земель — Каршинская степь. Кашкадарья не успевает добежать до ее границ — высыхает и теряется в песках. Ей должна помочь Аму-Дарья. Воду можно перекачать сюда по трубам, используя энергию Нурекской ГЭС.
Всё новые условные знаки ложатся на перспективную карту наступления на Великую пустошь.
Не забыто на этой карте и обводнение пастбищ. Для этого гидрогеологи уже «припасли» громадные подземные резервуары пресной воды, припрятанные природой.
Только на территории Узбекистана открыто более десяти подземных морей. И каких морей! В районе Голодной степи подземное море «разлилось» на 4 тысячи квадратных километров. Чтобы получить искусственное водохранилище таких размеров, надо два с половиной года сливать воды Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи в одну гигантскую чашу. Подземные моря могут обеспечить приток 500 кубических метров воды в секунду. Еще одна, «подземная» Сыр-Дарья придет на службу человеку. Благодаря ей ирригаторы смогут регулировать работу многих оросительных систем без создания дорогостоящих водохранилищ. Они пробурят тысячи скважин, построят колодцы, пруды и водоемы.
Человек создает природу земли. К 1980 году на огромных пространствах Казахстана и Средней Азии возникнет новый ландшафт, с новыми очертаниями воды и суши, садов и полей. Возникнет новый континент, континент изобилия...
Ю. Полковников
(обратно)
Курс на Кубу
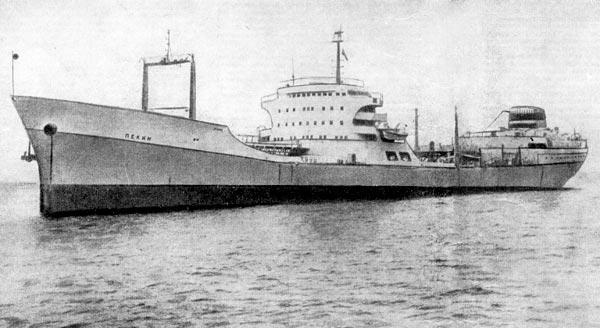
Пятая ночь пути. «Пекин» подходит к Гибралтарскому проливу в сплошном тумане. За смотровыми стеклами в рулевой — непроницаемая белая завеса. Каждые две минуты тревожно ревет сигнальная сирена...
Когда не спит капитан...
В штурманской над картой склонился капитан Борис Пименович Осташевский. Настольная лампа освещает его большие сильные руки. Ложатся на карту прямые линии, быстро шагает по ним циркуль. Дорога каждая минута, а расчет должен быть предельно точным. В проливе, где уйма встречных судов, туман особенно опасен.
— Засели, как коты в мешке. Еще, как назло, эти радары... Виктор Немятый, скоро их починим? — Капитан обернулся к четвертому штурману.
Сидя на корточках около радиолокационной установки, Виктор Немятый, не отрываясь, припаивает тончайшие нити сопротивлений. Его узкое лицо с упрямо сжатым ртом окутывается на секунду дымком канифоли.
Два часа назад неожиданно вышли из строя радары — всевидящие глаза судна. Потухли мерцающие экраны. А перед этим бегающий по их окружности тонкий зеленый луч улавливал много светящихся точек — встречные и попутные суда.
В густом тумане их можно определить теперь только по гудкам. Со всех сторон, как потерявшиеся в лесу люди, аукаются гудки. Иногда кажется, что это один и тот же гудок. То впереди, то сзади, то где-то сбоку. Хочется перекричать эти гудки: подождите, дайте разобраться, ведь мы идем вслепую!.. Но капитан различает каждый из них. Он весь обратился в слух. Он принимает решения в доли секунды. Он не имеет права ошибаться. Море не прощает ошибок.
— Отвечайте правому судну. Оно ближайшее. Слушайте только его гудки. Не путайте остальных. Держать двести шестьдесят один градус, — не взглянув на приборы, приказывает капитан.
— Есть держать двести шестьдесят один, — отвечает Петрусенко.
Капитан уверен в этом молодом матросе, не по годам сдержанном и точном в работе. Пока Петрусенко матрос. Но капитан знает об этом парне и другое: такой станет штурманом дальнего плавания. Обязательно станет!..
Туман рассеивается. Слева маяк Альмина, справа маяк Европа, — громко докладывает впередсмотрящий.
Полный вперед! — голос капитана звучит отрывисто. И вдруг неожиданно: — Вода-то как фосфорится! Красотища, а?
Вздрагивает, набирая скорость, стальной двухсотметровый гигант. Плотные, как пласты чернозема из-под плуга, откидываются разрезанные форштевнем водяные валы. С африканского и европейского берегов подмигивают два широко расставленных глаза — маяки.
Туман дал передышку. Но он идет волнами, и эти минуты — короткий просвет.
— Вы бы отдохнули, Борис Пименович.
Какой у капитанов отдых в такие ночи! Кулак на стол, голову на минуту приклонишь — вроде бы и выспался.
Капитан опускается в кресло. Морщины резче проступают на его лице. В первый момент кажется, что он заснул. Но нет, глаза под косматыми, чуть с сединой бровями по-прежнему зорко следят за приборами. В чуткой тишине штурманской, похожей на лабораторию ученого, капитан слышит и видит все, что происходит сейчас на мостике. Ему знакомы и близки ощущения молодых ребят, которые несут в эту ночь вахту. Напряжению сжав в руках бинокли, они всматриваются в даль. Они горды тем, что Родина им доверила пойти в этот рейс и доставить на далекую Кубу нефть. Она нужна там сейчас, как хлеб.
— Видимость резко ухудшилась. Впереди по курсу два судна, — послышалось из рулевой.
Как рукой сняло усталость у капитана. В иллюминаторах — «молоко». Трудно поверить, что только сейчас были видны звезды, море, маяки. До звона в ушах ревет сигнальная сирена. Ей вторят гудки — один, другой, пятый... Опасно не только столкнуться. Каждые пять минут Осташевский проверяет по приборам и картам глубину: быстрое течение может занести судно на подводные камни, даже такую громадину, как «Пекин», водоизмещением 40 тысяч тонн. А в танках — сырая нефть.
Внезапно прямо на носу взревел гудок молчавшего до сих пор судна. Сотая доля секунды дана сейчас капитану:
— Полный назад!
Слова ударили молотом. Казалось, они еще звучали. Характерный треск телеграфа, передающего сигнал в машинное отделение, уже возвестил, что штурман исполнил приказ.
В рулевую вошел Виктор Немятый.
— Радары починены.
— Включайте. А потом — спать.
Ярко вспыхивают экраны. Судно прозрело. Туман как будто ждал этого. Начал отступать. Судно плывет среди туманных клочьев, похожих на разорванные облака.
На мостик поднимается старший штурман Юрий Борисович Димов. О трудной ночи спрашивать нечего, знает:
— Проклятый туманище!
— Проклятый? — переспрашивает капитан. — Не всегда проклятый. Я помню, в войну мы часто надеялись на туман...
...Темным конусом на посветлевшем утреннем небе вырисовывалась скала — английская военная крепость «Гибралтар». Борис Пименович долго и пристально смотрел в ее сторону. Он думал о том же, о чем думали сейчас все на мостике: людям не нужны эти ощерившиеся из скалы жерла орудий, эти тоннели, ведущие к тайникам смерти.
— Подходящее соседство для франкистской Испании, — с горечью заметил Осташевский. — Знаете, в сотый раз прохожу испанские берега и всегда ясно, как будто вчера было, вижу осень тридцать седьмого.
В то утро капитану было не до рассказов. Я узнала эту историю днем позже.
...Это случилось в Эгейском море. Осенью 1937-го. В те дни далекая героическая Испания стала близкой сердцу каждого из нас. Советский танкер «Варлаам Аванесов» возвращался из Нанта, куда доставил груз для испанских патриотов. Танкером командовал капитан Осташевский.
Это случилось, когда огромный раскаленный шар солнца опускался в море. Море заснуло в штиле. Впереди только одно судно — испанский лайнер «Сиудад де Кадис» под флагом республики. Вдруг он резко накренился. Над морем поплыл сигнал бедствия. А через несколько минут почти рядом с «Сиудад де Кадис» вынырнула рубка подводной лодки. Фашистский пират торпедировал мирный корабль, а теперь начал обстреливать его из пулеметов. Фонтанчики от пуль тянулись к шлюпкам, на которых спасались люди. У капитана не было времени думать: друзья в беде. Никто другой их не спасет. Но и погибнуть тоже можно...
— Поднять сигнальные флаги! Идем на спасение экипажа! — скомандовал Осташевский.
Весь экипаж затонувшего судна был спасен. «Варлаам Аванесов» снова лег на свой курс, к родным берегам. К капитану подходили моряки: каждый хотел отдать свою каюту спасенным. Но испанцы не хотели стеснять своих друзей. И тогда капитан решил: пусть оба экипажа разместятся на палубах...
Вечерами наши ребята пели испанцам русские песни и вместе, под гитару, песни их героической родины. Москва присылала приветствия, регулярно запрашивала о здоровье спасенных.
И вот, наконец, Туапсе. Встречать танкер пришел весь город. Цветы, цветы... Море цветов. И тогда испанский капитан Франциско Мугартеги обернулся к скромно стоящему в стороне человеку, капитану «Варлаама Аванесова» и сказал: «Спасибо!..» А спустя несколько месяцев на имя Осташевского пришла посылка из далекой Испании. Серебряная доска на куске пальмового дерева, а в середине слова: «От спасенных — спасителю». Ниже — семьдесят девять подписей...
Я вспоминаю сейчас этот рассказ и думаю о сегодняшних днях Кубы. Испанскую республику задушил фашизм. Это было двадцать четыре года назад. Многое изменилось за эти годы в мире. Народы творят историю, и она учит миллионы людей видеть правду. История не повторяется...
Днем тихо, чтобы не побеспокоить, я заглянула в кабинет Бориса Пименовича. Уютно устроившись в кресле, в теплой куртке и мягких домашних туфлях, он сидел и читал своего любимого Станюковича. Рядом наготове лежали «рабочие» очки.
— Заходите, заходите! Знаете, о чем я всегда думаю, читая Станюковича? О замечательных традициях русского флота, которые переданы по эстафете советским морякам.
И он начал говорить. Слушать его можно было бесконечно. Слушать и завидовать молодежи, у которой такой учитель. Он говорил о годах революции, когда кончал Одесское высшее училище торгового мореплавания. Тогда начальник училища отставной адмирал Гаврищев поучал выпускников: «Товарищи, здесь вы прошли школу № 1. Суровая и трудная школа № 2 — море, ваш корабль...»
После разговора мы спустились в кают-компанию обедать. Плафоны, похожие на лепестки большого тюльпана, матово поблескивали на светлых, под карельскую березу, стенах. Просторный овальный зал, низкая современная мебель. Картины с видами Ленинграда — там строился «Пекин».
— Приятного аппетита! Разрешите, Борис Пименович? — так спрашивают каждый раз, как спрашивают за отцовским столом.
— Ну и ночка сегодня!..
Капитан строго взглянул на сказавшего эти слова — говорить за обедом о делах запрещено.
Обыденный на первый взгляд ритуал. Я слыхала раньше об однообразии судовой жизни, где якобы день похож на другой, как два близнеца. Но это на первый взгляд. В плавучем доме, оторванном временно от родных берегов, жизнь бьет ключом. Здесь каждому безгранично дороги дела, интересы, жизнь товарища. Друзья — они часами могут спорить о книгах, о странах, в которых бывали. Взыскательные друг к другу, они осудят просто молчанием.
...Шестая ночь пути. Позади Гибралтарский пролив — «двери» Атлантики. Океан начинал волноваться, покачивая судно.
«Пекин» идет на Кубу!
Море зовет...
Мы часто говорим о призвании, которое определяет жизнь человека. Порой оно приходит очень рано, в детстве. Как завороженный, смотрит мальчишка на летящий в небе самолет. И вдруг сердце его пронизывает волнение. И впервые он чувствует, как это прекрасно — летать! Далекий путь ждет его теперь. И если он нашел свое истинное призвание, то должен пронести его через все трудности, сделать счастьем и целью своей жизни.
Я думала об этом, когда «Пекин», миновав Гибралтар, вышел в Атлантику. Здесь, на танкере, я узнала людей, для которых призвание не слова. А если уж заходил разговор о человеческой судьбе, они говорили о себе коротко: море зовет!
...Две дорожки, сложенные из камней, уходили с берега в море, отделяли порт от «свободной» воды. Самым любимым у Сережки был большой плоский камень, весь покрытый изумрудным ковром водорослей. Здесь он просиживал часами.
Под флагами далеких неведомых стран заходили в порт океанские корабли. От беспрерывного движения в порту ему казалось, что он тоже плывет на своем камне, что это его корабль, а он капитан. Именно здесь и решили они с Игорем дать друг другу клятву. Договорились: поймать медузу, откусить от нее по куску, потом поклясться. Вот медуза. Раз, два, три!.. Будто тысячи иголок впились в язык. В мгновение он стал огромным и неподвижным. Вместо слов получалось сплошное мычание, а из вытаращенных глаз хлынули слезы. Что ж, зато теперь они моряки. Отныне и вовек.
Каждое воскресенье по улицам Одессы шагали двое. Подтянутый прямой старик — дед Николай Павлович, работник охраны Одесского порта, и курносый, губастый, смотрящий исподлобья мальчишка — его внук Сергей. На мальчишке большая фуражка с якорем и короткая курточка с золотыми пуговицами. Все как подобает моряку, принявшему клятву. Они идут на набережную, где дед, аккуратно расчесав гребешком усы, заведет разговор со стариками в синих, выгоревших на солнце кителях. Сережка садится рядом. Он готов хоть целый день слушать рассказы о далеких морях, о двенадцатибалльном шторме. Как доказать старикам, что ветры и штормы ему, Сережке, нипочем? Ведь в любую погоду он плавает, как рыба!
Отец бывал дома редко. Он служил механиком на танкерах. Каждый его приезд отмечался дома как праздник. Лицо у матери молодело. Она готовила свое «коронное» блюдо — гуся с яблоками. А Сережка подходил к огромной карте мира, вытаскивал флажок из черной точки Сингапура и втыкал в кружочек, обозначающий Одессу: отец вернулся.
Высокий, крутолобый, весь пропахший морем, он подхватывал сына крепкими руками и поднимал над головой:
— Дождался, морячок с ноготок?
— Не путай его, Миша, он врачом будет. Хватит. Одного всю жизнь встречаю да провожаю, — неизменно вставляла мать.
Сережка очень любил ее, и после этих слов всегда лишь на одно мгновение закрадывалось сомнение в детскую душу. А потом его глаза встречались с отцовскими. Нет, он будет моряком решено!
* * *
Громкий голос объявил по радио, что третьего механика Сергея Хмелевского просят зайти в машинное отделение.
Думаю, что многих поразило бы в первый раз это величественное царство машин. Семиэтажный плавучий завод. Хотите — спускайтесь сюда в комфортабельном лифте, хотите — по легкому, головокружительно бегущему вниз трапу. Трудно себе представить, что там, за этими стальными переборками, беспросветная ночь океанских глубин. А здесь, в залитых светом цехах, мир современной автоматики.
Гигантская паровая турбинная установка величиной с небольшой трехэтажный дом запрятана в стальной черный колпак. Невидимый ротор делает 4 800 оборотов в минуту. Для такого типа судов это самая мощная турбина в мире. Мы встречали в рейсе корабли крупнейших морских держав, но ни один из них не смог обогнать наш «Пекин».
Сергей ведает на танкере котельной установкой. В так называемом горячем цехе высятся гиганты котлы. Их топки поглощают в сутки тысячи тонн жидкого топлива, два миллиона кубометров воздуха. Один такой котел мог бы «кормить» двадцать паровых машин на судах старой конструкции. Помню, что первые дни плавания эти сухопутные понятия — завод, горячий цех — как-то не увязывались у меня с профессией моряка. Моряк — профессия особая.
Много дней подряд бушевал шторм. С грохотом накатывались на палубу гигантские волны, заплетались у носа белые космы шипящей пены. Даже внизу, в машинном отделении, с трудом можно было устоять на ногах. Вахтенный механик, машинисты работали, держась рукой за специальные поручни. В любую секунду могут передать с мостика сигнал. И тогда...
В машинном отделении вспыхнула лампочка, резко затрещал сигнал. Вахтенный механик Сергей Хмелевский — у пульта управления турбины. Доля секунды — команда выполнена. В такой момент рассуждать некогда. Человек должен «слиться» с машиной. От его находчивости, силы воли, мгновенно собранной в кулак, зависит порой многое.
Когда-то мальчик, влюбленный в море, ставил себе задачу: плыть, не боясь волн, дальше всех. Потом, попав впервые практикантом на судно, собирал все силы, чтобы «не ныть», если было очень трудно. Теперь его мысли и рукам подчиняются машины флагмана советского наливного флота.
Нас здесь ждали!
Шесть с лишним тысяч миль прошли мы от родных берегов. Встречались нам в пути суда американские, английские, голландские, бельгийские. Под разными флагами шли они. Разные цели вели их по океанским просторам.
Несколько лет назад докеры Порт-Саида отказались разгружать заокеанский лайнер, доставивший американские «дары» Египту. Докер Али-Ахмет сказал, что еще дымятся руины Порт-Саида, что морской прибой еще не смыл крови, пролитой за независимость. Он говорил:
— Когда лилась эта кровь, янки выжидали. Теперь слышится лязг их якорных цепей. Остерегайтесь — это цепи рабства! Мы против флагов янки у порога земли наших предков!
Не награбленные богатства, не ракеты и бомбы перевозятся в трюмах советских судов! Нет! Уголь, руда, нефть, стальные конструкции для заводов Индии и Асуанской плотины, станки-автоматы, оборудование для университетских лабораторий. Вот почему советский флаг на мачте корабля с улыбкой радости приветствуют люди.
...«Пекин» подходил к Гаване на рассвете. Казалось, огромный город не спал. Не спал, потому что рабочий день революции — двадцать четыре часа.
Еще не спустили трапа, еще громкий голос капитана отдавал последние приказания, а десятки дружеских рук уже тянулись к нам с причала. Один из портовых рабочих свернул рулончиком какую-то газету и привязал к ней грузик. Видимо, он приготовил газету заранее, и теперь ему хотелось доставить ее нам побыстрее. Рулончик долетел до палубы. Мы развернули его. Это оказалась «Нотисиас де ой». Красным карандашом были подчеркнуты в ней строки. Вот их перевод: «В борьбе за нефть, развернутой маленьким народом Карибского моря, Куба одержала победу с помощью славных советских парней — моряков. Они стоят в передовых рядах великой армии всемирной солидарности, которая вместе с нами ведет борьбу против империализма...»
Т. Агафонова
(обратно)
Каюкеро реки Тоа

Говорят: «Бурная река — прибыль рыбакам». Марио Инохоса не согласен с этой пословицей. И у него есть на то особые причины.

Марио, быть может, лучше других знает, что такое бурная река. Он каюкеро — речной извозчик. Вот уже двадцать семь лет на своем «каюке» — небольшой лодке с плоским дном, без осадки — бороздит он глубокие воды Тоа, самой бурной кубинской реки.
За это время не один его товарищ по ремеслу погиб на дне реки. Водовороты на Тоа подобны страшным змеям — они обвиваются вокруг каюка и душат его.
Товарищи Марио знали, что битва с рекой может кончиться для них смертью. Но для них, безземельных крестьян, Тоа служила единственным источником пропитания.
В этом районе не было других путей сообщения, кроме реки. Все, чем богаты горы, окаймляющие плато Баракоа, — кедр, красное дерево, бананы, кофе, какао и апельсины, — везли вниз по течению лодки каюкеро.

Однако теперь Марио разделяет свое старое ремесло с другим — ремеслом земледельца.
Недалеко от хижины, которой тысячи раз угрожали наводнения, на небольшом холме, окруженном бамбуком и пальмами, старый речной волк вспахал землю. Эту землю дала Марио Республика. И вскоре он соберет с нее первый урожай риса.
Цивилизация придет — она уже приходит — к крестьянам реки Тоа, которым никогда не доводилось видеть паровоз и самолет. Настанет день, когда здесь появятся шоссейные дороги. Это будет неплохим подарком Марио и его товарищам за их долголетний самоотверженный труд.
Сантъяго Кардоса Арнас
Сокращенный перевод Татьяны Хаис
(обратно)
Тадж-Махал

У тюремного окна стоял старик. Шесть лет назад имя его повергало в трепет миллионы людей, он был властителем могучего государства, султаном Шах-Джеханом, Великим Моголом.
Шесть лет назад, в 1658 году по христианскому летосчислению, воспользовавшись болезнью Шах-Джехана, восстал его сын Аурангзеб. В гражданской войне он убил одного за другим всех своих братьев, а потом добрался и до отца. До конца своих дней старик не вышел из тюрьмы.
Окно-бойница в метровой толще стены. Кусочек светлого мира, видимый старику, не вмещал в себя ни рыжих долин, ни темных кущ деревьев у храмов, ни глиняных кубиков деревенских домов. В тяжелую каменную раму окна был вписан лишь белый, легкий, как облако, Мумтаз-Махал, мавзолей давно умершей жены Шах-Джехана, построенный по приказу Аурангзеба. И вид мавзолея, совершенство строгих линий его смягчали горькие мысли старика.
* * *
— Ну, кому в Агру, кому в Агру?
Шоферы-сигхи качают тюрбанами, стоя у светлых «фордов» и «шевроле».
Нам в Агру. Нам обязательно надо увидеть мавзолей Мумтаз-Махал, известный всему миру под названием Тадж-Махал. Мало кто знает что-либо о Шах-Джехане и его жестоком сыне Аурангзебе, но с детства мы слышали о чуде света — несравненном Тадже, одном из самых совершенных произведений мирового искусства.
Тадж-Махал находится в городе Агре, в ста с лишним километрах от Дели. Там был центр империи Великих Моголов.
Мы выгребли из карманов рупии: рупий хватало. Машина развернулась под тенью ветвистых деревьев и мягко помчалась к арке Независимости и дальше, мимо новых районов Дели, мимо аэродрома. Мелькнул уткнувшийся в небо громадной трубой Кутб-Минар. высочайший минарет мира. Шоссе бежит по сухой индийской равнине, где на протяжении тысячелетий сменяли одна другую цивилизации, где почти каждый холм — след города и крепости, стоявших здесь сотни лет назад.
Вот и сейчас мы едем мимо руин и холмов, под которыми угадываются основания башен. А рядом хижины деревень. Поля пусты — зима.
Внимательный взгляд заметит здесь и черты новой Индии: женщины у амбулатории — через открытое окно видна сестра в халате и с марлевой повязкой на лице; столбы электропередач шагают к горизонту; школа, мальчики в синих штанишках, с грифельными досками под мышкой.
И вдруг оказываемся в городе Агре, обыкновенном индийском городе средних размеров, давно позабывшим бы, не будь здесь Таджа, о своем великом прошлом. Те же, что и в любом другом городе, многочисленные лавки, шумная толпа на улицах, худые ноги грузовых рикш, укротитель змей.
Могучие стены крепости. В ней и была тюрьма Шах-Джехана. Но вот и Тадж-Махал.
Широкая площадь перед входом на его территорию заставлена машинами, сверкает красками сари, товарами бродячих торговцев.
Среди туристов не только иностранцы. Очень много индийцев. Они приезжают сюда со всех концов страны, чтобы полюбоваться чудом, созданным руками мастеров из народа.
Когда с детства видишь картинки с изображением того или иного памятника искусства, в уме складывается определенное представление о нем. Воображение дополняет картинку, что-то меняет в ней, но если потом приходится увидеть оригинал своими глазами, то оказывается, что он не совсем таков, каким, казалось, должен был быть, каким его представлял. Иногда испытываешь разочарование...
Мы прошли под аркой ворот. И остановились.

Тадж-Махал был таким, каким мы его видели на фотографиях и картинах: те же минареты и те же купола — один большой в середине и пять маленьких, прижавшихся к нему. Но ни фотографии, ни картины не могли передать его удивительной легкости: стены и купола будто висели в воздухе. Ровная водяная дорожка вела к подножию мавзолея, и Тадж отражался в ней, такой же легкий, такой же невесомый. Разочарование было более чем приятным.
Несколько минут мы стояли у ворот, стараясь впитать в себя поэзию здания, насладиться этой песней красоты, созданной триста лет назад.
Как-то мне попался в руки учебник по истории архитектуры. Учебник был старый, прошедший через множество студенческих рук. Рассматривая фотографии, я дошел до изображения Тадж-Махала. Один из бывших хозяев книги, движимый недоверием к авторитетам, взял линейку и провел карандашом несколько линий на фотографии. И хотя он и испачкал книгу, зато убедился в удивительном мастерстве строителей мавзолея.
Учебники архитектуры не ошибаются — Тадж-Махал построен так, что его полная высота равна ширине фасада, то есть он точно вписывается в квадрат со стороной в 75 метров, причем высота портала равна половине высоты здания. Линий можно провести великое множество и обнаружить еще столько же закономерностей и соответствий в пропорциях Таджа.
Конечно, ни мы, ни другие «паломники», глядя на Тадж, не вспомнили о геометрии здания. И в этом главная заслуга строителей его. Возведя сооружение, удивительное по своим пропорциям, они добились того, что зритель не видит ни квадратов, ни пропорций — он ощущает красоту...
Идешь вдоль узкого бассейна и видишь, как растет Тадж. Его уже нельзя охватить одним взглядом. Начинаешь присматриваться к деталям: в белом мраморе стен вкраплен местами орнамент из красного песчаника, он не назойлив, и замечаешь его только вблизи.
Внутри Тадж-Махал не так строг и лаконичен. Перед вами возникает громадный роскошный ковер: стены, пол, надгробья (Шах-Джехана похоронили рядом с женой) инкрустированы полудрагоценными камнями. Ветви сказочных деревьев переплетаются с цветами, причудливыми узорами разбежались по стенам листья и лепестки. Инкрустация сделана по тому же белому теплому мрамору, из которого сложен весь мавзолей, и камни слегка светятся красными, зелеными, голубыми огоньками. Двадцать тысяч рабочих, художников, резчиков трудились над созданием Таджа в течение восемнадцати лет.
Когда мы говорим о Тадже, то имеем в виду не только здание самого мавзолея. Зритель видит комплекс зданий, мавзолей — центр его. В этот комплекс входит и платформа, на которой стоит мавзолей, и четыре одинаковых минарета по углам ее, и большая платформа, вмещающая не только Тадж с минаретами, но и мечеть и крытую галерею, сложенные из красного песчаника. Они красивы и сами по себе, но архитектор специально выбрал для них не белый мрамор, а красный песчаник, чтобы эти здания отступали на второй план, не мешали восприятию Таджа, — своей скромностью они только подчеркивают его блистающую белизну. В комплекс Тадж-Махала входит и большой сад с бассейнами и фонтанами, распланированный так, чтобы лучше смотрелся мавзолей. Все подчинено центральному зданию. Без сада, бассейнов, минаретов, красных зданий Тадж очень много потерял бы, с ними же он кажется совершенством.
Постройка Таджа была событием государственного значения. Архивы Великих Моголов дают нам теперь возможность представить, как она происходила.
Сначала был созван совет. Гонцы поскакали во все соседние страны, приглашая к императору Индии лучших каменщиков, архитекторов, художников и каллиграфов. И съехались в Агру мастера из Шираза и Самарканда, из Бухары и Багдада. Они встретились здесь с лучшими мастерами индийцами.
Были привезены планы и чертежи всех выдающихся сооружений известного индийцам мира (об этом так и написано в хрониках), были испробованы и отброшены многочисленные варианты. Нужно было построить мавзолей, равного которому нет во всем свете. В конце концов остановились на проекте индийского архитектора Устад-Иса. Он предложил вариант, который понравился всем мастерам. Император приказал вырезать из дерева модель будущего здания. И когда она получила одобрение, началась подготовка к строительству.
Сгонялись рабочие, в карьерах Раджпутана выпиливались глыбы белого мрамора, мастера чертили линии будущих куполов...

Вот сильно сокращенный список руководителей строительства, мастеров, отвечавших за различные работы. Каменщики приехали из Дели и Кандагора архитекторы Хан Руми из Константинополя и Шариф из Самарканда руководили возведением центрального купола, им помогал мастер из Лахора; декоративными работами ведали делийские и бухарские мастера; садовод прибыл из Бенгалии; каллиграфисты и художники — из Дамаска, Багдада и Шираза. Главным архитектором был местный мастер Устад-Иса, автор проекта.
Достаточно прочесть список, чтобы понять, чем объясняется то, что Тадж-Махал сочетает в себе все лучшее, чего достигла к тому времени архитектура Востока — ведь опыт Бухары, Дамаска, Самарканда, Багдада, Шираза был принесен на строительство лучшими мастерами тех городов. Понятно и почему Тадж-Махал остался неповторимо индийским — добрая половина мастеров была из Индии, индийцем был главный архитектор, индийцами были и все рядовые художники, резчики и рабочие.
Мне кажется, никто из строителей не думал о том, что они строят именно мавзолей, погребальное сооружение жены императора. Ведь результатом их труда явился гимн жизни. Тадж утверждает красоту живую, человеческую, недаром так часто звучит смех в саду у Тадж-Махала...
Ночью мы еще раз пришли к Таджу. У ворот покачивались язычки свечей, зажженных торговцами. Мы встретили тех же людей, с которыми виделись днем. Там были и ребята из колледжа — они написали нам свои адреса, чтобы мы передали их московским студентам; и старик сигх, бывавший в Бхилаи, — он долго тряс наши руки, повторяя русские слова приветствия; и солдат с девушкой в белом сари. Мы все чувствовали себя старыми знакомыми, красота действует на людей одинаково, откуда бы они ни были родом.
Светила луна, светила по-южному ослепительно. Она обливала голубым светом несравненный Тадж и покачивалась в бассейне.
Игорь Можейко
(обратно)
Содружество миров
Темой нашей пятой беседы будет старый и знаменитый вопрос. Давно уж волновал он и будоражил умы, и сегодня вопрос этот звучит с особенной, притягательной силой.
Если человек собирается проникнуть глубоко в космос, если люди готовятся сделать поприщем своего труда и звездные миры, то не неизбежен ли такой момент, когда земное человечество встретится, войдет в соприкосновение с разумными жителям» других миров?
Настало время для того, чтобы вдумчиво рассмотреть и эту проблему, взвесить и оценить ее последствия.
Но сначала несколько основных фактов.
Каким» данными располагает сегодня наука по вопросу о разумной жизни в космосе?
В самом общем виде вопрос этот был давно поставлен, и ответ на него звучит так. Мир един, материя в космосе развивается, проходя через одни и те же качественные ступени. Возникновение живого из неживого происходит везде и всюду там, где для этого имеются подходящие условия. Жизнь, развиваясь и усложняясь, порождает свой высший цвет — разум. Разум, в материальной основе которого находится самое сложное и самое драгоценное из веществ природы — вещество головного мозга!
Но где именно можно рассчитывать встретить в космосе очаги разумной жизни? Где искать их?
В самые последние годы наука о строении и развитии звезд — астрофизика — нащупала твердую почву для ответа на этот вопрос.
Начну с того, что для развития жизни прежде всего необходимы тепло и свет. 10—40 градусов по Цельсию — вот тот промежуток температур, который наиболее благоприятен для белкового вещества жизни. Найти эти температуры можно только на планетах, да и то не на всех. Нужна планета, кружащаяся не слишком далеко и не слишком близко к согревающему ее светилу. Иначе леденящий холод или чрезмерная жара погубят ростки жизни. В нашей солнечной системе, пожалуй, только Земля движется в зоне, которую можно назвать «зоной комфорта» для жизни! Но ведь, кроме нашего Солнца, есть еще мириады других солнц. Это звезды. И вокруг них должны быть свои планеты.
Астрономы сегодня могут уже с известной долей уверенности сказать, какие именно звезды, вероятнее всего, окружены свитой планет. И сколько таких звезд в Млечном Пути.
Американский астроном Отто Струве сделал недавно замечательное открытие. Он исходил из факта, который давно уже обратил на себя внимание ученых. Дело в том, что в нашей солнечной системе есть одна очень характерная особенность. Солнце, сосредоточившее в себе львиную долю массы, — оно в тысячу раз массивнее всех планет, вместе взятых, — в то же время обделено вращательным движением. Оно крутится вокруг своей оси крайне медленно — совершает один оборот за 27 суток. Произошло это, очевидно, потому» что почти все вращение «забрали» себе планеты. Подсчитано, что если бы все количество вращательного движения, которое содержится в Солнце и в планетах, было передано одному Солнцу, тогда оно вертелось бы вокруг оси в пятьдесят раз быстрее, чем сейчас!
Профессор Струве решил проверить, с какой быстротой вращаются звезды разных типов. Измерять осевое вращение далеких светил впервые научился знаменитый русский астрофизик Аристарх Аполлоновим Белопольский. Было это более полувека назад. С тех пор добавилось много новых данных. И вот Струве обнаружил нечто, что глубоко поразило и взволновало астрономов. Все обследованные им звезды разбились на две группы примерно одинаковой численности. В одной группе оказались светила, вращающиеся в точности так, как наше Солнце. А в другой — звездные «волчки», крутящиеся примерно в пятьдесят раз быстрее. Никаких постепенных переходов! Либо вращение по солнечному образцу, либо в пятьдесят раз быстрее. Трудно отделаться в таком случае от мысли, что водораздел между двумя этими группами звезд проходит как раз по признаку: «есть планеты» и «нет планет». И если этот вывод правилен (а все новые данные говорят за то, что он правилен), тогда примерно половина всех звезд Млечного Пути оказывается окружена планетами. И это дает надежную базу для поисков жизни в космосе.
В самом деле, что касается «сырьевого материала» для возникновения жизни, то он во вселенной везде и всюду! Это водород, углерод, кислород, азот и другие элементы, из которых состоит белковое вещество жизни. Они всюду. Они замешаны в тех темных и холодных облаках межзвездной пыли и газа, из которых образуются звезды и планеты. Там, в этих облаках, как выяснено недавно, всегда есть вода, углекислый газ, метан, аммиак (в виде замерзших льдинок, конечно). Там есть, вероятно, и еще более сложные вещества, которые можно считать уже не сырым материалом, а настоящим «полуфабрикатом» жизни! Это так называемые полипептиды, те кирпичики, из которых строятся еще более сложные белки жизни. В составе нескольких выпавших на Землю метеоритов найдены были недавно следы полипептидов. Образовались они, несомненно, там же, в облаках холодной космической пыли, в результате столкновений и постепенного усложнения простых частиц вещества. Так что, стоит только возникнуть звезде и около нее планете, как «закваска» жизни там уже налицо. И наука сегодня не сомневается больше, что жизнь в космосе (по крайней мере в простейших ее формах) — это столь же естественное и регулярное состояние
материи, как, скажем, газ и пыль между звездами, как раскаленное вещество звезд, как холодная кора планет.
Но тут возникает серьезный вопрос. Путь от простейших форм жизни, от каких-нибудь комочков белковой слизи до разумных существ — дистанция огромного размера! Каковы шансы, что путь этот пройден где-нибудь, кроме Земли?
Картина здесь получается примерно такая. История жизни на Земле от белковой молекулы до человека заняла не менее трех с половиной — четырех миллиардов лет. И предпосылкой для этого был прежде всего ровный и постоянный свет Солнца. Если бы Солнце все это время светило неровно, если бы оно давало резкие вспышки и затухания (а такие колебания яркости характерны для многих звезд), тогда жизнь на Земле не продвинулась бы далеко. Эволюция прервалась бы, оставив после себя окоченевшие от холода либо пострадавшие от перегрева трупы живых существ. Значит, далеко не всякая звезда способна дать приют высокоразвитой жизни. Необходимо светило, которое на протяжении долгих миллиардов лет сияло бы ровным и достаточно мощным светом. Астрономы произвели недавно тщательный отбор «подходящих» в этом отношении объектов. Оказалось, что около шести-восьми процентов всех звезд Млечного Пути способны обеспечить подходящие условия для эволюции жизни (к этим звёздам принадлежит и наше Солнце). И что самое замечательное, подавляющее большинство их вращается медленно. А это, как уже говорилось, верный признак того, что там есть планеты.
Итак, примерно пять-шесть процентов. Я повторяю, речь идет о тех звездах, где можно рассчитывать встретить разумную жизнь. Сколько же это получается всего? В Млечном Пути насчитывается около двухсот миллиардов светил. Пять-шесть процентов от двухсот это десять-двенадцать. Итак, возможны десять-двенадцать миллиардов человечеств, подобных нашему, в одном лишь пространстве Млечного Пути! Где искать их?
Среди мерцающих на ночном небе звезд три слабые лучистые точечки привлекают сегодня особенное внимание. Это звезда Эпсилон в созвездии Эридана, затем Эпсилон в созвездии Индейца, и еще — звезда Тау в созвездии Кита. Самый осторожный скептик не Мог бы удержаться от признания поражающего их сходства с нашим дневным светилом! Лучистый поток, льющийся от этих трех звезд, весьма напоминает солнечный. Масса — почти такая же, как у Солнца. Размеры — тоже. По своему положению в пространстве они принадлежат к числу самых близких к нам звезд. Но с расстояния в одиннадцать световых лет (световой год — около десяти триллионов километров) они выглядят на земном небе как скромные звездочки четвертой величины. Совершенно так же выглядело бы и наше ослепительно яркое Солнце для тех, кто, может быть, в эти самые мгновения созерцает свое небо с одной из планет, кружащихся вокруг Эпсилон Эридана или Тау Кита!
Догадываются ли они, что мы думаем сейчас о них? Что земное человечество в своем развитии переходит к коммунизму, который утверждает на Земле Мир, Труд, Свободу, Равенство, Братство и Счастье всех народов?
Может быть, сами они, обитатели этих далеких миров, прошли уже этот путь борьбы за свое светлое будущее? И, может быть, бесчисленное множество цивилизаций, достигнув высшей зрелости, уже научились прокладывать пути друг к другу?
Если дело обстоит так, тогда включение в эту цепь дружеских связей земного человечества — только вопрос времени.
Я сказал: дружеских связей. Да, есть все основания предполагать, что контакт между обществами разумных существ не может быть чем-либо иным, кроме как братским сотрудничеством.
На чем основывается эта уверенность?
Прежде всего на данных астрофизики.
Наше центральное светило — Солнце — и наша планетная система, включая Землю, сравнительно очень молоды. Их возраст около пяти миллиардов лет. Впереди у нашего Солнца по крайней мере еще сорок пять — пятьдесят миллиардов лет. Нужно пояснить, что возраст звезд довольно точно вычисляется по содержанию в них легчайшего химического элемента — водорода. История звезды есть история постепенного «выгорания» водорода — речь идет, конечно, не о простом горении, а о ядерной реакции превращения водорода в гелий.
Так вот, Солнце и Земля молоды. А человечество еще неизмеримо моложе! Первые люди на Земле появились около миллиона лет назад. И из этого миллиона не меньше девятисот девяноста тысяч лет падает на первобытную дикость, рабство и феодализм, на донаучные мифы и младенческое состояние науки.
В чрезвычайно остроумной и образной форме это положение вещей обрисовано профессором Джоном Берналом, знаменитым английским ученым и борцом за мир.
Бернал вводит — для наглядности — новый масштаб времени. Он предлагает считать миллион лет за один год. И, во-вторых, он принимает за начальный момент отсчета 12 часов — полдень — сегодняшнего, дня. Тогда, в этой новой, условной шкале времени, человечество появилось «год назад». Земледелие возникло «неделю тому назад». Первые иероглифы были изобретены «позавчера». Буквенная письменность стала достоянием людей «вчера». Колумб открыл Америку «сегодня в 7 часов утра». Первую паровую машину изобрели «в 10 часов утра». Телеграф и телефон появились «в 20 минут двенадцатого». Радио и автомобиль были изобретены «без 25 минут 12». Атомная энергия оказалась впервые использованной «без шести минут 12». И, наконец, первый искусственный спутник Земли взлетел «минуту тому назад»! Это в прошлом. А впереди, в будущем, у Солнца и Земли — и, значит, у человечества — еще 45—50 тысяч лет, по берналовскому счету времени.
Итак, картина получается совершенно отчетливая. Из всей прошлой и будущей истории планеты на эпоху младенческого состояния человечества приходится ничтожный отрезок — какая-нибудь пятидесятитысячная доля времени (миллион из 50—55 миллиардов лет). А на период перехода к тому, что будет подлинной историей, — еще меньше. Ведь время, которое истекло от начала Великой Октябрьской социалистической, резолюции до наших дней (когда лагерь социализма объединяет уже более миллиарда людей), меньше чем пол зека!
Так или иначе, на нынешний период социального (и одновременно научно-технического) скачка придется совсем уже исчезающе-малая, какая-нибудь полумиллиардная дробь от всей прошедшей и будущей истории нашей планеты. Но чем короче отрезок развития, тем меньше шансов случайно застать где-нибудь в Млечном Пути цивилизацию, проходящую именно этот отрезок.
В чаще звезд имеются светила всех возрастов. И простой подсчет показывает, что из нескольких миллиардов предполагаемых очагов разума в каждый данный момент совершают свой переход от младенчества к зрелости лишь отдельные единицы. Немногим большее число обществ пребывает в состоянии младенчества — в том состоянии, когда нет ни развитой техники, ни зрелой науки, ни уровня мышления, необходимого для участия в космических связях. И, наконец, гигантски преобладающее большинство цивилизаций, по расчету вероятности, несомненно, успело перейти на самые высокие ступени социальной гармонии и технической мощи! Именно с ними, со «старшими братьями» по духу, по разуму, мы и можем рассчитывать скорее всего встретиться в космосе. Нам нечего, стало быть, страшиться перспективы этих встреч. Наоборот, нам следует ожидать их с величайшим оптимизмом!
Именно так рассуждал Циолковский. Он много и глубоко задумывался над проблемой космических связей. «Подаваясь вперед гигантскими шагами, — писал Константин Эдуардович в 1924 году, — мы будем встречать все новые и новые миры разумных существ, бесконечные градации поколений, более совершенных, чем человек и даже чем его совершенные потомки. Может ли быть, чтобы они (очаги разума в космосе) не установили между собой связь?..» «Может ли быть, — продолжал Циолковский, — чтобы их общественная организация не превосходила все, что мы знаем сегодня? Какая это могущественная сила, мы и представить себе не можем. Невероятно, чтобы она не оказала когда-нибудь влияния на земную жизнь…»
Советский писатель и ученый Иван Антонович Ефремов в романе «Туманность Андромеды» в поэтически пленительной (и вместе с тем научно отточенной) форме высказал свою мечту. Мечту о включении человечества в космическое братство разума, о федерации счастливых и свободных обществ,- населяющих острова вселенной!
В эпоху будущего, отделенную от наших дней пятью или шестью веками, рассказывается в «Туманности Андромеды», произошло событие, настолько важное, что оно «ознаменовало новую эру в существовании человека». Индиец-ученый Кам Амат уловил первые осмысленные сигналы, шедшие от планетной системы в двойной звезде «61-я Лебедя». Расшифровке сигналов помогли логические и переводные машины. Сигналы с «61-й Лебедя» (к ним присоединились вскоре и другие сигналы) извещали о существовании «Великого Кольца», или содружества планетных систем в космосе. Люди солнечного мира приглашались примкнуть к этому «Кольцу».
Все это, конечно, лишь фантазия, но фантазия, несущая черты дальновидного научного прогноза. Ее пафос — в глубокой вере в торжество разума как материальной силы, познающей и преобразующей мир.
Приход «Эры Великого Кольца», не сомневается Ефремов, будет означать для человечества не только расширение научных знаний, не только техническую революцию, связанную, как он пишет, с «приобщением Земли к жизни, творчеству и мыслям других населенных миров». «Эра Кольца» принесет за собой и переворот в общественном сознании людей. Люди вольются в содружество разумных сил космоса, обновившись духовно и морально, «слившись с братьями по разуму в одну бесконечно богатую радостью и счастьем семью».
Можно не соглашаться с Ефремовым по тем или иным частным вопросам. Можно спорить с трактовкой отдельных сторон той картины будущего, которую он нарисовал в своем романе. Но сама идея «Великого Кольца» — это, повторяю, нечто большее, чем литературная фантазия. Это та область, где художественный вымысел сливается с научным предвидением. И, кто знает, дело может обернуться так, что описываемые Ефремовым события произойдут скорее, гораздо скорее, чем в XXV веке! Темпы научного прогресса опять и опять могут перехлестнуть через самые смелые прогнозы и ожидания. Во всяком случае Иван Антонович Ефремов вряд ли мог предполагать, что не пройдет и трех лет после выхода в свет его романа, как радиоастрономы приступят всерьез к тому, что можно назвать «вахтой Великого Кольца».
Дело обстоит именно так. В апреле позапрошлого года одна из крупных радиообсерваторий, руководимая профессором Отто Струве, приступила к систематическому прослушиванию того сектора неба, где находятся звезды Эпсилон Эридана и Тау Кита (Эти опыты вскоре пришлось прервать, так как мощность американского радиотелескопа в Гринбэнке (штат Западная Виргиния) оказалась меньшей, чем было запланировано.). Я напоминаю, что эти два сравнительно близких к Солнцу светила рассматриваются астрономами как наиболее обещающие. Если там, вблизи этих звезд, живут разумные существа, возможно, они посылают в сторону Солнца осмысленные радиосигналы. Естественно предположить далее, что эти сигналы идут на волнах в диапазоне 1 ООО—10000 мегагерц. Ведь как раз этот диапазон меньше всего страдает от помех в планетных атмосферах и в межзвездном газе. Можно ли принимать радиоволны со столь большого расстояния? Да, это стало возможно в самые последние годы. Введены в строй гигантские радиотелескопы. Под Москвой строится, например, самая большая в мире зеркальная антенна. Кроме того, радиотехника располагает сегодня сверхчувствительными усилителями — здесь сыграли важную роль недавние работы советских ученых Басова и Прохорова. И вот, если считать, что наши собратья на соседних звездах применяют генераторы такой же мощности, что и наши инженеры, — тогда переговорная радиосвязь могла бы уже сегодня вестись на расстоянии до пятнадцати световых лет. Звезды Эпсилон Эридана и Тау Кита расположены как раз в этих пределах. (Есть тут, впрочем, одно досадное обстоятельство. Радиоволны бегут с такой же скоростью, что и свет. Значит, на каждую реплику пришлось бы ждать ответа больше двадцати лет. «Немножко» медленно! Но это все же не могло бы помешать организации связи.)
Итак, вопрос о радиокоммуникациях с островами разума в космосе ставится сегодня как вполне серьезная научная задача. Этот вопрос обсуждается в научной литературе. Высказываются разные мнения и вносятся разные предложения. Вот, скажем, исследование физика Брасвелла, опубликованное в лондонском научном журнала «Нэйчур». В статье. Брасвелла разбирается вопрос: как могут поступить возможные обитатели планетных систем звезд Эпсилон Эридана и Тау Кита, если их техника намного превосходит земную? Тогда, считает Брасвелл, вероятнее всего они постараются забросить в солнечную систему контейнеры с автоматической аппаратурой. Брасвелл имеет в виду кибернетические приборы, способные самостоятельно ориентироваться, принимать логические решения, вести переговоры. Не исключена возможность, пишет Брасвелл, что в солнечной системе уже движутся такие контейнеры, подающие радиосигналы по определенному коду. Статья заканчивается изложением конкретного плана, как искать и как расшифровать такие сигналы.
Еще оригинальнее идея физика Дайсона — о ней шла речь в прошлой моей беседе. Я изложил тогда соображения Дайсона по поводу так называемой «реконструкции» планеты Юпитер. Эти работы, считает Дайсон, приведут в будущем к сооружению своего рода купола, или «футляра», в который оказалось бы заключено Солнце. И вот, по мнению Дайсона, любая высокоразвитая цивилизация в любой планетной системе неизбежно проходит через стадию таких работ. Цель их — полное использование лучистой энергии звезды. Каждое общество разумных существ, согласно этой гипотезе, окружает рано или поздно свое центральное светило непрозрачным куполом. И тогда на небе вместо прежней звезды появляется то, что Дайсон называет «точечным источником инфракрасных лучей». Искать такие (невидимые глазом) «точечные источники», излучающие волны в диапазоне 10—20 микрон, Дайсон и предлагает астрономам. Открытие хотя бы одного такого источника тотчас же обозначило бы на небе место, где возможен очаг разумной жизни. Таково мнение Дайсона. И после этого, говорит Дайсон, можно было бы думать о проблеме радиосвязи о этим очагом.
Разумеется, могут сказать (и справедливо сказать), что все эти смелые планы и гипотезы покоятся пока еще на слишком шатком основании. Да, конечно, это еще самая первоначальная стадия нащупывания путей, период «проб и ошибок». Это еще даже не пролог, а пролог к прологу грядущей эпохи космических связей людей Земли.
Но все дело в том, что наступление этой эпохи объективно неизбежно.
«Верю в блестящее будущее человечества, — писал Циолковский. — Верю, что человечество не только наследует Землю... Отсюда, из сферы Солнца, начнется распространение человека по всей вселенной. В этом я глубоко убежден».
Владимир Львов
(обратно)
Оглавление
Берег принцессы Люськи
Тринадцать шагов
Лодка вернулась на базу
Страна «Средиземномория»
Золотая чаша
Осада
За голубым барьером
Песнь Новой Каховки
Наступление на великую пустошь
Курс на Кубу
Каюкеро реки Тоа
Тадж-Махал
Содружество миров
Последние комментарии
1 час 42 минут назад
10 часов 33 минут назад
10 часов 36 минут назад
2 дней 16 часов назад
2 дней 21 часов назад
2 дней 23 часов назад