Имена на рубках

С узкого восточного мыса Карантинного острова хорошо виден город: взбирающиеся наверх улицы, порт. Красные, синие, зеленые портальные краны, вздрагивая, то поднимают, то опускают свои треугольные головы. Они словно танцуют, в их движениях чувствуется ритм...
В небольшой бухте мороз прихватил льдом только береговую кромку. Сварщик в толстой брезентовой робе, откинув назад защитную маску, махнул рукой:
— Пошел, пошел... Еще один пошел...
Медленно, с лязгом, раскрошив тонкий ледок, в воду сползли салазки, и коренастое суденышко закачало своими низкими бортами. Волны, вскинувшись пеной, хлестнули по упругой песчаной насыпи, метнули холодные брызги на серые сваи. В чистой зимней воде отразилась последняя вспышка электросварки. Замолк переливчатый рокот лебедок. Проходивший мимо катерок приветственно гуднул новорожденному собрату...
Слева белыми громадами высились трехпалубные теплоходы, ставшие в один ряд, прижавшись бортами друг к другу. В сравнении с речными гигантами новое судно казалось подростком.
Вместе с Толей Беспаловым, комсомольским вожаком судостроителей, широкоплечим, темноглазым парнем, мы стояли у края пирса.
— Ну вот и все... — вздохнул Толя. — Теперь немного осталось. Покрасят палубу, дадут имя — и в путь...
Ему всегда немного грустно расставаться с судном, которое еще вчера было на стапеле, сегодня уже спущено на воду, а завтра навсегда покинет заводскую бухту. Может быть, эту грусть корабелы умышленно скрывают за пышным ритуалом спуска, когда рубят канаты, дымятся полозья и гремит музыка... Сейчас ничего этого не было. Ни шумной толпы, ни музыки, ни традиционной бутылки шампанского, разбивающейся о стальную корму. Бригада такелажников, ответственный за спуск, начальник корпусного цеха — вот, пожалуй, и все, кто только что ставил на воду, давал жизнь судну. Просто, по-рабочему. Да и само судно было рабочим — буксиром, Ему, трудяге, не уготовлены ширь морских просторов и экзотика дальних широт. Днепр станет постоянным местом его работы.
Мы сидим в рубке, пахнущей свежей «нитрой». Толя смотрит на расставленное оборудование, наклоняется, поднимает с пола дюралевые профильки, по-хозяйски ставит их в угол.
— Наши буксиры всегда нравятся приемщикам. Эти особенно. По всем статьям хороши: сильные, верткие, быстроходные. В работе удобные и экономичные. А главное, сказать по-честному, сделаны на совесть. Молодежь Херсонского судостроительного и судоремонтного завода имени Коминтерна в честь предстоящего съезда ВЛКСМ взяла шефство над строительством серии буксиров. Им присваиваются имена героев-комсомольцев, отдавших свою жизнь в годы войны ради светлого сегодня. Ушли вверх по Днепру головное судно «Комсомолец», потом «Лиза Чайкина», «Тимур Фрунзе», «Олег Кошевой», «Иван Земнухов», «Нина Соснина»... В «комсомольской» флотилии двадцать буксиров. Только что на воду сошел шестнадцатый.
...Август сорок первого. Наши войска оставляли Херсон, уходили на левый берег. Город встретил врага опустевшими улицами, разрушенными заводами. Цепочка последнего каравана судов еле просматривалась вдали. Лишь один буксир — «Очаковский канал» — с морским десантом застрял на середине реки, сел на мель. В этот момент на набережную, грохоча гусеницами, выползли фашистские танки и стали расстреливать буксир в упор. Снаряды взрывались на палубе, рвали борта. Вдруг от левого берега на выручку товарищам помчался бронекатер и на ходу вступил в бой с танками. Немцы опешили от такой смелости. Маленький катерок с одним лишь турельным пулеметом шел на танки! Вызвав огонь на себя, он дал возможность морякам с буксира вплавь добраться до берега...
Этот трагический бой наблюдали с Карантинного острова два паренька — Толя Запорожчук и Шура Падалка. Вместе с Толиной матерью, Феодосией Кондратьевной, они помогали раненым морякам выбраться из воды, делали перевязки. К вечеру у домика водноспортивной станции собралось около тридцати краснофлотцев. Ночью Толя с Шурой на лодке благополучно переправили их в ближайшие плавни. На обратном пути друзья осторожно пристали к покинутому «Очаковскому каналу». На искореженной палубе было тихо. Ребята заглянули в радиорубку и обнаружили в ней чудом уцелевшую рацию. В трюме, заполненном водой, нащупали винтовки, цинки с патронами, гранаты. Все это они переправили на берег, спрятали.
Утром на узком мысу, у причала водноспортивной станции собрались братья Запорожчуки: Толя, Андрей и Федя. С ними были их друзья — Шура Падалка, двоюродные братья Леня и Петя Чернявские, Саша Рублев, Миша Еременко, Сергей Бабенко, Миша Деев, Шура Теленга и Толик Тендитный. Здесь они дали клятву бороться с ненавистным врагом.
В эту ночь самый младший — Толя Тендитный — записал в своем дневнике: «Отныне обо мне будут судить не по словам моим, а по делам...»
Чтобы избежать отправки в Германию, ребята решили все идти на завод имени Коминтерна. Немцы пытались его восстановить. Они оцепили территорию колючей проволокой, пригнали колонну военнопленных и заставили их расчищать слип, разбирать взорванные цехи. Леня Чернявский и Миша Деев незаметно проделали лазы в колючей проволоке. По ночам юные подпольщики помогали пленным матросам и солдатам бежать в плавни...
Однажды к Толе Запорожчуку подошел столяр Антон Бородин. Толя был знаком с ним еще до войны. Знал, что Бородин коммунист, знал, что он был секретарем комитета комсомола на заводе. Оказалось, Антон давно присматривался к мальчишкам. Посовещавшись, решили действовать вместе.
На Карантинном острове по сей день помнят, как Первого мая 1942 года над проходной завода взметнулось красное знамя, как гремели взрывы в немецких обозах и как безрезультатно рыскало гестапо в поисках тех, кто взорвал важный подводный кабель связи... Все это было делом рук молодежной организации.
Летом сорок второго года гестапо арестовало юных подпольщиков. Шесть недель фашисты пытали ребят, а 22 августа на Суворовской улице палачи воздвигли виселицу. На ней были повешены Толя и Андрей Запорожчуки, Леня и Петя Чернявские. Остальных юных патриотов гестаповцы расстреляли за городом.
На Суворовской улице, у памятника ребятам с Карантинного острова всегда свежие цветы. И сегодня чья-то заботливая рука положила на холодный пьедестал большой букет белых хризантем.
Я снова пришел к бухточке, где стоял почти готовый буксир. Уже отбита на черном борту шкала осадки, попискивает из рубки передатчик, жужжит в трюме электродрель. Меня окликнул Беспалов:
— Порядок. Скоро приемщики приедут.
Толя прикурил, загородившись от холодного, резкого ветра. Оба смотрим, как невысокий паренек прикрепляет красный транспарант: «Даешь буксир досрочно!»
Толя улыбается:
— Думаешь, агитация? Здесь агитировать некого. Это традиция. От стариков... С двадцатых...
С одним таким «стариком», Александром Константиновичем Матвеевым, я сначала познакомился заочно. В городе есть Доска почетных граждан Херсона. Среди семнадцати портретов я и увидел фотографию токаря Матвеева. В механическом цехе мне показали на худощавого рабочего, склонившегося над станком.
— О трудностях двадцатых годов ваше поколение знает от отцов да из книжек, — сказал Александр Константинович, когда мы в обеденный перерыв вышли из цеха. — Я же видел все это, как говорится, воочию. Прекрасно помню и биржу труда, и хлебный паек, и пахнущие дегтем грубые ботинки — премию за ударный труд... Сейчас начнешь молодым про то рассказывать, им и представить все трудно...
Пришел я на завод в механические мастерские в четырнадцать лет. Начинал с азов — крутил тяжелое приводное колесо, пока токарь точил деталь. Кручу, а сам с раскрытым ртом смотрю, как из куска железа или бронзы выходят блестящие, чуть шероховатые стержни, кольца, муфты. В мастерских было событием, когда точили большой гребной вал...
Александр Константинович остановился, присел на скамейку, жестом пригласил и меня.
— И что интересно, — продолжал он. — Несмотря на то, что должность моя тогда была далеко не из крупных, я страшно гордился. Я настоящий пролетарий! И хотелось, чтобы весь город увидел меня в рабочей спецовке, чумазого, усталого...
Да, что мы сидим? Давайте сходим в наш заводской музей, времени у нас вполне хватит. Там все о нашем заводе, о его рабочих...
Действительно, в музее передо мной открылась вся история самого старого завода в городе.
В 1770 году русские корабли, обогнув всю Европу, вошли в Черное море и в Чесменской бухте наголову разбили турецкий флот. Россия вернула свои земли, «взяла на шпагу» Черное море. Началось создание южного флота. И тогда на месте бывшей пограничной русской крепости решено было заложить город и главную верфь Черноморского флота. Екатерина Вторая в 1778 году своим указом повелевала «место сие именовать Херсоном» в честь крымского Херсонеса, древнего Корсуня, где киевский князь Владимир принял от греков христианство. Херсон положил начало русским черноморским городам-верфям.
Первостроителем города был назначен брат деда А. С. Пушкина — генерал-цейхмейстер Иван Абрамович Ганнибал. Строительство первых военных судов возглавил выдающийся русский флотоводец, в то время еще капитан второго ранга, Федор Федорович Ушаков.
За короткий срок присланные матросы и работные люди с Балтики, из Олонецкого края, Архангельска построили доки с литейной, кузнечной и котельной мастерскими. На воду сошли первенцы флота — многопушечные фрегаты «Слава Екатерины», «Херсон», «Храбрый», «Легкий», «Скорый», «Осторожный», «Крым», бомбардирский корабль «Страшный».

И вдруг все работы прекратились. В городе стала свирепствовать чума. Она быстро распространилась в экипажах и рабочих бараках. Ф. Ф. Ушаков приказал в 1783 году создать на острове, омываемом Днепром и рекой Кошевой, карантинный госпиталь. С той поры остров зовется Карантинным.
В 1784 году эпидемия была ликвидирована. Осенью того же года первые суда российского Черноморского флота, построенные в Херсоне, ушли в Севастополь. Позже, с возникновением Николаева и Одессы, значение Херсона уменьшилось. Судьба готовила ему незавидную роль забытого, заштатного городишки. Но в 1797 году на Карантинном острове возникает купеческая верфь. На ней создавался почти весь черноморский н нижнеднепровский торговый флот. С верфи и началась жизнь завода имени Коминтерна.
Матвеев показал мне старые фотографии. На одной из них — рабочие с молотками, пилами, топорами.
— Видите, все больше плотники да конопатчики. Даже когда я пришел на завод в двадцать первом, мало было металлистов. Два токаря и пять слесарей...
Матвеев оживился, протягивая небольшую пожелтевшую фотокарточку:
— Наша комсомольская ячейка... Самая первая.
Трудно признать в вихрастом хлопчике теперешнего Матвеева. Годы есть годы... А тогда? Тогда комсомольцы-коминтерновцы поднимали и ремонтировали на субботниках затопленные в гражданскую войну суда, дежурили в отрядах ЧОНа, горячо обсуждали большие события в стране.
Строился Днепрогэс... Сооружение плотины на месте бывших порогов открывало свободное движение из Черного моря по всему Днепру.
— Мы тогда здорово переживали: строительство рядом, а нам, заводской комсе, и помочь ему нечем. На собраниях спорили, некоторые призывали бросать все и ехать. И тут приходит заказ — Днепрострою необходимы баржи для перевозки камня. В минимальные сроки... Нашей радости не было конца. В затоне повесили лозунг: «Даешь баржи!» Работали по ночам, в выходные дни. И сдали... Досрочно.
Лед блестел, и в его зеркальной, полированной глади отражался флагман днепровских вод — речной лайнер «В. И. Ленин». За ним, поднятые на катки, проходят такой же профилактический ремонт могучие самоходные баржи.
Бухта была пуста. Шестнадцатый — «Александр Матросов», — дав прощальный гудок, ушел в порт приписки.
Я проходил мимо просторных заводских строений. От слипа до сварочной эстакады рукой подать. По дороге я вспоминал юных херсонских подпольщиков, всепобеждающий клич «Даешь!», рассказы Матвеева о первых комсомольцах-коминтерновцах, и мне невольно захотелось назвать Карантинный остров Комсомольским.
На эстакаде закладывается новое судно. На фоне голубого неба определяются контуры очередного буксира. И я подумал, что было бы очень хорошо, если бы так же, как это сделали корабелы Николаева, очередная серия судов понесла на своих рубках имена тех героев-комсомольцев, которые сражались и погибли в грозные военные годы здесь, в Херсоне.
В. Аникин, наш спец. корр.
(обратно)
Посреди пурги и тундры
 Уходят на Север поисковые партии, дает промышленный газ месторождение Медвежье, ложатся новые нити газопровода Медвежье — Надым — Пунга, строится город Надым — таковы сегодняшние приметы северной новостройки. Тюменский Север становится крупнейшей топливно-энергетической базой страны.
О встречах с теми, кто работает на 66-й параллели, рассказывает наш специальный корреспондент.
Уходят на Север поисковые партии, дает промышленный газ месторождение Медвежье, ложатся новые нити газопровода Медвежье — Надым — Пунга, строится город Надым — таковы сегодняшние приметы северной новостройки. Тюменский Север становится крупнейшей топливно-энергетической базой страны.
О встречах с теми, кто работает на 66-й параллели, рассказывает наш специальный корреспондент.
Заполярный, увязший в синих снегах Салехард был занавешен пургой. Колкий, как песок, морозный ветер зарождался далеко в тундре, скользил с бугра на бугор, вороша сугробы, и с яростью набрасывался на город. Сквозь слепящую метель едва просматривались опушенные белым здания, машины с включенными фарами, редкие прохожие на улицах.
В один из таких дней длинный худой парень по фамилии Пушкин показывал свои документы в строительном управлении. Пожилой инспектор-кадровик, листая его справки и свидетельства, устало и беззлобно ворчал:
— Вот молодежь пошла! Все едет, едет... Ну, не сидится ей на месте — что ты будешь делать! — призывал он меня в свидетели. — Скажи, Пушкин, зачем тебе, вольному сыну степей, Салехард?
— Я в Надым хочу, — обиженно пробасил Пушкин. — На комсомольскую стройку хочу. Я слесарь четвертого разряда.
— Четвертый разряд он, видите ли, имеет. Высокой, можно сказать, квалификации специалист, — не унимался инспектор. — А ты знаешь, Пушкин, что у меня с шестыми разрядами люди на очереди стоят? И все в Надыме хотят работать. Вот заявления, видишь, — он потряс в воздухе пачкой бумаг и положил их в стол. И уже спокойнее: — Поезжай-ка ты домой, Пушкин. Оставь свой адрес — и поезжай. Нужен буДешь — вызовем. — Ив знак того, что беседа окончена, кадровик протянул ему руку на прощание.
В тот же вечер Пушкин пришел ко мне в гостиничный номер, прижимая к груди розовый шмат сала, нашпигованный чесноком.
— Пробуйте, пожалуйста, — говорил он с улыбкой хлебосольной хозяйки. — Хорошее сало, домашнее. Сам разделывал. У нас в Краснодарском крае иные хозяева тушу лампой опаливают, а я нет — я соломой. Ржаной дух с огнем тогда в самое нутро входит, все поры пропитывает...
За ужином мы разговорились.
— Я почему в Надым хочу? — глядел он на меня в упор, не мигая.,— Я о нем еще с армии мечтал. Попробовать себя хочу в настоящем деле. Месторождения там — каких поискать!.. Вы там долго пробудете? — неожиданно спросил он меня.
— Неделю, — сказал я, не очень понимая, к чему он клонит.
— Видите ли, — Пушкин крутанул головой, — там есть комсомольско-молодежные управления. Так у меня просьба будет: оставьте в отделе кадров мои документы. Скажите, есть такой человек — Пушкин Лев Тихонович, сорок девятого года рождения, член ВЛКСМ. Скажите, слесарь он, а также по монтажу электрооборудования специалист. Ну как, договорились?
— Ладно, — сказал я. — Что смогу — сделаю. Только не очень уж надейся...
 Начало, положенное геофизиками
Начало, положенное геофизиками
Надым — в двухстах километрах на восток от Салехарда. Сейчас он растет, как на дрожжах, и в скором времени обещает стать таким же городом, как Сургут или Нижневартовский на Оби. И поможет ему в этом Медвежье. Месторождение, каких поискать! (Здесь Лева Пушкин абсолютно прав.)
Запасы Медвежьего насчитывают полтора триллиона кубометров природного газа. Но это, утверждают ученые, далеко не полные сведения: буровики еще не сказали последнего слова.
Начало — детство всякого дела. Здесь, в ямальской тундре и лесотундре, начало было положено геофизиками. Лет десять назад, когда они впервые вылетели на места предполагаемых месторождений, они застали природу в миг «сотворения мира» — твердь, не отделившаяся от хляби. Их встретили зыбкие торфяники, тощие елки на болотах, полное безлюдье. Геофизикам и буровикам предоставили вертолеты, рации, вездеходы. Но иногда приходилось полагаться и на собственные ноги, иногда бульдозер заменяла зычная команда: «Раз, два — взяли!», а обед — морошка или брусника.
Теперь эти трудности позади. Медвежье действует! Первая нитка газопровода легла через болота и пади, пришла на Урал, шагнула в братские страны. Пора эмоционального шока, сопровождавшая «открытие века», давно миновала, восторги улеглись, и теперь люди заглядывают в недра земли так, будто открывают дверь рабочей комнаты. «План», «дебит», «эффективность», «комплексность» — вот о чем говорят теперь в Надыме.
Надым весь в движении, в спешке неотложных дел. Он опутан автодорогами и трубопроводами, обагрен кострами и вспышками электросварки, озвучен тракторами и вертолетами, телефонными звонками, спорами до хрипоты и радиотрансляцией. И мне кажется, если в один прекрасный день город вдруг снимется с фундаментов и откочует на новое место, этому мало кто удивится. Здесь каждый день перемены и каждый день — новоселья.
...В пустой комнате треста «Севергазстрой» секретарь горкома комсомола Сергей Яковлев говорил по телефону.
— Это ДОСПИГ? Яковлев говорит... У вас случайно нет машины — в Медвежье нужно съездить.
— Откуда у нас машина?! — кричал ДОСПИГ, словно сидел в соседней комнате. — Мы сами на голодном пайке. Трясите СУПТР или ГПУ, у них всегда что-нибудь найдется.
СУПТР ничего конкретного не обещал, зато прозрачно намекнул, что свободный транспорт есть у КАВТа.
— Это КАВТ? — устало вопрошал секретарь горкома. — У вас машина...
— ...есть, есть, — бодро закончил за него неведомый КАВТ. — Приходите завтра в восемь утра.
Мы с Сережей облегченно вздохнули. Дело в том, что он собрался в Медвежье, чтобы провести там комсомольское собрание; мне же хотелось увидеть трассу и газопромыслы. Так мы оказались попутчиками. Что же касается необычных для свежего уха аббревиатур, то здесь, как выяснилось, ничего необычного нет: ДОСПИГ — это дирекция по обустройству строящихся промыслов и газопроводов, ГПУ — газопромысловое управление, СУПТР — специализированное управление подводно-технических работ, а КАВТ — контора автомобильного и водного транспорта.
В Надыме более 90 различных организаций. Надо же их как-то называть!
Трасса Николая Будникова
Мотор «Урала» гудел упруго и бесшабашно. Автомобильные фары высвечивали ровную, искрящуюся инеем дорогу, можно сказать, автостраду, потому что скорость была все сто, а потом запрыгали, засуетились, обнажая выбоины и чахлое редколесье, и мы стали приваливаться друг к другу плечами.
Из-за горизонта выкатилось тяжелое и мутное солнце. Оно застряло на острых пиках лиственниц, и вся дорога, снега вокруг дороги задымились в неверном желтом свете. Стволы деревьев излучали чистое багровое сияние. Радужные блики запрыгали по кабине. И мы все разом повеселели, почувствовав, как вливается в нас радость утра.
И сразу же пошли разговоры.
— Во-он ложбинка, видите? — не отрывая глаз от дороги, говорил Николай Будников, наш водитель. Его взгляд упирался в размытое солнцем пространство с черными елочками. — Год назад «позагорать» здесь пришлось. Шина, понимаешь, лопнула, а тут пурга с морозом. Во как!
У Николая медленная речь, и жесты у него медленные, и походка. Он из тех немногих людей, которые никуда и никогда не спешат, больше отмалчиваются, работают основательно, на совесть: ведь на скорую руку да на громкий голос северную природу не возьмешь, не осилишь. Но сейчас, рассказывая о том, как он «загорал», Николай захлебывался словами, и у него сел голос.
— Понимаешь, сам во всем виноват. Понадеялся, что без запасного колеса трассу пройду, и не смонтировал вовремя... Вышел из кабины, а меня уж всего облепило. Полез в кузов доставать камеру и шину, а они тверже камня. Мороз-то более сорока. «Ну дела! — думаю. — Теперь всю ночь проканителишься. Пока хворосту найду, пока костер разожгу, пока камеру согрею. А попробуй разожги, когда тебя ветер с ног валит!»
— Для чего тебе костер-то был нужен? — перебил его Сережа. — Мог бы и паяльной лампой согреть.
— Правильно, — согласился Николай. — Я так и делал. Паяльной лампой камеру грел, а костром — спину...
— Бензином пользовался, — деловито определил секретарь горкома.
— А как же? — с удовольствием согласился шофер. — Без бензина пропал бы. Плеснешь на дрова — и порядок. Но камеру-то я отеплил, а дальше что? Дальше надувать надо да три десятка гаек наворачивать. Все пальцы поморозил, во как! — Он показал свою, разлапистую ладонь; кончики пальцев были кое-где серыми и бугристыми. — Все сделал, колесо поставил, за руль уселся. А ехать-то куда? А ехать-то и некуда. Вся дорога — один сплошной сугроб. Во как!
— Что же ты делал?
— Читать-то, понимаешь, нечего было, так я книжки вспоминал. А чуть дремать начну — песни ору.
— И долго так? — спросил я, не очень хорошо представляя, как это можно петь посреди тундры и пурги.
— Да часов десять, пока ветер не стих, — охотно объяснил Будников. — А утром, гляжу, вертолет ко мне спускается. Я уж хлопалками своими едва ворочаю, вот-вот усну. Так меня и подобрали, полусонного. Поел — помню, вертолетчики мне говядины тушеной дали — и снова на боковую. А они смеются: «Для чего мы тебя, спрашивается, искали? Чтоб сон твой охранять?»
Дорога была чистой и накатанной до блеска, как крахмальная скатерть, но каждую минуту напоминала, что расслабляться нельзя. Мы догнали колонну грузовиков с прицепами, и нас захлестнул могучий прибой автотрассы. Машина мчалась в седых бурунах снега, в сплошном молочном тумане. Николай пытался выскочить из этого вихря, но вовремя понял, что выхода из толкучки нет. Наш «Урал» покорно отдался своей судьбе.
— Вообще на Медвежье дороги нет, — сказал Николай. — Только вертолет. То, что вы сейчас видите, на честном слове держится. В декабре мы эту трассу тракторами утюжили. Болота спрессовались, смерзлись, а чуть в сторону... — И в подтверждение своих слов он показал на след колеса, под которым застыла ржавая жижа. — Товарищ мой, Миша Волков, «загорал». Три часа стоял, пока его трактор не вытащил. Во как!
...Сумерки, точно привидения, незаметно подкрались из таежных падей, и Николай включил верхнюю фару. Пучок света прошил дорожную мглу, и впереди тонкой пунктирной линией обозначилось какое-то заброшенное селение. Разбросанные вдоль трассы дома стояли печальные, задавленные стылым саваном неба, и только комья куропаток белели на фоне черных труб. Лес постепенно лысел, становился мельче, сиротливее. Будников прибавил газу, и перед нами распахнулось залитое электричеством пространство.
Открылись штабеля труб, сложенные друг на друга, как гигантские соты, площадка с серебристыми баками, стоящими на земле. У горизонта вспыхнул факел газосборного пункта, заплясала далекая цепочка огней поселка Пангоды. Мы подъезжали к месторождению Медвежьему.
Обыкновенная фамилия
На расчищенном от кустарника пространстве сошлись полтора десятка жилых домов, клуб, столовая, магазины. И вплотную к ним — аэродром. Пришпоривая воздух, вертолеты «МИ-6» стартовали почти от самых подъездов, едва не касаясь крыш. На жгучем морозе ревели моторы, трещали дизели, скрипел снег под протекторами машин.
Если Надым играет роль базового центра в освоении природных богатств края, то Пангоды — временная «гостиница» для тех, кто бурит и обслуживает скважины в тундре.
«Их» я увидел в открытой дверце только что приземлившегося вертолета. Экипировке газовиков нельзя было не подивиться. Песцовые и лисьи шапки, новенькие, подбитые мехом полушубки и толстенные, как бревна, с кнопочками и застежками унты. Жизнь на тюменском Севере сделала ребят чем-то похожими на коренных жителей тундры, но не настолько, чтобы за «правильной» речью нельзя было узнать в них горожан. Мы познакомились.
Их бригада больше года провела на Медвежьем. Были недели, когда кусочек суши, где стояла вышка, буквально захлестывало весенним паводком. Были дни, когда вертолет со сменной вахтой не мог пробиться к ним на буровую. Желтые вспышки пурги слепили глаза, мешали дышать, но люди продолжали свое дело — искали газ.
— Случай у нас тут был — никогда не забуду, — рассказывал один из буровиков, пока, мы ожидали в общежитии коменданта, чтобы устроиться на ночлег. — Скважина вдруг стала фонтанировать. Вода с газом — как джинн из бутылки. Арматура, вышка ходуном заходили. И грунт поплыл, как назло... Превенторы надо было закрыть, чтобы фонтан заглох. А как к ней подойти, к вышке-то? Земля плывет, грязь хлещет... Ну и один тут... рискнул, обвязался веревкой — и к буровой. Повис на арматуре и гаечным ключом...
— А фамилии его не помните?
— А что фамилия? — вдруг насторожился буровик. — Фамилия у меня обыкновенная... Вы, случайно, не журналист? А то меня уж два раза по радио склоняли. Надоело!
Он потушил сигарету, плотно запахнул полушубок и вышел на улицу. Присутствующие рассмеялись.
...Завтра ребятам снова лететь на свою буровую. Их поисковая партия продвигается все дальше и дальше на Север. Там, за Полярным кругом, лежат еще не разведанные и не тронутые богатства. Если раньше геологи полагали, что прежние прогнозы по запасам газа несколько завышены, то сейчас выясняется: они даже меньше того, что есть на самом деле.
Рано утром мы покинули Медвежье. Мы ехали мимо высоченных, из стекла и металла зданий газосборных пунктов, откуда топливо под напором подается в газопровод, мимо буровых вышек и несостыкованных труб, припудренных инеем. Из них вскоре сложат вторую и третью нитки трубопровода, которые пойдут в крупнейшие индустриальные центры СССР и за рубеж. Как считают специалисты, из ямальских недр можно будет получить газа столько, сколько дает его ныне вся страна в целом.
Упрямый Иван Васильевич
...В кабинете первого секретаря горкома партии шло совещание руководителей трестов и ведомств. На стене висела карта «г. Надым. Проект детальной планировки. Эскиз застройки», выполненная в Ленинградском зональном научно-исследовательском институте экспериментального проектирования. И каждый из присутствующих мог увидеть будущее своего города воочию.
Кое-что в этом будущем успело устареть — несколько пятиэтажных домов, предусмотренных проектом, уже построено, кое-что нуждалось в доработке, требовало уточнений. Но главное — это был город. Город с 30-тысячным населением, которому суждено утвердить себя в ямальской тундре. Он разбегался стройными замкнутыми кварталами жилых зданий. Дома, сомкнув каменные плечи, защищались от сильных ветров и снежных заносов. Внутри кварталов размещались школы, детские сады, спортивные площадки. Пурга как бы оставалась снаружи. В каждой квартире — просторные комнаты с высокими потолками, искусственная подсветка, нарядная отделка.
Но проект уже вышел из мастерской ЛенЗНИИЭП и теперь во многом не зависит от воли его создателей. Эскизы застройки вовлечены в орбиту строительной индустрии. Проект одевается в стекло и бетон, озвучивается грохотом механизмов и командами прорабов. И здесь порой случаются досадные перекосы, помарки, несуразности. Детище зодчих, попав на стройплощадку, теряет свежесть оригинала.
Причин тому много. Прежде всего отдаленность Надыма от промышленных баз, дороговизна перевозки железобетонных конструкций, капризный, изменчивый климат, плохой бетон, нехватка квалифицированных кадров и, наконец, странное поведение мерзлых песков, залегающих под фундаментами. Некоторые руководители называли в «качестве причины» и некоего Васильева Ивана Васильевича: он-де необоснованно вмешивается в ход строительства, и отменяет приказы вышестоящего начальства, и устраивает ненужные дебаты вместо работы, и вообще всячески вредит общему делу. «А на днях, — жаловался представитель одного из ведомств, — он отказался подписать акт о сдаче в эксплуатацию седьмого корпуса. Представляете?!»
В Надыме о Васильеве ходят самые разноречивые толки — «неуживчив», «ортодоксален», «упрям»; и — «молодчага», «ему палец в рот не клади», «Васильев знает, что делает». Одни «носятся с этим Васильевым, как с писаной торбой», другие его выносить не могут.

Ивана Васильевича я еще не видел, но вот что узнал. С самого начала стройки ЛенЗНИИЭП послал сюда своих представителей, наделенных правами противостоять возможным искажениям проекта. Ленинградские проектировщики, и Васильев в их числе, выехали в Надым на постоянное жительство и вот уже второй год осуществляют авторский надзор.
Иван Васильевич оказался скромным молодым человеком в очках, с растерянным выражением лица. Ему, наверное, впервые предстояло выступать перед таким количеством оппонентов. Сидевший рядом со мной начальник треста, впервые увидев всесильный «надзор», изумленно воскликнул:
— Такой молодой — и уже Васильев?!
Некоторые из присутствующих рассмеялись, другие насупились, устремив на Васильева глаза, напоминающие спаренный пулемет.
— Один мудрец сказал: «Сначала мы создаем облик наших зданий, а потом они создают наш облик». Запомните эти слова, товарищи! — начал Иван Васильевич, обретая уверенность в голосе. — Давайте сначала решим: что мы строим — город или временное поселение? («Разумеется, город, — раздались голоса. — Что за разговоры!») Город — согласен. Но тогда он обязан стоять не одну и не две человеческие жизни. И жить в нем должны не временные постояльцы, а коренные надымчане.
Как мы строим подчас? Сегодня мы засучим рукава, поднажмем, сделаем, подпишем акт, а завтра будем расхлебывать — ремонтировать, подновлять, переделывать...
Совещание загудело: «Факты, факты!» Васильев поднял руку, успокаивая возмущенных.
— Возьмем, к примеру, пескобетон. Это же обыкновенный раствор! Он растрескивается на морозе. А автоклавный бетон мы почему-то не применяем. Почему? — Его слова остались без ответа. — Ладно, идем дальше. О свойствах надымских песков вы, надеюсь, знаете? Известно ли вам, что под фундаментами некоторых зданий встречаются мелкие пылеватые сыпуны? Вы учитываете осадку зданий при оттаивании мерзлоты? — Представители трестов молча разглядывали свои ногти. — Да, я вредный человек, — Васильев победно улыбнулся, — но свой «вред» я хочу обратить на благо. Для вас же самих, товарищи, для будущего Надыма. Если нам дорого именно дело!
Худи и Хунзи
Вокруг надымских «пятиэтажек», вставших посреди тундры, точно птенцы под крылышком у матери, лепятся балки, вагончики, самодельные строения-времянки. Они окопались в сугробах, обагрились длинными, как свечи, дымами.
Что такое балки? Очень просто: несколько теплофицированных вагончиков (без колес, конечно), расставленных прямоугольником и подведенных под общую «коммунальную» крышу. В каждом вагончике — две крохотные комнатки, а лучше сказать — два купе; между ними общая кухня с газовой плитой и раковиной — все честь честью. Четыре с половиной тысячи холостяков, проживающих в Надыме, пока довольствуются таким жильем; хотя, возможно, за то время, что печатался журнал, цифра могла сократиться. Как, впрочем, и число холостяков.
Мне, честно говоря, балки понравились. Открываешь дверь с улицы — и сразу попадаешь в прихожую, она же вестибюль, гостиная, коридор и сени. Это кому как нравится. Можно устраивать танцы, крутить кино, справлять свадьбу или гонять футбол.
В балке № 96 хант Виктор Хунзи предложил мне сразиться в пинг-понг. За свои двадцать три года он успел, кажется, сменить профессии рыбака, плотника, лесоруба, котельщика, но, став сварщиком, успокоился.
Хунзи парень непростой, с норовом. К нему подход нужен. Знаменитый на Тюменщине бригадир сварщиков Анатолий Шевкопляс рассказывал нам в Медвежьем, что буквально накануне Хунзи самовольно ушел с работы, нагрубил главному инженеру — и все из-за того, что тот снял его с объекта и поставил остеклять окна. «Подвел меня Витя, шибко подвел, — сокрушался Шевкопляс. — А так он мужик ничего, очень даже ничего. Перемелется — мука будет».
В первой же партии Хунзи разделал меня под орех, с гордым вызовом сказал:
— А я думал, москвичи лучше играют.
Я обиделся за москвичей и предложил реванш. Невозмутимый ненец Валера Худи, судивший нашу встречу, шепнул мне:
— Сейчас хвастаться начнет.

Мы поменялись местами, и Хунзи обрушил на меня серию своих коронных ударов с подрезкой.
— Вообще-то школа у вас есть, чувствуется кое-что, — похваливал он меня в перерыве между ударами. — Но... — он применил свою подрезку, — реванш не состоится.
— Хунзи у нас чемпион, — сказал Худи и подмигнул мне.
— Чемпион не чемпион, — заулыбался Виктор, — но кое-что умеем. — И без всякого перехода: — Вот вы наверняка не знаете, кто первый сварщик среди народности ханты?
Выдержанный человек Валера Худи, но и Он зашелся в хохоте. А я сказал, пряча улыбку:
— Знаю, Витя, знаю...
— Откуда ж вы знаете?
— От людей.
— А что еще говорят?
— Всякое...
— Но все-таки?
— Больше хорошего.
— Например?
— Второе место по лыжам занял. Английский язык изучаешь.
— Бросил, — помрачнел Хунзи.
— Напрасно, — пожурил я.
— Некогда стало. На Медвежье перевели...
Худи и Хунзи — друзья-приятели, и оба первые сварщики: Валерий — среди ненцев, Виктор — среди хантов. Но какие разные люди!
Однажды к Худи обратились из краеведческого музея Ямало-Ненецкого национального округа, просили для экспозиции его защитную маску и спецодежду. Худи отказал: «Самому нужно». Год назад вместе со своим бригадиром он удостоился награды: бригадир получил орден, Валера—медаль «За трудовое отличие». Другой бы на его месте обрадовался, а Худи запереживал. Он пришел в балок и сказал: «Возьмите медаль, ребята. В тресте что-то напутали, я ее не заслужил. Когда лучше буду работать — возьму обратно...»
Вскоре вокруг нас образовалась шумная компания — Сережа Яковлев, инженер и самодеятельный композитор Виктор Капустин, фотограф «Комсомольского прожектора» Надя Шуйская, другие знакомые и незнакомые мне люди.
В этот вечер ребята не сказали ничего путного и значительного. Да и что тут говорить, когда сообща построено столько домов и дорог, и в каждом доме, на каждом километре трассы оставлена часть себя, маленькая часть жизни. Истинные слова негромки, истинные поступки немногословны. Главное, наверное, заключалось в улыбках, в подкупающем радушии Сережи, Худи и Хунзи; в том, что сегодня прожит трудный, хлопотный день, и он, слава богу, подходит к концу; и что завтра можно, наконец, выспаться, сходить в кино, в библиотеку или на охоту; и что впереди еще столько всяких дел и нужно успеть их осуществить.
В Салехардском аэропорту, ожидая рейса на Москву, я случайно встретил Леву Пушкина. Он выгружал из вертолета какие-то мешки с пломбами и делал это без всякого удовольствия.
Я подошел к нему.
— Вот, — сказал Лева с обреченностью смертника, — на временную работу оформился.
— Ну и как?
— А-а-а!.. — Он махнул рукой и отвернулся.
— Я тебе тут письмо написал,— сказал я Пушкину, чтобы как-то ободрить его. — Сегодня опустил. — Но он даже не пошевелился. — Я кое-что узнал в Надыме. — Лева навострил уши. — В стройуправлении есть одна вакансия. Тебе обещали прислать вызов...
Олег Ларин
(обратно)
По Амазонке вверх
 Первый и третий классы «Лауро Содре»
Первый и третий классы «Лауро Содре»
Ровно в восемнадцать часов объявили посадку, и по брошенным на причал сходням, толкаясь и суетясь, сотни пассажиров третьего класса устремляются в темное чрево «Лауро Содре». Беря штурмом нижнюю и верхнюю палубы, пассажиры кидаются к стоикам, расчалкам, перилам и, пытаясь опередить друг друга, захватывают лучшие места, куда можно привязать цветастые гамаки.
Шум, крики, плач детей, проклятья, просьбы повисают над причалом белемского порта. Счастливчики, пристроившие гамаки подальше от машинного отделения и поближе к умывальникам, со снисходительной улыбкой наблюдают за суетой менее удачливых попутчиков.
Умостившись в сером гамаке по левому борту нижней палубы, тихо стонет Лурдес — мулатка с громадным животом.
— Крепись, жена, — увещевает ее пожилой негр, раздирающий зубами кусок сушеной трески, — даст бог, доплывем. А ежели, по воле божьей, родишь на судне, так это бесплатно!
Жозе Катарино — молодой башмачник из Сан-Луиса — влез по ошибке в бар первого класса и принялся там привязывать свой гамак. Разумеется, он был изгнан бдительным буфетчиком. Жозе спускается вниз, но и средняя и нижняя палубы уже забиты. Парень долго еще мыкался бы без места, если бы его не окликнул земляк Карлос. Кое-как Жозе втискивается со своим гамаком между гамаками Карлоса и какой-то негритянки с двумя грудными детишками. Сверху над гамаком Жозе свесил правую ногу старик японец, который влез на судно одним из первых и с тех пор тихо лежит себе в гамаке, закрыв глаза.
Неподалеку весело галдят три девицы — обладательницы древнейшей женской профессии, направляющиеся попытать счастья в объявленный недавно открытым портом и заполненный иностранными моряками Манаус. По непостижимой иронии судьбы рядом с ними оказалась монашка сестра Ионисия, возвращающаяся в Уаупес — поселок на реке Риу-Негру, где в составе одной из салесианских миссий она денно и нощно обращает индейцев в католическую веру. Поджав губы и перебирая четки, сестра старается не глядеть на своих шумных соседок.
Часам к восьми по трапам пошла «чистая» публика первого класса. Этим спешить не нужно: в билете у каждого указан номер каюты и места. Сопровождаемые вереницами носильщиков с чемоданами, саквояжами и баулами, они подымаются на самую лучшую — верхнюю палубу, наиболее удаленную от вони трюмов и грохота машин. Размещаются по каютам, а затем выходят на прогулочную палубу, начиная знакомства с попутчиками.
В соседней каюте слева от меня разместился сеньор Пауло — худой бухгалтер из Сан-Паулу, вышедший недавно на пенсию и решивший прокатиться на старости лет по просторам родины. В соседней каюте справа копошится чета Рихтеров: сеньор Фернандо — розовощекий толстяк с седыми волосиками на розовом черепе, и его упитанная супруга — дона Луиза. За ними — каюта элегантного молодого человека, отрекомендовавшегося Итамаром. Ему уже тридцать пять, он занимается коммерцией: нанялся в какую-то фармацевтическую фирму на должность агента по рекламе. Итамар разъезжает по северу и северо-востоку Бразилии с образцами «новых, патентованных, быстро действующих, наиболее эффективных, без противопоказаний» медикаментов, убеждая провинциальных врачей и аптекарей, что только лекарства его фирмы считаются самыми лучшими, тогда как товар конкурирующих лабораторий является «подозрительным, недостаточно изученным, не апробированным, вызывающим побочные эффекты».
Поскольку ничто в Бразилии не совершается в назначенное время, никто не удивляется, когда «Лауро Содре» не отходит по расписанию — в десять вечера, как было указано в билетах. И в третьем и в первом классах (второго класса на судне нет) начинаются ленивые споры, отойдем ли мы раньше или позже полуночи. Кто-то предлагает пари, что проторчим тут до утра. Но где-то около полуночи судно начинает подавать признаки жизни: внизу загудели машины, зазвякали сигналы машинного телеграфа. На правом крыле мостика появился капитан — молодой парень в бесшабашно заломленной на затылок белой фуражке. Раздается низкий гудок. Тяжело повернувшись кормой к как-то провалившимся сразу во мглу огням пристани, «Лауро Содре» неторопливо направляется в черную ночь, начиная очередной рейс по маршруту Белем — Манаус, протяженностью в тысячу миль.
Тысяча миль по самой полноводной реке нашей планеты — Амазонке.
Отчего богатеет гринго
«Лурдес Сантана из Абаэтетубы извещает свою сестру Франсиску в Алмейрине о том, что доктор нашел у ее дочери Марии верминоз». «Внимание, Педро да Роша с рудника Массангана. Твоя подруга Лусия сообщает из Итапиранги, что из 145 крузейро, что ты ей послал, она получила только сто. Остальные сорок пять ей вручены не были».
Это «радиопочта». Все радиостанции Амазонки по нескольку часов в сутки передают короткие объявления и извещения, заменяющие отсутствующую здесь почтовую службу. С утра до поздней ночи равнодушный голос диктора, читающего эти записки, звучит из транзисторов, привязанных к гамакам третьего класса. В шесть утра тихий писк какого-то уже щебечущего, как ранняя пташка, транзистора перекрывается гулким динамиком внутренней трансляции. Сердито посопев, раздраженный голос объявляет:
— Первая смена — дети с сопровождающими — приглашается на утренний кофе в салон, находящийся в носовой части средней палубы. Остальные пассажиры будут приглашены через час.
Скрипя откидными койками, стукаясь лбами и локтями о тесные переборки, лениво пробуждается первый класс.
Утро дождливое, серое. Лениво ползут над водой грязные клочья тумана. Буйная зелень на плывущей назад земле кажется какой-то вылинявшей.
— Будет очень мило, если такая погода сохранится до Манауса, — вздыхает дона Луиза.
— Не думаю, — отвечает ее супруг. — Говорят, что сезон дождей начинается тут не раньше, чем через месяц.
Выйдя из каюты, сеньор Фернандо приветствует соседей: сеньора Пауло и дону Флору, накинувшую легкий плащ поверх ночного пеньюара.
Дона Флора возмущена: кто это додумался — будить на утренний кофе в шесть часов?
— Я говорила, что так и будет, я не хотела ввязываться в эту авантюру, — закатывает она глаза и шаловливо хлопает супруга по руке.
В третьем классе — свои проблемы. Наступив на правую руку Жозе Катарино, спускается со своего гамака старик японец. Он направляется в уборную и обнаруживает, что там нет воды.
Нет воды! Зловещая новость разносится по обеим палубам третьего класса. Нет воды! И гудящая толпа ползет в туалеты первого класса.
Это уже непорядок! Капитан распоряжается убрать «интервентов» обратно, и несколько матросов быстренько загоняют неумытых третьеклассников вниз. Механик отправляется ремонтировать систему водоснабжения в трюме, и спустя полчаса из ржавых кранов третьего класса тонкой струйкой засочилась теплая мутная жидкость.
Моментально у умывальников выстраивается длинная очередь. В самом хвосте — нерасторопный башмачник Жозе Катарино. Вытащив из кармана серьги, он показывает их своему соседу:
— Не нужны тебе?
— Нет, зачем? Что я — индеец, что ли?
— Ну, может, у тебя есть невеста?
— Нет у меня невесты.
— Ну а просто девушка?
— Нет у меня девушки.
— Жаль, — вздыхает Жозе. — А у меня, понимаешь, денег хватило только на билет до Манауса. А еду в Порто-Вельо. Так вот, чтобы купить билет до Порто-Вельо, я должен продать эти серьги. Хорошие серьги. Мне их тетка подарила. Сказала, что лет сто назад ее бабке-негритянке эти серьги подарила хозяйка. За хорошую службу: бабка у нее поварихой была. Значит, не нужны тебе серьги? Жаль...
— А что делать будешь в Порто-Вельо? — интересуется сосед.
— Да то же, что и в Сан-Луисе: башмаки.
— Давай, давай, — говорит сосед. — Желаю удачи! Тут у нас, на Амазонке, только дурак не разбогатеет.
Почесав за ухом, он добавляет:
— Хотя, конечно, лучше начинать, имея деньги. Почему гринго (1 Гринго — распространенное в Латинской Америке название светловолосого и светлокожего иноземца, чаще всего североамериканца. — Прим. ред.) тут быстро богатеет? Он приходит сюда с капиталом. А деньги к деньгам липнут.
— И много тут гринго? — спрашивает Жозе.
— Говорят, даже бывают индейские деревни с белобрысыми детишками, — качает головой сосед и, перегнувшись за борт, показывает рукой: — Вон, видал?
К борту замедляющего ход «Лауро Содре» идут с берега лодки. В каждой сидят мальчишки, подымая над головой корзинки, сплетенные из пальмового лыка, соломенные игрушки.
— Видал? Вот такие мы — бразильцы. Всю жизнь копошимся с этими соломенными игрушками. Или, в крайнем случае, каучук собираем. А гринго — нет! Гринго сразу в землю лезет. Руду ищет: пока мы возимся, он миллионы зарабатывает.
Лодки идут с убогого причала, к которому подходит «Содре». Вероятно, именно тут можно было бы снимать фильм «Типичный поселок Амазонии». На каком-то невидимом пятачке земли, отвоеванном у реки и непроходимой сельвы, приютились на границе леса и воды черный причал, длинный сарай, сколоченный из серых досок, два десятка прижавшихся к мутной воде хибар. Дощатые тротуары. Сквозь щели между досками виднеется вода. Рядом со складом — лавка. На ее длинных полках — галантерея, пакеты с рисом, грампластинки.
— Будем стоять до вечера, — говорит метущий нашу палубу стюард Франсиско.
— Как? До вечера? Но почему? — ужасаются дона Луиза и дона Флора.
— Потому что будем грузить соль, — говорит капитан, — пять тысяч мешков.
В Кокале на борт подымаются еще две пассажирки. Двадцатилетняя мулатка Матильда, худая, беззубая, в рваном выцветшем платье, сопровождаемая семью детьми мал мала меньше и тремя беспородными собачками, тащит в руках сумку с убогим скарбом и ящик с курами. Спустя полчаса все судно будет знать, что Матильда едет в Оришимину к матери, что она убежала от мужа, потому что «устала рожать».
Вслед за Матильдой по трапу поднимается худенькая, бледнолицая девушка лет восемнадцати.
— Роземери, будь осторожна! — кричит с причала мать, осеняя дочку крестным знамением. — Не высовывайся, ради бога, не упади в воду! И не позволяй ничего матросам! Слышишь, Роземери?
 «Это — моя земля!»
«Это — моя земля!»
Мы действительно простояли в Кокале весь день и даже часть ночи. И лишь где-то перед рассветом машины «Лауро Содре» вновь глухо заворчали, и редкие огоньки керосиновых ламп Кокала погасли в черноте амазонской ночи.
Утро следующего дня совсем не похоже на серую погоду Кокала. За кормой показывается краешек громадного багрового солнца. Радостно вскрикивая, носятся над пенистым буруном чайки. Оглушительно кричит петух в дощатой клетке. Сбежавшая от мужа Матильда вскакивает, достает, порывшись в мешке, пригоршню зерна и засыпает ее курам. Потом зевает и, встрепенувшись, бежит в туалетную: нужно успеть умыться до того, как начнут просыпаться остальные, иначе полдня простоишь в очереди. Потом Матильда будит детишек, ведет их умываться, а затем направляется с ними к окошку камбуза. Окошко откроется для раздачи утреннего кофе часа через полтора, но Матильда предпочитает занять очередь заранее, чтобы получить кофе горячим и свежим. Тем, кто окажется в хвосте, достанутся чуть теплые остатки, похожие на воду, в которой мыли посуду.
Показывает признаки жизни и первый класс. Хлопает дверь в каюте сеньора Фернандо. Он выходит на палубу с биноклем в руках и, жадно припав к нему, оглядывает берег.
— Это — моя земля! — говорит ему Жоао Алмейда, фазендейро с острова Маражо, морщинистый, безгубый старик с обтянутым кожей худым лицом, с седыми висками и маленькими хитрыми глазками. Вот уже второй день рассказывает он нам со снисходительной улыбкой бывалого человека о том, как умножал свое состояние, достигшее сейчас, к старости, весьма внушительных масштабов; одних только каучуковых деревьев у него около двух с половиной тысяч. Скота тысяч пять голов. Ну и прочее: орехи, джут, лесопилки...
— Мангровое дерево хорошо покупается в Европе, — рассказывает Алмейда, щурясь на начинающее набирать силу солнце. — А вот каучук доживает последние годы. Синтетика вытесняет.
— Трудно было наладить дело? — спрашивает сеньор Фернандо.
Слово «дело» звучит в его устах весомо и значительно. Он обращается к Алмейде с уважительным интересом, хотя при первом знакомстве этот Алмейда его просто покоробил: за столом он рвал руками рыбу с таким остервенением, что капли жира летели на платье доны Луизы!
Но сегодня сеньор Фернандо чувствует доверие к этому дельцу. Имения, земли и деловые интересы сеньора Фернандо лежат совсем в другой географической и климатической зоне — в прохладных южных степях Риу-Гранди, но он считает, что было бы ошибочно ограничивать себя узкими рамками своей второй родины (сеньор Фернандо — немец, натурализовавшийся в Бразилии). В его обстоятельных вопросах угадывается нечто большее, чем простое любопытство: он начинает подумывать о возможности помещения части своих капиталов здесь, в Амазонии.
— Сегодня здесь рай, — рассказывает Алмейда, затягиваясь дешевой сигарой. — Тишина и спокойствие. А вот когда я начинал, было трудно. С одними индейцами сколько пришлось повозиться, очищая от них наши земли! До сих пор у меня шрам на спине. Господь милостив, не позволил умереть от руки нечестивца: стрела угодила в лопатку. Три сантиметра вправо — и не разговаривал бы я с вами сегодня.
— А вы сами-то много прикончили индейцев? — спрашивает подошедший Итамар.
— Я-то? Да не считал. А потом, как и сосчитаешь: ведь стрелять приходилось в сельве и на реке: иной раз видишь, что он упал. А насмерть или только ранен, кто его знает?
Он закуривает новую сигару и продолжает:
— Потом, когда очистили землю от индейцев, начались другие беспокойства: когда созревает урожай орехов, нужно было нанимать пистолейрос для охраны. Иначе голытьба из окрестных поселков растащит урожай. Однажды с десяток таких мерзавцев собирали мои орехи, и мы решили проучить их. Они укрылись в одной из хижин в лесу. Мы их окружили, устроили настоящую осаду. Три дня стрельбы! — смеется он, растягивая до ушей свой безгубый рот. — Когда они поняли, что подохнут с голоду, но не уйдут от нас, сдались...
— Ну и что? — интересуется Итамар.
— Да ничего. Всыпали им мои ребята по полсотни плетей каждому и отпустили с богом. Потом они еще нас благодарили. Потому как думали, что прибьем их.
После утреннего кофе все разбредаются по своим углам. Итамар уходит в медпункт, пытаясь убить сразу двух зайцев: порекомендовать «докторе», как почтительно зовут молоденькую медсестру пассажиры, кое-какие лекарства из своего чемоданчика с образцами и заодно, как он сказал мне, весело подмигнув, «позондировать почву». Я не склонен осуждать Итамара за второе намерение: «доктора» Соня, стройная, смугленькая, с глубокими зелеными глазами и кокетливой прядкой на лбу, вполне могла бы претендовать на призовое место в конкурсе «мисс Амазония».
Пока я размышляю на эти темы, Итамар возвращается несолоно хлебавши: укладываясь рядом со мной на горячие доски палубы, он сообщает; что Соня исчезла где-то в клоаке третьего класса, куда он не полезет даже за самой красивой девушкой Амазонки.
Где-то около полудня «Лауро Содре» направляется к крохотному дощатому причалу Бревеса.
— Стоянка только для разгрузки почты — не более двадцати минут — сообщает стюард, проходя по палубе первого класса.
Третьему классу никто ничего не сообщает. Ежели и останутся на берегу, бог с ними!

Мы с Итамаром все-таки решаем ощутить под ногами еще один клочок амазонской земли. Прыгаем на причал, заглядываем в серый сарай, где размещается билетная касса. Тут же возле причала — серое здание префектуры поселка с национальным гербом над дверью. Около нее — небольшая толпа. Человек тридцать. Мы проталкиваемся и видим лежащее тело: мулат средних лет в серых рваных штанах, с голым торсом и тонкой цепочкой с крестиком на шее. На его левом виске — пулевое ранение. На земле — лужа черной крови.
— Мертв? — интересуется Итамар.
— Да, — отвечает кто-то. — Помер минут за двадцать до того, как вы причалили.
— Кто это его? — спрашиваю я.
— Приятель! Играли они в карты. Этот, — говоривший кивает головой в сторону трупа, — того обыграл. Приятель сказал: «Давай теперь — на руках. Кто сильнее?» И этот опять его перетянул. И тогда тот, — говоривший машет куда-то головой в сторону, словно показывая, куда исчез «приятель» убитого, — сказал: «В карты ты сильней меня, на руках — сильней, ну на пистолетах тебе со мной не сладить», вытащил пистолет и... Сзади нас гудит «Лауро Содре».
— Ну, пошли, а то останемся, — берет меня за руку Итамар. Потом спрашивает: — Ну а где убийца-то?
Люди молчат, словно удивляясь бестактности вопроса, потом кто-то нехотя кивает в сторону обступившей поселок сельвы:
— Где-то там.
Едва мы отчалили от Бревеса, как динамики внутренней трансляции пригласили на обед. В довольно просторном салоне, как называет это помещение стюард Франсиско, собирается за длинными столами вторая смена первого класса: пассажиры без детей. Чета Фернандо и Пауло. Жоао Алмейда и я с Итамаром закреплены за центральным столом. В молчании поглощается «рис-фасоль» — традиционное блюдо, украшающее наше меню два раза в день. Франсиско, все в той же выцветшей куртке, в которой он полчаса назад чистил туалеты наших кают, подает десерт: компот из сухофруктов. Прихлебывая мутный напиток, сеньор Алмейда кивает в сторону окна, за которым все так- же размеренно тянется назад зеленая сельва:
— Это все еще продолжается моя земля.
— Каррамба! — восклицает, кокетливо грассируя, сеньор Фернандо.
С каждым часом он проникается все большим уважением к своему собеседнику. И даже в разговорах с женой он уже не называет его, как вчера, «этот Алмейда», а говорит просто «Алмейда».
После обеда мои соседи залезают в каюты и отдыхают, переваривая пищу. Итамар делает еще одну попытку разыскать Соню. Кажется, это ему удается: он не показывается на нашей палубе до самого ужина.
О змее боидуне и прочих диковинных вещах
Четыре вечерних часа разношерстный мирок «Лауро Содре» живет бурной жизнью. Из бара первого класса изгоняется «третьеклассница» Надя — чернобровая ливанка, выдающая себя за цыганку и гадающая за три крузейро по руке. По каютам первого класса проносится тревожный слух о том, что в Бревесе к нам сели три известных на всю Амазонку вора. Дона Луиза и дона Флора всплескивают руками и устремляются к оставленным в каютах чемоданам. Ко мне робко стучит Жозе Катарино.
— Не хочет ли сеньор купить серьги?
Я благодарю и отрицательно качаю головой.
— Очень хорошие серьги, сеньор!
— Нет, нет, спасибо.
— И очень дешево. Почти задаром. Пусть сеньор сам назовет цену. Я, понимаете, купил билет только до Манауса...
— Это опять ты? — кричит стюард Франсиско, спускающийся из радиорубки. — А ну, марш отсюда!

Втянув голову в плечи, Жозе покорно уходит.
Стуча каблучками по трапу, спешит «доктора» Соня: в третьем классе кто-то чем-то отравился. Итамар приветствует ее хорошо поставленным театральным вздохом, а когда она, чуть улыбнувшись в ответ, проходит мимо, окидывает ее горящим взглядом с ног до головы и разводит руками, словно говоря: «Потрясающе! Никогда ничего подобного не видел!»
Вонь и чад встречают Соню еще на трапе. Чтобы пробраться к больной, гамак которой находится у самой кормы, рядом с умывальником по правому борту, она вынуждена шагать по ногам, переступать через миски с остатками ужина, пролезать под низко натянутыми гамаками.
Вытянув по полу черные худые ноги, женщины расчесывают детишкам головы, ищут блох в грязных, свалявшихся волосах. Старая негритянка качает ребенка, который мог бы быть ее внуком. Вцепившись грязными ручонками в пустую коричневую грудь, мальчишка тщетно пытается высосать несколько капель молока. Соня находит больную женщину, которая стонет в гамаке, держась за живот. Дает ей какие-то таблетки и спешит прочь. Быстрее, чтобы не задохнуться в этой вони!
Долгий путь сближает людей. До поздней ночи не стихают в третьем классе тихие голоса бывалых людей, рассказывающих новичкам любопытные истории об окружающем судно мире, в котором фантастическая явь сплетается с почти достоверной фантастикой. Об амазонских дельфинах, похищающих по ночам красивых девушек, и муравьях — эцитонах, уничтожающих на своем пути все живое во время своих страшных переселений. О громадной змее — боидуне, способной проглотить лодку с рыбаком, и рысях, неслышно крадущихся по ветвям деревьев.
По берегам реки раскинулся самый большой и самый слабо изученный лес нашей планеты, в котором ботаники пока что насчитали около четырех тысяч видов деревьев. Кстати, во всей Европе количество древесных пород не превышает двухсот.
В тихих заводях и заплесневелых протоках этой реки, заселенных гигантскими черепахами и вечно голодными крокодилами, плавает самый удивительный и самый большой цветок на земле — знаменитая Виктория-Регия, проходящая за четверо суток своей ослепительно прекрасной жизни быструю смену окраски: от снежно-белой до малиново-красной.
А когда выключают свет, беседы начинают стихать, и люди медленно расползаются по своим гамакам. Во мраке слышны тяжкие вздохи, торопливый шепот молитвы, стоны измученной Лурдес и дружные «аплодисменты»: заскорузлыми ладонями пассажиры лупят себя по ногам, по рукам, по лбу, по потным животам и морщинистым шеям, давя карапана — ненасытных, пьянеющих от человеческой крови москитов. Дружно храпят восемь нищих батраков из Терезины, подавшихся в поисках счастья и доли на строительство «Трансамазонки» — дороги, которую прокладывают южнее Амазонки через всю эту сельву с востока на запад. Скорчилась в драном гамаке Матильда, обнимая руками троих самых младших из своего выводка. Матильде снится оставшаяся далеко-далеко позади хижина из пальмовой соломы, ржавый кофейник, где дырочку возле носика приходилось залеплять глиной, и муж с вечно голодными глазами.

— И это все еще идет моя земля, — говорит Алмейда, лениво вытянув подбородок в черноту ночи, где на невидимом берегу медленно плывет назад огонек.
— Вот это да! — восхищается сеньор Фернандо, облокотившийся рядом с ним на палубные перила.
— Но когда же, наконец, кончится ваша земля? — изумляюсь и я.
— Часам к четырем утра.
Мы молчим несколько минут. Потом я спрашиваю:
— Ну а от берега в сельву далеко простирается ваша земля?
— Не знаю, — отвечает Алмейда, затягиваясь осветившей его морщинистое лицо сигаретой.
— То есть как это «не знаю»? — задохнулся от волнения сеньор Фернандо.
— А очень просто. Когда я делал заявку на эти земли, а было это лет тридцать назад, никто тут не интересовался глубиной твоей фазенды от берега реки в сельву. Земля делилась только по берегу: столько-то миль. А туда, в сельву, сколько освоишь, все твое. Никого это не интересовало. Да и сейчас, пожалуй, не интересует.
— Вот это да!.. — восклицает вконец подавленный этими масштабами сеньор Фернандо.
Мы снова молчим, вглядываясь в черноту ночи. Каждый думает о своем. Сеньор Фернандо — в который уже раз за сегодняшний день — подсчитывает, сколько голов скота ему надо будет приобрести для начала, ежели он, вдохновленный примером Алмейды, рискнет купить фазенду где-нибудь по соседству с имениями Алмейды.
Я соображаю, за какую цену придется мне снимать номер в отеле в Манаусе, когда туда придет «Лауро Содре», с учетом фантастической стоимости билета на самолет до Рио-де-Жанейро.
А сеньор Алмейда, вероятно, обдумывает предстоящие торжественные тосты и остроумные экспромты, которые ему надлежит произнести в пункте его назначения — Алмейрине, где он должен сходить завтра утром. Алмейда направляется туда, чтобы поблагодарить избирателей, «оказавших мне честь и доверие на прошедших выборах в законодательную ассамблею штата».
Окончание следует
Игорь Фесуненко
(обратно)
Ребята из млынской долины

Мой друг и коллега Алеш — натура увлекающаяся и непоседливая. В свои тридцать лет он успел объехать чуть ли не половину Советского Союза, побывать в Австралии и Штатах, исколесить Западную Европу. К тому же в душе Алеш романтик. Я до сих пор помню его восторженный гимн самому обыкновенному хмелю, пропетый им в сорокаградусную бакинскую жару:
— Пусть в наших реках нет золотоносного песка, а в недрах — «черного золота», нефти, — говорил он, вытирая градом катившийся пот, — зато у нас есть «зеленое золото» — хмель. Просто кое-кто еще не понимает, насколько он необходим человечеству. Вот, скажем, мы, чехи. Чем бы мы запивали наше национальное блюдо — свинину с кнедликами и капустой, — если бы наши предки не сообразили, что из хмеля можно варить божественный напиток — пиво? Впрочем, судя по тому, что за границей наш хмель покупают нарасхват, там тоже есть умные люди. Возьми такой пример. Ты сам видел, как красива наша Чехословакия, сколько у нас архитектурных и художественных памятников. И все равно многие иностранцы на вопрос, что им больше всего понравилось в Чехословакии, отвечают: пиво. Правда, и наши, когда возвращаются из-за границы и их спрашивают, что им там не понравилось, отвечают: пиво. А все дело в хмеле. Не зря же, когда наступает пора убирать его, и студенты, и рабочие, и школьники — вся молодежь на две-три недели переселяется в хмельники. Поэтому и «дочесну» — ежегодный праздник уборки хмеля в городе Жатец — называют молодежным.
Сегодня мы приехали в Братиславу на другой веселый праздник — праздник начала занятий у словацких студентов. Все утро Алеш рассказывал мне о студенческих традициях.
— ...Ничего нет удивительного, что у нас их масса. Ведь эдикт об основании пражского Карлова университета был издан еще в 1348 году Карлом Четвертым, королем Чехии и императором Священной Римской империи. Высшее техническое училище появилось в Праге в начале восемнадцатого века...
Дружно грянувший студенческий гимн «Гаудеамус игитур» заглушает рассказ Алеша. Мимо нас во всю ширину улицы течет необычная процессия: старающиеся сохранять серьезность парни в строгих цилиндрах, поющие девчата в непривычных средневековых платьях. На тротуарах цепочки зрителей приветственно машут студентам, большинство из которых недавно вернулось со строек, где они работали во время летних каникул.
— Лацо! Михалик! — Я невольно вздрагиваю от оглушительного баса Алеша у меня над ухом. — Жди вечером! Обязательно зайдем! — и Алеш машет вслед кому-то из проходящих.
Вечером мы сидим в уютной комнатке общежития «Молодая гвардия» в студенческом городке, что вырос в Млынской долине. По дороге сюда Алеш успел прочитать мне целую лекцию о значении для страны комплексных работ в Южной Моравии.
— Подумать только, — горячится он, — с каждым годом во всем мире бетон автострад и аэропортов, асфальт новых городов и промышленных строек съедают землю у природы! В одной Чехословакии за пятнадцать лет для сельского хозяйства оказались потерянными четыреста тысяч гектаров.
Прогресс, конечно, остановить нельзя. Значит, нужно заняться теми землями, которые попали у природы в пасынки. Вот, например, Южная Моравия. Места изумительные: перелески, луга, поля пшеницы и кукурузы, виноградники, сады, плантации табака и, конечно, хмеля. Только и забот у местных жителей хватает. Есть в Южной Моравии треугольник между известняковыми холмами Паланских Верхов на западе, слиянием рек Дыи и Моравы на юге и древним городком Стражнице на востоке. Ни мало ни много — почти 90 тысяч гектаров. Испокон веков два-три раза в год почти четверть земли там затопляется разливами рек Моравы, Свартки, Дыи и десятков речушек и ручьев. А каждое наводнение тянется от двух недель до двух месяцев. Смывает не только посевы, но, бывает, и дороги, мосты, дома. Каждое наводнение — миллионы крон убытков. Но и это еще не все. Кончается половодье — другой бич: засуха. Почва пересыхает, трескается. Опять потери.
...Теперь представляешь, как важна комплексная программа орошения и мелиорации для Южной Моравии, которую начали осуществлять в конце шестидесятых годов. Ну да о ней Лацо лучше расскажет. Он там весь третий семестр проработал, — подводит итог Алеш.
Наш хозяин Ладислав Михалик явно смущен. Он только что вернулся с реки Дыи и вдруг подвергся совместной атаке двух журналистов. Мне тоже становится неудобно за наше внезапное вторжение, но Алеш спасает положение. Когда он почувствует интересный материал, то умеет разговорить даже самого закоренелого молчуна. Слово за слово, и я узнаю, что Ладислав вот уже вторые каникулы подряд проводит на мелиоративных работах в Южной Моравии, где Алеш, оказывается, и познакомился с ним. В прошлом году Михалик в основном орудовал лопатой — был простым землекопом, в нынешнем получил повышение — стал бульдозеристом. Почему он выбрал именно Южную Моравию для третьего семестра? Не слишком ли там «грубая» работа для студента? Вот уж нет! Он с детства любит природу, а на таком строительстве как раз и можно помочь ей. Тем более после окончания высшей школы Михалик будет строителем. Впрочем, в молодежных бригадах вместе с ним трудились и будущие юристы, и психологи, и технологи.
В Южной Моравии такие бригады студентов, в большинстве членов Социалистического союза молодежи, можно встретить во многих местах. Да это и неудивительно, если учесть масштабы работ, ведущихся в «мокром треугольнике». Укрепляются высокими насыпями берега рек, сооружаются насосные осушительные станции, плотины, водохранилища, которые весной и осенью будут задерживать паводковые воды, а в период засухи отдавать их полям. Южная Моравия, конечно, не Сахара, но все же это самая теплая и самая сухая низменность в Чехословакии. Сейчас главные работы ведутся на реке Мораве около Годонина. Здесь предстоит углубить и выпрямить русло, чтобы увеличить его пропускную способность с 200 м3 воды в секунду более чем в четыре раза. Тогда даже при самом большом паводке Морава не будет выходить из берегов. Ладислав же работал на Дые, где в месте слияния ее с Моравой строится водохранилище.
— А знаете, какое самое интересное да и самое большое сооружение в южноморавском комплексе? — хитро улыбнулся Лацо, довольный тем, что поставил Алеша в затруднительное положение. — Водохранилище в долине около Новых Млинов. Во-первых, длина его будет двадцать километров, а ширина три. Во-вторых, сейчас в Южной Моравии нет ни одного дома отдыха поблизости от больших водоемов, а в гостиницах, домах отдыха, турбазах на берегах водохранилища смогут каждое лето отдыхать от восьмидесяти до ста двадцати тысяч человек. В-третьих, это будет настоящее птичье царство...
В таком грандиозном проекте, как тот, о котором рассказывал нам Ладислав, особое внимание уделено охране местной флоры и фауны. Дело в том, что Южная Моравия расположена на одной из главных трасс птичьих перелетов в Европе: ежегодно орнитологи регистрируют здесь до 260 видов птиц — всего на 100 меньше, чем на всей остальной территории Чехословакии. Большинство прилетает с первым весенним солнцем и покидает гнездовья лишь глубокой осенью. К тому же маршруты пернатых идут отсюда во все концы земного шара: в тундру и к мысу Доброй Надежды, в Гвинею и к скандинавским фьордам, в пески Северной Африки и на побережье Черного моря.
Поэтому в комплексном проекте работ в Южной Моравии есть специальный раздел, касающийся создания необходимых «удобств» для птиц. Поскольку часть нынешних заливных лесов исчезнет, их должно заменить водохранилище у Новых Млинов. Там для перелетных птиц будет создано несколько островков для гнездовий.
— Теперь представляете, что такое Южная Моравия сегодня и какой она станет завтра? — закончил свой рассказ Ладислав Михалик.
С. Паверин
(обратно)
Корабли приходят в Ленинград
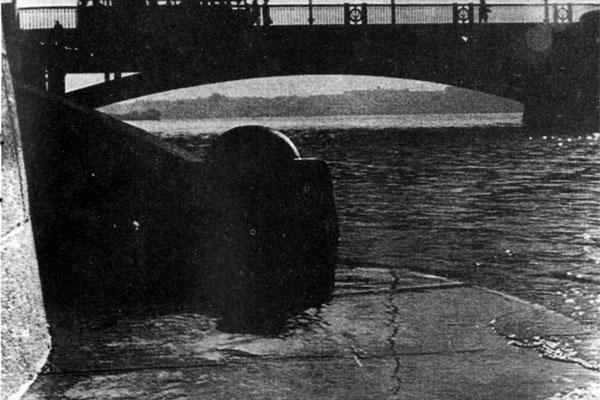
Не успели мы с ледокола перейти на лоцманское судно «Ленинец», как на горизонте появились неясные очертания идущих кораблей. Нам даже не удалось прилечь на аккуратно прибранные койки в каюте, отведенной для дежурных лоцманов: матрос сообщил, что судно «50 лет Советской Украины» на подходе. И все же лоцман, с которым мне предстояло подняться на встречаемое судно, открыл бельевой шкаф, достал постельные принадлежности, но, подумав, положил обратно. Пока мы шли на ледоколе из порта сюда, на кронштадтский рейд, я надеялся познакомиться с лоцманом поближе, но ни на ледоколе, ни здесь, на «Ленинце», такой возможности не представилось. Сняв ботинки и укладываясь на диване, он ответил на мой удивленный взгляд:
— У лоцмана главное: уметь использовать любое свободное время для отдыха, чтобы в любой час быть готовым к работе. После этого стало очевидным, что знакомство может состояться только в деле, во время проводки.
Когда в диспетчерской мне сказали, что в море я выйду с Василием Тюхиным, самым молодым лоцманом порта, сорокового года рождения, — это меня и удивило, и обрадовало. Обрадовало потому, что легче будет найти с ним контакт, а удивило потому, что лоцманы — это, как правило, люди в возрасте, уже отплававшие капитаны и штурманы с большой практикой. На современном флоте можно встретить немало молодых капитанов, но лоцманов...
Вокруг нас белое ледовое поле Финского залива, и на нем одинокие, с зияющими бойницами форты, которые начал строить еще Петр Первый. В те времена пушки стреляли недалеко — восемьсот метров, и поэтому перекрестный артиллерийский огонь преграждал кораблям шведов путь к городу. Строительство фортов продолжалось до начала нашего века. Недалеко виднеются башни Кронштадта; артиллерия и корабли этой крепости в Великую Отечественную войну не пропустили вражеские суда к морским воротам Ленинграда.
Здесь, на кронштадтском рейде, круглый год дежурит лоцманское судно «Ленинец», чтобы встречать суда, идущие в Ленинград, указать им ориентиры, высадить лоцмана, обеспечить безопасность плавания по узкому извилистому фарватеру протяженностью в двадцать семь морских миль.
Ледокол «Семен Дежнев», встретив у приемного буя за горизонтом два судна, приближался к нам, оставляя за собой канал чистой воды. В кильватере у него шли небольшое западногерманское судно и за ним громадное, еще не ясных форм «50 лет Советской Украины».
После короткой команды взревели мощные двигатели «Ленинца», и судно начало разворачиваться по битому льду среди торосов. Василий Тюхин подошел к радиотелефону:
— «Семен Дежнев», я — «Ленинец»... Выходим вам навстречу. Встанем в пяти кабельтовых.
Темнеет. Небо низкое, с багровым горизонтом. Ледокол проходит за кормой «Ленинца». На подходе небольшой западногерманский лесовоз с надстройками на корме. Видно, что он идет на балласте — без груза. Высоко на корпусе, над белой кромкой льда видна грузовая ватерлиния. «Ленинец» медленно разворачивается кормой к его корпусу.
— Курс триста пятьдесят...
— Триста пятьдесят, — повторил рулевой.
Лоцманское судно, работая машинами назад, как бы вошло в ледовую траншею, чтобы твердо, без дрейфа, подойти кормой к встречаемому судну, мягко коснувшись его корпуса. «Ленинец» дал один длинный гудок. Лесовоз ответил тем же. Значит, понял маневр лоцманского судна. На «Ленинце» ребята волновались: боялись, что на лесовозе не поймут и не остановятся. Такое случалось с иностранцами. Лоцман Анатолий Селезнев уже стоял на корме, ожидая лесовоз, а Василий Тюхин через палубный динамик (по рации с лесовозом связаться не удалось) передал на английском языке, чтобы западногерманское судно гасило инерцию и встало серединой корпуса к корме лоцманского судна.
Подходит и «50 лет Советской Украины», водоизмещением около двадцати тысяч тонн, длиной сто шестьдесят метров, и на борту виден матрос, который держит на планшире свернутый штормтрап, поджидая лоцмана.
— «Ленинец», я — «Яне», — раздался по рации голос Анатолия Селезнева с лесовоза. — Как слышите меня?
Кто-то из ребят пошутил:
— Пришел русский лоцман и наладил связь.
Наконец настала и наша очередь. Предстояло с кормы «Ленинца» подняться на высоченный борт по обледеневшему веревочному трапу, который наверху, на палубе, страховал матрос. На флоте есть вещи, о которых не говорят вслух: например, умеешь ли ты плавать или можешь ли в открытом море в шторм подняться с катера по штормтрапу на большое судно. Об этом деликатно умалчивают, но непременно подстраховывают, и делают это не навязчиво, не задевая мужского самолюбия и не подчеркивая, что ты не моряк. Конечно же, Василий Тюхин не знал, бывал я раньше в море или нет, терпел ли бедствие. На подробное обоюдное знакомство времени не было, и лоцман до последнего момента вел себя так, словно не замечал меня. Но едва я шагнул к трапу, как услышал за спиной его спокойный голос:
— Когда поднимаешься по трапу, все время надо чувствовать три точки опоры.
Я понял, что его безразличие было чисто внешним, до сих пор так он подчеркивал свое отношение ко всему, что не относилось к его работе. Может быть, это объяснялось его молодостью.

Наверху у борта нас ждал матрос. Он подал руку, и я вспомнил, как всегда, поднимаясь на суда по трапу, чувствовал твердую руку матроса, помогающую сделать последний рывок через высокий борт, руку, подхватывающую тебя на последней ступени, иногда самой трудной.
Продрогнув в ожидании на палубе «Ленинца», мы с удовольствием ощущали тепло просторной и уютной рубки. В рубке темно, но она заполнена разноцветными огоньками контрольных приборов.
После короткого приветствия капитан отходит в сторону, и с этой минуты командует лоцман.
— Самый малый вперед... — Лоцман как бы осваивается и знакомится с судном, с его ходом. А все остальные, и я в том числе, — с лоцманом, с его умением и опытом.
— Самый малый, — повторяет штурман, отводит ручку телеграфа. Я замечаю, что он, как и капитан, и матрос, и я, поначалу несколько удивлен молодостью лоцмана.
— Руль лево пять...
— Руль лево пять, — отозвался матрос.
Капитану судна Юрию Николаевичу Алыбину сорок шесть лет. Это крупный, крепкого телосложения одессит. Сейчас он возвращается после шестимесячного плавания. Его судно заходило в Хайфон, Бангкок, Рангун, Сингапур, в порты Малайзии — Кланг и Пенанг, в Европе — в Булонь, в Антверпен, Гамбург, Роттердам, пересекло экваториальные воды, вышло в Атлантику и затем в северные моря. «50 лет Советской Украины» прошло не одну тысячу миль, и это чувствуется в атмосфере ходовой рубки корабля, в настроении капитана. Он укутан в шубу, словно все еще не может согреться после того, как вошли в Балтийское море. Его можно понять: несколько месяцев плавали и работали при плюс двадцать семь — тридцать градусов — и вдруг льды... На первый взгляд кажется, что Юрий Николаевич «выключился», не думает о судне. Он ходит по рубке и иногда позволяет себе говорить вслух:
— Сейчас меня встретят жена и дочь... Интересно, как их там устроили?
Его жена и дочь должны были приехать в Ленинград из Одессы на время стоянки судна в порту.
Проходим Кронштадтскую стену. Стемнело.
— Лево руля двадцать, — командует лоцман.
— Лево руля двадцать, — отвечает матрос.
— Слушайте внимательнее, — неожиданно обращается капитан к матросу. — Выполняйте команды точнее.
Капитан увидел, что лоцман чуть поторопился с поворотом, и выговорил матросу, а не лоцману. Лоцман почувствовал, что капитан заметил его небольшую ошибку, деликатно принял это замечание и скомандовал:
— Одерживай нос вправо...
С этой минуты стало ясно, что между капитаном и лоцманом установились взаимопонимание и доверие, которые возникают в начале, в середине или к концу пути, но лучше, как сейчас, в начале.
Темноту рубки рассек матрос в белом халате. Он тихо поставил поднос с кофе и бутербродами, а капитан приправил все это хорошими сигаретами.
Ветер принес снег, и видимость была нарушена. Теперь лоцман часто выходит на открытый мостик, где морозный воздух обжигает лицо, и подолгу стоит, вглядываясь в темноту. В рубке тихо. Только ровно, на одной ноте поют машины. Едва виден силуэт матроса у штурвала, где-то в углу у иллюминатора прислушивается и наблюдает капитан. Его присутствие хоть и ощущается, но оно деликатное, ненавязчивое: ведет судно лоцман. Судно идет в наступившей темноте, но за ним ведут наблюдения радиостанции береговых диспетчерских служб. Они вдруг возникают в рации и слышно:
— Я — УМА-3. Прием... Слышу вас хорошо...
— Нам нужны два буксира на двадцатый причал, — включается в разговор лоцман. — Через полтора часа...
Судно все еще идет в открытом море — по каналу, отмеченному буями. Я пытаюсь разглядеть впереди створные огни, но вижу лишь тусклые одинокие огоньки, разбросанные в беспорядке. То, оказывается, мы проходим мимо землечерпалки, то мимо встречного судна. И только один лоцман как будто видит красные и белые буи, бочки, створные огни... Вглядываясь в ночь, он по одному ему знакомым приметам и признакам точно знает, как провести корабль по узкому каналу, по фарватеру, шириной шестьдесят метров.
Постепенно начали проявляться в ночи огни Ленинграда. Справа мы на траверзе Петродворца, слева — более тусклые огни Васильевского острова. В хорошую погоду Ленинград открывается далеко с залива, и видно, как на солнце блестит купол Казанского собора, шпиль Петропавловской крепости, и город вытягивается в одну линию, но, чем ближе к порту, на первый план выступают новые дома, и весь дворцовый Ленинград закрывают собой башни-новостройки Васильевского острова.

Город возник неожиданно, словно до поры до времени в нем не было света, но вот включено все освещение разом, и оно сливается в одну плотную стену огней. Оборачиваюсь на голос из темноты рубки у иллюминатора и слышу:
— Ни один город в Союзе не распахивается с моря весь, сразу, во всю величину, как Ленинград.
Лоцман пересекает рубку и подходит к радиотелефону:
— Трансфлот, я — «50 лет...». Где находятся прибывшие члены семей экипажа?
— У нас в гостинице, а сейчас звонили еще с Московского вокзала...
— Если спросят еще, скажите, что мы в канале, скоро должны подойти.
— Подойдете к причалу, проинформируйте меня, — просит диспетчер трансфлота.
— «50 лет..,», я — «Ленинград»... вам навстречу идет судно.
Это уже береговая служба «Раскат». Весь канал разбит на пять секторов, и пять операторов по радиолокационным установкам следят за продвижением судов. Иногда корабль может пройти фарватер порта без лоцмана, с помощью службы «Раската». Но это могут себе позволить только свои ленинградские капитаны, которые хорошо знают обстановку канала, все его каверзные участки. «Раскат» помогает лоцманам в основном при плохой видимости и когда по каналу интенсивное движение.
Наблюдая за работой лоцмана, понимаешь, что есть ситуации, когда никакая техника не заменит человека. Капитан, прошедший тысячи миль, возвращаясь в порт, не станет рисковать судном. И одно то, что лоцман первым поднимается на судно как представитель города, провожая корабль, последним сходит с судна, говорит о том, что, как бы технически ни изменился флот, эта фигура человека всегда будет дорога морякам и, пожалуй, ничто не изменит эти старые, добрые традиции... Когда к порту подходит иностранное судно, то на его борт первым поднимается лоцман как представитель государства. По его внешнему облику, по его работе иностранные моряки судят о стране, о людях.
...В октябре 1955 года в Ленинград с визитом дружбы пришла Британская эскадра.
Октябрь для лоцманов в ленинградском порту — самый трудный месяц. В море за Кронштадтом на «Ленинце» ждал эскадру лоцман Владимир Васильевич Герасимов. Он принял авианосец «Триумф» и провел корабли через все узкости морского канала до моста Лейтенанта Шмидта. Все прошло благополучно. Но, когда эскадра должна была возвращаться обратно, с моря задул сильный ветер. Выход из порта и проход по узкому, извилистому фарватеру были небезопасны. И британский адмирал запросил: «Каково мнение лоцмана?» Владимир Васильевич предложил переждать пять-шесть часов. Казалось бы, британский адмирал мог бы обойтись и без мнения лоцмана, тем более что советов со стороны высокого начальства было много, но он приказал ждать. Позже ветер немного стих. С большими трудностями прошли трассу канала. Лил сильный дождь, а мостик на «Триумфе» был открытым, и все стоявшие на нем вымокли, и потом сойти с авианосца из-за шторма оказалось сразу невозможным. Пригласив Владимира Васильевича в каюту, отогреваясь у камина, адмирал восторгался отличной работой русских моряков. Все знают, что британцы хорошие мореплаватели, и из эпизода ясно, как высоко они оценили ленинградского лоцмана...
Профессия лоцмана одна из старейших.
В этих местах, когда Санкт-Петербурга еще не было, лоцманскую службу завели новгородцы. Они выходили в Финский залив Волховом, Ладожским озером и Невой. В Новгороде даже был специальный суд, который разбирал конфликты между капитаном, лоцманом и хозяином, устанавливал плату за лоцманский труд.
На берегах Финского залива лоцманская служба официально появилась при Петре Первом. Рассказывают, что когда Петр Первый шел из своей новой столицы в Кронштадт, то корабль его часто садился на мель. Глубина местами была настолько мала, что царь прыгал в воду в своих ботфортах и сталкивал парусник вместе с матросами. Когда в очередной раз его судно село на мель, а какое-то суденышко, ловко и умело управляемое, проскочило мимо и пошло дальше, Петр остановил это судно, опросил хозяина (он оказался жителем прибрежного района), а затем сказал: «Отныне ты, твои дети и внуки будете лоцманами». В фильме «Петр Первый» есть эпизод, в котором лоцман Родалевский празднует день рождения сына — и в нужный момент оказывается не в состоянии осуществить проводку голландского судна. Тогда Петр переоделся и лично принял судно и провел в столицу. Действительно, Родалевские были в Ленинграде потомственными лоцманами, и последний из них погиб во время блокады в 42-м году у главных ворот морского торгового порта.
...Наше судно входит в закрытую часть канала: слева начинается Канонерский остров, а с правого борта причальные строения, краны, склады, и повсюду суда, и переплетения мачт и стрел кранов в ослепительных лучах прожекторов. Отчетливо видно красные створные огни порта. Канал стал уже от стоящих тесными рядами кораблей.
— УМА-3, — запрашивает лоцман, — какие буксировщики будут работать?
— Я — УМА-3... Буксировщики «Туман» и «Ураган».
— Кто капитан на «Урагане»? Шубин? Хорошо. Передайте, что будем поддерживать связь по шестому каналу.
Мне показалось, что, услышав фамилию капитана Шубина, лоцман остался доволен.
— «Туман», добрый вечер. Вы будете работать у двадцатого причала. Будьте примерно у середины корпуса.
— «Ураган», зайдите к носу, возьмите буксирный конец и ведите судно на середину канала.
— Я — «Ураган», вас понял.
Что ему сказал лоцман, чтобы тот понял? Почему на середину канала, когда причал на правой стороне? Их язык кажется сложным. Работа буксировщиков незаметная, не разрекламированная. Они скромны, избегают красочных интонаций, не нажимают на слова и порой говорят даже в сложной ситуации два-три слова — начало мысли и дальше не договаривают, ибо знают: кому надо, тот понял. Непосвященные, смотрят ли они с берега или с палубы судна, не оценят работу буксира. Долго наблюдать устают и, ничего не поняв, решают, что скучнее и проще работы буксировщика и быть не может. И только лоцманы и капитаны по-настоящему знают им цену. В современной морской практике с появлением судов большого водоизмещения потребовалось при встрече и проводке судов прибегать к помощи этих суденышек, небольших, невзрачных на вид, но с мощными машинами, которые разворачивают океанские корабли, помогают им встать к причалам, но сами никогда не уходят в далекие плавания. Судно сбавило ход, и команды лоцмана стали частыми:

— Руль лево пять... Стоп машина... Самый малый.
Увидев свободную причальную стену, я догадался, что это и есть двадцатый причал. С правого борта показался буксировщик «Ураган». Дойдя приблизительно до первого трюма, он развернулся, привалил к носу нашего судна и исчез за его огромным корпусом.
— Вниманию экипажа, — раздался голос капитана, — швартовой команде — на бак и на корму.
Показалось, что атмосфера в рубке стала напряженной: прекратились разговоры, никто не задает лишних вопросов. В голосе лоцмана появились нотки собранности и напряжения:
— «Ураган», следите сами, чтобы не было лишних команд.
Теперь судно шло, буксируемое маленьким «Ураганом». Точнее говоря, наше
движение можно было определить лишь по приближающейся стене причала.
Момент был ответственный, и нетрудно было понять сейчас капитана и лоцмана. Можно прекрасно провести судно через сложный и узкий фарватер, но, если не завершишь работу удачной швартовкой, если у судна будет помят борт, или врежешься в причал, или заденешь чужое судно, вся твоя работа идет насмарку. Судно необходимо поставить к причалу с математической точностью, красиво, так, чтобы не осталось и тени сомнения. И потом, наконец, от того, как швартовалось судно, зависит и настроение капитана на всю стоянку. Со стороны кажется, что швартовка — плевое дело, сложнее пересечь штормующий океан. Одинаково не просто и то, и другое. И как бы сейчас ни был напряжен капитан, мысленно ни обрабатывал все команды лоцмана, он должен быть уверен, что у того всегда есть один маневр в запасе.
Судно мягко коснулось причальной стены. Запасного маневра не понадобилось. Лоцман отдает последнюю команду в темноту рубки:
— Погасить ходовые огни. Швартовка окончена.
Лоцман подходит к рации:
— «Ураган», «Туман», благодарю за хорошую работу.
У трапа собрались матросы. Провожая Василия Тюхина, кто-то сказал:
— Отличная швартовка, лоцман.
— С благополучным прибытием в город Ленина, — ответил лоцман и начал спускаться по трапу.
Это были дни, когда город отмечал пятидесятилетие присвоения ему имени Ленина.
Надир Сафиев
(обратно)
Необыкновенная история острова Оук
 Все началось с шалостей
Все началось с шалостей
Дэниел Мак-Гиннис не читал пиратских романов по двум причинам. Во-первых, на дворе стоял 1795 год, и время Стивенсона, Конрада и капитана Мариетта еще не настало, а во-вторых, зачем книжки, коли есть кое-что позанимательнее: например, рассказы старожилов о живых корсарах — капитане Кидде, Черной Бороде, Эдварде Дейвисе и многих, многих других.
Дэниел Мак-Гиннис жил в Новой Шотландии (это полуостров на восточном побережье Канады), а в пиратов он и два его приятеля играли на маленьком острове Оук, что значит Дубовый, совсем близко от побережья в бухте Махон.
Как-то раз, изображая высадившихся корсаров, дети углубились в дубраву, от которой остров и получил название, и оказались на большой поляне, где в центре раскинул свои ветви огромный старый дуб. Ствол дерева был когда-то сильно попорчен ударами топора, одна из нижних ветвей была отсечена напрочь, и с толстенного сука что-то свисало. Приглядевшись, Дэниел понял, что это снасти старинного парусного судна. Скрипучий блок на конце тали явно служил отвесом. Он как бы указывал на небольшую ложбину под дубом. Сердца мальчишек бешено заколотились: неужели здесь на самом деле были пираты и неужели они действительно закопали здесь сокровище?
Дети моментально раздобыли лопаты и принялись копать. На небольшой глубине они наткнулись на слой обтесанных плоских камней. «Есть! — решили они. — Под камнями наверняка клад!» Они разбросали плиты, и им открылся колодец, уходящий в глубь земли, настоящая шахта, шириной около семи футов. В грязи, заполнявшей шахту, Дэниел увидел несколько кирок и лопат. Все понятно: пираты спешили и даже не успели захватить с собой инструменты. Очевидно, сокровище где-то близко. С удвоенным старанием мальчишки принялись очищать отверстие от грязи. На глубине 12 футов лопаты глухо стукнули о дерево. Сундук? Бочка с дублонами? Увы, всего лишь перекрытие из толстых дубовых бревен, за которым шахта продолжалась...
«Своими силами не справиться, — заключил «доблестный пират» Мак-Гиннис. — Придется просить помощи у туземцев». Ближайшие «туземцы» проживали в маленьком новошотландском селении Луненберг. Однако странное дело: как горячо дети ни рассказывали о золотых слитках и монетах, которые якобы лежат прямо под ногами, никто из взрослых не взялся им помочь. Дурной славой пользовался остров Оук у местных жителей; особенно маленькая заводь, носящая название Бухты Контрабандиста. Кто-то видел там голубые языки пламени, кто-то наблюдал призрачные полуночные огни, а один старожил уверял даже, что по берегу острова бродит и мрачно ухмыляется встречным призрак одного из убитых в давние времена пиратов.
Дети вернулись на остров, но раскапывать шахту дальше не стали: глубоко. Вместо этого они решили обшарить побережье. Поиски только подогрели интерес: в одном месте нашлась медная монета с датой «1713», в другом — каменная глыба с привинченным к ней железным кольцом — видно, здесь швартовались шлюпки; отыскался в песке и позеленевший боцманский свисток. С мыслью о сокровище пришлось на время распроститься: Мак-Гиннис и его друзья поняли, что на острове в буквальном смысле закопана загадка и разгадать ее трудно даже взрослому человеку.
Неудавшиеся миллионеры
Снова на острове Дэниел Мак-Гиннис очутился лишь через девять лет. На этот раз он тоже был не один. Подобрать единомышленников-кладоискателей оказалось парой пустяков.
Деловитые юноши принялись быстро раскапывать колодец. Мягкий грунт легко поддавался лопатам, но... желанное сокровище не показывалось: слишком уж хитроумно неизвестный строитель оборудовал эту шахту. Глубина 30 футов — слой древесного угля. 40 футов — слой вязкой глины. 50 и 60 футов — слои из волокон кокосового ореха, так называемой кокосовой мочалки. 70 футов — опять глина, явно не местного происхождения. Все слои через равные интервалы перекрыты платформами из дубовых поленьев. Уффф! 80 футов — наконец-то! Находка! Кладоискатели подняли на поверхность большой плоский камень размером 2 фута на 1 с вырезанной на нем надписью. Не сокровище, к сожалению, но зато — каждому ясно! — указание, где его искать! Правда, надпись оказалась шифрованной. Вот она:

...Здесь мы позволим себе маленькое отступление и забежим чуть-чуть вперед. Очень быстро отыскался некий дешифровщик, который, пробежав надпись глазами, заявил, что текст ему ясен: «10 футами ниже покоятся два миллиона фунтов стерлингов». Такое прочтение, естественно, не могло не вызвать сенсации. Но, во-первых, 10 футами ниже Мак-Гиннис ничего не нашел, во-вторых, дешифровщик отказался объяснить, каким образом он столь быстро справился с задачей, а в-третьих... в 1904 году — много лет спустя после смерти Дэниела — таинственный камень не менее таинственно исчез из хранилища, куда был помещен.
(В 1971 году профессор Мичиганского университета Росс Вильгельм предложил новую расшифровку надписи. По его словам, шифр на камне чуть ли не в малейших деталях совпадал с одним из шифров, описанных в трактате по тайнописи 1563 года. Автор его, Джиованни Баттиста Порта, привел и способ расшифровки. Используя этот способ, профессор Вильгельм установил, что надпись испанского происхождения и переводится примерно следующим образом: «Начиная с отметки 80 сыпать в водосток маис или просо. Ф.». Буква Ф, считает профессор, — начальная буква имени Филипп. Как известно, был такой испанский король Филипп II, и правил он с 1556 по 1598 год, однако какое отношение он мог иметь к Новой Шотландии, французской колонии? Чуть позже это станет ясно, а пока заметим, что расшифровка Вильгельма тоже может оказаться притянутой за уши, в таком случае надпись — если это не ложный след — еще ждет своего толкователя.)
Так или иначе, а Мак-Гиннис со товарищи шифровку не разобрали и продолжали копать дальше. Глубина 90 футов: шахта начинает заполняться водой. Копатели не унывают. Еще три фута — и рыть становится невозможно: на два ведра грунта приходится поднимать ведро воды. Ах, как заманчиво углубиться еще чуть-чуть! Вдруг сокровище вот здесь, рядом, в каком-нибудь ярде? Но спускается ночь, а вода угрожающе прибывает. Кто-то предложил потыкать дно вагой. Справедливо: через пять футов железный прут упирается во что-то твердое. Потыкали вокруг: на перекрытие из бревен не похоже — размер небольшой. Что же — тот самый заветный сундук? А может, бочка? Ведь пираты, как известно, прятали клады в бочки и сундуки. Открытие привело искателей сокровищ в восторг. Еще бы! Можно ночь передохнуть, а утром поднять клад и приступить к дележу. Однако дележа не последовало. На следующий день Мак-Гиннис и его друзья едва не передрались с досады: шахта на 60 футов была заполнена водой. Все попытки откачать воду потерпели провал.
Техника — еще не все
Дальнейшая судьба Мак-Гинниса неизвестна, а вот судьба шахты прослеживается с мельчайшими подробностями. Только теперь это не просто шахта (по-английски «пит»). Кладоискатели настолько уверовали в то, что на дне ее лежит сокровище, что окрестили ее «мани пит», то есть «денежная шахта».
Новая экспедиция появилась на острове через сорок пять лет. Первым делом в шахту был опущен бур. Пронизав воду и грязь, он прошел все положенные 98 футов и уткнулся в ту же самую преграду. Идти дальше бур не захотел: то ли малосильный он был, то ли не деревянная была бочка, а железная — неизвестно. Одно выяснили искатели: надо нащупывать иной способ. И «нащупали»! Они пробурили так много вертикальных шурфов и наклонных каналов, надеясь, что по одному из них вода сама собой отсосется, что клад — если это на самом деле был клад — не выдержал: ухнул вниз, просел в развороченном грунте, навеки затонул в грязевой бездне. Прощальное бульканье лишний раз намекнуло незадачливым бурильщикам, насколько близки они были к цели и насколько немудро поступили.
Здесь пора вспомнить о профессоре Вильгельме. Может, он прав со своим толкованием надписи: вдруг маис или просо — будучи ссыпаны в шахту — сыграли бы роль водоотсасывающего средства? На этот же вопрос наталкивает следующая любопытная деталь. В Бухте Контрабандиста экспедиция 1849 года обнаружила полузатопленную дамбу из... «кокосовой мочалки», аналогичной той, что образовывала слои в шахте. Кто знает, вдруг это остатки былой дренажной системы, предотвращавшей поступление океанской воды в глубины острова?
Чем ближе к нашему времени, тем чаще кладоискатели наводняли остров. Каждая экспедиция открывала на Оуке что-то новое, но все они действовали столь ретиво и напористо, что скорее отдаляли разгадку тайны, чем приближали ее.
Экспедиции 60-х годов прошлого века открыли под островом несколько ходов сообщений и водоводных каналов. Один из крупнейших туннелей соединял «денежную шахту» с Бухтой Контрабандиста и выходил прямо на кокосовую дамбу! Однако неумелые попытки добраться до клада нарушили тонкую систему подземных сообщений, и с тех пор воду из подземных галерей откачать не удается. Бессильна даже современная техника.
«Кампания» 1896 года принесла очередную сенсацию. Кладоискатели по обыкновению стали бурить в «денежной шахте», и на глубине 126 футов бур уперся в металлическую преграду. Заменили бур маленьким сверлом из особо прочного сплава. Одолев металл, сверло пошло на удивление быстро — очевидно, встретило пустое пространство, а с отметки 159 начался слой цемента. Точнее, это был не цемент, а что-то типа бетона, арматурой которому служили дубовые доски, толщина этого слоя не превышала 20 сантиметров, а под ним... под ним оказался какой-то мягкий металл! Но какой? Золото? Никто не знает: ни одна крупинка металла не прилипла к сверлу. Бур поднимал разное: кусочки железа, крошки цемента, волоконца древесины — а золото не появлялось.
Один раз бур принес на поверхность вещь совсем уж загадочную. К нему прилепился маленький кусочек тонкого пергамента, и на этом пергаменте явственно проступали написанные чернилами две буквы: «w» и «i». Что это было: обрывок шифровки с указанием, где искать сокровище? Фрагмент описи клада? Неизвестно. Продолжения текста не нашли, а сенсация осталась сенсацией. Самоуверенные бурильщики заявили, что на глубине 160 футов найден новый сундук. О ранее затонувшей «бочке» даже не подумали, но поспешили разнести весть о нескольких кладах, закопанных на острове, и молва, естественно, не замедлила раздуть новость. Вскоре пошли слухи, будто остров просто-таки начинен сокровищами, правда, затопленными, но если их не поднять на поверхность, бедный Оук скорее всего лопнет от распирающих его богатств.
В то же время на острове нашли еще один таинственный знак: на южном берегу был обнаружен большой треугольник, выложенный из валунов. Фигура больше всего походила на стрелу, острие которой точно указывало на дуб-великан, единственный заметный ориентир в роще, определявший местонахождение шахты.
Сейчас известно немало версий о происхождении предполагаемого клада. Наиболее интересны попытки установить связь между островом Оук и легендарным сокровищем капитана Кидда.
Четыре года капитан Кидд и его пиратская эскадра наводили ужас на моряков Индийского океана. В 1699 году судно капитана — одинокое, без эскадры — неожиданно объявилось у берегов Америки с грузом драгоценностей на борту — на сумму 41 тысяча фунтов стерлингов. Кидда мгновенно арестовали и отправили на родину, в Англию, где его очень быстро приговорили к смертной казни через повешение. За два дня до виселицы, 21 мая 1701 года, Кидд «одумался»: он написал в палату общин письмо, где просил даровать ему жизнь... в обмен на спрятанные им где-то в тайнике богатства. «Раскаяние» Кидду не помогло, пирата казнили, зато буквально на следующий день началась интереснейшая в истории кладоискательства охота за его сокровищами.
Какая-то часть Киддова богатства была найдена относительно быстро. Она была спрятана на острове Гардинер, вблизи атлантического побережья Северной Каролины и... оказалась незначительной. По наиболее вероятным предположениям, основное богатство могло храниться в двух местах: в районе острова Мадагаскар и у побережья Северной Америки.
Гарольд Уилкинс, американец, посвятивший свою жизнь отысканию старинных кладов, опубликовал в конце 30-х годов книгу под названием «Капитан Кидд и его Остров Скелета». Факсимильная карта, якобы начертанная рукой капитана, что приведена в этой книге, удивительно напоминает карту острова Оук. Та же бухта на северном берегу (Бухта Контрабандиста?), та же шахта, и даже тот самый таинственный треугольник. Что это, совпадение? Прямое указание на связь последнего путешествия Кидда к берегам Америки с исчезновением его сокровищ? Пока ответа на эти вопросы, как и на многие другие, не существует.
В XX веке экспедиции посыпались на остров как из мешка. 1909 год — фиаско. 1922-й — фиаско. 1931, 1934, 1938, 1955, 1960-й — результат тот же. Какая только техника не использовалась на острове: мощные буры и сверхсильные насосы, чувствительные миноискатели и целые дивизии бульдозеров, — и все напрасно.
Если прослеживать историю острова, то легко заметить, что он ведет «нечестную игру». Любая тайна, а особенно тайна, связанная с каким-либо сокровищем, рано или поздно раскрывается. Достаточно иметь точное указание на место клада, некоторые средства, определенную технику — и пожалуйста: можно бежать в ближайший банк и открывать там счет (или, убедившись в том, что сокровища нет, объявить себя банкротом). Так было с островом Гардинер, так было с сокровищем египетских фараонов, да что говорить: Шлиман имел гораздо меньше достоверных сведений, а все-таки откопал Трою. С островом Оук все наоборот. «Денежная шахта», в финансовом смысле буквально бездонная, охотно поглощает любые суммы денег, а вот к.п.д. ее, если так можно выразиться, равен нулю.
Начиная с 1965 года завеса таинственности, окутывающая остров, стала постепенно рассеиваться, но далось это не без драматической истории. Именно в 1965 году «денежная шахта» показала свой коварный нрав — в ней погибли четыре человека.
Семья Ресталлов —Роберт Ресталл, его жена Милдред и два их сына — появилась на острове в конце 50-х. Шесть лет они бурили остров, пытаясь найти ключ к тайне водоводных каналов. Их окрыляло то обстоятельство, что в первый же год пребывания- на острове Роберт нашел еще один плоский камень с выбитой на нем загадочной надписью.
Золота он, как и все предшественники, не добыл, да и вообще камень оказался первой и последней находкой. Кроме того, на Оуке объявился конкурент. Это был некий Роберт Данфилд, геолог из Калифорнии. Он нанял целую армию бульдозеристов и принялся методично срывать остров, надеясь не мытьем, так катаньем добиться успеха. Неизвестно, чем бы кончилась конкурентная борьба, если бы Ресталл не погиб: он свалился в шахту. Три человека спустились вниз, чтобы спасти его. Все трое погибли вместе с Робертом. Среди них был старший сын кладоискателя...
Терпение да труд...
В том же 1965 году на острове показалась новая фигура — 42-летний бизнесмен из Майами Дэниел Блэнкеншип. Новичок не разделял варварских методов «обращения» с островом, но все же, чтобы хоть как-то приобщиться к делу, стал компаньоном Данфилда. Впрочем, был он им недолго: Данфилду не удалось избежать стереотипной судьбы всех «покорителей» острова — он разорился, и Блэнкеншип стал едва ли не полновластным распорядителем раскопок на острове Правда, распорядителем без средств: с падением Данфилда превратилась в дым и доля Блэнкеншипа. Выручил его Дэвид Тобиас, финансист из Монреаля. Тобиас заинтересовался островом, выделил из своего капитала крупную сумму и организовал компанию под названием «Тритон эллайенс лимитед», а Дэниел Блэнкеншип занял пост одного из ее директоров.
Блэнкеншип не торопился бурить, взрывать или скоблить землю. Первым делом он засел за архивы. Блэнкеншип рассматривал старинные пожелтевшие карты, листал дневники экспедиций, читал книги, посвященные пиратским и непиратским сокровищам. В результате ему удалось систематизировать все версии о возможном кладе. Не считая версии о сокровище капитана Кидда, наиболее интересны три из них.
Версия первая:
сокровище инков.
На самом севере Перу есть провинция Тумбес. Пятьсот лет назад это был самый укрепленный район империи инков. Когда Франсиско Писарро в двадцатых годах XVI века предавал земли инков огню и мечу, он умудрился награбить там богатств на сумму в 5 миллионов фунтов стерлингов. Однако это была лишь малая толика сокровищ. Большая их часть пропала без следа. Куда же она делась? Не была ли она тайными путями переправлена через Панамский перешеек и укрыта на одном из маленьких атлантических островов? И не мог ли этот клочок суши быть островом Оук?
Версия вторая:
сокровище английских монахов.
В 1560 году английский парламент распустил аббатство при соборе св. Эндрю. Монахи этого аббатства славились тем, что на протяжении тысячи лет накапливали в подвалах монастыря золото, бриллианты и произведения искусства. После решения парламента сокровище неожиданно исчезло. Может быть, безвестные хранители драгоценностей смогли переправиться через океан и добраться до острова Оук? Любопытное обстоятельство: подземные галереи Оука и подземные ходы, прорытые под старинными английскими аббатствами, на удивление похожи. Если отбросить мелкие несоответствия, то можно предположить, что их делали руки одних и тех же мастеров.
Версия третья:
самая спорная.
Евангелие рассказывает, что, перед тем как взойти на Голгофу, Иисус Христос собрал Тайную Вечерю — прощальный ужин с учениками. Будущие апостолы проливали слезы и отпивали вино из массивной золотой чаши, известной как чаша Святого Грааля. Дело происходило в доме Иосифа Аримафейского. Неизвестно, была ли Тайная Вечеря на самом деле или нет, но подобная чаша долгое время хранилась в Англии, в Гластонберийском аббатстве, куда ее якобы лично доставил Иосиф Аримафейский. Когда правительство решило конфисковать богатства Гластонбери, обнаружилось, что чаша Святого Грааля словно испарилась. Аббатство перевернули буквально вверх дном, нашли большое количество золотых и серебряных изделий, но только не чашу.
Историк Р. В. Хэррис, впервые описавший остров Оук, считал, что чаша была спрятана масонами. Последние якобы укрыли Святой Грааль... все на том же острове Оук.
Казалось бы, вся подготовительная работа Блэнкеншипом проведена, чего же ждать? Ринуться на остров и бурить, бурить.. Но Дэниел не торопится. До него дошли слухи о существовании где-то на Гаити подземелья, которое в давние времена служило пиратам Карибского моря потайным хранилищем богатств. Рассказывают, что система тамошних туннелей и водо-водных каналов очень похожа на сеть коммуникаций острова Оук.
Блэнкеншип садится на самолет и летит в Порт-о-Пренс. Подземного банка он не находит, зато встречается с человеком, который отрыл некогда один из пиратских кладов, оцениваемый в 50 тысяч долларов, и вывез его с Гаити контрабандным путем. Беседа с кладоискателем направила мысли Блэнкеншипа по новому руслу. Нет, решил он, пираты Северной Атлантики скорее всего не строили подземных сооружений: просто им это было ни к чему. Кто-то прорыл все эти туннели до Кидда и Черной Бороды. Может, испанцы? Может, надо датировать образование «денежной шахты» 1530 годом, когда испанский флот стал совершать относительно регулярные рейсы между недавно открытой Америкой и Европой? Может, командующие армад только говорили, что часть судов гибнет во время ураганов, а на самом деле утаивали значительную часть награбленных богатств, сберегая их до лучших времен?
Блэнкеншип еще не знал в то время об исследованиях профессора Вильгельма, но, если бы знал, точнее, если бы профессор сделал свое открытие чуть раньше, они наверняка нашли бы общий язык.
Вернувшись с Гаити, Блэнкеншип наконец обосновался на острове, но пустил оборудование в ход опять-таки не сразу. Сначала он исходил весь остров вдоль и поперек. Он ходил медленно, осматривая каждый квадратный метр почвы, и это дало кое-какие результаты. Он нашел многое, что осталось незамеченным предыдущими экспедициями. Так, например, осматривая берег Бухты Контрабандиста, он обнаружил занесенные песком развалины древнего пирса — деталь, указывающая на явную невнимательность всех предшественников Блэнкеншипа.
Как мы знаем, былые кладоискатели слишком активно стремились проникнуть в недра острова, и, видимо, это не позволило им попристальнее приглядеться к поверхности. Кто знает, сколько тайных и явных знаков, свидетельств, примет старины, лежавших буквально под ногами, было уничтожено, когда бульдозеры утюжили остров!
Маленький кусочек тайны
Скважина, получившая название «Шпур 10 X», расположена в двухстах футах к северо-востоку от «денежной шахты». Впервые она была пробурена в октябре 1969 года. Тогда ее диаметр не превышал 15 сантиметров. Почему Блэнкеншип заинтересовался ею — трудно сказать, скорее всего помогло знание биографии острова. Как бы то ни было, он расширил отверстие до 70 сантиметров и укрепил стенки широкой металлической трубой. Труба была спущена на глубину 180 футов и уперлась в скальные породы. Это не остановило исследователя. Он принялся бурить скальное основание острова. Интуиция подсказывала ему, что поиски нужно вести именно в этом месте. Бур прошел еще 60 футов и вышел в... заполненную водой полую камеру, что располагалась в толстом пласте породы.
Это произошло в начале августа 1971 года. Первым делом Блэнкеншип спустил в «Шпур 10 X» портативную телекамеру, снабженную источником света. Сам он сидел в палатке у телевизионного экрана, а три его помощника возились с лебедкой. Камера дошла до заветной полости и стала медленно поворачиваться там, посылая наверх изображение. В этот момент из палатки донесся вопль. Помощники бросились туда, предполагая самое худшее, что могло случиться, — обрыв кабеля, и увидели своего начальника в состоянии, мягко говоря, экзальтации. На экране мерцало изображение: огромная камера, очевидно, искусственного происхождения и в центре ее — здоровенный ящик, может быть, даже сундук с сокровищем. Однако не ящик заставил Блэнкеншипа исторгнуть вопль: прямо перед оком телекамеры в воде плыла... человеческая рука! Да, да, человеческая кисть, отсеченная по запястье. В этом можно было поклясться!
Когда помощники Дэниела ворвались в палатку, он, несмотря на свое состояние, не произнес ни слова: ждал, что скажут они. Вдруг они ничего не увидят? Вдруг у него начинаются галлюцинации? Не успел первый вбежавший бросить взгляд на экран, как тут же закричал: «Что за чертовщина, Дэн? Никак человеческая рука!»
Дэн схитрил.
— Ну да? — внутренне ликуя, усомнился он. — Может, перчатка?
— Черта с два перчатка! — вмешался второй работник, Джерри. — Вон, все кости у этой дьявольщины можно пересчитать!
Когда Дэниел опомнился, было уже поздно. Рука исчезла из фокуса телекамеры, а о фотографировании изображения никто в первый момент не подумал. Потом Блэнкеншип много раз делал снимки с экрана. На одном из них видны «сундук» и размытое изображение руки, на другом можно различить очертания человеческого черепа! Однако та четкость, с которой рука была увидена в первый раз, впоследствии ни разу не была достигнута.
Блэнкеншип хорошо сознавал, что снимки еще не доказательство. Хотя он был уверен в существовании и сундука, и руки, и черепа, убедить в этом других он не мог. Любой фоторепортер поднял бы его на смех, уж кому-кому, а им известно, что такое фототрюки.
Дэн решил сам спуститься в «Шпур 10 X» и поднять на поверхность хоть какое-нибудь доказательство. Но так как спуск человека в 70-сантиметровый колодец на глубину почти 75 метров — дело рискованное, его пришлось отложить до следующей осени.
А сезам... не открывается
Итак, год 1972-й, сентябрь. На острове Оук работает последняя из известных пока экспедиций. Ее начальник, Дэниел Блэнкеншип, собирается проникнуть в глубь скального основания острова, чтобы дать наконец ответ на загадку, волнующую искателей сокровищ вот уже почти 200 лет.
Первый проверочный спуск произошел 16 сентября. Блэнкеншип дошел до глубины 170 футов и опробовал аппаратуру. Все нормально. Через два дня — повторный спуск. Теперь уже Дэн решил достичь самой «сокровищницы» и немного осмотреться там. Погружение шло как по маслу. За две минуты Блэнкеншип добрался до нижнего конца 180-футовой металлической трубы, затем проскользнул в шахту в скальной породе, и вот он уже на дне «камеры сокровищ». Первое впечатление — разочарование: ничего не видно. Вода мутна, а свет фонаря пробивает ее не далее чем на метр. Через полторы минуты Дэн дернул за трос: можно поднимать.
— Почти ничего не видно, — рассказывает он на поверхности. — На три фута видно, дальше — мрак. Впрочем, ясно, это большая полость, и в ней что-то есть. Что есть — трудно сказать: надо больше света. На дне какой-то мусор, обломки, все занесено илом. Из-за ила-то вода и мутная. В следующий раз разгляжу побольше. Самое главное — добрался!
21 сентября — третья попытка. На этот раз Блэнкеншип опустил в камеру мощный источник света: две автомобильные фары на небольшой платформе. Затем пошел вниз сам. Результат плачевный: фары не справились с задачей, пробить мутную илистую воду им не удалось. Последняя надежда на фотоаппарат со вспышкой. Спустившись вниз 23 сентября, Блэнкеншип понял: это тоже не выход. Снимая легководолазный костюм, он удрученно жаловался товарищам;
— Фотографировать бессмысленно. Я даже не смог понять, где у этого чертового фотоаппарата перед, а где зад. В общем, щелкать там затвором — пустая трата времени. Да и фары ни к чему. Такое ощущение, будто их вовсе нет. Обидно. Спускаешься на большую глубину, знаешь, что там что-то есть, и тут от малейшего движения вздымаются тучи ила, и ни черта не видно. Все хорошо, пока не попадешь в полость, там дело идет насмарку.
Итак, остров упорно хранит свою тайну. Многое уже известно, но дать ответ на главный вопрос — есть ли там сокровище и что оно собой представляет — не способен никто. Пролить свет на загадку острова Оук может либо новый серьезный исследователь, либо Дэниел Блэнкеншип. А Блэнкеншип... отмалчивается.
— Пока не буду делать никаких заявлений, — говорит он. — Я не собираюсь никому ничего рассказывать до тех пор, пока не выясню все до конца. Не хочу, чтобы толпы чертовых идиотов на каждом углу кричали, будто именно они открыли мне секрет. Не хочу, чтобы здесь шла грызня из-за богатства. Единственное, что могу сказать о сокровище, — пираты здесь ни при чем. Мне кажется, я знаю, что находится внизу, и эта штуковина грандиознее, чем все, что можно себе вообразить... Теории о сокровище инков, английских монахов и прочие любопытны, но неправдоподобны. Это все вокруг истины, а не сама истина. То, что находится под островом, оставляет позади любую теорию. Все теории или легенды меркнут в лучах того, о чем догадываюсь я... А пираты ни при чем. Точно! Если бы я думал, что здесь приложил руку капитан Кидд, меня бы на острове не было. Капитан Кидд — мальчишка по сравнению с теми, кто на самом деле рыл здесь туннели. Эти люди не чета пиратам, они были куда как значительнее, чем все пираты всех времен, вместе взятые...
Виталий Бабенко
(обратно)
Лунный оазис
 5 апреля
5 апреля
Сегодня на Луне была прекрасная лунная ночь. «Уить, уить!» — дремотно кричала какая-то птица в лугах. Закинув руки под голову, я лежал на копне сена и смотрел, как всплывает лунный диск, как мерно разливается его сияние, подвижным серебром понизу блестит речной перекат, а от ближних берез ложатся черные, растушеванные тени. Далеко за тем берегом мерцающей точкой вспыхнул огонек костра, и оттуда, приглушенное расстоянием, донеслось лошадиное ржание.
Вы, очевидно, решили, что я издеваюсь над вами. Какое сено, какие костры, дали и лошади могут быть в лунном городе?! И, простите, как на Луне может всходить луна?
Однако я описал точно, что видел и слышал, не приврав ни единого слова. Все было так, как я рассказывал. Хотите, привезу засохший цветок? Он запутался в волосах, когда я лежал на сене, и еще хранит свой запах...
Хорошо, начну сначала, как добросовестный повествователь, а то, чего доброго, вы действительно заподозрите, что со мной не все в порядке.
Итак: я на Луне. Долетел благополучно и третий день (по земному исчислению) знакомлюсь с городом. Представьте себе глубоко зарытые соты размером с солидный дом, и вы получите о нем первое представление. Оно отвечает истине, но способно ввести в заблуждение, как всякая полуправдами заметил, что полуправда нередко хуже лжи, так как легче создает видимость истины). Соты... А разве наши городские дома не похожи на соты? Это нас не тяготит, потому что в любой момент мы можем куда угодно выйти, поехать. Жители лунного поселка лишены не пространства — по лунной поверхности можно разгуливать так же, как и по земной. Они лишены другого. На Луне нет лесов, рек, лугов, ветра, который бы обдувал тело, — словом, там нет ничего земного, к чему человек привык и без чего он долго жить не может. Поэтому я сразу поведу вас в окрестности лунного поселка.
Город врыт в скальные породы не потому, что на поверхности ему так уж угрожают метеориты. До появления громоотвода молнии для земных сооружений были, пожалуй, не меньшей опасностью, чем метеориты для лунных, — люди, однако, не зарывались в норы. Дело в другом. Город расположен в системе пещер — это выгодно для строительства и для жизни. В них есть все... даже лунная ночь!
Прежде чем сводить вас в парковые пещеры, опишу их. Они в общей сложности занимают одиннадцать гектаров. Там есть леса и луга с настоящей травой и настоящими деревьями (даже грибы растут).
«Жалкий пятачок!» — скажете вы. И про себя добавите со вздохом: «Что делать, им, на Луне, приходится довольствоваться малым...»
Теперь, когда вы это подумали, идемте. Мы входим в пещеры. Что, не верите глазам своим?
Над головой бесконечная даль неба. Слева равнина переходит в тенистые ущелья гор. На поднебесных вершинах алмазно блещут ледники. Справа в берег бьют пенные волны прибоя. Вечные волны, на которые можно глядеть до бесконечности...
Вы рассержены. Вы знаете, что ни гор, ни моря в крохотной пещере быть не может, вы догадались, что это обман.
Хорошо, нагнитесь и пощупайте землю. Настоящая, верно? Сорвите травинку. Можно, можно! Какая же это имитация? Ах вот как! Вы решили немедленно разрушить обман и быстро пересекаете пространство, чтобы коснуться грязных стен пещеры. Не торопитесь, обратите внимание, как по мере движения перед вами меняется пейзаж и ближний, и дальний. Вы уверены, что глаза вас обманывают? Интересно, где, с какого места начинается обман? А, вы не можете различить... Но сейчас вы дойдете до конца, и тут уж обман выйдет наружу, так вы считаете.
Почему вы остановились? Ясно, перед вами скала, без крючьев на нее не влезть. Что ж, это часто бывает в горах, ищите обход. Прекрасно, вот пологий склон. Вы не хотите продираться через заросли ежевики? Вполне с вами согласен, не стоит. Так, так, лучше устремиться к берегу моря, уж тут... Вот досада какая: обрыв, нельзя спуститься!
Не гневайтесь, лучше обратите внимание: с моря тянет соленый ветерок. Внизу по камням ползают крабы...
Говорите, что с вас довольно? Что любая совершенная имитация все же подделка? И что не следует дразнить морем человека, который знает, что искупаться он может лишь в трехстах восьмидесяти тысячах километров отсюда.
Тут вы заблуждаетесь. Но об этом — в следующем письме.
12 апреля
Ваш ответ полон укоризны. Согласен, я заслужил упрек. Я начал не с описания лунных лабораторий и работ, которые там ведутся, потому что лаборатории, в общем, везде одинаковы. Если бы не слабая сила тяжести, можно было бы подумать, что находишься в Дубне или Пущине. И только вид человека, который перемещается по коридору прыжками наподобие кенгуру, вместо того чтобы идти скорым шагом, напоминает, что этот научный городок находится все же не на Земле.
Здесь можно встретить физиков, планетологов, инженеров-энергетиков, биологов, дизайнеров, специалистов по вакуумной металлургии, механиков, теплотехников, климатологов, монтажников, гелиотехников... Короче, легче назвать профессию, которая здесь не представлена, чем продолжать перечисление. Верхний этаж поселка занимают астрофизики и инженеры, которые обслуживают космодром. Еще когда Луна была недоступной, один ученый назвал ее «раем астрономов». Это оправдалось лишь отчасти, потому что, как выяснилось, некоторые астрономические наблюдения удобней вести с орбитальных станций. Все же телескопы лунной обсерватории (оптические, нейтринные, гравитационные и всевозможные радиогамма-рентгеновские) используются круглые сутки. Впрочем, у физиков, планетологов, биологов то же самое. Чем больше решается проблем, тем больше их возникает. Не знаю уж, какая тут пропорция: один к двум, один к трем или один к пяти. Впрочем, это естественно: знания подобны освещенному кругу. Чем шире круг, тем больше точек соприкосновения с непознанным. А непознанное влечет... Научный городок на Луне не производит ничего вещественного — только знания. Но знания, которые добываются здесь, если их оценить в деньгах, за год дают большую прибыль, чем какой-нибудь Клондайк за время своего существования.
Но, пожалуй, еще более драгоценен опыт создания земной среды, который тут накоплен. Создание внеземных оазисов жизни, в сущности, началось с полета первых советских и американских космических лабораторий (строго говоря, даже раньше, — уже корабль Юрия Гагарина, дату полета которого мы здесь отмечаем с особым чувством, был частичкой Земли).
Нынешний лунный городок отличается, однако, не просто масштабами и совершенством. Это, по существу, полигон, где накапливается опыт освоения безжизненных миров. Ведь, начав с Луны, мы неизбежно пойдем дальше — к Марсу, Венере, Меркурию, спутникам Юпитера, Плутону. Вот почему я хочу вернуться к быту лунного городка.
Вы, как я понял из письма, догадались, что «бескрайние дали» созданы ухищрениями голографической техники, разработки которой начались еще в шестидесятых годах. Глаз, как вы знаете, не в состоянии отличить голографическое изображение предмета от самого предмета. Это можно сделать только посредством осязания, зрительное же сходство абсолютно. Но к чему все эти ухищрения?
С энергией на Луне нет проблемы. Любопытно, что солнечные батареи удалось разработать как раз накануне космических полетов. Не будь этого, длительные полеты оказались бы делом куда более трудным, а в ряде случаев и невозможным. Солнечные батареи и до сих пор не нашли широкого применения на Земле; это была с самого начала прежде всего космическая техника. Ее, словно по заказу, делали для Луны, для всех небесных тел, где нет воздуха и тем более облаков. Естественно, что солнечные батареи стали основой лунной энергетики. Впрочем, великолепную возможность для развития энергетики здесь создают и резкие температурные перепады дня и ночи, освещенных и затененных участков поверхности. Это тоже используется.
Раз нет проблемы с энергией, то, следовательно, нет никакой особой проблемы и с материалами. Как известно, из горных пород (на Земле или на Луне — неважно) в принципе можно получить все что угодно: любые металлы, соединения и при желании воду и кислород. Поэтому если в Антарктиду приходилось доставлять все до последнего гвоздя, то на Луне многое оказалось возможным и выгодным получать на месте.
Мало, однако, было создать жилища, замкнутую среду в пещерах, плантации, систему кругооборота воды и воздуха. Человеку для нормальной жизни нужно пространство, и не вообще пространство, а, во-первых, земное, во-вторых, разнообразное. Но нельзя же вместить в пещеры и леса, и реки, и горы! Нельзя — и тем не менее сделать это было необходимо, так как человек, лишенный новизны путешествий, подлинного контакта с природой, начинает слабеть. Этим обстоятельством можно было и пренебречь, устроить все, как было когда-то на зимовках. Но зимовщики все же могли передвигаться, путешествовать, их окружала земная среда. И то к исходу полярной ночи, которая заточала их в станции, они чувствовали себя неважно. «Сенсорный голод», как это состояние определяют психологи; в некотором отношении он не менее мучителен, чем обычный голод. Луна в этом смысле предоставляет еще меньше удобств. Нет, прежние решения не годились, если мы хотели осваивать небесные тела, а не бывать там наездом.
Психологи помогли разрешить противоречие. Комнаты в лунном городе в принципе ничем не отличаются от комнат земной квартиры. Но ведь здесь не может быть окон? Ничего подобного: окна там есть. Сегодня я проснулся и распахнул окно... прямо в сад! В комнату ворвался запах сирени. Моя вытянутая рука чуть-чуть не доставала осыпанных росой соцветий.
Никакого волшебства в этом, конечно, нет: простая голография и запахотехника. У себя в комнате я всем этим могу управлять. Могу сменить пейзаж на любой, какой мне заблагорассудится: захочу, чтобы были пески Сахары — будут; захочу видеть березовую рощу — возникнет. Нечто вроде домашнего кино; нажатием кнопки я ставлю любое изображение. Но это изображение неотличимо от действительности. Из окна своей московской квартиры я вижу всегда одно и то же. Здесь разное. Правда, потрогать изображение ни в том, ни в другом случае я не могу. Но надо ли объяснять, из каких окон вид лучше?
Если у меня есть намерение полежать на травке, я спускаюсь в парковые пещеры. В одной из них есть озерко с пляжем. Там можно купаться. Или лежать загорая (над головой бескрайнее голубое небо с южным солнцем; все это, конечно, тоже ухищрения голографической техники, но попробуй отличить!). Возникло желание прогуляться, посмотреть новые места? Пространства пещер распланированы таким образом, что по тропинкам, которые лишь изредка пересекают друг друга, туда и обратно можно пройти несколько километров (здесь очень пригодился опыт японского микропаркового искусства). Вы скажете, что такие прогулки могут быстро надоесть: каждый раз видишь одно и то же. Вблизи — да, но вдали... Окрестные пейзажи день ото дня меняются, а следовательно, и дорога каждый раз оказывается несколько иной. Техника смены пейзажей в принципе та же, что и техника смены видов за окнами. Только все это гораздо сложней в осуществлении; в разработке программ принимали участие лучшие художники земного шара. Солнце в голографической небе «всходит» и «заходит» с земной периодичностью. Время от времени его заволакивают облака, тучи, иногда с молниями и громом. И дождем — ведь растительность нуждается в поливе...
Короче, у нас есть полная возможность любоваться все новыми и новыми уголками природы, закатами и восходами, грозами и лунными ночами. В помещениях поддерживается ровная температура, в пещерах она колеблется, как это бывает летом в средних широтах. И, опускаясь после обеда или вечером в пещеры, ни один человек заранее не знает, какими будут окрестности и какая будет погода.
Вечное прекрасное лето... Но ведь и оно может надоесть жителям средней полосы? Справедливо. В любое время вы можете взять лыжи и отправиться кататься. Зимняя пещера устроена по принципу всех остальных, только в ней стоит легкий морозец и лежит глубокий снег. Размеры ее невелики, но размяться на лыжах можно; можно и скатиться с горки (новички неизменно падают, потому что не учитывают слабого притяжения).
Да, вот еще что: ночами в Зимней пещере нередко горят полярные сияния...
Прощайте, до следующего письма.
19 апреля
«Стоило переселяться на Луну, чтобы видеть вокруг все земное!» — пишете вы.
Ну, во-первых, никому не возбраняется гулять по Луне. Такие прогулки и поездки требуют соблюдения некоторых правил безопасности. Но эти правила обременяют человека не более, чем правила погружения под воду в аквалангах или правила альпинизма. Кроме того, каждый может создать у себя за окном любой лунный пейзаж. В-третьих...
Вот тут мы сталкиваемся с проблемой. Земные растения прекрасно прижились в лунном грунте. Они дают кислород и лесную свежесть, совсем как на Земле. Но трава и особенно деревья под влиянием слабого лунного притяжения все более начинают отличаться от своих земных сородичей. А голографические «деревья» в окрестностях остаются прежними. Возникает некоторое несоответствие, и сейчас идет острая дискуссия, как быть. Одни считают, что ничего менять не следует, другие настаивают на исправлении голограмм, чтобы растительность «там» обрела те же пропорции, что и растительность «здесь». Яро выступают против новшеств биологи, которые изучают эволюцию земной растительности в лунных условиях, — для них удобно постоянно иметь перед глазами неизменный голографический «эталон».
Не знаю, какое будет принято решение.
Во многих описаниях лунного города настойчиво повторяются выражения: «искусственная среда», «техносфера, которая заменила биосферу», «техника, более совершенная, чем природа».
Бесспорно, лунный оазис от начала и до конца творение человеческого разума. Но это вовсе не «искусственная среда»! Это частичка земной природы, перенесенная на почву Луны; она живет и «развивается по естественным законам. Мы только регулируем ее жизнь, да и то не всегда (никакими способами мы, например, не можем увеличить силу лунного притяжения). В перспективе это обстоятельство создает массу проблем, с которыми люди никогда не сталкивались. Вот мы создали лунный оазис. Рано или поздно мы создадим такие же оазисы на Венере, Марсе. Человек идет к другим мирам не в одиночестве; в его багаже —. земная природа, без которой — теперь это уже ясно — нигде, ни в каких далях он обойтись не может. Но, прививая земную природу другим планетам, мы убеждаемся, что эта природа в самом что ни на есть замкнутом, герметичном пространстве неизбежно подвергается влиянию местных условий. На Луне и других небесных телах земная природа перестает быть чисто земной! Потому что там другая сила тяжести, потому что там другие магнитные поля... И предотвратить эти изменения пока не представляется возможным. Но к чему они приведут? На это должен ответить лунный оазис, и от того, каким будет ответ, в немалой мере зависит вся программа освоения солнечной системы.
Но это еще далекое будущее. Пока есть лунный поселок с прекрасным, чистым, здоровым воздухом (никакой пыли и гари тут, естественно, нет), комфортабельными жилищами, разнообразной природой и интересными, увлеченными своим делом людьми. Отрыва от Земли здесь не ощущается ни в чем. Надежная связь, которая, в частности, позволяет «присутствовать» на всех кино- и театральных премьерах, выставках, спортивных состязаниях (голография и здесь создает эффект подлинности). А какие соревнования местные любители спорта устраивают на Луне! Четыре оборота — недосягаемая мечта даже для чемпионов мира по фигурному катанию; здесь можно видеть и пять и шесть...
В космосе и на Луне уже побывали художники, писатели. Наиболее проницательные критики успели заметить, что по мере освоения космоса содержание культуры становится все богаче и разнообразней. Искусство сейчас похоже на человека, перед которым вдруг открылись новые, невиданные и необозримые дали.
Да... Срок моей командировки истекает, пора возвращаться.
Сознаюсь, мне, не хочется покидать лунный город. Здесь так хорошо жилось и думалось...
Послесловие автора
Самое фантастическое в этом очерке то, что в нем, но существу, нет никакой фантастики. Как, а лунный город?! Верно, такого города нет. Но его проектирование и строительство могли бы начаться уже сегодня. И на всю работу ушло бы лет десять (ошибка в несколько лет принципиальной роли здесь не играет).
Это кажется невероятным, но это так. Все технические предпосылки для создания такого лунного города уже есть. Специалисты, правда, могут возразить, что, к примеру, не существует столь совершенных голографических установок, какие описаны в очерке. Справедливо. Думаю, однако, специалисты согласятся, что при должной концентрации материальных средств и интеллектуальных усилий такие установки вполне можно разработать в течение десяти лет. Так же обстоит дело и со всем прочим — транспортом, строительством, жизнеобеспечением лунного поселка.
Главное препятствие не в этом. Лунный оазис можно начать создавать уже сегодня, но это пока не под силу экономике. Не знаю, сколько сотен миллиардов рублей здесь потребуется, знаю, что много, слишком много. Но за технической возможностью всегда следует экономическая. Всегда. И те, кому сейчас двадцать лет, особенно если до конца восторжествует политика разрядки международной напряженности, надо думать, смогут принять участие в создании земного оазиса на Луне.
А кое-кто, возможно, и поработает там...
П. Базаров
(обратно)
Уступи слонам дорогу

Каждый день мы ездили по заповедным джунглям Цейлона в поисках слонов. Распорядок был жесткий: выезжаем в шесть, затем возвращаемся к завтраку, днем отдыхаем и снова трясемся на «джипе» с пяти до шести тридцати. Хищников здесь было немного. Спокойно паслись стада пятнистых оленей, разгуливали живописные павлины, изредка попадались серенькие, невзрачные павы. Около водоемов бродили с воронами на хребте дикие буйволы, хрюкали и боязливо перебегали дорогу десятки диких кабанов. Однако слонов не было, хотя следы их мы видели повсюду и присутствие их чувствовалось везде. «Некоторые туристы ездят неделями, но так и не увидят слонов, — утешал нас проводник, — все зависит от удачи».
Правда, однажды нам повезло: вечером, когда мы пили чай в бунгало, поблизости послышался треск сучьев. Мы повернулись — на фоне еще светлого неба поверх кустарника виднелись два силуэта — мать с детенышем. Они шли к бунгало, но, услышав голоса, остановились. Раздался тревожный зов — звук вибрирующий и рассыпающийся, словно кто-то дул в большую раковину, — и слоны свернули влево, к реке. Позже животные опять показались на короткое время: возвращались с водопоя. Затем все стихло...
Сегодня утром наша поездка опять была неудачной. Под утро шел небольшой дождь, и «джип» с трудом пробирался по грязи и лужам лесных дорог...
— А что мы возим с собой проводника? — спросил кто-то из нас, когда после завтрака мы поехали купаться на побережье океана, милях в пяти от бунгало.
— Да, говорят, порядок здесь такой, без него ездить нельзя. Поэтому хочешь не хочешь — вози его с собой.
— Нет, видимо, ему тоже купаться захотелось, — возразил первый.
А через несколько часов человек, которого мы «хочешь не хочешь» возили с собой, наш проводник Садерис, спас нам жизнь, и произошло это вот как.
Купание закончилось, приближалось время обеда, и наш неизменный «джип» быстро катил по лесной дороге. Было около трех часов пополудни. Мы выехали на шоссе, успешно миновали одну или две огромные выбоины, заполненные водой, и вдруг... «Слоны!» — хором воскликнули мы. Совсем близко от нас, пересекая дорогу, от большого водоема шли два слона с маленьким слоненком. Они тесно прижимали малыша боками, готовые в любую минуту встретить и отразить опасность. Щелкнули затворы фотоаппаратов. Слоны насторожились, повели ушами, но продолжали свой путь. Этим бы все и обошлось. Однако наш хозяин, человек с красивым именем Барон де Ливьера, вел «джип» сам. Видавший на своем веку немало слонов, он решил подпустить эту пару с малышом поближе и сфотографировать их почти в упор. Мы испугались такой близости и попросили хозяина двигаться дальше. Он проехал метров пятнадцать, но опять остановился и вышел из машины со своим «Кэноном». В это время на дороге позади нас показалась слониха. Она протяжно протрубила. Как выяснилось потом, это был сигнал опасности. Не давая нам опомниться, с левой обочины на дорогу вышли еще два слона. А первая пара остановилась поперек дороги метрах в пятнадцати от машины, отрезав нам путь назад. Советовать что-либо водителю было поздно. Спереди и сзади слоны. Справа деревья и кустарники, дальше водоем, и около него дикие буйволы. Слева канава и непроходимая стена джунглей. Ехать некуда. Мы оказались в плену у слонов. Огромная слониха приближалась. Водитель заглушил мотор, и тут мы заметили, что она беременна. Сзади, чуть поодаль, шел самец.

По сравнению со слонихой «джип» казался детской игрушкой. Вот нас разделяют четыре метра, три метра... Глаз слонихи из-за крыши кузова уже не видно, в нашем поле зрения лишь кончик хобота неприятного розового цвета.
В этот-то момент и вмешался Садерис. Он высунулся из «джипа» и что-то властно прокричал слонихе. Та попятилась назад, отошла метров на пять-семь, остановилась. Затем почесала одну переднюю ногу о другую, как бы готовясь ко второй атаке, и снова пошла на нас. Обстановка осложнялась еще тем, что слонихе некуда было сворачивать. Пробраться влево через чащобу она не могла, но и обойти нас было нельзя: шоссе было слишком узко. Сзади, подбадривая самку, наступал слон.
Медленной поступью огромное животное вновь начало приближаться к нам. Расстояние сокращалось... Шесть метров, пять, четыре, три... Проводник почти по пояс "высунулся из «джипа» и опять громко крикнул слонам что-то повелительное, угрожающее. Слоны остановились. Задний свернул в сторону и начал пробираться в кусты. Слониха стояла как вкопанная. Проводник попросил Барона де Ливьера без шума и рывка подать «джип» немного назад. Тихо заработал мотор — «джип» медленно, очень медленно отъехал. Слоны наблюдают. Еще один гортанный крик нашего проводника слонихе, и та, сделав два-три шага вперед, получила возможность свернуть в сторону. Пятясь назад, она как бы присела в кювете, уперлась в кусты, освобождая нам путь. «Джип» вновь медленно и незаметно тронулся с места и двинулся вперед. Слониха продолжала с опаской наблюдать за нами... Лишь отъехав метров на двести, мы вздохнули свободно. А слоны собрались на дороге, и мы еще долго видели их, стоящих там на одном месте...
Только в бунгало мы по-настоящему пришли в себя.
Близилась тропическая ночь. Запели цикады. На облюбованном дереве делали перекличку павлины. Мы вновь вернулись к переживаниям дня. Нам хотелось узнать, как дикие слоны подчинились воле безоружного человека, какие слова говорил слонам проводник.
— Какие слова? — начал он. — Трудно сказать. Это набор буддийских заклинаний. Их трудно перевести, но смысл заключается в требовании, чтобы слон уступил дорогу.
— А послушались бы слоны, если бы эти слова говорил кто-нибудь из нас?
— Нет, — сказал проводник, — потому что все зависит от интонации, выражающей ваше внутреннее состояние, вашу решимость и убежденность. Вы же в это время были испуганы. У слонов, — продолжал Садерис, — как и у других зверей, есть определенное представление о человеке. Они считают его сильным существом и поэтому всегда чувствуют перед ним робость. Но если только звери почуют испуг людей перед ними (испуг этот они чуют в прямом смысле по испарению человеческого пота), то смело идут в наступление.
— А приходилось ли вам раньше бывать в ситуациях, подобных сегодняшней? — спросил я.
— Почти нет, — ответил проводник. — За двадцать пять лет моей работы это второй раз. Нынешний случай особо опасен: нам встретились слоны со слоненком. Каждый из вас, вероятно, подумал, что был сегодня на волоске от смерти.
Вообще слоны довольно мирные существа. Но и среди них есть опасные и злые. Особенно нужно бояться одиночек. Слоны, как правило, живут гаремами, или семьями, где может быть только один вожак. Когда встречаются два самца, претендующие на роль вожака, между ними начинается бой. Победивший остается с семьей, второй уходит и бродит один. Вот этот самец, которого в народе зовут «оборванный хвост», — наиболее коварный.
Иногда детеныш рано остается без родителей и как бы лишается воспитания. Он также озлобляется и становится более опасным для человека, чем другие слоны.
Де Ливьера рассказал нам, что Садерис давно работает здесь. Власти хотели сделать его старшим над лесничими и проводниками, но он отказался: не захотел сидеть в конторе. Он любит лес и его обитателей и не желает расставаться с джунглями.
— Поэтому, — добавил Барон, — когда сегодня днем вы мне давали различные советы, я никого не слушал, кроме Садериса. Я тоже не впервые здесь и кое-что знаю о слонах. Они сильно раздражаются при звуке автомобиля, поэтому сегодня я старался как можно деликатнее заводить мотор и без рывка подавать «джип» вперед и назад.
— Скажите, Барон, — спросили мы, — вот существуют всякие легенды о слонах, будто в предчувствии смерти они идут в какое-то отдаленное и доступное лишь им место-кладбище и там умирают. Правда ли, что человек никогда не видел трупа слона?
— Не знаю, я тоже не видел, поэтому сказать ничего не могу. Но вот как рождаются слоны, я видел и, если хотите, расскажу.
Как-то раз, возвращаясь вечером после поездки по джунглям, мы заметили недалеко отсюда беременную слониху. Она шла по направлению к реке. Особого значения мы этому не придали. Но когда вечером вот здесь, на веранде, сидели и пили чай, то услышали трубный, как бы предсмертный вопль гиганта. Столько было боли и мольбы о помощи в этом зове, что мы не могли сидеть спокойно.
— Идти туда очень опасно, — предупредил проводник. — Тем более что мои слова-заклинания не подействуют на слонов в таких обстоятельствах.
— Мы решили, — продолжал свой рассказ де Ливьера, — поехать и посмотреть издали. Наш «джип» медленно пробирался в ночных джунглях, прорезая тьму светом фар. Вдруг мы услышали в стороне тяжелые вздохи и стоны и ярдах в двадцати пяти от реки увидели в дальнем свете фар лежащую на боку огромную слониху. Рядом с ней стояли еще четыре слона. Они заметили нас, тревожно подняли хоботы, протрубили и удалились глубже в лес. Тут мы заметили малыша. Мать поднялась на ноги и встала около него. Мы решили подъехать поближе с другой стороны, чтобы лучше рассмотреть новорожденного. Малыш закопошился, пытаясь подняться на ноги. Мать обхватила его хоботом и помогла ему. Слоненок был очень темный, ростом не больше двух футов (1 Один фут — 30,5 см.). Мать пропустила его под себя, после чего оба медленно прошли в кусты, укрываясь от света фар...
Это действительно редкий случай. Мало кто видел такое... — продолжал хозяин. — Нам тоже могло не посчастливиться, если бы не преждевременные роды. Не успела дойти...
Слоны, удалившиеся при нашем появлении, обычно выполняют в некотором смысле роль акушеров и нянек. Они никогда не покидают слониху во время родов и даже готовят для нее землю: разрыхляют ее, делают какое-то подобие подушки. Когда начинаются схватки, «няньки» массируют хоботами живот слонихи, стараясь облегчить боли...
Давно кончился чай, а мы все не расходились. Мерещилось, что слоны где-то здесь, рядом, только скрыты мраком тропической ночи. Может быть, даже стоят вокруг нашего бунгало и, слушая рассказы де Ливьеры и Садериса, одобрительно покачивают хоботами.
Илья Сучков
(обратно)
Хиппи в конце пути
 Слово «хиппи», родившееся на наших глазах каких-нибудь пять-шесть лет назад, прочно вошло во все европейские языки и даже успело занять место в последних изданиях энциклопедий. Тем не менее осмыслить это явление в полном объеме не просто. Одни считают, что хиппи — это стиль, своего рода «пощечина общественному вкусу», и, если долгогривого хиппи постричь, помыть и приодеть, он станет обычным добропорядочным гражданином буржуазного общества. Другие настаивают, что хиппи — это мироощущение, отрицательная реакция на все ценности, превозносимые западной идеологией. Третьи убеждены, что хиппи — прямые преемники ранних христиан и, сами того не сознавая, совершают «пассивную революцию» в морали и сознании молодежи. Хиппи возглашали: «Лучше заниматься любовью, чем войной», и это сближало их с противниками войны в Индокитае, но они же проповедовали: «Лучше влезть в грязь, чем в политику», и тем самым отмежевывались от демократических движений в своих странах. Хиппи просили: «Сохраните цветы на Земле», то есть ратовали за здорового человека, обитающего в здоровой среде, но они же утверждали: «Наркотики — рай на Земле», то есть сознательно разрушали свой разум и тело.
Одно, по крайней мере, очевидно: хиппи культивировали религиозное сознание. Это не значит, что они становились ревностными прихожанами официальных церквей. Маркс более ста лет назад писал о религии как о самосознании и самочувствовании человека, который или еще не обрел себя, или уже снова себя потерял. Сказанное в полной мере относится к хиппи.
Некоторое время назад среди части молодых людей в Соединенных Штатах и Западной Европе стихийным образом возникло поветрие — на Восток! Йоги были провозглашены «тысячелетними хиппи». Зашифрованная мудрость восточных религий показалась потерянным и не обретшим себя юношам и девушкам тем «настоящим», чего они не видели в окружавшей их действительности. Они не заметили классовых битв, они находили «скучными» рабочие стачки и антивоенные демонстрации... На Восток!
Это было бегство как в прямом, так и в переносном смысле. Восток казался им из европейского далека краем седобородых мудрецов, факиров и отшельников — представление, почерпнутое из детских книг и романтических грез. Но колониальные сказки, как оказалось, ничуть не походили на реальность. В развивающихся странах, озабоченных подъемом жизненного уровня населения, проводящих социальные реформы, ликвидирующих неграмотность, не могло найтись места для этих американцев и европейцев, провозгласивших своим принципом отказ от всякой деятельности. Да и как иначе! В Непале хиппи протаптывали тропинки к буддийским монастырям, в то время как правительство мобилизовывало свою молодежь на строительство дорог, школ и больниц. В Индии хиппи искали погруженных в нирвану созерцателей, а видели людей, преисполненных воли и надежд.
Лишние на Западе, лишние на Востоке — таков печальный итог хиппи. Французская журналистка Сюзан Лабен, видевшая зарождение движения хиппи в Америке в 1967 году и написавшая об этом книгу «Карнавал в Сан-Франциско», теперь рассказывает в своем очерке о финале «детей-цветов».
Слово «хиппи», родившееся на наших глазах каких-нибудь пять-шесть лет назад, прочно вошло во все европейские языки и даже успело занять место в последних изданиях энциклопедий. Тем не менее осмыслить это явление в полном объеме не просто. Одни считают, что хиппи — это стиль, своего рода «пощечина общественному вкусу», и, если долгогривого хиппи постричь, помыть и приодеть, он станет обычным добропорядочным гражданином буржуазного общества. Другие настаивают, что хиппи — это мироощущение, отрицательная реакция на все ценности, превозносимые западной идеологией. Третьи убеждены, что хиппи — прямые преемники ранних христиан и, сами того не сознавая, совершают «пассивную революцию» в морали и сознании молодежи. Хиппи возглашали: «Лучше заниматься любовью, чем войной», и это сближало их с противниками войны в Индокитае, но они же проповедовали: «Лучше влезть в грязь, чем в политику», и тем самым отмежевывались от демократических движений в своих странах. Хиппи просили: «Сохраните цветы на Земле», то есть ратовали за здорового человека, обитающего в здоровой среде, но они же утверждали: «Наркотики — рай на Земле», то есть сознательно разрушали свой разум и тело.
Одно, по крайней мере, очевидно: хиппи культивировали религиозное сознание. Это не значит, что они становились ревностными прихожанами официальных церквей. Маркс более ста лет назад писал о религии как о самосознании и самочувствовании человека, который или еще не обрел себя, или уже снова себя потерял. Сказанное в полной мере относится к хиппи.
Некоторое время назад среди части молодых людей в Соединенных Штатах и Западной Европе стихийным образом возникло поветрие — на Восток! Йоги были провозглашены «тысячелетними хиппи». Зашифрованная мудрость восточных религий показалась потерянным и не обретшим себя юношам и девушкам тем «настоящим», чего они не видели в окружавшей их действительности. Они не заметили классовых битв, они находили «скучными» рабочие стачки и антивоенные демонстрации... На Восток!
Это было бегство как в прямом, так и в переносном смысле. Восток казался им из европейского далека краем седобородых мудрецов, факиров и отшельников — представление, почерпнутое из детских книг и романтических грез. Но колониальные сказки, как оказалось, ничуть не походили на реальность. В развивающихся странах, озабоченных подъемом жизненного уровня населения, проводящих социальные реформы, ликвидирующих неграмотность, не могло найтись места для этих американцев и европейцев, провозгласивших своим принципом отказ от всякой деятельности. Да и как иначе! В Непале хиппи протаптывали тропинки к буддийским монастырям, в то время как правительство мобилизовывало свою молодежь на строительство дорог, школ и больниц. В Индии хиппи искали погруженных в нирвану созерцателей, а видели людей, преисполненных воли и надежд.
Лишние на Западе, лишние на Востоке — таков печальный итог хиппи. Французская журналистка Сюзан Лабен, видевшая зарождение движения хиппи в Америке в 1967 году и написавшая об этом книгу «Карнавал в Сан-Франциско», теперь рассказывает в своем очерке о финале «детей-цветов».
На берегах далекой Индии они растают, как дым их трубок. Пока они только теряют пряди своих длинных волос, их набрякшие веки еще не покрылись сетью морщин, но глаза уже успела выцвести, а щеки приобрести землистый оттенок. Их зубы, давно забывшие о пасте, угрожающе шатаются, когда они раскрывают рты в подобии улыбок. Им двадцать лет...
Они курят гашиш, передавая по кругу трубки для затяжек, но многие уже прошли этот этап и теперь потребляют другие зелья, лишающие рассудка, делающие человека жалким рабом, развалиной. В груди у них поселился сухой кашель туберкулезных больных. Злоупотребление гашишем вызывает хронический бронхит, а в сочетании с недоеданием он превращается в грозную болезнь.
Между тем они живут в краю, где солнце, искоренитель микробов, светит двенадцать месяцев в году. Но они редко выходят на солнце, а сказочный Каленгутский пляж не для них. Это для туристов.
Я наблюдала хиппи в их «колыбели» — в Сан-Франциско, и в памяти сохранились яркие воспоминания о живописных одеждах, зазывных криках — ярмарочный спектакль с танцорами, которые выбрасывали в истерическом ритме руки и ноги под гитарные громы и молнии. Я помнила беглецов в грязных шортах, покинувших свои чистенькие пригороды, чтобы смешаться с брызжущей энергией толпой сверстников. Это было время всепрощенческого карнавала, поп-фестивалей, непоказного миролюбия, когда юноши с античными бородами и девушки в гирляндах совали цветы в дула наставленных на них винтовок национальных гвардейцев. Во всем этом было отрицание сухого материализма нашего, западного, уклада жизни, но также и жажда жизни — подлинной жизни, как им казалось, радость от сознания, что их много, тысячи, что можно послать к чертям учебу, работу, правила и мораль.
Это в 1967-м. Сейчас, пять лет спустя, я нахожусь за 20 тысяч километров от Калифорнии, в конце пути, пройденного хиппи, во всяком случае, самыми последовательными из них, принявшими тогдашний карнавал всерьез. Ибо большинство, познавши горечь слишком затянувшегося праздника, вернулось домой, в семью, в общество, либо уже лежит, захороненное на крохотном кладбище где-нибудь в окрестностях Катманду или кремировано на погребальном костре дежурным брамином по пути к гашишному раю.
Я нахожусь в Гоа, бывшей португальской колонии в Индии. Здесь нет никакого карнавала. На бесконечном пляже там и сям можно видеть европейцев в окружении веселых стаек детишек-индийцев. Но это туристы. «А где же хиппи?» — спрашиваю я. Мне показывают на лес, темнеющий в отдалении.
Не такое легкое дело — добраться до здешних краев: надо пересечь океан, всю Европу, Турцию, Иран, Пакистан и треть Индии, в Дели пересесть на местную линию до Бомбея, а из Бомбея на совсем уже крохотном самолётике — до Гоа. Но это еще не конец. На трех автобусах с пересадками нужно добраться к Каленгутскому пляжу.
Я описываю эти перипетии не для того, чтобы вызвать сочувствие к туристам. Просто это поможет оценить нечеловеческую усталость хиппи, которые проделали тот же самый путь, но не в самолетах (денег хватает только на первый этап — до Европы), а пешком, редко — на попутных машинах, если водитель окажется сердобольным. В сезон дождей путь усложняется во сто крат. Самые удачливые тратят на дорогу месяцы; другие — годы. Ночуют на голой земле, завернувшись в пластиковую пленку, или в храмах, питаются подаянием. Это означает, что до Гоа добираются только «самые-самые», те, кто решил дойти невозвратным путем до Высшей Истины...
Каленгутский пляж забыт вниманием сервиса. Здесь нет ни отеля, ни ресторана. Власти штата, осуществляя программу социального развития, построили столовую для неимущих. Это, пожалуй, главное спасение для хиппи.
С помощью смышленого малыша, знающего несколько английских слов, я добираюсь наконец до хижин, давших кров «семьям» хиппи, покинувших шумные города ради целительного покоя. «Семьи» сплошь и рядом — понятие чисто условное. Под пальмовыми крышами зачастую живут четверо-пятеро человек. Так дешевле. Хижины они снимают у прибрежных рыбаков за 4 доллара в месяц — получается по доллару с головы.
Внутри темно. Два топчана, сколоченных из досок. Ни стола, ни стула, ни привычных для хиппи афиш, не слышно и музыки. Транзисторы и проигрыватели проданы по дороге, да и редко кто из хиппи способен сейчас выносить пронзительные аккорды, без которых они не мыслили себе жизнь в Сан-Франциско, Париже, Амстердаме.
Они даже не дают себе труд выказать случайной посетительнице «ленивую симпатию курильщиков гашиша», о которой писал Бодлер. Здесь они совсем не так общительны, как в Сан-Франциско, не стараются эпатировать или вовлечь в свой круг единомышленников. Здесь они погружены только в себя, стали нелюдимыми и серьезными, до жути серьезными...
Дорогой они продали часы — к чему время человеку, проводящему большую часть времени в дурмане? И куда торопиться, если его никто нигде не ждет? В Бомбее на базаре они продали кольца и побрякушки, купленные в Стамбуле, когда еще оставалось немного монет, продали куртку из овечьей шерсти, приобретенную в Кабуле, продали пластинки, гитары и туфли.
До Гоа они добираются с единственными сокровищами: трубкой и длинными волосами.
...Я вхожу в давно не метенную хижину. У стены, держа на коленях кошку, сидит существо среднего пола в японском кимоно. Четыре испуганных глаза смотрят на меня. Человек говорит столь тихо и невнятно, что приходится то и дело просить его повторить. А говорит он, жеманничая и краснея, следующее: его котик... привык к дыму гашиша... Не найдется ли у меня денег для кота... и для него... Покорно выслушав отказ, он продолжает. Верю ли я в переселение душ? А он верит и желал бы в будущем перевоплотиться в сиамского кота... Где его соседи? Они ежеутренне отправляются промышлять еду, а он остается охранять дом...
Вскоре появились остальные обитатели хижины: датчанин в шафрановой тоге, голландец в длинной рубахе, рыжеволосый и рыжебородый американец, голый по пояс, с телом, густо покрытым порнотатуировкой. Они здесь недавно и еще не успели потерять живости. Их еще интересует еда, а не только гашиш. Американец бодро заговорил о преимуществах философии хиппи: антиматериализм, антиконформизм, естественное развитие личности. «Если мир против нас, то и мы против мира...»
Иду к другой хижине. Ее занимает пара французов, парень и девушка. Что их привело сюда? Тоска по натуральной жизни, вдали от мясорубки индустриального мира с его тщеславной суетой, освобождение от груза принудительного труда. Только так человеку открывается Истина. Мы, рабы обыденности, обречены слепо тянуть свою лямку, подобно запряженным в соху быкам, не ведая зачем, не смея помыслить о бунте. Мы — марионетки фарса, носящего громкое имя «индустриального общества». Какой контраст между жизнью парижанина, томящегося по три часа утром и вечером в давке метро, и этим райским уголком, где нога утопает в ласковом песке...
Я слушала его и смотрела на неподвижное лицо подруги, отмеченное печатью недавней красоты. В течение всего разговора она смотрела на нас остановившимся взором.
— Недавно из больницы, провела там четыре месяца, — сказал ее спутник, — дизентерия...
Насколько тяжкой должна была быть болезнь, если девушку оставили на такой срок в больнице, где не хватает мест умирающим... В утешение я говорю:
— Ну здесь солнце, пляж, живительный океанский воздух...
— Пляж! — прерывает парень. — До него целый час ходьбы!
— Но можно ведь не каждый день...
— Я не могу ходить, — тихо говорит девушка. — Ноги не держат.
Такова судьба этой симпатичной пары, отправившейся за тридевять земель в поисках живительного нектара свободы от общества и прозябающей сейчас в темной хижине, откуда они выходят только в больницу...
На следующее утро я принесла им таблетки и коробку витаминов. Принимая подарки, девушка признательно улыбнулась мне. Она хотела жить. Ей и ее спутнику по двадцать три года.

...В следующей хижине, где накопившиеся за год отбросы оставили не так уж много места для житья, обитал американец с женой-француженкой, их дочь девяти лет и шведка эксцентричной (даже для хиппи) наружности. Сейчас она отсутствовала.
— Вы принимаете наркотики?
— Конечно. А почему нет?
— И дочка тоже?
Вопрос повисает без ответа.
— В какую школу ходит ваша девочка?
Мать с упреком поворачивается к супругу:
— Вот видишь...
— Зачем ей школа? — возмущается глава семьи. — Чтобы вынести оттуда искаженное представление о жизни! Я не желаю, чтобы общество забивало мозги моего ребенка своими бреднями!
— Но ведь она должна, по крайней мере, уметь читать и писать...
Мать повторяет жалобным тоном:
— Вот видишь, я тебе говорила...
Но он опять взрывается:
— Что, она станет счастливой оттого, что выучит азбуку и таблицу умножения? Здесь она развивается естественным путем, слушая голоса природы, считая деревья, цветы, бабочек, ракушки. Она это делает по-своему и только так сможет развить личность. Она свободна как птичка.
Он резко поворачивается к дочери, которая засунула тем временем в рот курительную трубку:
— Положи на место! Сколько раз тебе можно повторять! Иди поиграй! Только не смей ходить одна на пляж! Это далеко, и ты заблудишься.
Целая лавина запретов. И это для ребенка, живущего «свободно как птичка»...
— Чем занят ваш день? — спрашиваю я главу семьи.
— Мой день? Ничем.
— Но так не бывает. Вы ведь что-то делаете...
— Ну да, я ем, пью, сплю, курю гашиш...
— А чем занят ваш ум? Вы читаете?
— Ни в коем случае!
Ответ не удивил меня. Я знаю, что люди, впавшие в такое состояние, не способны сконцентрировать внимание даже на крохотном тексте. Они еще могут разглагольствовать, но читать — уже нет. Хиппи читает, будучи новобранцем, но, когда человек отправился в путь по Великой Дороге Истины, то есть пристрастился к наркотикам, он больше не видит строк.
— Любите музыку? Играете?
— О нет! И так голова гудит... Мы пришли сюда за тишиной, спокойствием, миром... За миром, — повторил он.
В разговор вновь вступает мать:
— Вы считаете, что девочку нужно учить читать?
— Зачем ты обращаешься к этой даме? — прервал муж. — Что она может об этом знать! Зачем учить ребенка читать, если мы презираем это общество с его лженаукой и фальшивыми новостями!.. Мы только-только успели забыть всю ту гнусность, которой нас пичкали в школе и университете. Пусть уж дочь будет избавлена от этой пытки...
— Мы ведь сами выбрали этот путь, — возразила жена. — Но девочка, когда вырастет, возможно, предпочтет другое.
Он испепелил ее взглядом.
— Хорошо, вы не читаете, не слушаете музыку, — продолжала я. — Но у вас много досуга. Вы посещаете храмы, купаетесь, играете в карты, собираетесь вместе?

Они захохотали, как от хорошей шутки.
— Плавать мы не умеем и вряд ли отличим даму от валета. Наш храм — лес вокруг хижины, а путешествуем, не сходя с места, — для этого есть ЛСД. Нам никто не нужен.
— Что же вы делаете в таком случае?
— Живем. Мы не хотим ничего делать, мы хотим просто быть. Вы вот считаете, что заняты делом, но мы не можем назвать это жизнью.
— Деликатный вопрос: откуда вы берете деньги?
— М-м-м... выкручиваемся.
Неожиданно в амбразуре двери показывается шведка. Ей лет двадцать. Выяснилось, что они сдают ей часть хижины, но берут за месяц больше, чем сами платят за год. У юной блондинки еще сохранились кое-какие украшения, довольно пухлые щеки и победный вид. Она явно недавно покинула родительский кров, причем папочка и мамочка отпустили ей круглую сумму на дорогу. На эти деньги и живут ее случайные друзья, взамен научив ее доставать наркотики. Когда деньги кончатся, а щеки впадут, она, в свою очередь, станет щипать новоприбывших. Таков закон этой среды. Кроме того, старые хиппи, несомненно, подторговывают наркотиками, спекулируют гашишем, сбывая его «братьям по вере»...
Француженка вышла проводить меня и тихо зашептала:
— Он считает, что ему открылась Истина, и презирает всех, кто не разделяет его взглядов. Поначалу и я так смотрела на вещи, но теперь вот... не знаю... Мне очень бы хотелось, чтобы девочка училась грамоте. Вы могли бы прислать мне из Парижа букварь? Спасибо. Но не сюда, ни в коем случае! Я напишу вам другой адрес...
Иду назад по направлению к морю. Невдалеке на земле сидел старик индиец, орудующий каким-то инструментом. Его полуголое мускулистое тело, без грамма жира блестит на солнце. Тело тридцатилетнего мужчины и морщинистое лицо семидесятилетнего старика. Какой контраст с только что увиденными молодыми хиппи! У тех лица подростков и немощные старческие тела.
Гашиш и опиум убивают постепенно все ощущения, в том числе голод и боль. Боль — ведь это сигнал тревоги, говорящий, что с организмом что-то неладно. Они же живут, как в вате, принимая наркотики вместо пищи, избегая малейшего усилия, проводя ночи без сна. Что может быть противоестественней такого образа жизни?
Быстр финал столь долгого поиска Истины. Возможно, он наступит через месяц, через год. Чаще всего родные не получат об этом весточки: хиппи порвали с обществом, а в это понятие включено не только государство, но и семья...
Сюзан Лабен, французская журналистка
Перевел с французского Б. Тишинский
(обратно)
Награда победителю

Единственное, что начинается в Испании вовремя, — это коррида.
В шесть часов пополудни из президентской ложи выпорхнул белый платок, тревожно и уныло пропел рожок, распахнулись ворота корраля, и черный приземистый бык стремительно выскочил на арену.
— А-а-а!.. — взорвались трибуны.
Этот вопль как бы выплеснул наружу лихорадочно-возбужденное ожидание, которое, казалось, пропитало даже затопленную зноем площадь перед красным каменным кольцом построенного цирком Plaza de Toros. С теневой стороны цирка пестрым водоворотом кипела толпа. Порывистые жесты, напряженные лица, блестящие глаза.
— Сеньор, это же совсем недорого! — приставали мальчишки с плюшевыми бычками, на загривках которых, словно антенны, покачивались маленькие бандерильи.
Они юрко сновали в толпе, на ходу демонстрируя свой товар: яркие афишки сегодняшнего боя, сувенирные бандерильи в длинных коробках ,с целлофановым верхом и, конечно же, игрушечных бычков.
Пробившись сквозь нервно кипящую толпу, я с облегчением погрузился в полумрак внутреннего кольцевого коридора с горами сваленных на бетонный пол кожаных подушек, с рвущимися против течения лоточниками. Меня вынесло к нужному сектору. Стоявший у входа служитель выхватил мой билет и, подняв его над головой, чтобы я не потерялся, резво кинулся вперед, отыскивая мое место. Я трусил за ним, на ходу выуживая из кармана несколько песет.
Место у меня оказалось замечательное: первый ряд, да еще на теневой стороне. На противоположное полукружье круто вздымающегося амфитеатра больно было смотреть: ослепительная жаркая белизна, залитая солнцем и усеянная множеством ярких красных и желтых платьев и рубашек.
Грянул оркестр, и на желтый песок арены торжественно вступила куадрилья. Впереди, гордо задрав подбородки, шествовали три матадора в шитых золотом костюмах в обтяжку. За ними — пикадоры на лошадях. Далее — многочисленные торос, на которых возложены все, так сказать, вспомогательные операции. Шествие замыкали упряжки мулов, которые завершают каждый бой, уволакивая поверженного быка
Все три матадора были как на подбор: стройные, юные, но особенно выделялся своей красотой шедший справа — двадцатидвухлетний Тобало Варгас. Ему и предстояло начать сегодняшнюю корриду. Несмотря на торжественность момента, он весело играл глазами и даже чуть пританцовывал.
Куадрилья сделала круг и скрылась в воротах. На арене остался лишь Тобало Варгас. Он поклонился президенту корриды, испросив тем самым разрешения Начать бой, протянул к судейской ложе руки, традиционно посвящая первого быка почтеннейшим судьям. Он стоял в пяти шагах от меня, и я видел оливковую кожу его тонкого юношеского лица, золотой позумент на камзоле и на штанах, плотно облегающих сильные сухие ноги.
Тобало Варгас снял черную треуголку, положил ее на песок и направился к центру арены. Но вдруг он бегом вернулся, подхватил ее и бросил в первый ряд. Треуголку поймала девушка в ярко-красной блузке.
Амфитеатр ахнул. Матадор нарушил правило. Первый бык принадлежит только судьям, и его нельзя ни с кем делить. Второго — пожалуйста, можно посвятить женщине, другу, кому угодно. То, что сделал Тобало, было почти оскорблением, и публика не простила бы такой вольности, не будь это он, Тобало Варгас. И лучше всего это понимал, конечно, сам матадор.
Он выступал уже на многих аренах Испании. И выступал удачно. Зрители быстро прониклись к нему симпатией. Он делал все, что надлежало, но делал легко, весело, изящно переходя ту границу риска, за которую обычно не ступают опытные матадоры. Смелость и изящество помогали ему легко обходить соперников, которые под свист или холодное молчание публики прямо с арены уходили в неизвестность. Сегодня на карту было поставлено будущее. Капризная фортуна с улыбкой провела Варгаса по многим аренам и вот сейчас вывела на середину сверкающего Plaza de Toros. Он должен завоевать столичную арену. В этот величайший момент своей жизни матадор едва ли вспоминал неудачливых, больных или состарившихся матадоров, что коротают остаток жизни в барах за полными горечи разговорами о прошлом.
Тобало Варгас верил в свою счастливую звезду. Он позволял себе подразнить судьбу, слегка посмеяться над ней, как было сегодня во время посвящения быка.
Между тем зрители все еще не могли успокоиться, вскакивали с мест, пытаясь разглядеть счастливицу.
— Где же она? Где?—стонала сзади толстая сеньора, толкая меня коленями в спину.
— Да вот же! Вот же! — Ее сосед свернутой в трубку афишей указывал на девушку с черными блестящими волосами
Девушка была счастлива и смущена. На обнаженных коленях она держала треуголку.
— Ой! Вижу! — неожиданно тонким от счастья голосом почти пропела женщина. — О, какая прекрасная сеньорита!
— Вы понимаете, в чем дело? — обернулся ко мне сидевший впереди на нулевом ряду пожилой мужчина с бородкой и усами. — Этой женщине сделан необычный подарок. Теперь матадор должен доказать, что имел право на этот жест.
Тобало Варгас, стоя посреди арены, сделал отстраняющий жест рукой, удаляя торос. Они мгновенно исчезли за забором и оттуда наблюдали за происходящим. Затем, не дойдя шагов двадцать до ворот корраля, матадор упал на колени, воздев к высокому испанскому небу руки. Он ждал быка.
И тотчас, словно выпущенный из пращи снаряд, выскочил бык. После темного корраля, ошеломленный ослепительным блеском арены, болью от доски с гвоздями, впившимися в его тело за секунду до того, как распахнулись ворота, бык зигзагами несся вперед. Загривок бугрился от ярости, блестящая шерсть черным бархатом обтягивала могучие мускулы.
Вдруг бык увидел матадора, легко повернулся и, опустив голову с изогнутыми вниз и в стороны белыми рогами, бросился на него. Тобало Варгас, как пушинка, взлетел в воздух между широко расставленными грозными рогами, мелькнули его розовые чулки. Скользнув по крупу быка, он тяжело шлепнулся на песок. Шла примерно десятая секунда боя.
Тут же появились торос, большими красными плащами отвлекая быка от поверженного матадора. Бык поводил рогами, раздумывая, кого бы поддеть. Боль от гвоздей, наверное, у него улеглась, и. перебросив через себя матадора, он немного успокоился. Выбрав одного торо, он не спеша двинулся в атаку и, когда тот отскочил, в недоумении остановился.
Тем временем лежавший неподвижно Тобало Варгас зашевелился, уперся руками в песок и встал на колени. С трудом поднявшись, он, пошатываясь побрел к забору. Бык равнодушно проводил его глазами.
— Опасный бык, — повернувшись, пояснил мой собеседник. — Неизвестно, что он задумал. Когда бык мчится к матадору через всю арену, как паровоз, тут все ясно. И рогов избежать легко.
Варгасу подали шпагу. Но пока он не собирался обратить ее против быка: лишь прикрепил к ней красный плащ. С заблестевшими глазами, танцующей походкой он направился к своему противнику и, немного не доходя, остановился. Выгнувшись назад, напряженный и стройный, матадор полоскал перед собою плащом, раззадоривая быка.
В ту же секунду бык ринулся на матадора. Рога коснулись плаща, но Тобало Варгас легким движением уклонился, поворачиваясь одновременно на сто восемьдесят градусов. Бык, уткнувшись мордой в красную тряпку, как собака, послушно обежал вокруг матадора. Варгас остановился. Замер и" бык. Варгас проделал веронику в другую сторону, ведя за плащом быка.
Публика зааплодировала.
На арену, держась возле забора, выехал пикадор, одетый словно рыцарь времен Дон-Кихота. Лошадь его была защищена толстыми, свисающими с боков матами. Сквозь разошедшийся шов белых штанов пикадора поблескивал металл. Ноги вместо стремян покоились в глубоких совках из толстого железа.
Пикадор развернул лошадь правым боком и, следя за быком из-под полей надвинутой на глаза шляпы, выставил копье с поблескивающим на солнце наконечником.
Тобало Варгас в очередной веронике развернул быка так, что тот оказался перед лошадью Всхрапнув, бык бросился на нее. Пикадор, привстав в своих совках-стременах, под острым углом вонзил копье в спину быка, в бугор перекатывающихся мускулов, и навалился на древко всей тяжестью одетого в доспехи грузного тела. Говорят, в старые времена пикадоры были настолько сильны, что копьем удерживали быка на расстоянии. Но сейчас древко копья заскользило в судорожно напряженных руках пикадора, из-под мышки, все выше и выше выползая сзади.
Бык ударил рогами в бок лошади. Она тяжело скакнула вбок и прижалась к забору, дрожа всем телом и прядая ушами. Лошадь не видела быка, так как ее правый глаз был закрыт черной повязкой. Наверное, не один уже бой переживала она, но для нее оставалось загадкой, за что ей так достается на арене.
— В руках этого всадника жизнь и смерть матадора, — донесся до меня голос мужчины с передней скамьи.
— Неужели даже так?
— Если пикадор не измотает быка, мало выпустит из него крови, матадору наверняка конец.
Бык, устав бодать лошадь, неожиданно подогнул ноги и улегся у нее под брюхом. Морда его грустно покоилась на песке.
Пикадор отъехал в безопасное место На быка набросились торос и подняли его. Кровь, словно алая попона, покрывала его спину и бока, поблескивала на солнце.
Мимо меня цепочкой пробежали японки. Еще перед началом боя я подивился их организованности. Передняя несла в поднятой руке флажок, и все семенили за ней, как гуси. Она и теперь, зажав рот и нос ладонью, бежала, держа в правой руке флажок. Потом я узнал, что им удалось добежать только до коньячного бара: после них официантам пришлось затевать большую уборку.
Между тем разъяренный бык кругами понесся по арене. Торос брызнули от него в разные стороны. Один со скоростью спринтера пересек арену, хотя бык заинтересовался его коллегами, перекинулся через забор и упал обессиленный в безопасном холодке под хохот и веселый рев публики. Тобало Варгас стоял посреди арены — животное не обращало на него ни малейшего внимания — и с веселым любопытством наблюдал, как бык разгоняет его помощников. Оставшись один, он распустил плащ и провел бешено мчащегося противника вплотную мимо себя. Правый рог зацепил отворот камзола и вырвал клок богато расшитой ткани. Плащ протащился по спине быка и сразу потемнел от крови.
Тобало Варгас снова стал в позицию, но тяжелый плащ вдруг выпал из его рук. Со всех сторон, к центру арены устремились торос, чтобы отвлечь быка. Увы, тот не замечал их. Он понесся за матадором, который, достигнув забора, прижался к нему спиной, как раз под нами, и поднял вверх руки с тонкими плоскими запястьями.
— Черт возьми! У него слабые руки, — проворчал сидевший впереди знаток корриды.
Варгас исчез из нашего поля зрения, мы видели только двигающиеся вправо и влево руки. У него остался единственный шанс — попасть между рогами быка. Над трибунами повисла могильная тишина. Бык всей своей массой врезался в забор, затрещали доски, одна сломалась, и на нашу сторону вышел белый, с коричневой подпалиной вокруг острия рог.
Солнечная сторона цирка, с которой все было отлично видно, взревела. Толстая сеньора, вскочив со своего места, навалилась на меня, пытаясь разглядеть, что происходит по ту сторону забора.
— Он живой! — завопила она. — Он улыбается!
Все повскакали. Тобало Варгас умудрился-таки оказаться между рогами.
Накрепко прижатый лбом быка к забору, бледный, он улыбался и похлопывал быка по шее. По лицу его градом катился пот.
— Оле!.. — ревел амфитеатр.
— Ха! Ха! — кричали, словно щелкая бичом, прыгающие вокруг животного торос.
Один из торос дернул быка за хвост. Бык выдрал завязший рог, проворно повернулся и, мимоходом свалив Тобало Варгаса, припустился за нахалом.
Тобало Варгас выскочил на арену, подобрал плащ и отвлек быка на себя. Несколько вероник
прошли у него блестяще, вызвав аплодисменты и крики публики. У животного тяжело ходили бока, оно двигалось все медленнее и наконец совсем остановилось. Варгас плащом позвал его, но бык утратил ко всему интерес.
— Ха! Ха! — закричал матадор, танцующим шагом подходя к быку все ближе и ближе.
Он приблизился вплотную к его морде, но и к этому бык остался равнодушен. Тогда Варгас, зайдя сбоку, протащил по его морде и рогам пропитанный кровью плащ. Запах крови вывел быка из себя. Внезапным броском он сшиб матадора и неистово запрыгал на прямых, сведенных вместе ногах. Из-под копыт в стороны летел золотистый песок арены. Тобало Варгас лежал, защищая руками голову.
Несколько раз бык прыгнул, прямо на него, но копыта соскользнули с упругого тела матадора. Вдруг бык перестал крутиться и суетливо замотал головой, стараясь всадить в матадора рог. Тобало Варгас перевернулся на спину и теперь руками и ногами отталкивал морду быка. Было ясно, что его сопротивление долго продолжаться не могло. Так и произошло. Бык все же подцепил матадора длинными, как вилы, рогами и перекинул через себя. Тобало Варгас упал на песок и несколько раз перевернулся. Одна туфля с большой медной пряжкой сорвалась с ноги и упала в отдалении. Пряжка нестерпимо блестела. Видно было, что ее очень тщательно начистили перед корридой. Пока бык близоруко тыкался в разные стороны, потеряв врага, матадор вскочил на ноги и подобрал плащ. Левая рука его висела как плеть. Орудуя одной правой, он проделал несколько приемов. Хотя даже следа не осталось от его былой грациозности, и он неуклюже, сгорбившись и расставив ноги, как дровосек, стоял на арене, публика аплодировала каждому движению своего любимца. Пятнадцать минут прошло с начала боя. За это время Тобало Варгас своей безумной и какой-то веселой отвагой покорил мадридцев. Он сделал все, что от него требовалось. Чаще всего матадоры лишь имитируют риск. Тобало Варгас был честен в каждом движении. Вся коррида для него, начиная с первых секунд, заключалась в балансировании на грани жизни и смерти. Один знаменитый испанский матадор не покидает арены, пока бык не распорет на его груди камзол. Я видел его бой по телевидению: он действовал, как счетно-решающее устройство, безошибочно, но и бездушно. Публика аплодирует ему, но сдержанно. Тобало Варгас со своей эмоциональностью и риском был куда милее мадридской толпе. На его месте маститый матадор никогда не отважился бы на бой с таким порывистым и неожиданным быком. Впрочем, у Тобало Варгаса не было выбора. К счастью, пока он вышел победителем. Теперь ему осталось последнее — убить быка.
Тобало Варгас скинул оставшуюся на ноге туфлю и в чулках побежал вдоль забора, улыбаясь и приветствуя правой рукой зрителей. Когда он пробегал мимо нас, было отчетливо видно его посеревшее лицо с ввалившимися щеками, на котором улыбка скорее напоминала гримасу боли. Камзол его был весь порван и грязен, и золотое шитье потускнело от пыли. А левый бок, вплотную к которому проскакивал бык, — весь в крови.
— Как вам понравился бой? — обернулся незнакомец.
— Больше всего мне понравилось то, что матадор остался жив.
— Не забывайте, что матадоры рискуют не зря. На мадридской арене через два года можно стать миллионером. Тобало Варгас знает, на что идет.
Гнусаво пропел рожок. На арену выбежали ловкие, как гимнасты, бандильерильеры. Они по очереди приближались к яростно метавшемуся быку, откинувшись назад, сводили над головой руки с двумя зажатыми в них метровыми, острыми; как гарпуны, бандерильями и бросались навстречу, казалось бы, неизбежной смерти. Но в тот момент, когда рога быка почти касались живота, бандерильер резко наклонялся вперед, вонзая в спину быка бандерильи, и уходил от рогов в сторону. Один оказался чересчур осторожным, он метнул бандерильи издалека, и одна скатилась на песок, а другая повисла на боку животного, только пробив шкуру. Публика завопила, на арену полетели банки из-под пива.
Повисшие бандерильи подпрыгивали на боках животного, а те, что были воткнуты крепко, торчали кустом и с деревянным звуком стукались друг о друга.
Как только бандерильеры сделали свое дело, Тобало Варгас вышел на сверкающий золотистый песок, чтобы завершить свой триумф. Ему подали мулету — темно-красную маленькую тряпку с желтой подкладкой и шпагу. Шпага была слегка выгнута с тем, чтобы даже при скользящем ударе лезвие ее прошло вглубь и пробило легкие животного.
Матадор взял мулету в левую руку, но не смог ее поднять и помог правой. Выставив перед собой на уровне глаз шпагу, Тобало Варгас позвал быка.
— Вот так становятся победителями. Так добиваются успеха. Награда матадору — ухо быка. Еще лучше — два уха. Еще лучше — два уха и хвост. Но, я думаю, Тобало Варгас не будет претендовать более чем на одно ухо. И это уже блестящее признание, контракты и все прочее.
— А что он будет делать с этим ухом?
— Что захочет. Может, например, подарить женщине...
Я вспомнил про девушку и взглянул на нее. Она прижимала к груди черную треуголку и выглядела не лучше своего тореадора: землистое лицо и круги под огромными, лихорадочно блестевшими глазами. Уже ради нее одной страстно захотелось, чтобы бой скорее кончился. Я приготовился махать белым платком и орать «Pexo!», требуя таким образом награды победителю — дурацкое бычье ухо. Через секунду полетят на арену знаки признательности матадору: цветы, бутылки с вином, шляпы, — словом, все, что в атмосфере общего ажиотажа каждый сумеет найти или сорвать с себя. Я вытащил большой значок и приготовился метнуть его.
Бык впился глазами в мулету и тяжело поскакал на матадора: он очень ослаб от потери крови. Тобало Варгас бросился ему навстречу, держа в вытянутой руке шпагу. В тот момент, когда они сблизились, Тобало Варгас перегнулся через рога и что было силы вонзил шпагу в спину быка, отскочив в тот же миг в сторону. Шпага изогнулась дугой и вдруг, спружинив, взлетела в воздух, сверкнув на солнце.
— Пропало ухо, — вздохнул сосед. — Плохого завершающего удара судьи не простят.
Публика недовольно молчала.
Тобало Варгас подобрал шпагу, выпрямил ее о колено и снова стал в позицию. Но бык не хотел идти в атаку. Он опустил голову и смотрел в песок. Тобало Варгас подошел к нему вплотную и провел по ноздрям мулетой.
Бык сделал молниеносное движение и всадил рог в живот матадора. В следующую секунду он прижал Варгаса к земле, потом поднял на роге, и видно было, что тот прошел насквозь. Острие рога было в песке. Стряхнув матадора, бык снова вонзил в него рог. На этот раз в грудь. А затем отошел, раздувая ноздри.
То, что было Тобало Варгасом, лежало на ослепительно желтой, празднично залитой солнцем арене жалким, безжизненным кулем.
Торос ловко положили это на пропитанный бычьей кровью плащ и бегом унесли за забор. В нижних помещениях белого цирка все было наготове: и госпиталь, и часовня. То, что еще совсем недавно вызывало восторг и звалось Тобало Варгасом, в госпитале продержали недолго. Затем торос отнесли тело матадора в часовню.
Вот, собственно, и все. Шесть быков, которых положено убить на корриде, поделили между собой два оставшихся матадора. Никто из них не погиб, только один был ранен. Может быть, если их не убьют в следующий раз, когда-нибудь они станут миллионерами. Туши быков тут же утащили привычные к этому мулы. А место, где упал бык, заравнивали и поливали водой. Все делалось очень быстро. Так же быстро заровняли и посыпали свежим песком место, где был убит Тобало Варгас.
Герман Балуев
Мадрид — Ленинград
(обратно)
Лак и перепелиные яйца

Природа стран Дальнего Востока подарила их жителям отличный материал, пластичный и твердый, всепроникающий и ничего не пропускающий, бесцветный и принимающий любую окраску, устойчивый к кипятку, щелочам, кислотам, прочный и практически вечный. Материал этот — сгущенный сок лакового дерева, знаменитый японский лак.
Само дерево ничем не примечательно — сероватая кора, мелкие овальные листья. Но в ботанических садах оно окружено высокой решеткой, чтобы никто ненароком не сорвал листик: лаковое дерево куда ядовитее знаменитого анчара, под которым в тех же ботанических садах спокойно ставят скамейки для отдыхающих.
Именно эта крайняя ядовитость сока лакового дерева — одна из причин, по которой лаковое производство более всех других традиционных восточных ремесел всегда было и остается по сей день ремеслом сугубо семейным, передаваемым, от отца к сыну. Дело в том, что если привыкать к микроскопическим дозам отравы — испарениям и мельчайшим капелькам лака — постепенно, день за днем, год за годом, то, хотя на определенном этапе болезненных ощущений и нарывов не избежать, в конце концов организм вырабатывает иммунитет к яду. Тогда уже всю жизнь можно, возиться с лаком без опасений. Нет надобности говорить, что готовый сухой лак ничем не опасен никому, да он практически и нерастворим почти ни в одной из употребляемых в быту жидкостей, разве что только нельзя протирать его бензином — тускнеет.
Уже почти две тысячи лет в разных странах Дальнего Востока, и особенно в Японии, лаком покрывают посуду, утварь, мебель. И не только. Колонны, балки, стропила японских храмов и дворцов тоже часто бывают покрыты лаком, красным или черным. В старину, когда лаковых рощ было больше, а построек меньше, лак в строительстве использовали особенно щедро. В те времена из дерева строились не только дома, но и крепостные стены. История сохранила предание об одном самонадеянном императоре, который вознамерился покрыть лаком стены укреплений вокруг своей столицы, чтобы они не сгнили со временем, как у всех его предшественников; а стояли бы вечно. Наверное, удалось бы собрать нужное количество лака, но император ровным счетом ничего не смыслил в технологии сушки лаковых изделий.
Вызванный во дворец мастер не стал спорить (человек он был умный), он только спросил: «Где соизволишь повелеть, государь, выкопать яму, чтобы положить туда на просушку твою крепость?»
Ведь парадоксальное свойство японского лака состоит в том, что в жарком, сухом воздухе или под лучами солнца он упрямо отказывается сохнуть, лак может сохнуть только в тени, в темноте, в прохладном и очень влажном воздухе. Для сушки мелких изделий применяют шкафы, где по стенкам сочится влага, а для сушки более крупных — роют в сырых, тенистых местах канавы и ямы.

Покрытые лаком предметы становятся не только прочными, удобными, гигиеничными и практичными. Лак представляет неограниченные возможности для художника. Мастера лакового дела средневековой и современной Японии прославились виртуозностью. Чаще всего можно увидеть лаковые чаши, вазы и шкатулки. Основа изделия может быть металлическая, из папье-маше, деревянная или сплетенная из прочного волоса. На нее в несколько слоев наносится лак (после нанесения каждого очередного слоя изделие долго сушат). Последние слои цветные — ими и создается рисунок. Но бывают и лаковые изделия без чужеродной основы. В этом случае на глиняную модель или разборную деревянную болванку навивают несколько слоев пропитанной лаком тончайшей шелковой марли: пропитывающий ткань лак, чтобы он был гуще, смешан с мукой, наподобие клейстера. Когда лак высыхает, болванку вынимают, а на изделие наносят новые слои лака, смешанного с кирпичным порошком или каким-либо другим заполнителем; самый верхний слой уже украшают лаковой росписью или инкрустацией. Так получают особенно легкие и тонкостенные изделия!
У японских мастеров множество технических приемов украшения лаковых изделий. Так, при технике «радэн» в лак утапливаются фигуры, вырезанные из тончайших пластин перламутра, при технике «хёмон» к лаковой поверхности приклеивают и зашлифовывают на ней узоры, вырезанные из золотой и серебряной фольги. При методе «цуйсю» поверхность металла, служащего основой, покрывается лаком во много слоев; потом лак тщательно вырезают по контуру рисунка. Особенно ярких и сочных красок позволяет добиться способ «тесицу». В этом случае изделие покрывают несколькими слоями лака разных цветов — скажем, первый слой серый, второй черный, третий красный и так далее. Затем, нанеся на верхний, допустим красный, слой контур рисунка, начинают выскабливать красный лак до черного слоя везде, кроме контура, затем то же самое делается и с черным слоем; таким образом получатся красные цветы с черными ветвями на сером фоне. Очень аккуратное соскребывание и подчистка позволяют получить на грани двух разноцветных слоев всевозможные смешанные оттенки. Поверхность изделия получается рельефной, и это усиливает эффект.
Вершиной средневекового японского лакового искусства было творчество мастера Огата Корина, жившего в XVII — начале XVIII века. Ширмы и ларцы его работы, сохранившиеся по сей день, считаются японским национальным культурным достоянием, и вывозить их запрещено. Крайне редко попадают за пределы Японии и произведения ныне здравствующего мастера Мацуда Гонроку, который признан ведущим художником по лаку в современной Японии и увенчан званием «живого памятника традиционной культуры». Мацуда Гонроку работает в самой сложной из всех техник художественного лака, «макиэ». На свежий лаковый фон наносится рисунок лаком разных цветов и присыпается золотым и серебряным порошком. Это создает вокруг рисунка размытое, мерцающее, светящееся сияние. Готовое изделие еще раз покрывают прозрачным лаком и полируют.
Любимая тема Мацуда Гонроку — изображение птиц: перепелов, журавлей, фазанов. Особые хлопоты доставляет художнику белое оперение его моделей. Дело в том, что для создания белого цвета используется не обычная краска — таким путем, получился бы некрасивый, однообразный и неживой цвет. Вместо белой краски Мацу да, как и другие прославленные мастера настоящего и прошлого, использует, раздавленную и раскрошенную яичную скорлупу. Опять-таки далеко не всякая скорлупа годится для этой цели. Мастер Ясутани Висэн, к примеру, пользуется обычными куриными яйцами, но Мацуда их решительно отвергает. «Почтеннейший Ясутани-сан изображает прибрежную гальку, песок, пену прибоя. Вещи это грубые, для них куриные яйца, может быть, и подходят», — говорит он. Но для нежного, исполненного тонких оттенков оперения птиц годится только тонкая скорлупа перепелиных яиц. Они, не в пример куриным, бывают самых разных оттенков: зеленоватые, голубоватые, буроватые. Подобрать достаточное количество яиц нужного оттенка не так-то просто. Для изображения фигуры аиста на шкатулке, над которой Мацуда работал около года, потребовалось всего-то тридцать яиц матово-грязно-белого цвета с легкой буроватостью. Но, чтобы найти их, пришлось перебрать свыше четырех тысяч яиц. «Теперь надо будет взяться за какой-нибудь сюжет, где белых тонов было бы поменьше, — говорит Мацуда, — а то моя жена и слышать не хочет о том, чтобы снова жарить перепелиную яичницу. Да и мне за этот год она. признаться, порядком надоела».
С. Арутюнов, доктор исторических наук
(обратно)
Камни Суруктаах Хайи
 Охотник каменного века лежал в позе путника — он сделал очередной шаг и замер, не успев завершить следующий... Оружие его было рядом — каменное тесло, топор, костяной кинжал с острейшим кремневым лезвием.
Соплеменники охотника выбрали прекрасное место для его последнего дома — на краю высокого скального обрыва над якутской рекой Джекемендэ, притоком Олекмы.
Открытие этого захоронения — самая большая удача экспедиции Якутского государственного университета.
Охотник каменного века лежал в позе путника — он сделал очередной шаг и замер, не успев завершить следующий... Оружие его было рядом — каменное тесло, топор, костяной кинжал с острейшим кремневым лезвием.
Соплеменники охотника выбрали прекрасное место для его последнего дома — на краю высокого скального обрыва над якутской рекой Джекемендэ, притоком Олекмы.
Открытие этого захоронения — самая большая удача экспедиции Якутского государственного университета.
Дыбятся над Олекмой скалы. Берега — крепчайшие плиты диабаза, дно — линолит. Я сижу над скалистым обрывом, перебирая тяжелые кругляки скальной гальки, похожие на молоты. Внизу беззвучно струятся воды Олекмы. Фиолетовый дым костра застревает в густых ветках сосен и лиственниц. Женщины готовят еду у костра — к вечеру будет рыба, мясо сохатого. Еды надо много. Мужчины работают. Они рубят плот. Большой крепкий плот, чтобы все племя смогло откочевать вниз по Олекме.
...Ну, насчет племени я, конечно, увлекся. Собирается в путь-дорогу не племя — экспедиция. Но эта тишина вокруг, этот извечный звук удара топора по дереву — так же беззвучно струилась Олекма и ухал топор, когда здесь пылали костры древних.

Несколько лет назад на реке Токко были обнаружены рисунки, высеченные на скалах, — охотники, сохатые, олени. Потом «писаную гору» — Суруктаах Хайю по-якутски — нашли на Олекме, в устье ее притока Крестяха. Диабазовые «полотна» хранили изображения священных знаков, людей. Очень ценные для науки изображения обнаружены на берегу Крестяха, в природной нише, куда археологи могли добраться, только спускаясь на веревках... Воздев к небу руки, застыл на скале человек. Кто он? Шаман, просящий у небес тучных стад и крупных рыб? Божество — покровитель, охраняющий племя?..
Начальник экспедиции Н. Архипов считает, что время окончательных расшифровок олекминских писаниц еще не пришло. Сейчас очень важно как можно точнее скопировать найденные петроглифы, со всей тщательностью обследовать окрестности, чтобы выявить все наскальные изображения на берегах Олекмы.
На том берегу Олекмы, в устье речки Баасынай, напротив лагеря, экспедиция тоже обнаружила рисунки, сделанные охрой. Они не такие торжественные, как в нише, более прозаические.
Контур лодки объединяет целую композицию — сохатый, человек, медведь, волк (или собака). Словно человек каменного века запечатлел в рисунке простую, но жизненно незыблемую формулу своей жизни: есть тайга — есть зверь, есть зверь — есть человек. Несколько ниже по течению изображена охота: вскинул тяжелую морду медведь, к нему, словно танцуя, бегут люди. Всего лишь едва намеченные охрой контуры, но чувствуется, как бесстрашны, горды и веселы охотники.
Вот так же шел на зверя и тот охотник, останки которого экспедиция нашла над Олекмой. Такой же бесстрашный, гордый своим уменьем и ловкостью. Подобные открытия переоценить вообще трудно. Вместе с наскальными рисунками, одиночными находками древних орудий труда они уже сейчас позволяют представить картину каменного века Олекмы.

...Множились племена, теснившиеся вокруг Байкала. Вот уже заняты широкие долины рек Прибайкалья и Забайкалья. Вспыхивают межплеменные распри. Остатки потесненных уходят на Север в поисках свободных земель. Судя по всему, путеводной нитью на незнакомой земле им служила Олекма, притоки которой изобилуют рыбой, а берега — оленями, лосями, ягодой, съедобными кореньями, орехами. Люди живут охотой и рыбной ловлей. Кочуют туда, где больше зверя. Человек неотделим от природного цикла — он не умеет управлять им, но он знает, как пользоваться его закономерностями.
Работы у археологов здесь непочатый край. Недалеко от истока реки Баасынай мы обнаружили еще один рисунок. Это был человек, нарисованный вниз головой: так древние изображали мертвых. Возможно, здесь спит вечным сном еще один первобытный охотник с полным набором каменного оружия.
Бесценные находки упаковывают в брезентовые сумы. Их сплавят вниз по реке. Для этого и строится плот. Загадочно и беззвучно течет река в вечных диабазовых берегах. Я ощупываю рукой первобытную наковальню, на которой девять тысяч лет назад безвестный первобытный мастер ладил свои бесхитростные каменные орудия. Ложатся ночные сумерки. Особенно плотны они в сырой мрачной пади вверх по течению. Там — Крестях, скала-храм. Первобытный северный храм. Говорят, что водоросли на дне Крестяха ночью фосфоресцируют — особенно после грозы. А эхо в мрачной долине Крестяха гремит, как иерихонская труба. Я сам слышал, как гремит это эхо. Можно представить, что там творится, когда осенью наступает время гона изюбрей!
Утром мы сняли свой лагерь. Скалы окутаны тишиной. Бесшумен и наш плот. И мы до боли в глазах вглядываемся в скалы — нет ли среди них новой Суруктаах Хайи?
Н. Яньков, наш спец. корр.
(обратно)
Владимир Михановский. Ва-банк

Строгая, скорее даже спартанская обстановка в кабинете гармонировала с характером ее хозяина: шеф компании Уэстерн любил повторять, что рабочее место администратора — та же кабина космического корабля— ничего лишнего. Чарлимерс подумал, что слова Джона Вильнертона вроде бы не расходились с делом. Пластиковые стены его кабинета были девственно чисты, ни один портрет, ни одна картина не оскверняли их. Комната была пуста — даже стулья, необходимые для совещаний, были утоплены в стене и появлялись, лишь повинуясь нажиму президентской кнопки.
Сидя на краешке стула перед столом, Чарлимерс молчал, не в силах отвести взгляд от массивного пресс-папье, поблескивающего в неживом свете потолочных панелей. Странно, он не мог определить на глаз металл, из которого было отлито это сооружение.
Теперь, когда главное было сказано, Чарлимерса охватило полное безразличие.
Вильнертон перехватил взгляд Чарлимерса и как бы непроизвольно пододвинул пресс-папье поближе. Пауза затягивалась, становилась угрожающей.
— Компания не задумается выбросить вас, Джон Чарлимерс, можете не сомневаться,— сказал Вильнертон. — Но есть еще одно обстоятельство. Два года назад на ваш эксперимент была выделена довольно значительная сумма. Я спрашиваю: где эти деньги? Вы истратили их.
Чарлимерс наклонил голову.
— А результаты?.. Их нет, — продолжал шеф, все более распаляясь. — Но не думайте, что вам удастся обвести Уэстерн вокруг пальца. Вы ответите нам своим имуществом.
— Вы хотите конфисковать мое имущество? — вскинул голову Чарлимерс.
— Поразительная догадливость!
Чарлимерс побледнел, и смуглое лицо его приобрело синюшный оттенок.
— Об этом в контракте не сказано ни слова... — пробормотал он.
— Ошибаетесь, уважаемый, — отчеканил Джон Вильнертон. — В контракте сказано, что, получив на эксперимент известную сумму, вы беретесь не позднее чем через два года создать объект, «удовлетворяющий определенным требованиям, которые изложены в приложении, на восемнадцати страницах»... Верно?
— Верно.
— Ну а если условия контракта не выполнены, виновная сторона платит неустойку, коль скоро не оговорено противное. Это вам любой юрист подтвердит.
— Дайте мне еще два месяца, — тихо оказал Чарлимерс.
— Двое суток, и ни минуты больше. — Ответ Вильнертона прозвучал как приказ. — Мы имели глупость разрекламировать ваше детище, и нас осаждают клиенты. Итак, через сорок восемь часов к вам придет судебный исполнитель...
Едва тяжелая дверь захлопнулась за Чарлимерсом, на столе вспыхнул экран кофейного цвета, и Вильнертон в душе чертыхнулся.
— Тебе вредно нервничать, — пропела супруга, улыбнувшись. — За что ты так распекал бедного Чарлимерса? Я так и не поняла толком...
— Распекал? Да его спечь мало.
— А что он натворил? Ты же знаешь, я совсем не разбираюсь в этих ужасных роботах, с которыми вы возитесь...
— А, тебе неинтересно, — махнул рукой Вильнертон.
Он оберегал молодую жену от всяческих треволнений, связанных с деятельностью компании, а заодно и от тайн, которые могла выболтать легкомысленная женщина.
Два года тому назад профессор Джон Чарлимерс предложил шефу Уэстерн-компани любопытную идею. Лауреат Нобелевской премии был принят благосклонно. Вильнертон не без приятного волнения .выслушал заманчивое предложение авторитетного ученого: в течение полутора-двух лет создать робота, способного воспринимать и проявлять эмоции.
Речь шла отнюдь не о том, чтобы механически воспроизводить улыбки, смех, слезы — подобные имитации представляли собой давно пройденный этап.
— Я хочу, — сказал Джон Чарлимерс, — создать робота, способного по-настоящему, как человек, страдать и восхищаться, тосковать и радоваться.
— Как же вы мыслите достичь этого? — спросил шеф, с интересом вглядываясь в энергичное лицо профессора.
— О, моя идея чрезвычайно проста, — ответил Чарлимерс. — По моим расчетам, — он похлопал по толстой виниловое папке, — начиная с некоторого порога, самоорганизующаяся система становится способной к эмоциям. Вся суть, собственно говоря, заключается в этом критическом пороге.
— Чем же он определяется, этот порог?
— В основном количеством накопленной информации. Ну а кроме того... — Чарлимерс замялся.
— Понимаю, понимаю, — улыбнулся шеф, — секрет изобретателя!.. Наведайтесь денька через два. Надеюсь, мне удастся заинтересовать вашим предложением акционеров.
Нечего и говорить, какие большие выгоды сулил компании робот, проект которого был предложен профессором Джоном Чарлимерсом.
Контракт был подписан, и машина завертелась...
Сотни тысяч были брошены на рекламу. «Новый взлет технической мысли! — захлебывались газеты. — Уэстерн-компани предлагает вам друга. Мыслями и чувствами он будет всегда с вами и никогда не изменит в отличие от человека...» «Ваш муж, сын или брат слишком долго не возвращается из космоса? Нет, он возвратился. Вот он стоит перед вами, скромный и элегантный, в лучшем в мире костюме фирмы «Ливинг и братья». Он разделит вашу печаль, и ваши слезы, и ваши радости» А одна газетка поместила на первой полосе фото очаровательной кинодивы с конвертом в руке, сопроводив его выразительной подписью: «Своими секретами я делюсь только со своим самым близким другом производства фирмы «Уэстерн», и далее следовал адрес компании, куда следовало обращаться читателю, возжелавшему приобрести позитронного друга.
В результате акции Уэстерн-компани резко подскочили. В течение нескольких месяцев на бирже царил ажиотаж. От цифр, обозначавших прибыли членов акционерного совета, рябило бы в глазах, если б эти цифры публиковались. Поток заявок на роботы Чарлимерса рос изо дня в день...
И вдруг, когда положенный срок был на исходе, последовало заявление профессора Чарлимерса. Оно прозвучало как гром среди ясного неба.
— Вероятно, в чем-то допущена ошибка, — сказал шефу Джон Чарлимерс. — Количество информации, накопленной роботом, давно превысило теоретический порог, а никакого проявления чувств не наблюдается...
Не мудрено, что эти слова вызвали у шефа столь бурную реакцию. Назревал грандиозный конфуз...
Джон Чарлимерс неподвижно сидел за лабораторным столом, спрятав лицо в ладони.
Итак, дело его жизни рушилось. Честолюбивые мечты и надежды — все летело в тартарары! Перед мысленным взором Чарлимерса проносились картины одна печальнее другой. Коттедж описывают за долги... Гараж и «безан» идут туда же... Его кидают, чего доброго, за решетку... А жена с сынишкой... Что будет с ними?..
В коридоре послышались уверенные шаги, и в лабораторию вошел Чарли. Лучи закатного солнца, бившие в круглое окно, ярко освещали его плечистую фигуру.
«А все из-за него, — с внезапной злобой подумал Чарлимерс, глядя на свое детище. — Впрочем, смешно спрашивать с робота. Спрос — не с машины, а с конструктора».
— Добрый вечер, Отец, — сказал Чарли, подойдя к Чарлимерсу.
— Здравствуй, Чарли.
— Сегодняшняя программа накопления информации перевыполнена, — рокотал уверенный бас. — Сверх заданной вами программы усвоен двадцать второй том Британской энциклопедии, а также монография об особенностях языка древних ацтеков.
— Это уже не имеет значения, — махнул рукой Чарлимерс.
— Не понял, прошу повторить, — быстро проговорил робот и мигнул.
«Надо взять себя в руки»,— сказал себе Чарлимерс.
— Ты молодец, Чарли, — ласково сказал профессор, глядя на робота.
— Жду задания.
— Ступай-ка и займись двадцать третьим томом.
«И что ему стоит, — подумал Чарлимерс, глядя в широкую спину удаляющегося белкового робота, — выразить, скажем, радость по поводу того, что я похвалил его! Но никакого подобия чувств нет и в помине».
Профессор тяжело поднялся и вышел из-за стола.
— Никакого подобия чувств... — вполголоса повторил он. — Гм, подобия...
«А может, и впрямь пойти по линии имитации? Кто там станет разбираться. А если кто-нибудь и обнаружит подделку, могущественная компания легко сумеет замять неприятность.
Тогда будет все: и слава и деньги».
Но Чарлимерс тут же отверг эту мысль: шарлатаном он не был и не будет никогда.
Профессор долго и бесцельно бродил по огромной лаборатории, привычно пустынной (Чарлимерс работал без помощников, предпочитая манипуляторы), останавливался то у стеллажей, на которых покоились бесчисленные блоки хранения информации, то у волноводов, образующих диковинный букет, то у термостата, где выращивались белковые клетки памяти.
«А ведь Чарли по-своему привязан ко мне, — размышлял Чарлимерс. — Он, например, охотнее подходит ко мне, чем к кому бы то ни было другому. Так почему же он ни разу не проявит свои чувства, хотя бы в самой примитивной форме? Ведь он больше чем достаточно читал об эмоциях, свойственных человеку, и видел специально подобранные фильмы, которым несть числа».
У Джона всплыла в памяти его вчерашняя беседа с Чарли, после которой, собственно, он и решился на окончательное объяснение с Вильнертоном.
— Почему ты ни разу не выразишь радости или огорчения, Чарли? — спросил профессор.
— А к чему? — безмятежно ответил робот, поблескивая фотоэлементами.
— То есть как — к чему? — растерялся Чарлимерс.
— Выражение чувств отнимает слишком много энергии,— пояснил Чарли, — и поэтому оно излишне. Необходимо выдерживать принцип наименьшего действия.
«А может, он прав по-своему?» — продолжал размышлять профессор.
— Нет! — сказал Чарлимерс громко. — Но как докажешь это Чарли?
Можно, конечно, приказать. Но тогда вся великолепная логическая система робота окажется безнадежно испорченной. Нет, грубая команда здесь решительно не годится. Робот должен прийти к собственным эмоциям без чьей-либо помощи, самостоятельно. Или...
Остановившись у окна, Чарлимерс рассеянно глядел, как по двору торопливо снуют люди, с такой высоты сильно смахивающие на муравьев.
И тут профессору пришла мысль, от которой похолодело в груди. Сначала мысль показалась страшной, но чем больше Чарлимерс думал, тем сильнее убеждался, что это, пожалуй, единственный выход из тупика, в котором он очутился.
«Компания не намерена терпеть убытки», — шеф без обиняков заявил это сегодня утром. Итак... Да, решено. Анна по крайней мере получит страховку», — усмехнулся Чарлимерс.
— Как в беспроигрышной лотерее, — невесело сказал он, отходя от окна.
— Застрелился? — переспросил шеф, дыша в трубку видеофона. — Улизнул-таки, прохвост! Не сообщайте пока никому об этом... Что, что? В медицинский центр? Вы с ума сошли! Никаких медцентров, говорю я. У компании есть все, и свои врачи в том числе. Исполняйте приказ. Зарубите на носу: произошел несчастный случай. Вам ясно? Вот так.
— Пожалуйста сюда, миссис Чарлимерс. Не надо волноваться! Самое страшное позади. Нет, здесь у нас не больница, а так... Нечто вроде лазарета. Знаете, ведь сотрудников у нас не одна тысяча. Вот и бывают иногда разные несчастные случаи вроде как с вашим мужем. Как произошло? Но вам уже объяснял наш врач... Небрежно чистил пистолет... Ну, откуда же мне знать, миссис!.. Ведь я только сестра... Значит, вы не забыли, что сказал врач? Полный покой. Вам дается пять минут. Какое счастье, что пуля не задела аорту! Извольте вот в эту дверь.
С узкой железной койки на скромно одетую женщину глядел бледный, без кровинки Джон.
— Здравствуй, Анна, — попытался он улыбнуться. — Видишь, как меня угораздило...
— Не разговаривай, — замахала она руками. Затем, оглядевшись, придвинула белый, как и всё в этой комнатке, стул и опустилась возле мужа. — Тебе нужен полный покой.
— Ничего, — тихо сказал Джон, — теперь все позади. Вот если бы пуля прошла на два миллиметра левее... Тогда я уж имел бы полный покой.
— Как ты неосторожен, Джон. И почему ты мне никогда не говорил, что имеешь дело с огнестрельным оружием?
— Да так, не приходилось... Зато теперь мы будем богаты, Анна, очень богаты.
Анна вопросительно посмотрела на мужа.
— Мой опыт удался!.. — пояснил Чарлимерс, поймав ее недоумевающий взгляд.
Разговор утомил Чарлимерса, и он прикрыл веки. Не зная, о чем еще говорить, Анна собралась было уходить, но в это время послышался осторожный стук в дверь, и в палату вошел Чарли. Ловко балансируя подносом, он опустил его на тумбочку у изголовья Чарлимерса. На подносе среди золотистых бананов красовался букетик фиалок.
— Как чувствуешь себя. Отец? — спросил робот, и в голосе его Анна уловила неподдельное волнение...
(обратно)
Рога горного козла и земледелие в горах

На отдаленных высокогорьях киргизы, кроме животноводства, занимались и земледелием. Выращивали в основном пшеницу, ячмень и просо. Пшеница и просо шли в пищу людям, а ячмень — верховым лошадям. А там, где пшеница не вызревала, ячмень ели и люди и животные. В некоторых особенно отдаленных местах киргизы как орудие труда успешно применяли рога горного дикого козла. Правда, в те далекие годы и соседние народы — даже жители плодородных долин — обрабатывали землю примитивным способом.
Рога горного козла бывают внушительного размера, доходя иной раз до полутора метров в длину. Они имеют то же назначение, что и у домашних баранов и коз: по возможности защищаться от врагов. Но домашних животных еще хозяева с собаками защищают, а горному козлу приходится полагаться только на свои рога. Поэтому-то они у него такие длинные и крепкие.
Острый конец рога — сантиметров двадцать-тридцать — плотный и твердый. Для земляных работ нужен как раз этот острый цельный конец. Держать рог в руках очень удобно. Чем он длиннее, тем лучше им копать землю, переворачивать камни. Притом довольно крупные камни, так как кончик рога согнут.
Чтобы проложить оросительный арык по косогору, надо разрыхлить столько каменистой земли, что железные кетмени почти моментально тупеют, ломаются, выходят из строя. А рога горного козла довольно твердые и в то же время эластичные. При ежедневной работе их не надо точить, как железо, так как от бесчисленных столкновений с камнями они не тупеют, не ломаются и не гнутся под тяжестью. Правда, в конце концов острый кончик может стереться. Но для того чтобы он стерся, надо выкопать не один и не два арыка.
В горах, где, как говорится, только камни растут, рога горного дикого козла были неплохим орудием труда.
Я сфотографировал восьмидесятилетнего Джапар-аксакала в горной местности Ак-Терек, что в ущелье Зардалы Баткенского района Киргизии, когда он показывал своим правнукам, как в молодости копали арыки и чистили от камней клочки земли. Правнуки, правда, недоверчиво улыбаются, потому что все-таки не совсем понимают: зачем пользоваться рогами, когда есть плуги и тракторы?..
Тайтуре Батыркулов
(обратно)
Зимник начинается в Певеке

Певек утонул в пурге. Подул знаменитый «южак». Кто. не встречался с ним в пути, не слышал его пронзительного завывания, не чувствовал на лице его игольчатых уколов, тому трудно представить, что это такое. Пурга... Она рвет метровый лед на море и поднимает в воздух льдины, сталкивая их лбами, громоздя друг на друга. Она срывает с сопок огромные козырьки снега и гонит перед собой снежные лавины. Она разгоняет оленьи стада, уносит яранги, переворачивает грузовики. Это бич трассы.
Слава Агафонов сидел у себя в кабинете, не снимая теплой ушанки и шубы. Просто уже не было сил. Лицо комсомольского секретаря выглядело усталым: щеки приморожены, глаза воспалены, на бровях и ресницах — растаявший снег.
— Всю ночь искали мальчишку. Возле дома заблудился, — сказал он.
— Не замерз?
— Нет. Они у нас морозоустойчивые. Слава улыбнулся очень доброй улыбкой. И добавил:
— Надо ждать. Пока без перемен. Ветер — более сорока метров...
Я ждал уже вторую неделю, да что я!..
Замер в ожидании Певек. Все работы остановились. Аэродром закрыт, зимник замело, любое передвижение стало невозможно. Только в самом Певеке, в глубоком снежном лабиринте, проложенном бульдозером, с трудом проползал обкомовский вездеход. В певекском морском порту скопились тысячи тонн ценных грузов. Всю навигацию доставляли их корабли. Теперь дело за водителями тяжелых автопоездов, которые должны перевезти в глубь Чукотки оборудование для приисков и рудников, продовольствие, одежду, строительные материалы, запасные части... — все то, что не доставишь авиацией, но без чего невозможна нормальная жизнь и работа. И вот —пурга! Если не успеть перевезти грузы по ледяной трассе, по зимнику, через замерзшую Чаунскую бухту, через тундру — напрямую, сократив большие расстояния, если не успеть, — придется ждать будущей зимы...
Но вот ветер стих, и сквозь рваное сине-белое месиво показались яркие звезды. Город и порт ожили. Начали проявляться желтые огни домов, вычерчивая главную улицу Певека; огни обнажили «стаю» портовых кранов на ярко-сиреневом фоне бухты. Утихший ветер еще гнал остатки снежных зарядов, и казалось, что город-порт плывет в облаках. Таким я и запомнил Певек — морские ворота Чукотки.
...Командир Владимир Бикетов легко бросил свой «МИ-8» вверх и лег на курс. Вскоре внизу показался едва различимый пунктир автомобильных фар — это по трассе зимника пошли первые машины. Они двигались осторожно, с большим интервалом: в нескольких местах бухту пересекали многокилометровые трещины — последствие пурги. Они чернели, словно русла рек. Мы пролетели далеко вперед, потом снизились и, поднимая снежный вихрь, пошли назад над самой трассой, просматривая каждый километр дороги, отмечая на карте опасные места. Потом вертолет приземлился у дороги, Владимир Бикетов отдал карту начальнику колонны. Только на земле я увидел, что во многих местах дороги торчали покрытые инеем зловещие таблички: «Осторожно, трещина!» Да и сама дорога не казалась уже такой ровной и гладкой, как с воздуха. Крепкое рукопожатие, пожелание Друг другу доброго пути — и снова вертолет взмыл вверх, а машины двинулись по зимнику.
В. Сакк
(обратно)
Р. Штильмарк. Волжская метель
 Продолжение. Начало в № 2—3.
Глава третья. После прорыва
Продолжение. Начало в № 2—3.
Глава третья. После прорыва
На пустынных ночных улицах Ярославля щелкали пули, пахло гарью, в воздухе носился тополиный пух, перемешанный с пеплом, будто ветер крутил над городом странную метель, алую в отсвете пожаров. Гости пана Зборовича уходили с банкета обнадеженные докладом полковника Перхурова о блестящих делах Добровольческой армии на Севере и в Поволжье, но здесь, на темных улицах, под обстрелом, их снова охватила паника. Слыша отдаленные перекаты грома, они не могли уверенно судить, какая новая напасть надвигается на Ярославль: грозовая ли туча с градом, красный ли бронепоезд?
Перед полуночью, когда в особняке остались только близкие, а прислугу отправили спать, очнулся задремавший ненароком в кресле пан Владек. Георгиевский кавалер страдал с той минуты, когда красавица артистка пренебрегла его обществом, отправила эскортировать задержанного мальчика. Покараулить с пани Барковской лодку было бы куда заманчивее!
Тем временем вернулся из ночного похода поручик Фалалеев. Вызывали его к зданию Государственного банка, где группа офицеров-патриотов пыталась взломать двери кладовой, чтобы поставить банковские ценности на службу... родине и свободе.
Поручик бывал у Зборовичей запросто и сразу прошел на кухню умыться. Кран бездействовал. Владек ковшом слил воды на руки Фалалееву и заодно окатил, собственную голову.
— Где пани Барковская? — осведомился шеф перхуровской полиции.
— Ее, вероятно, уже проводил домой подпоручик Стельцов! — злорадно отвечал кавалер. — Вас она просила поговорить с задержанным рыбаком. Он у нас, в швейцарской.
Помрачневший Фалалеев, придерживая шашку, шагнул через порог прихожей и в крошечной каморке швейцара, примыкавшей к передней, увидел понурого подростка лет четырнадцати в синей рубахе, как бы осыпанной белым горошком. Тот сразу вскочил и вытянулся «смирно». В нем угадывалась выправка кадета.
— Ты здешний? Полное имя как?
— Владимирцев, Макарий. Прибыл от своего опекуна господина Коновальцева, с корзиной рыбы для пани Зборович. Бакенщик Семен должен получить за нее солью и продуктами. Но меня никто здесь не стал слушать, а рыбу отобрали на кухне.
— Что-то я вас плохо понимаю, молодой человек! Кто же вас сюда снаряжал: Коновальцев или бакенщик? Бакенщик Семен мне известен, Коновальцева не знаю.
— Он управляющий поместьем Солнцево полковника Зурова, моего троюродного дяди. Прячется на Нижнем острове в шалаше бакенщика Семена. Меня послали с двумя поручениями — отвезти рыбу пани и записку полковнику Зурову.. Велено сразу плыть обратно, у них все запасы кончились, ни соли нет, ни муки.
— О запасах потом... Ваш троюродный дядя, говорите? А вы в лицо его знаете? Извольте указать, который здесь полковник Зуров.
Фалалеев достал из бумажника групповой снимок перхуровского штаба, сделанный несколько дней назад, в начале событий.
Мальчик недолго вглядывался в лица офицеров и безошибочно указал своего дальнего родственника. Фалалеев спрятал фотографию.
— Записка полковнику Зурову от господина Коновальцева при вас?
— Так точно. Только вручить ее господину полковнику мне велено лично.
— Хм! Первый час, полковник в штабе... Но это недалеко, гимназия Корсунской... Придется дойти!
Дежурный по штабу проводил обоих к полковнику Зурову.
Георгий Павлович держал трубку полевого телефона и делал пометки на оперативной карте. Воспаленными от бессонницы глазами он глянул на троюродного племянника, пробежал записку своего бывшего управляющего и... снова обратился к карте. Макар понял, что телефонные вести тревожны. Зуров положил трубку.
— Значит, матушка твоя и господин Коновальцев остались на Нижнем острове, в шалаше бакенщика, и ждут тебя?
В комнату вошел сам главноначальствующий Перхуров Георгий Павлович извинился и на обороте коновальцевской записки написал несколько беглых ответных строк: советовал отвезти юношу
Макария и его матушку назад, в Яшму или Кинешму, пока события не прояснятся.
— Дай бог тебе нынче же благополучно воротиться к матери и опекуну! — шепнул он Макару, выпроваживая его из кабинета вместе с Фалалеевым. Затем, прикрыв дверь, два полковника склонились над оперативной картой.
В особняке Зборовича собирали продукты для юного гребца. Фалалеев советовал отправить его назад, на Нижний остров, до рассвета, под ливнем и молниями. Прислуга давно спала, Ванда, хозяйская дочка, сама привела его в кладовую за кухней и очень удивилась, когда робкий мальчишка вдруг таинственно понизил голос и приложил палец к губам:
— Тсс! Главное, чтобы ваша мама... ничего не узнала!
И Макарка торопливо пересказал девушке все, что знал о страшном положении пленников на дровяной барже. Мол, подруга Ванды — девушка Ольга, тоже томится в этой плавучей тюрьме среди смертников.
— Надо уговорить ваших друзей, Ванда, помочь им, послать на баржу хотя бы хлеба. Только мне... велели опасаться вашей мамы, уж простите!
— Ох, это правда, мама так ненавидит всех красных! Она не станет за них заступаться... Олину мать, тетю Пелагею, давно отсюда выселили, не знаю куда... Бедная Оленька!.. Но я знаю, кого попросить. Пани Барковскую, артистку. Она может заставить начальника полиции Фалалеева накормить узников хлебом... А вот вам продукты для ваших островитян. Берите побольше. Только как же вы поплывете под такой ужасной грозой?
Утром, после грозы, заключенные на барже услышали новый, забытый за неделю плена звук на реке: пьяные голоса и скрип лодочных уключин.
Из-за баррикады выглянул Смоляков.
К барже приближалась гребная лодка. На веслах сидели крепкозадые унтеры в галифе. Высокая женщина в открытом вечернем платье и в шляпе с вуалеткой сидела, подобрав ноги, на носу. Рулем правил бывший комиссар уездной милиции Фалалеев. В женщине Смоляков узнал артистку Барковскую.
Когда лодка подошла к борту баржи, двое военных стали подавать артистке круглые караваи белого печеного хлеба. Таких караваев на дне лодки лежало пять.
Артистка подняла один каравай и неумело швырнули на баржу. Каравай шлепнулся о сухую смоленую древесину, упал в воду и поплыл по течению. Унтер удержал его веслом, выловил и легко забросил на баржу.
Офицер и остальные унтеры стали ломать хлеб на куски и подавать женщине. Она была слегка пьяна, пьяны были и ее спутники. Женщина делала взмах рукой, кусок летел через борт и падал в тухлую жижу на дне баржи или на поленья близ умирающих с голоду.
От этой возни, от запаха свежего хлеба, от чужих голосов под бортом узники начали пробуждаться от забытья.
Куски хлеба, описывая широкую дугу, летели и летели через борт. Десятки рук рванулись к хлебу. Уже больше половины заключенных участвовало в этой ловле. Стали раздаваться жалобные крики: людям невыносимо было видеть, как ломти падают в нечистоты, в лужи... Помвоенкома Полетаев сумел поймать два, и обе девушки, Ольга и Антонина, съели по куску печеного хлеба, не ведая, что самому Полетаеву хлеба не досталось.
Лодка повернула и стала отдаляться. И тогда вослед пьяным благотворителям впервые за все время плена раздались с тюремной баржи стоны страдания и выкрики проклятий.
Еще через три дня нежданный гость принес в особняк Зборовичей недобрую, грозную весть...
Этим гостем был капитан Павел Георгиевич Зуров, единственный сын полковника Зурова. Еще 8 июля капитан Зуров бежал в Рыбинске из окружения. В числе прочих участников рыбинского дела капитан Зуров в ночь на 8 июля находился согласно приказу Савинкова и Перхурова на подступах к рыбинскому гарнизонному складу. Однако захват офицерам не удался. Все они во главе с капитаном Смирновым угодили в ловушку, расставленную чекистами. Мятежники очутились в огневом мешке. Лишь немногим удалось выбраться.
— Значит, пан капитан утверждает, что в Рыбинске мы не имели успеха? — дивился полненький пан Здислав Зборович, взирая спросонья на ночного пришельца. — Мы тут слышали другое...
Капитан был точно осведомлен о запасах военного снаряжения, сданных при расформировании 12-й армии на рыбинские склады: миллион артиллерийских снарядов всех калибров, десятки миллионов патронов, винтовки, пулеметы, орудия — все в образцовой воинской сохранности. Вот почему провал рыбинской операции подрывал стратегические планы Перхурова.
— Слушайте, пан капитан, — опасливо спрашивал пан Здислав. — А как же французы? Почему задерживается их экспедиционный корпус? Ведь железнодорожный волжский мост был наш, теперь же он снова потребует от нас тяжелых жертв..
— Союзники... предали нас Ярославская операция оказалась преждевременной. Никаких иностранных судов в Архангельске нет. Десант обещанный к восьмому июля, туда не прибыл...
Капитан Зуров привскочил со стула, потому что потрясенный пан Здислав Зборович, патриот белого Ярославля, лишился чувств.
...В тот же вечер отец и сын Зуровы впервые за долгие месяцы разлуки оказались с глазу на глаз в своем старом доме.
— Знаешь, Паша, кого нынче похоронили на волжском берегу? Помнишь Коновальцева?
— Твоего управляющего пли его сына? Росли вместе...
— Сына. Николку. Смелый был офицерик... А старшего, Бориса Сергеевича, я отправил по нашим делам. Про сына он еще ничего не знает. Жаль его. Я в начале событий велел привезти сюда из Яшмы того юношу, Макария Владимирцева, на чье имя я после февральской перевел наше Солнцево... Как-никак формальный «владелец» всего нашего недвижимого.
— Мне сдается, папа, напрасно ты их сюда раньше времени вызывал. Не до них пока. Коновальцев стар, Макарий юн.
— Французы подвели! Были надежды, что совдепия рухнет. Вот и хотел мальчишку поближе под рукой иметь, чтобы кто другой не воспользовался его наивностью. Теперь пусть едут назад, в Кинешму. Коновальцев за мальчиком присмотрит.
— Что решил нынче военный совет, папа?
— Понимаешь, положение становится трудным. Если изолированно держаться в городе — сомнут. И вот Александр Петрович предложил выход. План таков, Паша: создаем отряд, человек в пятьдесят, самых надежных и решительных офицеров. Может быть, пристегнем какого-нибудь социалиста из меньшевиков, но с ними масса мороки. Народ же идет за ними слабовато, ну да еще посмотрим! Во главе отряда станет Перхуров. Мы — Афанасьев, Ливенцев, Гоппер — сами это предложили Александру Петровичу.
— Кто же будет командовать обороной здесь, в городе?
— Очевидно, генерал Карпов. Позиции отличные, тут кто хочет удержится, пока боеприпасы есть. Но их мало, одной обороной мы войска свои не выручим. Перхуровский отряд выйдет красным в тыл и окажется на оперативном просторе. Поднимет крестьян в северной и восточной частях уезда. Отряд станет ядром белого партизанского движения, эдакой, понимаешь, поволжской вандеи. Силами крестьянской вандеи мы выручим блокированные в городе войска и соединимся с чехословаками или с союзниками на Севере.
— Знаешь, папа, если бы я сомневался в Александре Петровиче; то... просто назвал бы эту затею авантюрой, предпринятой с единственной целью: сберечь шкуру! По сути, это дезер...
— Не договаривай, Паша! Дело, разумеется, несколько... щекотливое, но иного выхода нет Лучше какое-нибудь решение, чем никакого. Что ни говори даже при частичном успехе сохраняется некий офицерский костяк. А знаешь, как в народе говорят: были бы когти целы, а мясо нарастет! Но ты не думай, будто я считаю шансы плана низкими. Кого-кого, а уж Перхурова мужички послушают. Я верю в Александра Петровича!
Капитан привздохнул. Вспомнились ночлеги по деревням на пути из Рыбинска в Ярославль. Какими только словами не честили эти «мужички» белых заговорщиков! Чтобы этих-то крестьян удалось бросить в бой против красных, отдавших «мужичкам» помещичью землю?!
— Когда намечен прорыв?
— Очевидно, послезавтра на рассвете. Отчасти это зависит от погоды. Александр Петрович завтра обеспечит деньги для отряда — управляющий банком выдал миллион и обещает еще полтора. Стельцов подготовит боеприпасы и оружие. Ради секретности придется на несколько часов сосредоточить оружие здесь, в подвале нашего, вернее бывшего нашего, особняка.
— Решено ли, где прорываться? Огонь на всех участках плотнее час от часу.
Полковник перешел на шепот:
— Перхуров рассчитывает прорываться... пароходом. Завтрашний день уйдет на подготовку, а на рассвете семнадцатого... Если туман поможет...
— Значит, вниз по матушке по Волге?
— Нет, не вниз, а вверх по матушке...
2
Днем 16 июля немало офицеров разных рангов являлись в особняк Зборовича, оставляли тяжелые свертки и мешки в маленьком дворике, а подпоручик Стельцов с прапорщиком Владеком Зборовичем уносили эти грузы в подвал особняка.
После полудня сам полковник Георгин Павлович Зуров пришел в особняк со странной ношей, завернутой в старый плащ. С трудом протиснул он неудобный сверток в дверной проем. Следом с таким же узлом протиснулся офицер в форме военного врача с серебряными погонами. Хозяевам он отрекомендовался доктором Пантелеевым и тут же откланялся, чтобы воротиться на позиции.
Свертки, доставленные Зуровым и Пантелеевым, содержали нечто особенно ценное: личное оружие генералов и полковников Добровольческой армии. Решили, идя на опасное дело, закопать это оружие, слишком нарядное и дорогое, чтобы им драться, и слишком почетное, чтобы бросить его на произвол судьбы...
В гостиной бродили из угла в угол перепуганные, осунувшиеся, заплаканные барыни и седые господа с профессорскими бородками. Подпоручик Стельцов шушукался с Барковской. Она пошла к роялю, а подпоручик стал счищать обрывком портьеры мусор с крышки инструмента. От этого в гостиной поднялась такая пыль, что полковник Зуров закашлялся.
Он ждал сына Павла с позиций. Они условились встретиться здесь. За стенами особняка бушевал огненный шквал. Не верилось, что еще так недавно к особняку мог с шиком подкатить автомобиль «непир»!
Капитан Зуров нес взрывчатку для накладных зарядов: надо было надежно запастись для будущих партизанских действий в красном тылу! Полковник представлял себе весьма отчетливо, как его Паша пробирается сейчас под огнем с опаснейшим грузом за плечами... Приготовления Стельцова у рояля раздражали полковника, он курил папиросу за папиросой. Наконец капитан Павел Зуров, невредимый, появился в гостиной. Стельцов тотчас же снес в подвал увесистый заплечный мешок капитана. Затем трое младших офицеров — Павел Зуров, Михаил Стельцов и Владек Зборович отправились во двор закапывать генеральское оружие. Нижнему чину такую операцию не поручишь!

Рокот орудий, частые разрывы, зловещий шум обвалов мешали разговаривать тихо, приходилось кричать и жестикулировать. Офицеры взяли лопаты, огляделись. Выбрали укромное местечко у каменной ограды с решеткой. Она отделяла двор от небольшого сада. Старые липы и две серебристо-синие ели то и дело вздрагивали от разрывов, а под самой оградой зияла свежая воронка: фугасный снаряд выметнул землю из-под большой купы сирени.
Втроем подтащили к яме корыто с пушечным салом. Зуров развернул сверток с оружием. Великолепные эфесы шашек и сабель с золотыми насечками и тончайшими узорами на ножнах блеснули на солнце. Сабельные эфесы с дужками, рукояти шашек, металлические ножны сабель, кожаные — шашек, клинки, способные рассечь шелковый платочек в воздухе... со всем этим богатством приходилось прощаться!
Офицеры торопливо извлекали сверкающие клинки, окунали их в пушечное сало, вкладывали обратно в тесные темницы ножен и погружали один за другим в густую смазку. Затем осторожно опустили корыто на дно воронки, прикрыли сверху промасленной бумагой и двумя слоями досок крест-накрест. В таком виде оружие могло пролежать здесь десятилетия! Наконец воронку завалили землей и щебнем. Со стороны могло показаться, будто офицеры похоронили в садике своего товарища. Это никого не удивило бы в июльский день 1918-го...
Он выдался жарким. Работа шла к концу — оставалось заровнять засыпку и сделать метку, чтобы в будущем найти тайник.
Из дома, через заваленные щебнем окна, урывками, сквозь пулеметную дробь, доносился надтреснутый звук рояля и голос госпожи Барковской. Стельцов сообразил: на струны концертного «Стейнвея» насыпалась пыль, они дребезжали, но певица пытается что-то исполнить, может быть, для него...
Капитан и прапорщик отерли лбы, понимающе переглянулись с подпоручиком, но тотчас домашнюю музыку заглушило новым, тревожащим сердце звуком. Он доносился с реки: со стороны Заволжья показались аэропланы противника.
Офицеры побросали лопаты, Зуров стал ловить в цейсовский бинокль неприятельские воздушные аппараты.
Они шли треугольником, хорошо держали строй и равнение, притом так уверенно, словно показывали, что они-то и есть полновластные хозяева неба со всеми его облаками, ошалелыми птицами и блеклой июльской голубизной.
Подойдя к правому берегу и городскому центру, аэропланы снизились. Раздался отчетливый свист и сильный взрыв. Второй! Третий — ближе! Вот и четвертый разрыв, совсем рядом. И снова воющий свист... Трое офицеров упали ничком на землю, под защиту каменной ограды и решетки над нею. И тут же убийственный грохот оглушил лежащих. Щебенка и пыль густо засыпали им спины.
...Зуров очнулся первым, прочистил уши, глаза. Из носа шла кровь. Он увидел рядом Стельцова и Владека, будто вжатых в землю и запорошенных известкой. Все вокруг было завалено каменным ломом. Решетка покосилась, но устояла — иначе всех троих задавило бы.
Капитан помог Стельцову сесть. Зашевелился и Владек. Потом они медленно поднялись на ноги. Держались за вывороченные прутья решетки, оглядывались. Самолеты ушли. Стало потише. А что в доме?
На месте особняка дымилась яма. Над нею садилось облако пыли и дыма. Все вокруг засыпал мусор. Динамитная бомба с аэроплана угодила в подвал, где офицеры всего на несколько часов сложили боеприпасы и взрывчатку для группы прорыва.
...Глубокой ночью к сборному пункту на волжском берегу явились из особняка Зборовича вместо шести человек только трое. Они были контужены и плоховато держались на ногах.
Александр Петрович Перхуров, приняв от капитана Зурова рапорт о случившемся, снял фуражку... Потом вся «группа прорыва», прикрываясь сырою мглою, бесшумно погрузилась на маленький остроносый пароходик... Человек десять офицеров разделись до пояса и взялись с усердием за непривычное дело — шуровать топку!
Им повезло. На рассвете 17 июля Волгу затянуло таким туманом, что в пяти шагах было трудно разглядеть человека. Пламя пожаров и утренняя заря просвечивали будто сквозь грязно-розовую кисельную гущу. Туман пропах гарью, порохом и речной сыростью.
Пароходик не зажег сигнальных огней, не дал гудка. Он тихо отошел от самолетской пристани, оставаясь невидимым не только для красных стрелков, но и для собственных воителей. Лишь осторожное шлепанье плиц по воде различили красноармейцы, охранявшие отбитый у белых волжский мост. Кто-то оттуда окликнул судно.
Еще темнее сделалось над головами, и еще глуше зазвучали шлепающие удары по воде. Значит, под мостом... Пронеси, господи, мимо каменных опор!.. Кажется, сверху стреляли, но неуверенно и неприцельно, никого не задело. Теперь полный вперед!
Когда туман совсем рассеялся, толгские крестьянки пришли с вальками и корзинами белья на реку и увидели остроносый пароходик, засевший на левобережной отмели.
Сперва никто не отважился подойти, а когда в конце концов мальчишки полезли на борт, оказалось, что пароход совершенно пуст. На нем не встретилось ни одной живой души, хотя в топках еще дотлевал уголь, а в котлах постукивал и вздыхал остывающий пар.
3
В бывшей земской больнице села Солнцева имелась палата, официально именуемая «второй терапией». Няни и сиделки называли ее слабой, а больные сочувственно вздыхали, когда врач Сергей Васильевич Попов переводил туда пациента: «Теперя каюк! В потерпию сволокли!»
Кабинет врача находился рядом с «потерпией», и доктор чаще всего заглядывал именно в эту палату. Своих больных солнцевский доктор знал только по диагнозам и в лицо — на имена у него памяти не было. Не потрудился он даже упомнить имена-отчества обоих помещиков, построивших солнцевскую больницу, — богача Зурова и средней руки барина Букетова, чьи владения сходились недалеко от зуровского села Солнцева. Мужики побаивались и уважали доктора. Отличался он некоторой угрюмостью характера, люто ненавидел притворщиков, издевался над «нежностями», и лишь больные ребятишки и замученные крестьянским трудом солдатки-вдовы, которых чуть не силком приводили к сердитому доктору, знали, какой запас терпения и доброты был у «ругателя и резателя»: так называл доктора Попова солнцевский священник, отец Федор.
Сразу после начала июльских событий больница стала наполняться беженцами. На вторую неделю белой власти прискакал нарочный с приказом очистить больницу от посторонних и приготовить все места под раненых перхуровцев. Зуров приложил личную записку врачу — наконец-то, мол, больница, созданная солнцевским владельцем, послужит истинным патриотам!
Попов еще перечитывал предписание, а перед окнами остановилась телега с раненым. Фельдшер пошел узнать, в каком состоянии вновь привезенный.
— Вертайсь, ребята! — сказал он угрюмо. — И класть некуда, и кормить нечем. Вертайсь!
Лошадью правил прусовский мужик Семен, за телегой шел подросток лет четырнадцати, а на задке сидела женщина в темном. Она старалась подправлять изголовье у больного. Возница запротестовал:
— Ты, мил человек, не того... Самого дохтура нам представь. Наш больной плох очень. Еле довезли. Беспременно положить надо.
— Сказано: нету местов! — повысил голос фельдшер, но уже сам Сергей Васильевич явился взглянуть, кого привезли. Доктор узнал ярославского бакенщика Семена, прусовсково жителя, и велел открыть лицо больного. Вид больного поразил врача.
— Кто это? — спросил врач отрывисто. — Из какой тюрьмы? Сразу сказывайте: где подобрали?
Таиться было бесполезно. Семен-бакенщик рассказал правду: дескать, бежал заключенный с арестантской баржи, где людей морят голодом неделю. А этот еще и ранен в ногу и плечо.
— Как он, говоришь, назвал себя? Овчинников Александр? Член партии большевиков?
Макаркина мать испуганно вскрикнула:
— Да не думайте ничего такого, господин доктор! Мы с сыном давно знаем Александра Овчинникова, никогда за ним такого в Яшме не водилось... Семен только руками развел:
— Да сам вроде бы сказывал, партейный он. Бумаг при нем никаких. Кличет в бреду Антонину-сестрицу, суженую свою, что ли. Благоволите уж определить куда ни то. Сделайте милость.
— Милость! Куда ни то! На читай, коли грамотен, что мне из города пишут. Полсотни белых офицеров сюда везут, в мою больницу.
— Вот эт-то да! — протянул бакенщик Семен в досаде. — Вез ли, значит, человека от тюрьмы и обратно привезли к тюрьме. Что ж, Макарий, — сказал он подростку, — коли так, давай заворачивать оглобли. Только не сдюжит он, не довезем и до Прусова. Прощевайте, господин дох-тур!
— Стой! — рассердился и Попов. — Я тебе для чего бумагу показал? Чтобы ты уразумел, какая беда больным нашим грозит. И твоему партийному тоже. В лес придется больных перенести, в шалаши, что ли... А пока мигом его в приемный покой! Потом сразу во вторую терапию!
Больные в палатах сочувственно качали головами: плох человек, ежели его сразу в «потерпию»!
— А за офицерами, как в лес перейдем, пусть здесь кто угодно ухаживает! — сердито толковал доктор бакенщику и фельдшеру. — А впрочем, — насмешливо повернулся он к матери Макария, — может, вы бы, сударыня, согласились?
— Нет, что вы, — лепетала бедная женщина, вовсе сбитая с толку. — У нас в Прусове попутчик остался, господин Коновальцев, нам с ним в Кинешму пора...
— А кто мне поможет больных накормить? — опять резко закричал доктор бакенщику. — Больных везете, а мне их шишками питать или древесиной?
— Пришлем тебе рыбки, Сергей Васильевич, за твою доброту. Ужо вон с Макаркой мешок доставлю. А иного чего — не могим. Да и с поста бакенщицкого надолго не уйдешь — того гляди, пароходы пойдут...
На двух парных подводах ехали лесным солнцевским проселком вооруженные люди. На них стволами назад стояло по пулемету «максим». Верстах в пяти от Солнцева подводы свернули с проселка на заброшенную, неторную тропу. Еще полверсты тянулись лесом, минуя буераки и болотные мочажины. Когда ехать стало нельзя, люди выпрягли лошадей и в пешем строю добрались до глухого лесного угла. Место называлось Баринов, или Волчий, овраг. Телеги и коней спрятали поблизости.
Давно здесь не рубили леса, не косили трав, не собирали даже ягод и грибов. Старый владелец, полковник Зуров, любил облавную охоту на волков с гончими, и некогда здесь, в овраге, постоянно держались два-три волчьих выводка, наводя страх на окрестных крестьян. За годы войны охотиться здесь было некому, и «серых бар» даже прибавилось против прежнего.
Еще до сумерек приехавшие улеглись спать, выставив караульного. А тот, кого они признавали за старшего, собрался в ночной поход.
Солнцевский священник отец Федор уже забылся сном, когда попадья Анна .Ивановна, так и не заснувшая с вечера от беспокойства, уловила постукивание в оконце. Отец Федор сразу стряхнул сан. Крестясь и холодея от страха, слез с кровати, натянул брюки и босиком заторопился к сенцам. Боязливая же Анна Ивановна в одной сорочке подбежала к запертым дверям маленькой горницы, где до отъезда в город жила дочка Наденька. Зашептала в дверную щелку:
— Слышите, что ли, стучат? Бегите в подпол прятаться!
За дверью Надиной горницы мужской голос произнес зло: «Кажется, дождались!» — и сразу щелкнул отпираемый замок. Двое мужчин метнулись из дверей, пробежали на кухню и нырнули в подпол. Анна Ивановна едва прикрыла дверцу люка, как отец Федор ввел в тесную переднюю незнакомого человека в картузе и пиджаке. Пришелец шепотом назвал священника по имени... Господи, кажется, под благословение подошел! Неужто пронесло беду? Отец Федор подозвал жену.
— Видишь, Анна, еще одного гостя из города привел господь. Узнаешь ли?
Незнакомец снял картуз, и Анна Ивановна увидела сильно похудевшего, возмужалого, но по-прежнему мальчишески стройного Пашу Зурова, очень похожего на отца, Георгия Павловича, бывшего здешнего владельца.
— Разве у вас еще гости из города были? — тревожно осведомился переодетый капитан.
— Были! Кабы только были! А то ведь и сейчас есть! — сокрушенно промолвил отец Федор. Он зашел в кухне за печь, потянул кольцо люка и проговорил куда-то в темноту подвала: — Вылезайте господа! Гость прибывший — одного с вами поля ягода. Пожаловал их благородие капитан Зуров.
Под полом что-то прошуршало. Два человека выбирались из-под мешков и рогож, сваленных у мучного ларя. Потом из люка показались две всклокоченные головы. Капитан выжидательно молчал, пока отец Федор помогал обоим очистись их городскую одежду от сора.
— Вот, Павел Георгиевич, изволите видеть перед собой молодого господина Букетова. Племянником приходится соседу нашему по имению.
— Поручик Букетов! — представился соседский племянник капитану.
Отец Федор пояснил, почему молодой человек попал в этот дом.
— Отважился юноша сей поискать пристанища в бывших дядиных владениях, но едва не был схвачен крестьянами для предания властям красным. Обратился ко мне напоследок, уповая на свое знакомство с дочерью моей Наденькой. Уехала дочка наша в Иваново-Вознесенск поступать на учение в коммерческое училище, посему Христа ради я сам спрятал гонимого, а заодно уж и друга его.
— Ротмистр Сабурин! — отрекомендовался второй офицер.
Отметая всякое покушение на фамильярность, Зуров сухо осведомился:
— Па-азвольте спросить, господа офицеры, когда вы изволили оставить позиции в Ярославле и по какой причине?
Ротмистр Сабурин, живой и смешливый, опешил от этого тона, потом желчно рассмеялся. Ответил, передразнивая манеру капитана:
— Па-азиции в Ярославле, с па-азволения господина капитана, были оставлены нами на целых четверо суток позднее, чем их бросил наш главнокомандующий месье колонель Пэ-эрхуров! А что до причины, то она известна господину капитану не хуже, чем мне.
— Попросил бы оставить ернический тон и с подобающим уважением говорить о Главноначальствующем. Я простился с ним у Толгского монастыря утром семнадцатого июля. Ныне возглавляю особый офицерский отряд, на который командующий возложил определенные поручения. В силу данных мне полномочий имею честь приказать вам, господин ротмистр, и вам, господин поручик, считать себя в составе моего отряда.
— Дайте-ка папироску, капитан! — сказал Сабурин, крутя в пальцах зажигалку. — Впрочем, что до вашего отряда, то какие могут быть у нас с поручиком возражения? Отряд так отряд! Задание так задание! Назвался груздем — полезай в кузов. Спасибо, кузовок подвернулся, а то в этом патриотическом домике, да еще в отсутствие девицы Наденьки мы за двое суток чуть не околели от сплина.
— Всецело к вашим услугам, капитан, — проговорил молодой Букетов — Мы с Сабуриным тут действительно было загрустили.
— Ох, господа мои хорошие! — горестно вмешался глава дома. — Какой уж из меня патриот! Сиротеет паства, коли духовные отцы в светские дела вмешиваются. Примером тому — горькая участь моего родного брата, священника церкви Владимирской богоматери, что близ Всполья в Ярославле. Получил скорбную весть: брата моего казнили всего дней десять назад.
— Большевики расстреляли? — заинтересовался Зуров.
— Истинно так, и даже господа вот эти могут подтвердить сие как очевидцы, только не знали они, что расстрелянный был мне родным братом. Под этим кровом вместе выросли, царствие ему небесное, страдальцу!
— Да, мы знаем этот случай, — подтвердил Букетов. — И в газетах про это было.
— За что же могли казнить священника? Это же чудовищно!
— Священник-патриот встретил наступавшие на город красные части пулеметным огнем с колокольни своей церкви, — пояснил Сабурин.
— Да, настоящий воитель! Что ж, память ему вечная! — сказал Зуров. — Рассчитываю поэтому и на вашу помощь, отец Федор. Вы родной брат героя. Сам митрополит Агафангел благословил священство на брань с красными.
— Силы мои невелики, Павел Георгиевич, — хмуро возразил священник. — Семьей обременен и приходом. Со страху не спим с попадьей третьи сутки пока гости такие в доме. Не вам, православному офицеру, объяснять, чего от нас сан требует.
— Особых тягот не возложим, отец Федор, но, — в голосе Зурова стал ощутим как бы отдаленный гром, — гостей вроде нас... изредка принимать придется... Позвольте спросить, господин ротмистр, каковы последние сведения о Ярославле? Не поверю, чтобы мы потеряли сторонников, каких имели. Наш героизм видели все. Убежден: скоро там все опять закипит!
— Если вы, капитан, умеете оценивать события реально, то придете к иному заключению. Мы сами сперва французов ждали, а потом немцу на шею кинулись. Полагаю, вы осведомлены, кому сдались офицеры-перхуровцы в Ярославле вечером двадцатого июля?
— Стороной слышал.
— То-то стороной! А вот мы с Букетовым в этом участвовали. Комедия была фантастическая! Помните ту германскую комиссию № 4 по репатриации немецких военнопленных из России согласно брестскому договору? Командовал у нас в Ярославле этой комиссией некто лейтенант Бальг. Помните?
— Смутно. Я ведь недолго пробыл в городе.
— Был он тише воды, ниже травы во время июльских событий — ведь мы в Архангельск союзников ждали, а те, как известно, брестского договора признавать не желают. Они же Мурманск и Архангельск якобы не от большевиков, а от немцев спасти стремились. Ну и как бы попутно, неофициально, так же и от Советов... Стало быть, и мы, перхуровцы, себя в состоянии войны с немцами считали.
Капитан Зуров морщился. Мол, тема скользкая. Ближе к делу.
— Но вот становится ясным, что мы терпим поражение. И в канун разгрома вижу я этого Бальга в германском военном мундире, при ордене, с саблей на одном боку и с парабеллумом на другом. Знаете, почему он так воинственно преобразился?
— Кажется, догадываюсь. Только просил бы... покороче!
— Скоро догадались и мы, рядовые перхуровцы. Как выяснилось, генерал Карпов и все прочее начальство, не сбежавшее с месье Перхуровым из города, кинулось к немцу с просьбой: «SOS! Спасите от соотечественников! Французы подвели — пусть кайзер выручает!» И повели нас, грешных, полтысячи офицеров, сдаваться этому лейтенантишке паршивому... Мне же и господину Букетову крупно повезло: выпало нам почетное задание — найти в домах побольше простыней, разодрать их на полосы и развесить утром двадцать первого июля на крышах руин. Утречком смотрим: входят победители, полки, дружины с комиссарами и дивятся: где побежденные? Навстречу красным войскам выступает в полной форме лейтенант Бальг, гордо возвещает: «Те русские, что вели военные действия, сдались мне, представителю кайзеровского командования и Германии. Как немецкие военнопленные они подлежат эвакуации нах Дойчланд. Мои вооруженные силы охраняют их в здании Волковского театра».
Действительно. видим: торчат около театра у всех входов какие-то плешивые немцы в жеваных шинелишках, все из лагеря военнопленных, и держат винтовочки российские, еще тепленькие от наших рук офицерских...
— Ну и что было дальше?
— Эх, дальше!.. Разумеется, красные предъявили ультиматум, немцы-военнопленные смирнехонько винтовочки наши положили и затопали в свой лагерь. Ну а голубчиков наших — из театра, да прямо за город, по одному адресу с владимирским священником, отца Федора братом. Тот, кстати, оказался смелее нас, офицеров, а конец все равно один был. Насчет нас с Букетовым народ подтвердил; дескать, мирные обыватели, белые флаги развешивали. Нас и отпустили.
Зуров, не глядя ротмистру в глаза, сказал по прежнему сухо:
— Благодарю за подробности, Но просил бы среди офицеров моего отряда не утруждать себя подобными воспоминаниями. Переходящих в лагерь врага мы будем уничтожать без пощады, колеблющихся — привлекать. Будем, как некогда в 1812-м, готовить партизанские действия, убеждать людей в правоте и непобедимости белого движения. Отец Федор, кто может реально поддержать нас здесь, в Солнцеве, сейчас?
— Милый вы наш Павел Георгиевич, уж не обижайтесь на меня, но прямо скажу: никого не найдете! В Диевом Городище после молебна у Троицы собрали мужиков человек двадцать и наших солнцевских двоих к ним пристегнули, и грешневских мужиков тоже человек пять либо десять взяли, в поддержку господам офицерам в городе. Повели дорогой на слободу Яковлевскую, там еще сколько-то яковлевских мужиков прихватили и всем винтовки выдали. Ну так кто еще дорогой, не дойдя до Твериц, утек, кто перед переправой сбежал, а кто на другой же день с позиций лыжи навострил. И заметьте, ушли с винтовками вашими, и теперь эти винтовки на красной стороне стреляют либо в запасе там лежат.
— А что у нас в больнице делается? Принял доктор Попов наших офицеров? Я должен увидеть выздоравливающих.
— Батюшка Павел Георгиевич, да мне просто даже странно, какие у вас понятия... Не было там никаких офицеров, тракт перекрыт был сперва офицерами, потом красными. Одни красноармейцы да красные дружинники лежали. Доктор Попов в партию большевистскую записался, режет и порет по-прежнему, сейчас только тяжелораненые долечиваются, одни ярославцы. Наших сельчан доктор Попов в эти дни в больницу не клал, по домам ходил лечил. Коек у него не хватало.
Лицо капитана становилось все напряженнее, он прикуривал папиросу от папиросы.
— Когда усадьбу нашу сожгли?
— Прошлой осенью, еще в ноябре. Но ее ведь пришлые спалили, не солнцевские.
Капитан заглянул в окно. Была предрассветная темень. Зуров опустил занавеску, потревожив листья гераней.
— Жатва началась? — вдруг осведомился он, будто без всякой связи с предыдущими речами.
— Началась! — отец Федор с полной готовностью и душевным облегчением перешел к теме хозяйственной. — Престольный праздник у нас, как помните. ильин день, теперь по-новому второго августа, на субботу нынче приходится. Отслужив, отпразднуем, мужики в воскресенье опохмелятся, а четвертого августа решили всем миром на Дальние поля пойти, за пять верст. Гам места открытые, хлеба ровные, созрели купно и перестоять могут — хоть нынче жни. И, между прочим, на ваших Лесных полянах нынче такие травы для второго покоса, каких и прежде не бывало! Дай, господи, вёдро после жатвы — сразу на второй покос!
— Благодарю вас. Застав, кордонов поблизости не замечали?
— Были! В Диевом Городище и сейчас проверяют едущих. Пароход посреди плеса на якорь ставят, на моторке подплывают, проверяют и пассажиров и грузы.
— Значит, пошли пароходы?
— Пошли, Павел Георгиевич, слава богу!
— Ну с меня достаточно. Решение принял. Кое-кто пожалеет, что с красными связался... Оружия вы, господа, верно, не имеете?
— У господина Букетова есть браунинг. Мой... не сохранился.
Когда домик опустел, священник и попадья заперли двери на все запоры и в спальне стали оба на колени перед ликом Ильи.
4
Гости Волчьего оврага покинули урочище в ночь на 4 августа. Отряд разделился: пять человек блокировали подступ к больнице, четверо засели в кустарнике, где за росстанью начиналась проселочная дорога к дальним полям.
Мимо этой второй зуровской группы потянулись еще до рассвета крестьянские подводы и пешие жнецы с косами и серпами. В плетеном возке с пегой лошадью проехали священник с дьяконом служить в поле раннюю обедню перед началом страды. Солнце еще не поднималось, когда работа на дальних, бывших зуровских, полях закипела.

И тогда из обеих замаскированных групп, прячась за плетнями и яблонями, подкрались к почти безлюдному селу по два человека. Капитан Зуров, лежа за пулеметом, видел сквозь прорезь щитка начало проселка и ближние домики. Посланцы уже крались обратно. Под застрехами кровель кое-где вымахнули светло-рыжие лисьи хвосты. Капитан проверил, как вставлена лента, и, резко щелкая, дважды подал рукоять затвора вперед, ставя «максим» на боевой взвод. Упер большие пальцы в гашетку... Сощурившись, ждал минуту, другую... И вдруг старушечий истошный крик:
— Батюшки-светы! Караул! Горим!
На пустынной улице появились старики, машущие руками, и несколько белоголовых ребятишек. Но лишь посильнее пахнуло горячим ветром, и на краю села взялись пламенем все соломенные крыши, ребятишек будто смахнуло с улицы: детвора кинулась по избам, искать там, дома, защиты от гудящего вверху пламени...
Пересохшая за жаркое лето солома почти не давала дыма. Лишь когда затрещали сосновые бревна срубов и от палящего зноя сомлели живые дерева в палисадах, выметнуло к небу оранжево-серое полотнище, прошитое красными искрами. Старик пономарь, застигнутый бедою посреди улицы и уже понявший, что не устоять его бобыльему домишке против огненной напасти, побежал не домой, а в другую сторону, к храму, отвязал притянутую к перекладине веревку набатного колокола и забил, затрезвонил: бам-бам-бам!
И тогда те, к кому воззвал набат, опустили серпы, распрямили спины, глянули в сторону села и увидели реющее над ним гибельное знамя пожара.
Женщины на поле жатвы бросали старших детишек и, не помня себя, босые, растрепанные, что есть духу мчались туда, к домам, к меньшеньким, оставленным с бабками. Кто скакал на выпряженной лошади, кто спотыкался на обочине, вскакивал снова и опять летел без памяти проселочной дорогой, которой не было конца.
В голове спешащего народа оказались, как всегда, подростки. Почти догоняя их, ровно бежали мужики постарше, те, кто в походных маршах и наступлениях научился рассчитывать силы. Растягиваясь на бегу все более, пестрели кучки фигурок в домотканых сарафанах и ситцевых платках. Обгоняя женщин и девок, пронесся возок священника. Отец дьякон стоял в рост и нахлестывал пегую лошадку, а в плетеном кузове подпрыгивал на сиденье отец Федор, без шляпы, с крестом на груди.
До села, охваченного пожаром, осталось меньше версты. Головные поравнялись с придорожной зарослью кустарника.
И вдруг оттуда, из-за этих привычных кустов, ударил дробный гром, глуша набат. Под босыми ногами крестьян взвихрились маленькие облачка пыли, и сразу целый десяток передних мужчин и подростков уткнулись лицами вперед в эти пыльные клубки.
Гром было утих, но тут же возобновился И удары его длились все дольше, пока не рассеялись на проселке все кучки белых платочков и сарафанов. Дополняя пулеметные очереди, посыпались из кустов винтовочные выстрелы, частые, что сухой горох, падающий в жестяную банку. Бегущие никли, словно колосья, подкошенные серпом, и даже в громе пулемета и трескотне винтовочных выстрелов слышно было, как сливается людской стон и крик в один непрерывный смертный вопль.
Такой же вопль несся сквозь стрельбу с другого конца села, от больницы. Звенели стекла, надрывались человеческие голоса. Потом грохнуло дважды, и эти два взрыва пироксилиновых шашек водворили зловещую тишину на том конце Солнцева.
А тут, на дороге, топча стонущих, пегая лошадка безудержно несла мимо кустов плетеный возок. Тело отца дьякона, запутавшееся в вожжах, волочилось за возком, а отец Федор, барахтаясь в кузове, все никак не мог перехватить вожжи. Минуя скрытого в кустах пулеметчика, пегая лошадка .влетела в смертною струю. Ломая оглобли, упала оземь. Возок на железном ходу придавил лошадь колесом и остановился.
Отец Федор ухватился за облучок и поднялся в возке на ноги. Под руку ему попал собственный крест на серебряной цепочке. Он повернул крест перекладиной вниз и закричал:
— Анафема! Анафема вам, иродам прокля...
Срезанный пулей, он рухнул навзничь, и в тот же миг взвилась на дальнем конце села зеленая ракета.
Сигнал этот дал группе Зурова второй пулеметчик, Иван Губанов. Значит, и у него дело кончено, путь отхода свободен.
Капитан Зуров выкатил свой пулемет на придорожную тропку, дал по дороге две последние очереди, добивая раненых в пыли, и, волоча горячий «максим» мимо белых сельских берез, четверо стрелков заторопились на соединение с губановской группой у больницы.
Долго не приходил в себя беглец с баржи смерти. Сашка доставил доктору. Попову больше хлопот, чем все остальные пациенты из города. Две недели, до первых чисел августа, жизнь еле теплилась в его полубесчувственном теле. Сознание возвращалось урывками. Больной не мог взять в толк, почему рядом нет Антонины, лица чужие. Не узнал больной и Семена-бакенщика, когда тот, верный обещанию, отважился вновь прошмыгнуть мимо вражеских и своих стрелков, чтобы отвезти спасенному рыбы на пропитание. Не терпелось Семену сообщить бывшему арестанту с баржи последнюю новость о его товарищах по тюрьме.
Оказывается, утром 19 июля баржу, полурасстрелянную пушечными снарядами и пулеметами, сорвало с якорей (чему помогли и сами узники), поволокло течением мимо Стрелки и прибило к береговой отмели у Коровников, почти рядом с тюрьмой. Дружинники открыли было огонь по судну, опасаясь вражеской хитрости, но, по счастью, разобрали слабые стоны и крики: «Не стреляйте! Здесь свои, товарищи!» На палке показался красный лоскут — обрывок чьего-то платья или платка.
Смельчаки кинулись к барже. Под неприятельским огнем удалось переправить уцелевших узников — десятка полтора изможденных людей. До бортовых проемов оставалось всего несколько сантиметров от волжской поверхности. Баржа утонула вместе с телами недавно погибших, как только спасенных укрыли на берегу.
— Молодец, рыбак-бакенщик! — сказал доктор. — Не забыл своего арестанта. Не узнавал про ту... сестру милосердия с баржи? Про которую Овчинников и в бреду и наяву толкует?
— Жива, сказывали. Сняли с баржи. Молодая, выживет!
— Это нашему арестанту лучше всякого лекарства поможет. Ну а в городе, как там? Утихло?
— Как сдались беляки, так и утихло. Только города, почитай, и нет.
— Как это нет? Люди русские, ярославцы, остались?
— Люди, знамо, остались. Не все сгорели.
— Ну коли люди остались, значит, и город есть. Были бы кости — мясо нарастет! Следующий раз присылай за больным провожатого. Без спутника с такой дорогой не сладит. После ильина дня выпишу.
...Провожатым за Александром Овчинниковым Семен-бакенщик решил отправить Макарку Владимирцева, случайного своего гостя в бакенной. Семен рассудил, что Сашке сподручнее будет ехать в Яшму вместе с Макарием, его матерью и опекуном.
Днем 4 августа Макар одиноко шагал из Прусова по лесной дороге. Попутчиков в этот раз не случилось. Только навстречу еще у самого Прусова попались ему две пароконные подводы с угрюмыми мужиками. Их было девять человек. Один указал другому на встречного подростка с узелком, на что второй махнул рукой в сторону близкой прусовской околицы: близко, мол! Макарушке встреча не понравилась, пошел осмотрительнее.
А когда лес поредел и даль открылась, Макар остолбенел.
Села Солнцева в восемьдесят дворов с церковью и земской больницей... не было! Ветром несло угарный чад. Лишь пожарный сарай с распахнутыми воротами сохранился как надгробный памятник Солнцеву.
Вдали, где еще темнели старые парковые липы зуровской усадьбы, Макар заметил живых. Это были всадники на неоседланных конях. Макар схоронился за развалинами, но осмелел, когда понял, что всадники одного с ним возраста. Ребята гнали табунок стреноженных жеребят-двухлеток из ночного. Под утро пастухи наелись картошки, уснули и проспали нападение бандитов. Лишь у одного мальчика оказались живы мать и сестра.
В больнице были сорваны с петель двери. Правое и левое крылья здания остались без крыш после взрыва, со вздыбленными полами и перекошенными, вырванными рамами. Перед входом лежал расстрелянный доктор Попов. Макару пришлось перешагнуть через тело Сергея Васильевича.
Внутри громоздилось месиво из железных коек, штукатурки и людских останков. Лишь в средней части здания, где рядом с кабинетом доктора находилась палата для слабых, в окнах сохранились переплеты. Пересиливая ужас, Макар приоткрыл дверь «потерпии».
На койке Сашки Овчинникова сидел белый, как известка, знакомый больничный фельдшер. А на подушке той же постели Макар узнал Сашкино лицо, очень худое, небритое, испачканное кирпичной пылью. Синие Сашкины глаза напряженно взирали на вход, в ожидании, кто же появится из-за двери, а фельдшер держал наготове кочергу, чтобы защищаться хотя бы и таким оружием. Других уцелевших во всей больнице не оказалось — кроме Сашки Овчинникова, никто не лежал в
«слабой» палате перед нападением. А фельдшер случайно спал именно здесь после дежурства.
Макарка постоял в растерянности среди палаты, не в силах сделать еще шаг. И вдруг ему показалось, что раненый, оглушенный взрывом Сашка Овчинников пытается заговорить и приподняться навстречу яшемскому знакомцу. Макар кинулся к больному, а тот прижал его к себе, и мальчишка, рыдая, уткнулся в Сашкино плечо.
Продолжение следует
(обратно)
Идущие в лабиринт

Я иду по земле. Это удивительная штука —идти, не нагибая головы, не глядя под ноги, расслабив плечи и шею. Волны горьковатого чистого воздуха прохладно прикасаются к щекам, ветер пахнет, все вокруг движется, кивают желтые осенние травы, в огромном голубом небе плывут облака... Я оглядываюсь и вижу, как на кромке оврага один за другим появляются люди в коричневых от глины комбинезонах и красных касках. У них бледные, заросшие щетиной лица и смеющиеся воспаленные глаза. Над степью летит тишина. Там, откуда мы только что поднялись, тоже была тишина, но совсем другая.
Мы идем по земле, или, как говорят спелеологи, по поверхности. У меня такое состояние, словно я узнал жизнь еще в одном измерении... На глубине шестидесяти метров, в безмолвии и темноте, существует каменный лабиринт, в гротах стоят озера, в залах и галереях цветут кристаллы, текут подземные воды, образуя тысячи ходов. Десять дней мы провели в «Озерной», под Тернополем, и теперь, чувствуя, как в меня снова входит небо и солнце, я пожимаю руки ребятам, которые только что ползли рядом со мной в лабиринте, и говорю, словно вижу их впервые:
— Привет!
Всю неделю снятся цветные сны. Это из меня «выходит» пещера. Она вошла в меня мрачной, недоступной, а теперь во снах видятся скалы, озаренные мягким светом. Я легко иду по ним, иногда даже бегу, наслаждаясь своей ловкостью, пролетаю знакомыми залами, любуясь звездным потолком «Чумацкого шляха», сверкающими снежными глыбами «Зимней сказки», великолепным хаосом «Помпеи»...
Холодным ноябрьским утром двадцать молодых ребят стояли в огромной воронке у входа в пещеру, вглядываясь в узкое отверстие колодца. Ветер гулял по степи, в черноту колодца летел резкий колкий снег.
— Ничего, в пещере согреемся, — шутил инженер Юзеф Зимельс.
Юзеф подошел ко мне, заботливо подтянул ремень с системой батарей, проверил выключатель на каске.
— Вначале будет очень грязно, — участливо шепнул он. — Но, ей-богу, стоит повозиться в грязи. Грунин! — крикнул Юзеф. — Пойдешь за корреспондентом.
Пока первая десятка спускалась в колодец, Зимельс рассказал мне, как в прошлом году перед самой экспедицией неожиданно сползли края воронки и засыпали вход сотнями кубометров земли. Спасать пещеру приехали добровольцы из Тернополя, Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Хмельницкого, Одессы, Львова. Копали круглосуточно — десять суток подряд.
...Стоя на распорах колодца, я видел, как в темноте вспыхивали нимбы: на касках зажигались фонари. Ботинки сразу же утонули в хлюпающей вязкой глине. Надо было бы раньше повернуть выключатель на каске — глухой царапающий удар пришелся прямо надо лбом. Я упал на четвереньки, затем на живот, глина втянула в себя, и тогда, загребая ее руками, я пополз в направлении чьих-то ног. По тому, как они двигались, было ясно, что человек полз на боку. Он ввинчивался, как штопор, в лаз между камнями. Трещина вилась подобно змее, стискивала грудную клетку, каска скрежетала об острые выступы. Я терял дыхание, чертыхался, ноги беспомощно толкали скользкое глинистое дно. На мгновение обернулся, чтобы подтянуть транспортник с продуктами. Свет фонаря ударил в лицо ползущему следом.
— «Китайский» поворот, — засмеялся Грунин.
— И долго так? — просипел я.
— Метров двадцать...
Метров двадцать... Казалось, что мы ползем уже целую вечность. До подземного лагеря, как мне говорили, по прямой — три километра. Несколько дней назад, когда в лагерь доставляли основное снаряжение, заброска длилась почти двадцать часов...
Потом шли узкой глинистой дорожкой, согнувшись в три погибели под низким пещерным сводом. Здесь спелеологи почти бежали, видно экономя время на таких вот «легких» участках. На первом привале я хотел одного — перевести дух, но Сережа Грунин весело предложил:
— Рядом озеро Капитана Немо. Хотите, покажу?
И поволок меня, истекающего потом, в сторону, через огромные валуны. Мы спустились куда-то вниз, в черный провал. Теперь, когда нас было только двое, фонари едва пробивали мрак. Грунин остановился и повел лучом снизу вверх. Над темной водой нависали стены грота, трещины образовывали на них террасы, в потолок уходил стрельчатый готический «камин». Мы были в нескольких шагах от ребят, но сюда не доходил ни один звук, чавканье глины под ногами лишь усиливало эту тишину. Сережа черпнул каской воду, отпил, подал мне. Я молча пил незнакомую воду, чувствуя, как входит озноб под мокрый комбинезон...
Десять лет назад, 5 ноября 1963 года, тернопольские спелеологи впервые штурмовали «Озерную». Тогда еще не было у пещеры этого названия и вообще ее не было, ибо, как говорят спелеологи, «пока пещера не исследована, она не существует». По три экспедиции в год совершали спелеологи — и вот наконец тридцать вторая, которая должна была отвоевать у пещеры юбилейный, сотый километр. Теперь, когда я прошел этот лабиринт, мне отчетливо представляется, каков был этот десятилетний поединок.
...Спустя два часа мы отдыхали на озере Нежданном. Лампы были выключены, в темноте ярко вспыхивали огоньки сигарет.
— Вы обратили внимание? — говорил Зимельс. — Вода в этом озере смыкается с потолком грота. Такое явление называется сифоном. Французский спелеолог Норберт Кастере, рискуя жизнью, проплыл в гроте Монтеспан под таким сифоном и обнаружил на другой его стороне самую древнюю в мире стоянку людей, самые древние скульптуры.
Тернопольские спелеологи часто упоминали имя Кастере. Для них это был человек, не просто открывший 1200 пещер, но и властно позвавший в еще не изученный мир. Все началось с книги Кастере «Тридцать лет под землей», которую когда-то принес Юзефу отец, заядлый альпинист и пещерник.
Сигареты гасли одна за другой, и нас обступила плотная тьма. Казалось, никого нет рядом. Я включил лампу и посмотрел в темноту. Там угадывались очертания каких-то гигантских трещин.
— Каменная решетка, — тихо сказал кто-то.
Давным-давно вода промыла туннель в гипсовых породах, и теперь полутора-двухметровый проем разделял каменные распоры. Жутко было видеть эти острые скользкие скалы, между которыми вился широченный зигзагообразный ход; на дне его бежал глубокий поток. Иногда распоры обрывались, и нужно было перескакивать со скалы на скалу, чтобы продолжить путь. Я видел, как двигались по этому трехсотметровому туннелю спелеологи: то на полушпагате, упираясь ногами в скалы, то вытянув над пропастью тело — ногами в один распор, плечами прижавшись к другому. Я двигался за ними как в полусне...

Американский спелеолог Холидэй писал: «Как бы вы ни исследовали пещеру, нельзя быть уверенным, что она не имеет продолжения». На карте «Озерной», которую мне показали перед экспедицией, был обозначен ход в лагерь. Я обратил внимание на слово «квитка». Так назывался сплошной каменный завал, по другую сторону которого стоял крестик. Здесь семь лет назад спелеологи поставили точку, считая, что пещера пройдена до конца. Было в ней тогда 26 километров. «Квитка» в переводе с украинского означает «цветочки» (в украинских селах, закончив постройку хаты, ставят «квитку» — на коньке крыши привязывают букет цветов).
Три года спустя к «Квитке» пришла очередная экспедиция. Несколько дней шла оконтуровка — разведка на продолжение. Неожиданно обнаружили очень низкую галерею; свод пещеры в этом месте почти приникал к земле. Можно было ручаться, что там ждет тупик. Но Светка, начинающий спелеолог (она так и осталась у всех в памяти — Светка), пожелала все же сползать на разведку: «Я худенькая, не застряну». Спустя час она принесла ошеломляющую весть: «По ту сторону открывается огромный район!»
...И теперь мы ползем этой самой Светкиной галереей. Здесь нельзя было поднять ни голову, ни спину, подбородок оставлял борозды в глине. Приникший к телу свод своими острыми выступами грозил сорвать комбинезон. Я слышал, что по ту сторону находится подземный лагерь — всего в получасе ходьбы по высоким галереям и залам, которые так поразили когда-то воображение незнакомой мне Светки. В слове «лагерь» грезились уют, шумное дыхание паяльных ламп, щи с тушенкой (я видел, как в транспортники укладывали капусту) и, наконец, сон...
У самого входа в лагерь прямо из земли росли серебряные кристаллические иглы.
Похоже, что пещера живое существо. Она дышит: через каждые три-четыре секунды выпускает воздух и с такой же скоростью, лишь на мгновение замерев, вдыхает его обратно. Она имеет постоянную температуру; плюс десять градусов, независимо от того, какая погода снаружи — жара или мороз. Ее лабиринт — подземные ручьи, реки, озера — напоминает кровеносную систему. Нутро пещеры совершенно стерильно; кажется, здесь не было ни одной бактерии до прихода людей.
Я размышляю об этом, глядя, как руководитель нашей съемочной группы Юра Апостолюк определяет по компасу азимут новой галереи. Рядом с ним сидит Люда Ковальская с пикетажным журналом и карандашом и влюбленно ловит слова командира.
— Положи на тот перекресток 38-й пикет. Запиши азимут...
Я уже заметил, что девушки обязательно влюбляются в камеральщиков. Женщины вообще любят увлеченных делом мужчин, а работоспособность спелеологов не знает границ. Мы работаем посменно — по десять часов, — и я поражаюсь способности камеральщиков за все это время ни на минуту не прекращать съемки. Мне рассказывали, что в одной экспедиции съемочники проработали 36 часов подряд! Председатель клуба и будущий врач Федя Немчук, ведущий в пещере психологические наблюдения, уверял, будто особенности пещер — круглосуточная ночь, микроклимат — в первые дни пребывания под землей необыкновенно повышают энергию человека. Правда, потом отсутствие разнообразия притупляет ощущения, и тогда устраивается разгрузочный день.
Апостолюк снимает карту методом «полигонов», который открыли тернопольские спелеологи. Он закладывает на карту магистраль, а в ней проводит вспомогательные линии, которые позволяют разбить лабиринт на отдельные полигоны. Затем «камералит», не пропуская ни одного перекрестка, ни одного тупичка. Это очень кропотливая и тяжелая работа — ведь приходится работать в завалах, на скалах, в труднопроходимых ходах и лазах. В таких лазах легко застрять и выбраться можно только с помощью лопаты и кувалды. А «если застрял — лежи, пока не похудеешь», — есть и такая поговорка...
Помню, как мы вступали в нехоженые места. Выйдя из лагеря, шли сначала по чужим пикетам — здесь в прошлом году снимала группа Белоусова, на каждом пикете стояла стрела, цифра и крупно АБ. Когда кончились метки Белоусова, Апостолюк как-то сразу замер, и я понял, что дальше лабиринт не исследован.
Мы находились в небольшом зале с низким сводом, вокруг был сплошной гипсовый хаос; в каменных завалах змеились узкие ходы, ведущие неизвестно куда. Юра опустился на глинистый пригорок, зажег свечу, вынул из целлофана свою канцелярию: тетрадь, карандаши, линейку, транспортир, компас, рулетку и карту. Он развернул карту, и мы приникли к ней, пытаясь сообразить, где находимся. Карандаш Апостолюка двигался к юго-западу пещеры; там на карте растекались белые пятна.
— Мы находимся в местах, где еще никогда не ступала нога человека, — торжественно сказал Юра. — Сережка, — он протянул рулетку своему помощнику Шевчуку, — клади отсюда первый пикет...
В тишине и мраке вспыхивали фонари и раздавались глухие голоса. Мы кружили с перекрестка на перекресток, ходы резко подымались вверх и уходили в подвалы. Рулетка отмечала заснятые метры лабиринта, и эти метры отныне становились добычей спелеологов.

Работа останавливалась лишь в те минуты, когда, пораженные, мы замирали перед архитектурным ансамблем, покрытым, словно снегом, пудрой мельчайших кристаллов, или когда вступали в зал, потолок которого в свете фонарей мерцал десятками тысяч звезд... Меня удивляла детская радость спелеологов при виде зрелищ, к которым, они, казалось бы, давно должны были привыкнуть. И я понял, что заставляло этих студентов каждый праздник, каждые каникулы спускаться в пещеры, ползать в грязи, жить под землей среди холодных камней, сырости, просыпаться и надевать на себя мокрый комбинезон и работать, работать...
— Что привело тебя в пещеры? — спросил я Юру Апостолюка во время короткого завтрака.
— Старший брат. Он и отец — врачи, занимаются исследованием пещер в лечебных целях. Пещеры — неисчерпаемое поле деятельности для многих специалистов. Ну а без спелеологов им делать нечего. Для исследований прежде всего нужна карта лабиринта.
— А знаете, как Юрку прозвали польские спелеологи? — сказала Люда. — Они как-то были в гостях у нас в «Озерной». Так вот поляки назвали его Пещерным львом!
Хорошо после десяти часов каменной тишины войти в просторный зал с глиняным столом посредине, где звучат голоса, кто-то бренчит на гитаре, горят свечи, движутся огромные тени. В зал-гостиную ведет длинная галерея-передняя, в которой висят каски, комбинезоны и стоит полевой телефон. Прямо за залом — галерея с тупиком, спальня. Между гостиной и спальней — уютная кухня среди валунов. Тут гудят паяльные лампы и варит щи Лида Евтушенко.
За кухней в каменной нише висят умывальники. Я бреду туда, на ходу снимаю мокрый тяжелый комбинезон, вычесываю из волос застрявшие комки глины. Здесь уже фыркают в темноте ребята из группы киевлянина Валерия Миронова, трет полотенцем свою могучую спину фрунзенский спелеолог Толя Дрянных. Толя впервые работает в такой огромной гипсовой пещере, с каждой съемки приходит счастливый и возбужденный.
— Сегодня открыли новый зал, убранство и архитектура совершенно в восточном стиле. Назвали «Киргизия»...
— А мы никак не можем прорваться в новый район, — устало говорит Миронов. — Завтра возьмем с собой пару штыков.
Мы надеваем сравнительно сухие фуфайки и, чувствуя себя гостями, выходим в зал. В эти поздние вечерние часы за столом собираются все: те, кто вернулся со смены и после ужина залезут в спальники, и та смена, что готовится уйти в лабиринт. Научные деятели во главе с Федей Немчу-ком ловят эти мгновения. Разложив на столе свой медицинский скарб, меряют у спелеологов давление, частоту дыхания, пульс. Немчук мне рассказывал, что еще в экскурсионных пещерах заметил: под землей у людей уменьшается артериальное давление. Опыты в «Озерной» подтверждают это наблюдение. Значительно быстрее под землей происходит и восстановление нервных тканей. «Участником» прошлой экспедиции был кролик, которому надрезали седалищный нерв. Его рана зажила в два раза быстрее, чем во время такого же опыта наверху.
В галерее звонит телефон. Немчук берет трубку.
— У вас утро? Какое число?
...Метрах в пятистах от нас живут и работают студенты из Киева Сережа Левашов и Юра Ягодзинский. У них нет часов, они связаны с нами только телефоном, по которому сообщают, какое, по их представлению, сейчас число и время суток.
У них сейчас утро пятого ноября, а у нас уже кончается шестое, и это еще раз подтверждает выводы, сделанные в свое время французским спелеологом Мишелем Сифром: «Сутки под землей равны сорока часам на поверхности».
На стол несут щи и картошку с тушенкой.
— Уж полночь близится, а Зимельса все нет! — восклицает вдруг Грунин. И камеральщики понимающе переглядываются.
— Это же не Зимельс, а пещерный вездеход. Обязательно ему надо всех обскакать. Томочку Марченко, наверное, замучил...
— А вот и нет! — слышится голос Томочки, и она, маленькая и румяная, выскакивает из галереи. — Смотрите! — Томочка протягивает руку вверх, и в устремленном на нее свете фонарей мы видим прозрачный и чистый, как льдинка, монокристалл. — Нашла в «Зимней сказке».
Я представляю, как бережно она несла среди каменных завалов этот редкий кристалл гипса, чтобы положить его в подземную сокровищницу клуба — минералогический музей. Только здесь, в климате пещеры, кристаллы сохраняют свою первозданность.
— Сколько? — ревниво спрашивает Апостолюк вышедшего к свету Зимельса.
— Почти километр, — нарочито равнодушно говорит Юзеф. — И на завтра забили целый полигон.
Он поворачивается к своему бывшему наставнику, руководителю юношеской секции спелеотуризма Радзиевскому.
— Открыли новый район «Каменных сосулек». Напоминает замок в Алупке. Эдакие башни с трезубцами, арки... В зале «Сороконожка» десятки ходов. Обнаружили русло подземной реки. Туннель вьется серпантином. На крутом повороте вода бурлила и ударяла в потолок — пробит «камин» высотой девять метров. На втором резком повороте вода разбила борт туннеля и устремилась вниз, образовав гигантский колодец. Ученые могли бы прочесть историю гидрогеологии этого района как по учебнику...
— Ну-ка покажи на карте, — просит Владимир Александрович.
Ужин забыт, возбужденная толпа теснится возле карты. Оказывается, Зимельс работает на юго-западе, по соседству с самой большой гипсовой пещерой мира — «Оптимистической». Ее хозяева — львовяне прошли уже 106 километров лабиринта. Не исключено, что обе пещеры где-то соединяются, и если это так, если это действительно одна пещера, то она будет уступать разве лишь объединению «Флинт Ридж-Мамонтова» в США — 252 километра. Но «Флинт Ридж-Мамонтова» не гипсовая пещера, а известняковая; к тому же лабиринт ее, судя по карте, присланной в клуб из Чехословакии, с международного конгресса спелеологов, намного проще. Достаточно сказать, что только за три дня работы наша экспедиция положила на перекрестках «Озерной» больше пикетов, чем их имеется в пещере «Флинт-Ридж-Мамонтова».
— В общем, не знаю, как дальше дело пойдет, но за сто километров мы выскочим, — задумчиво говорит Радзиевский. — Наверное, и «Оптимистическую» обгоним. Вот так-то, ребятки...
Поздней ночью, когда весь лагерь спал, мы беседовали с Радзиевским при тусклом свете догорающей свечи.
Я говорил Радзиевскому о том, что все время чувствую себя в. пещере как некий солнечный предмет, который излучает.
— Со мной и другими происходит то же самое, — соглашается Владимир Александрович. — Излучаем, а что взамен? Темнота постепенно как бы высасывает из человека солнце, при этом из нас выходит огромная духовная энергия. Вот почему так важно в пещере работать, не щадя сил. Работа, а вместе с ней открытия возвращают эмоциональные силы...
— Спелеологию никак не назовешь чисто спортивным занятием. Спорт в нашем деле только как средство достижения цели. Я лично приветствую отмену у пещерников спортивных нормативов, это отпугивает начинающих...
Радзиевский рассказывал о работе студентов-медиков по изучению микроклимата, флоры и фауны пещер, о наблюдениях, которые проводят под землей студенты — геологи и гидрогеологи. Я вспомнил, что вода, текущая под каменной решеткой, имела зеленоватый цвет. Это был след флюоресцеина, который спелеологи запускают в подземные воды, чтобы проследить скорость и направление их движения. Это важно и вот почему. Во-первых, подземные воды — один из источников питания родников и колодцев. Во-вторых, гидрорежим пещер дает возможность определить распространение карста; без разведки пустот под землей нельзя, например, строить, заниматься сельским хозяйством. На карстовых рельефах плывут поля, надо эти места засаживать лесом. Именно по совету спелеологов колхозники посадили целую рощу над пещерой «Млынки».

Сегодня в лагерь пришли Павел Горбенко и Галя Ткачук. Павел, один из ветеранов клуба, после окончания в Тернополе медицинского института служит врачом в воинской части где-то в Закарпатье. Ему дали увольнительную на два дня, и он тут же примчался в «Озерную». Галя Ткачук — наша гостья из пещеры «Оптимистическая». Десять лет она уже ходит по лабиринтам.
— Кончается наша «Оптимистичка», — грустно говорит она. — Завидую я тебе, Пашка. Вам в «Озерной» еще лет на семь работы хватит.
Мы сидим у большой глинисто-мергелевой высыпки, и Павел «ловит» в капельницах пещерный «жемчуг». Годами образуются эти капельницы. Вода через перекрывающие пещеру известняковые породы падает в высыпку, образуя лунки. В лунках находятся песчинки или мельчайшие обломки породы. Насыщенный карбонатом кальция раствор воды образует вокруг песчинок слоистую оболочку, и они начинают расти. Под действием падающей все время воды песчинка вращается, как бы варится в котле. Аналогичен процесс образования морского жемчуга. Отсюда и название красивым звонким камушкам, которые Павел осторожно, стараясь не разрушить капельниц, достает и дарит мне на память.
Мы сопровождаем его сегодня весь день. Павел взялся показать мне и Гале свои любимые залы. И, зная, что завтра экспедиция уходит наверх, за нами последовала целая свита, вооруженная фотоаппаратами. Мы были в «Аленушке», где кристаллы лежали золотыми слитками. Снежинками падали они прямо на коричневую глину, бахромой свисали со скал и расщелин. Были в «Помпее», где огромные сталактиты обрушились с гипсовых потолков под своей тяжестью. Сталактиты весьма редки в гипсовых пещерах, и Горбенко повел нас в «Крымский» зал: натеки известняка на гипсе поражали формой, рисунком и цветовыми гаммами — черными, красными, коричневыми, зелеными...
Мечта Павла Горбенко — продолжить опыты, начатые отцом и братом Юры Апостолюка.
— В пещерах Вестфалии, — рассказывает он по дороге, — во время налетов авиации союзников пряталось более пяти тысяч немцев. Среди них были и больные бронхиальной астмой. Позже они уверяли, что после отсидки в пещерах чувствовали себя значительно лучше. Теперь там находится специальный санаторий. Он дает очень эффективные результаты. В известных всему миру теплых и холодных пещерных лечебницах Западной Германии, Чехословакии, Венгрии, Италии лечат и нервные заболевания, и гипертонию...
Большую популярность, как известно, приобрела и первая у нас в стране подземная лечебница в Солотвине. Она находится в соляных копях на глубине 240 метров. Однако успешные опыты по спелеотерапии в пещерах Тернопольщины почему-то не встречают поддержки у руководителей областного отдела здравоохранения.
— Интересна и психология человека под землей, — продолжает Павел. — Я собираюсь провести серию экспериментов, в которых, конечно, и сам буду участвовать. Кстати, вы собираетесь проведать наших подопытных?
Рано утром он будит меня.
— Пойдемте. Ребята звонили, что только пришли с работы. У них сейчас праздничный вечер седьмого ноября...
Опыт с киевлянами — это лишь подготовка к будущим серьезным экспериментам. Например, к такому: забросить в пещеру одного человека сроком на месяц.
Сережа Левашов и Юра Ягодзинский несказанно рады нашему приходу. Наливают чай, по случаю праздника предлагают отведать собственного пирога, начиненного сгущенкой и шоколадом. На стене висит плакат: «Ударим дружным храпом по одиночеству и тишине!»
— Какое сегодня число?
— Как будто праздник...
— Сегодня уходим, — поправляет Горбенко.
— Смотри-ка! — удивляется Левашов. — Значит, мы отстали на двое с половиной суток? А мы с Юркой думали, что обгоняем вас часов на пять-шесть.
— Однажды вы проработали двадцать часов подряд. Вы этого не заметили?
— Нет. Но я обнаружил, что однажды мы проспали дольше обычного.
— Каким образом?
— Спустил надувной матрац.
— Чем занимались в промежутках между работой и сном?
— Читали «Двенадцать стульев»... Пели.
— Было острое желание узнать время?
— Было. Но мы старались уйти от этой мысли.
— Галлюцинации случались?
— Однажды совершенно отчетливо слышали восточное пение.
— Перед сном вижу цветные картинки с сюжетами из жизни. Преобладают розовые и зеленые тона...
— А у меня синее море, голубое небо, красные закаты...
— Какой срок могли бы выдержать, живя и работая в пещере?
— Если из университета отпустят, то, пожалуй, с полгода, — смеются ребята.
Мы уходим. Ребята укладывают транспортники, снимают с каменных стен карту, плакаты, стенгазеты. Остальное консервируют до весны.
Мне грустно видеть, как обжитой зал пустеет, становится холодным и неуютным. Догорают свечи у подножия минералогического музея. В их зыбком свете виден висящий над музеем флаг спелеологов: на белом полотнище черный квадрат, а в нем — кристалл и парящая летучая мышь.
Спелеологи один за другим молча уходят в темноту. Последним, кинув на бывшую гостиную прощальный луч, покидает лагерь Немчук.
— Вот и все... — вздыхает он так, будто прощается с пещерой навсегда. Через несколько часов мы увидим солнце.
Спустя месяц после экспедиции я получил от спелеологов письмо, в котором они сообщали, что один из залов «Озерной», открытый в этой экспедиции, назван именем журнала «Вокруг света».
Л. Лернер, наш спец. корр.
(обратно)
Петр I и... бокс
Эту подробность сохранили расходные книги магистрата города Гданьска за февраль — март 1716 года.
В Северной войне Гданьск предпочел союз со шведами. Шведы проиграли. Городу предстояла расплата с победителями — с русскими. Переговоры о «кондициях» мирного договора Петр I собирался вести сам.
«Походный юрнал» Петра отмечает, что за 18 дней царская свита проделывает путь Петербург — Нарва — Дерпт — Рига — Митава — Либава — Мемель — Кенигсберг — Гданьск. Можно было много быстрее, но Петр хотел осмотреть все возможные фортификационные сооружения, проверить действия следовавшего за ним по морю русского военного флота. Он не изменяет своим обычным интересам и в Гданьске.
Подробнейшим образом осматриваются городские укрепления, новооборудованный цейхгауз — арсенал, верфи, гимназия, городская библиотека, невиданных размеров водяная мельница. Петр успевает побывать и в городской бане, и в тюрьме, и в Мариацком соборе с его прославленным алтарем кисти Ганса Мемлинга.
Но город, со своей стороны, хотел почтить высокого гостя, произвести на него возможно более сильное впечатление. В расходы магистрата заносятся суммы, потраченные на пышнейший фейерверк. На центральных площадях пускаются фонтаны вина, а на площади Рынка для народа выставляется целиком зажаренный бык, начиненный дичью и птицей. Центром же празднества становится большой специально сооруженный деревянный театр. Здесь гданьчане показали Петру старинное игрище — состязание мясников на приз гуся, пляски матросов и... схватки боксеров.
Да, справочники утверждают, что начало боксу было положено в Англии в 1719 году неким Фейггом и что, помимо английского, пользовался известностью также так называемый французский бокс, допускавший удары ногами и головой. Однако записи гданьского магистрата не оставляют сомнений: Петру и его гостям было показано несколько схваток именно английского, то есть наиболее близкого к современному нам бокса.
Понравился ли этот вид спорта русским зрителям, судить трудно. Скорее всего нет, потому что никаких похвальных отзывов современников не появилось, промолчал и «Походный юрнал».
Н. Молева, кандидат искусствоведческих наук
(обратно)
Дрезина, «большой би» и энергетический кризис

Знаете ли вы велосипед? Нет, вы не знаете велосипеда. Кто мог предвидеть, что его производство в Соединенных Штатах и Западной Европе возрастет в начале нынешнего года в ДЕСЯТЬ раз по сравнению с началом прошлого? Что реклама будет провозглашать его панацеей от всех бед — физических, психических и даже социальных? Что лицам, решившим предпочесть его автомобилю, городские власти станут выдавать премии... Нет, от велосипеда можно ждать еще очень многого, и лучше отказаться от идеи рассказать о нем ВСЕ. Ограничимся тем, что хотя бы кратко обозначим историю этого славного изобретения.
Отправной его точкой будем считать июньский день 1791 года, когда в парижском парке Пале-Рояль среди фланирующей под шелковыми зонтами публики появился граф де Сиврак со странным приспособлением. Сиврак, несмотря на свои юные годы, успел прослыть большим оригиналом, что, согласитесь, в Париже не так-то просто. Эксцентричным его выходкам, казалось, не было предела. Но такое... Такого не ожидали даже от него.
Полностью игнорируя вопросы гуляющих, граф де Сиврак потребовал очистить ему центральную аллею. Затем он оседлал свое загадочное сооружение, состоявшее из деревянной балки с упорами для рук, прикрепленной к колесам посредством двух деревянных же вилок, и, поочередно отталкиваясь ногами, с завидной резвостью промчался по парку Пале-Рояль! Рукоплескания и радостные крики сопровождали молодого аристократа на всем пути. Многие дамы просили выдвинуть их стулья в первый ряд, дабы не пропустить волнующий момент, когда наездник пронесется мимо, пыля атласными туфлями.
Изготовленную для него машину граф назвал «селерифером», соединив французское слово «селерите» — «быстрота» с латинским «феро» — «несу». Но затем, очевидно желая полностью латинизировать название, переименовал ее в «велосифер», что означает то же самое. Вскоре многочисленные последователи де Сиврака уже колесили по паркам, а затем и по улицам французской столицы, не вызывая, впрочем, беспокойства пешеходов.
Появились и первые усовершенствования. Барон фон Дрез, главный лесничий немецкого герцогства Баденского, познав радость вождения велосифера, приспособил к нему простейший руль, с помощью которого можно было направлять по воле седока переднее колесо и даже описывать на машине круги! В апреле 1818 года Дрез показал свое творение парижской публике. В его честь машина была названа «дрезиной».

На гравюрах той эпохи можно видеть, как элегантные денди в цилиндрах и моноклях двигаются хотя и на колесах, но... пешком. Стало модным прогуливать таким способом дам, используя дополнительное сиденье, правда, нужно было соблюдать особые меры предосторожности, ибо пышные юбки часто попадали в спицы заднего колеса. Дрезина нашла применение не только для развлекательных целей. Газеты с восхищением писали о некоем плотнике, который, «желая доставить заказчику готовое изделие, покрыл за четыре часа расстояние в пятьдесят километров»! Согласитесь, немалое достижение для беспедального устройства...
В Англии тяжелая дрезина подверглась модификации и получила наименование «хобби хорс» — «игрушечная лошадка». Деревянную раму там заменили легким металлическим каркасом, а к рулю приделали упор для груди. Теперь отталкиваться от земли ногами стало намного легче. Но, кстати, именно это обстоятельство и препятствовало дальнейшему распространению машины. «На нее башмаков не напасешься!» — сердились любители, с грустью разглядывая свои подошвы после пробега на дрезине.
Только в 1861 году — и снова в Париже — мастер Пьер Мишо снабдил переднее колесо сооружения двумя педалями. Правда, при несоблюдении правил равновесия оно легко валилось на бок, но сын Мишо быстро освоил искусство балансировки и, таким образом, стал первым в мире велосипедистом.
Мастерская Мишо скоро превратилась в фирму «Мишо и сын» по выпуску велосипедов (название машины придумал не он, зато все остальное — его единоличная заслуга).
Подражатели и конкуренты Мишо не дремали. Результаты их работ демонстрировались в 1869 году на выставке в Париже. Наряду с обычными там можно было видеть и весьма смелые экспериментальные модели, например «моноцикл» (одно колесо с педалями и рулем — на таких сейчас выступают в цирке эквилибристы). Другой новинкой был «велос» — устройство, приводимое в движение собаками. Животные помещались в клетке, имевшей форму колеса. Перебирая лапами прутья, они должны были сообщать «велосу» ускорение...
Это изобретение успеха не имело. Особое возмущение оно вызвало в Англии, где собаки, как известно, — сословие привилегированное. Англичане предложили иное решение — увеличили диаметр переднего колеса, что сразу дало выигрыш в скорости. На Парижской выставке 1878 года были показаны британские велосипеды с диаметром переднего колеса до трех метров! Езда на таком монстре, безусловно, внушала опасения, ибо потеря равновесия и падение с него гарантировали временную нетрудоспособность.
И тем не менее первые соревнования велосипедистов проходили именно на таких гигантах, окрещенных «большими би» 1. Ведь на них можно было развить существенную скорость, а в соревнованиях именно она является целью, не так ли?
1 Сокращение от «bicycle» — велосипед (англ.).
Справедливости ради заметим, что для начинающих были изготовлены трехколесные гиганты, на которых новичок все же чувствовал себя спокойнее.
Только в 1891 году велосипед обрел знакомые нам сегодня очертания. Сто лет понадобилось ему, чтобы пройти путь от «селерифера» графа де Сиврака до легкой машины на резиновом ходу. Солидный срок.
Ну а что касается сообщений о сегодняшнем велосипедном буме, с которых мы начали эту заметку, то подоплека тут проста. Энергетический кризис, разразившийся в странах Запада, заставил взглянуть на велосипед под весьма практическим углом зрения. В самом деле, он не требует дефицитного бензина, не загрязняет среды, решает кардинально проблему уличного движения. Да и врачи дружно свидетельствуют, что поездки на нем могут принести здоровью только пользу. Доктор П. Уайт в бытность медицинским консультантом президента Эйзенхауэра прописал своему ответственному пациенту ежедневные велопрогулки. Президент категорически отверг рекомендацию, заявив, что не изменит гольфу, но нынешние государственные деятели многих стран подают своим согражданам пример. Скажем, премьер-министр Голландии теперь паркует по утрам свой велосипед возле здания совета министров. Фотографии запечатлели за рулем велосипедов премьер-министров Канады и Дании, короля Бельгии и других.
По воскресеньям муниципальные власти многих городов закрывают для автомобилей центральные районы. В Голландии из-за энергетического кризиса езда на машинах по выходным дням вообще запрещена, так что традиционная любовь голландцев к велосипеду стала еще более пламенной.
В Соединенных Штатах в минувшем году велосипеды потеснили автомобили — впервые за полвека там было продано больше взрослых велосипедов, чем детских. А общее количество двухколесных машин в стране достигло 76 миллионов. Это подлинный бум, со всем, что обычно сопутствует буму...
Авиационные компании заявили, что вводят скидку на провоз велосипедов. Создан Всеамериканский институт велосипеда с центром в Нью-Йорке и отделениями в 23 штатах; его задача — всесторонне исследовать велосипедный феномен. В 12 колледжах страны с этого года читаются курсы по истории велосипеда, после чего студенты переходят к практическим занятиям.
В этой связи не должно вызывать удивления фото, помещенное на этих страницах, где вы видите членов Клуба любителей старинных велосипедов из города Хадли в штате Массачусетс.
Они катят на громадных колесах образца 1878 года. Первую такую машину основатель клуба Джонсон купил на распродаже антиквариата в 1924 году и с тех пор без устали рекламирует «старые добрые средства передвижения».
Психологи утверждают, что совместные прогулки на велосипеде «увеличивают чувство доверия», а езда на двойном велосипеде-тандеме «развивает семейную идиллию»... Словом, велосипед, по их мнению, это способ быстрее всего добраться до семейного счастья. Иллюстрацией к этому тезису может служить недавний велопробег двух канадских супружеских пар. Стартовав в Анкоридже на Аляске, они двинулись на юг вдоль тихоокеанского побережья Канады, пересекли всю страну и финишировали в американском штате Монтана, покрыв несколько тысяч миль. Так вот, если перед стартом между супругами отмечались разногласия по множеству вопросов — начиная с того, нужно ли брать с собой в дорогу выходное платье, и кончая воззрениями на политику, — то после пережитых совместно трудностей на тернистом велопути они пришли к полному согласию...
В приказном порядке на велосипеды пересели служащие американских национальных парков Их машины совмещают в себе преимущества бесшумного движения, позволяющего незаметно подкрадываться к нарушителям, с достижениями техники. Изготовленные по спецзаказу велосипеды оборудованы рациями, аптечками, аварийными запасами еды и питьевой воды, спасательным кругом, фарой-искателем, сиреной... всего просто не перечесть.
В конгрессе Соединенных Штатов внесен законопроект о резком увеличении ассигнований на строительство велодорог. На велосипедном буме взошли и политические всходы: по улицам Сан-Франциско стали разъезжать, крутя педалями, молодые люди с лозунгами: «Велосипедистов — к власти!»
Обилие велосипедов на дорогах Америки радует сердце 86-летнего доктора П. Уайта, давнего поборника «велотерапии». «Я всю жизнь твердил, что прогресс заключается не в том, чтобы быстрее попасть из пункта А в пункт Б, а в том, чтобы сохранить здоровье как можно большему числу людей. И здесь велосипедисты на верном пути», — говорит он.
Правда, доктора Уайта очень беспокоит безопасность движения: «Я за велосипедные поездки, но не по улицам, забитым машинами». В самом деле, чем больше велосипедистов, тем больше несчастных случаев с ними. В 1972 году травмы получили 40 тысяч человек, а число погибших увеличилось за последние годы в два раза...
Изобретательская мысль тоже не знает покоя. Француз Раймон Ласпаль сконструировал велосипед без руля, на котором очень удобно (по его словам) спускаться с горных склонов, управляя двумя лыжными палками. Те, кто желает рискнуть, легко могут развить на этом... — названия еще нет, и вы вправе дать новому изобретению любое имя — скорость до 60 километров в час. Техника остановки, правда, еще не разработана, но Ласпаль трудится в этом направлении. Он обещает смонтировать хорошую тормозную систему, как только выпишется из больницы, куда был доставлен с переломом ноги...
Как видим, у велосипеда богатое прошлое, но отнюдь не менее богатое будущее, и если хорошенько разобраться, фраза «изобрести велосипед» выглядит не такой уж иронической.
М. Беленький
(обратно)
Ну и что?

Терпеть не могу, когда при мне этакие бывалые люди начинают рассуждать о том, какие им доводилось видеть штормы, туманы, снега. У нас в Штатах еще и не то случалось. Вот на Миссисипи, например, такие дожди круглый год льют, что у людей прямо из пор трава прорастает. У собак не блохи, а пиявки заводятся. Да и куры с перепончатыми лапами черепах высиживают. Ну и что?
Впрочем, и сушь бывает такая, что ой-ой-ой. В Спавино, в Оклахоме, собаки, когда погулять их выпускают, вокруг одного и того же дерева бегают. До другого-то ведь миль десять с гаком. А перед похоронами каждому из скорбящих по ведру воды выпить дают. Иначе им и слезинки не выжать. В Мине, что в Арканзасе, тоже не лучше. Там даже марки к конвертам на швейной машинке пристрачивают. А в Аризоне пианино каждый день водой поливают. Иначе хрипеть начинают. Ну и что?
Когда в таких местах еще и ветер задует, тут уж совсем худо. Как-то после трехдневной песчаной бури ехали несколько человек на лошадях из Эль-Пасо, что в штате Техас, в Аламогордо, Нью-Мексико. Смотрят, шляпа на песке лежит. Подняли. Под ней макушка виднеется. Отгребли песок от лица, а человек и говорит: «Сгоняйте-ка кто-нибудь за лопатой. Я ведь на лошади». Зато для хозяек такая буря просто дар божий. Всю посуду перечистить можно. Знай себе подставляй кастрюли да сковородки к замочной скважине в кухонной двери. Никакой наждак с дверью-пескоструйкой не сравнится. В такую погоду даже гремучие змеи чихают, а сарычи хвостом вперед летают, чтобы не задохнуться. На рыбалке только вяленая вобла на крючок идет. На охоту же лучше не ходить: так во рту пересыхает, что даже собаке не свистнешь Ну и что?
Только ветер еще и не такие штуки выкидывает. В Ларами, в Вайоминге, раз видели, как китаец на воздушном змее летел. Взял железный ставень, а вместо хвоста из мочалы толстенную цепь приделал. В Топике, что в Канзасе, ветер прохожих о стены так расплющивает, что после этого из них отличные афиши для бродячих цирков получаются. В Колорадо же цыплят дробью кормят, чтобы ветром не унесло. А в Западном Техасе бури еще и посильнее бывают. Там даже солнце закатиться не может, и ночью светлее, чем днем. Вот в Миссури тоже случай был. У одного фермера курам все перья ветром повыщипало да в свиней воткнуло. Смехота, да и только. Но первое место на выставке свиньи все равно получили, хотя и по категории необычных пород. А другой фермер хранил кувшины с самогоном в курятнике. Унесло их ураганом аж в другой штат. Там посмотрели, а в кувшинах глинтвейн с желтком. Или вот в Абилине, в Техасе, накопал один чудак червей для рыбалки. Поставил банку в сарай. Только ее все равно через стенку ветром в соседнюю мастерскую зашвырнуло. Да так, что черви жернов насквозь пробили... Головы на одной стороне, хвосты — на другой. Ну и что?
Только вот истории, что с Пеко Биллом приключилась, я все-таки не особенно верю. Он поспорил, что на циклоне, как на мустанге, сумеет прокатиться. Оседлал он циклон в Канзасе. Помчался тот через весь Техас, несколько гор по дороге сшиб, а Билл держится. Циклон через Нью-Мексико и Аризону махнул. Никак его сбросить не может. Отчаялся бедный, да дождем из-под Билла и ливанул. Только так и вырвался. Зато другой циклон каменный колодец из земли в Стиллуэлле, в Оклахоме, выдернул и у одного фермера возле дома поставил. Вверх тормашками. Тот его оштукатурил, отличная силосная башня получилась. А в Скотленде, что в Южной Дакоте, один человек гараж себе построил. Машину купить собирался. Тут циклон на город налетел. Наутро заглянул человек в гараж и глазам своим не поверил: стоит новенький «бьюик» с канзасским номером. Ну и что?
А вот еще был случай. Отправилась компания на Миссисипи порыбачить. Одного в лагере оставили за повара. Возится он у костра, а тут гром как грянет.
От испуга человек на себя целую бутыль кукурузного масла вылил. Рука дрогнула. И такой он стал скользкий, что налетевший смерч никак его ухватить не мог. Крутит, крутит, а тот все выскальзывает. Пришлось смерчу на берег за песком сгонять, чтобы человека как следует обсыпать. Только после этого унес беднягу за добрую сотню миль. В Фейеттвилле, в Арканзасе, другой смерч вывернул канистру с керосином наизнанку. Да так ловко, что ни капли не пролил. Ну и что?
В Талекуа, в Оклахоме, ребята обычно развлекаются тем, что подставляют шляпы ветру вместо парусов и парят, как птицы. А на границе между Арканзасом и Оклахомой ветер все время дует в одну сторону с такой силой, что орлов и ястребов прижимает к скалам и они в конце концов умирают от голода. А в национальном парке Секвойя фермеры здорово наловчились использовать ветер. Когда настает время сеять, они выезжают миль за пять от полей и просто-напросто бросают семена по ветру. А уж он делает все остальное. Ну и что?
Засухи да ураганы, скалы да камни плодородия, ясно, не прибавляют. Вот некоторые районы и спорят между собой, кто беднее. В северной Флориде, например, один участок был так плох, что на нем ну ничего не росло. Единственное, что оставалось, так это подарить его церковной общине. А вот в Западной Виргинии поля сплошь оврагами изрезаны. Поэтому фермеры кукурузу из пушек сеют: зарядят ее в ствол и с одного склона противоположный обстреливают. А тыквы к кукурузным стеблям привязывают — иначе скатятся. В Уэбстер-Спрингс, что в том же штате, почва вообще как камень, и кошкам каждый день в песочек приходится бегать за семнадцать миль в ближайшую долину. Ну и что?
Конечно, в Штатах есть и такие места, которые спорят между собой, у кого почва самая плодородная. В Сан-Бернардино, в Калифорнии, как считают агрономы, от излишнего плодородия даже урожай страдает. У одного фермера там земля была настолько жирная, что он в конце концов и думать оставил кукурузу выращивать. Стебли у нее тянулись вверх так быстро, что даже корни вслед за собой выдергивали. Кстати, в этих районах и климат для здоровья лучше некуда. В Южной Калифорнии из-за живительного воздуха, говорят, местные жители вообще не умирали, пока загрязнение окружающей среды не началось. Там, кстати, любопытный случай приключился. Одному старику 250 лет стукнуло, он уже и жить устал, а руки на себя наложить не посмел, душу погубить боялся. Совсем отчаялся бедняга, но наследник его все-таки выручил: посоветовал за границу поехать. Тот послушался, взял билет в один конец и уехал. И конечно же, сразу помер. Да только одну промашку допустил: написал в завещании, чтобы его в Калифорнии похоронили. Увы, калифорнийский воздух его оживил, и он по сей день здравствует. Ну и что?
И все-таки нигде вы не услышите столько занимательных историй, как там, где погода помешана на крайностях, будь то жара или холод, проливные дожди или туманы. Как, например, появились на свет шарики из жареной кукурузы в сахаре? Суховей в Небраске в этом виноват. Мчался он полосой в милю, солнце нещадно палило, а позади дождь. Тоже полосой в милю. В общем, как и должно быть в год переменчивой погоды. Суховей кукурузные зерна изжарил прямо в початках, а дождь весь сладкий сок из сахарного тростника вымыл. Сок и хлынул на кукурузные поля, скатал зерна в шарики, а сверху сахаром покрыл. А вот в Аризоне жара такая, что кур нужно крошеным льдом кормить. Иначе они яйца вкрутую будут нести. В Литл-Роке, что в штате Арканзас, шоссе летом докрасна раскаляются. Поэтому ящерицы там всегда с собой во рту кусочек дерева таскают, чтобы под хвост подкладывать, если посидеть захочется. Ну и что?
Однако и холод в Штатах тоже страшный бывает. В Оклахоме, например, мороз может грянуть так внезапно, что лягушки даже в воду нырнуть не успевают. Так и сидят вмерзшие в лед, одни головы торчат. В Арканзасе в 1883 году сразу две зимы подряд выдались, аж снег от холода посинел. В Неошо, что в штате Миссури, чтобы утром подоить корову, приходится под ней костер разводить. В Ламаре, тоже в этом штате, коровы научились пить воду через соломинку, когда корыта льдом да снегом покрываются. Впрочем, бывают случаи и почище. В графстве Стоун стая диких уток плавала в пруду. Ударил мороз, лапки-то у них сразу в лед вмерзли. Утки испугались, рванулись вверх Да так с собой весь пруд и утащили. А шириной он был добрых тридцать метров. Ну и что? Есть у нас в Штатах места, где ни жары, ни холода, ни ливней, но зато туманы!.. На равнинах, бывает, они по сорок дней держатся. Из дому только по двое выходят: один туман раздвигает, пока второй сквозь него пробирается. Единственное спасение английские туманорезки — их из Лондона импортируют. Они туман на длинные полосы разрезают и вдоль дорог складывают. А вот с плотниками там вечно истории приключаются. Кроют они амбар или дом, а туман настолько густой, что уж и крыша, бывает, кончится, а они все кроют и кроют. Пустой воздух. А в проливе Нантакет, что в Новой Англии, капитан одной промысловой шхуны гарпуном дырку в тумане пробил. Вернулся через три года из плавания — она все еще не затянулась. Судно через нее спокойненько в гавань и прошло. Ну и что?
С грозами тоже хлопот не оберешься. В Мейне, например, один человек за молнией погнался, но она в кротовую нору юркнула. Он возьми да и прикрои вход в нору камнем, чтобы молния не сбежала. Вспомнил он об этом только через год, вернулся к норе, сдвинул камень, а из земли гром как грянет! Другое место, которое знаменито своими грозами, — Олд Роббс в Миссисипи. Там у мужчин столько электричества в бородах, что они бриться боятся. Проволочные ограды по ночам не хуже неоновых трубок светятся. Как-то стайка маленьких молний застряла в куче старых шин, что ребятишки за амбаром свалили. Кто знает, сколько бы они там вертелись и шипели, словно бенгальские огни, если б жители не догадались, как заарканить их... Сначала молнии развесили на ветвях деревьев для иллюминации, а потом разложили по стеклянным банкам, чтоб, когда понадобится, енотов да опоссумов из нор выкуривать. Конечно же, прирученные молнии и все автомобильные аккумуляторы в деревне заряжали. Ну и что?
Все же главный претендент на самую паршивую погоду и самую отвратительную жизнь из-за этого, пожалуй, Монтпилиер в Вермонте. Там, чтобы уцелеть, пожилые люди на всю зиму в спячку впадают. Один очевидец это даже в дневнике описал. «Шесть человек: четыре мужчины и две женщины, один из мужчин — инвалид лет тридцати, а остальные пятеро в том возрасте, когда от них толку мало, улеглись на земляной пол хижины и напичкали себя какими-то порошками до полного одурения. Вокруг сидели их родственники. Один осмотрел неподвижные тела и важно изрек: «Готовы». Потом их раздели почти догола, вынесли на мороз и уложили на бревна. Вскоре у них начали белеть носы, уши и пальцы, а лица залоснились. Они быстро замерзали». На следующий день, как написано в том же дневнике, тела сложили в большой деревянный ящик, переложив их соломой, а крышку забили гвоздями. Недели не прошло, как поверх ящика огромный сугроб навалило. Весной, в мае, когда пожилые люди опять понадобились кукурузу сеять, ящик открыли, тела достали и сунули в корыто с кипятком.
Часа через два-три они оттаяли. Затем их проводили по домам, угостили отличным обедом и отвели в поле. Думаете, зимовка хоть как-то сказалась на этих шестерых? Ничуть. Ну и что?
Прочтете вы эти истории о когда-то суровых условиях жизни в Штатах — особенно последний случай с замороженными вермонтцами, — и, может, придет вам в голову, что люди любят критиковать погоду, но пальцем о палец не ударят, чтобы исправить ее. Напрасно. Кое-кому такие любители, возможно, и кажутся просто болтунами, но своими россказнями они уже делают немало, и все мы перед ними в большом долгу.
Рой Бон Гарц
Перевел с английского С. Барсов
(обратно)
Оглавление
Имена на рубках
Посреди пурги и тундры
По Амазонке вверх
Ребята из млынской долины
Корабли приходят в Ленинград
Необыкновенная история острова Оук
Лунный оазис
Уступи слонам дорогу
Хиппи в конце пути
Награда победителю
Лак и перепелиные яйца
Камни Суруктаах Хайи
Владимир Михановский. Ва-банк
Рога горного козла и земледелие в горах
Зимник начинается в Певеке
Р. Штильмарк. Волжская метель
Идущие в лабиринт
Петр I и... бокс
Дрезина, «большой би» и энергетический кризис
Ну и что?
Последние комментарии
11 часов 48 минут назад
20 часов 39 минут назад
20 часов 42 минут назад
3 дней 3 часов назад
3 дней 7 часов назад
3 дней 9 часов назад