Слушаем пульс ледника

Вездеход полез в гору. Подъем крутой и продолжительный, а наверху сплошная стена из облаков. Отчаянно скрипя, машина доползла до верха. Сразу лязг металла о камни стал глуше. Мы в облаке. Нос вездехода упирается в серый податливый кисель, он ползет вслепую, упорно, пока не глохнет мотор. Все вылезают, Мы прибыли к месту нашего назначения — на плато к леднику ИГАН.
Нас девять человек. Фототеодолитный отряд отдела гляциологии Института географии АН СССР, сокращенно ИГАН, которым руководит гляциолог Дмитрий Цветков. У него две правых руки — геодезисты Юра Перегудов и Саша Бруевич. Две левых — картограф Лариса и Наташа, медик по профессии и кулинар по призванию. Плечи экспедиции, ее рабочий — ваш корреспондент. И если продолжить аналогию — ноги экспедиции — три водителя вездеходов, три Володи — Лепилин, Довжко и Михалев. Последний «по совместительству» еще и научный сотрудник отдела гляциологии ИГАНа, член ученого совета Полярно-Уральской экспедиции института, автор многих известных у нас и за рубежом научных трудов.
На Полярном Урале нам предстоит побывать на ледниках Обручева и ИГАН, которым (как шутит Дима) уже готовы присвоить звание «заслуженный ледник СССР». А было время, когда собирались закрыть всякие наблюдения на Полярном Урале.
История этого края вообще необычна. В начале века крупнейшие ученые считали, что на Полярном Урале нет и не должно быть ледников, так как эта область лежит ниже хионосферы (1 Хионосфера — пространство (сфера) вокруг Земли, где среднегодовая температура ниже 0° С.). Да и потом, когда географы все же нашли здесь ледники, «гляциологическое» пренебрежение к краю оставалось. Ледники здесь очень малы, настоящие пигмеи среди ледников. А гляциологов манили к себе гиганты.
Но мал ледничок, да дорог. Оказалось, что полярноуральские пигмеи живут полнокровной жизнью по всем ледниковым законам нашей Земли. Кроме того, они не безлики, компактны, и их удобно изучать. Каждый имеет, если можно так выразиться, свою индивидуальность.
Так, ледник ИГАН — «двуязычный». Этим, правда, не удивишь, есть и более «языкатые», скажем, с двадцатью и более языками. Но у ИГАНа один язык ползет в Европу, а другой в Азию.

Или ледник Обручева, один из красивейших. Гигантская каменная раковина распахнула створки. В глубине ее фосфоресцирует правильной формы голубая жемчужина-ледник. Створки раковины, из розового песчаника и зеленых сланцев, уходят ввысь на 500 метров, а края усыпаны лезвиями вершин. Раковина будто уронила слезу, и та застыла рядом с бирюзовой гладью озера. Над всем этим взметнулся тысячеметровый каменный меч...
Преодолев плато, начинаем подниматься по склону, напоминающему необитаемый пейзаж Луны. Обломки камней. Глазастые лишайники с каждого камня смотрят на нас. Зеленоватую каменную пустыню нарушают оазисы зеленого и коричневого мха.
Морена. Камни истирают друг друга в порошок. Гигантская адова мельница работает невидимо, безостановочно. А заводит ее язык ледника, который сейчас невинно лежит, поблескивая голубыми искрами.
Выше него — морщинистое лицо самого ледника с оспинами щебня. Непрекращающаяся борьба с мореной измотала «старика». Незащищенное «лицо» пылает на солнце, теплые дожди размывают трещины.
Живут ледники Полярного Урала за счет метелей, потому и получили название наносных или навеянных.
Кстати, по количеству метелей горная область Полярного Урала занимает одно из первых мест на Земле и сравнительно немногим уступает побережью Антарктиды в районе Мирного. Здесь в году 164 метельных дня!
Ледники дышат, гляциологи говорят: ледники пульсируют. За зиму ледник вырастает, и язык его выходит далеко вперед, а летом наоборот — ледник сокращается.
Но какова динамика этих пульсаций, какой частоты пульс ледника? Из года в год приходят гляциологи сюда, чтобы измерить этот пульс, вывести его закономерность. Методами объективного анализа, основанными на теории поля и математической статистики, установить связи — функциональные для неслучайных процессов и вероятностные для случайных — между всеми существенными компонентами.
За десять лет наблюдений на ледниках Полярного Урала накопился большой статистический материал. Когда его проанализировали профессор П. Шумский, Д. Цветков и В. Михалев, то родились предположения о механизме колебания ледников. (Такие выводы трудно было сделать при обработке данных больших ледников, так как наблюдать за поверхностью по всей их площади чрезвычайно трудно.) Ледник подвергается вынужденным колебаниям, вызываемым изменением внешней нагрузки. Грузный и спокойный на вид, ледник оказывается весьма нервным созданием. Стоит на него с внешней стороны надавить, как он весь «закипает», все поля напряжения мускульно наливаются, скорости деформации от этого увеличиваются, и его начинает «лихорадить». Чтоб «успокоиться», он вынужден продвигаться вперед.
Т

еория колебания ледников в будущем позволит давать очень точные прогнозы.
Если ученые знают, какая будет зима, снежная или бесснежная, то, пользуясь выведенными закономерностями, они смогут с уверенностью предсказать, насколько ледник продвинется вперед или отступит назад. Более того, можно будет значительно точнее реконструировать далекое и загадочное прошлое ледников. Незаметная, не блещущая эффектными «озарениями», но такая необходимая для понимания жизни всей Земли работа.
Владимир Михалев с Юрой забуривают в тело ледника новые вешки, а мы с Димой забираемся на восточный склон, на точку «Бровка». И ведем фототеодолитную съемку.
Еще когда мы поднимались к морене, погода начинала портиться. А только поставили инструмент, как через верхний край горы перелился клубящийся вал облаков и пополз вниз по леднику к его озеру. За первым валом появился второй, потом третий. Ветер с силой швырнул пригоршню камней. С большим трудом удалось устоять на ногах и укрыть полиэтиленовой пленкой фототеодолит.
С шумом скатываемся под каменный навес — и вовремя. Гигантская каменная лавина сорвалась со склона. Семь минут сыпались камни, вонзаясь в поверхность льда. Одна глыба — на глазок весом с тонну — торпедой проскочила до середины ледника, оставив глубокий шрам.
Невозмутимый Дима сказал:
— Ну вот и хорошо, теперь мы имеем несколько новых ориентиров на леднике.
Камнепад сменился столь же ожесточенным ливнем, а ливень — мягким тягучим дождем. Ледник мгновенно преобразился. Тысячи струй помчались по его уклонам, съедая корку и делая из него настоящий большой каток. И вдруг сквозь низкие облака по льду поползли солнечные пятна. Только в облаке появилось окно, открылся ледник — начинаем фотосъемку. Опять накрыло и моет нас дождем. Так, исподволь, как охотники в засаде, мы и продолжали работу. Когда был сделан последний снимок, стало совсем темно, подул резкий ветер и хлестнул сильный боковой дождь...
В. Брель, наш спец. корр.
(обратно)
Хозяева восставших гор

И здесь нужно лежать, уткнувшись в горячий песок, сливаться с кустарником, прятаться в скалах, выжидая, пока прекратится налет.
И здесь ветер развеивает пепел сожженных деревень, а дети спят в пещерах и бомбоубежищах. И эту страну опалила война...
Мы наблюдали, как высоко в небе делали разворот два английских самолета «страйкмастер». Они пикировали на деревушку километрах в двух от нас. Солнце палило нещадно, лишая желания двигаться, и, казалось, расплавляло мозг. Пахло горячей пылью, сухой травой, верблюжьим пометом, пересохшей кожей бурдюка, в котором давно кончилась вода. Ракеты с самолетов, прочеркивая небо, уходили куда-то за отрог горы.
Наконец «страйкмастеры» улетели. Мы отряхнули песок и направились туда, где падали ракеты. Горела деревушка Маброф, и пламя поглощало жалкие остовы хижин. Я был здесь почти два года назад (1 Очерк о первой поездке А. Васильева в освобожденные районы Дофара был опубликован в № 12 журнала «Вокруг света» за 1973 год.) и сейчас вспомнил, как чудесно нас тогда встретили. Жители по обычаю выстроились кружком, мы со всеми троекратно перецеловались, а затем нам предложили полные чаши верблюжьего молока.
Теперь в Маброфе не было людей. Англичане напрасно расходовали ракеты. Наш сопровождающий — комиссар Ахмед, лет двадцати пяти, казавшийся старше из-за густой черной бороды, — поднял с земли большой осколок и протянул нам:
— Фосфорная бомба. Она не только все сжигает, но и отравляет жертву.
Те же самые фосфорные бомбы и такие же следы пожарищ я видел на горькой земле Вьетнама, в джунглях Лаоса, на каучуковых плантациях Камбоджи, в долине реки Иордан... И здесь, в Дофаре, уже седьмой год сражаются и гибнут люди.

В прошлое мое путешествие в Дофар я не видел английских военных самолетов, но, наверное, главной причиной был густой туман, покрывавший горы и плато. На этот раз редкий день проходил без рева «страйкмастеров» над головой, на редкой стоянке мы не видели воронок, пожарищ, осколков. Руководители Народного фронта дали мне список сожженных деревень. Их оказалось несколько десятков. Правда, за прошедшие два года дофарские повстанцы вооружились тяжелыми пулеметами и создали подобие противовоздушной обороны. Нам не раз приносили достоверные свидетельства ее успехов: обломки английских самолетов.
Из Маброфа мы направились на север, в горы. Солнце только что миновало зенит, и казалось, что идешь по раскаленной жаровне. На этот раз мы попали в Дофар в пик жаркого, сухого сезона — в апреле — мае. Никогда мне не приходилось испытывать такой жары. Мы обычно снимались со стоянки в четыре-пять утра, шли до девяти, а затем прятались в какой-нибудь тени часов до четырех дня. Но сейчас нас задержала бомбежка, а дневать без воды под отвесными лучами солнца никто не хотел.
Трава в горах выгорела. Деревья по большей части сбросили листву и стояли сиротливо обнаженные, корявые и колючие, похожие на вырванные из земли и поставленные торчком корни. Нужно было идти медленно, чтобы не сорвать дыхания и не свалиться от солнечного или теплового удара. До ближайшего источника оставалось несколько часов ходьбы.
Нас предупредили, что все дороги в Дофаре перекрыты постами и заставами Народно-освободительной армии. Мы уже несколько дней шли по горам, но встречали лишь караваны верблюдов, груженные рисом, консервами, боеприпасами.
— Где же армия, бойцы? — спросил я комиссара Ахмеда, когда мы наконец добрались до бассейна у подножия гладких черных скал, припали к чистой воде пересохшими губами и несколько утолили жажду.
— Могу показать, — усмехнулся он, приставил ладони к губам и издал звук, похожий на клекот орла.
В ответ раздалось тихое пощелкивание, и на скале метрах в пятидесяти показалась курчавая голова бойца. Там находилось пулеметное гнездо.
Вокруг источника «сладкой воды» раскинули широкие развесистые кроны смоковницы с сочными зелеными листьями, образовав несколько островков густой тени. К воде и прохладе собрались обитатели окрестных пещер. Крестьянин средних лет, с аскетическим лицом и длинной бородой, одетый в грязно-белую рубаху до пят, пригнал несколько верблюдов. Пожилая женщина в заплатанном зеленом платье с волочащимся по земле подолом, но в серебряных браслетах и ожерельях уселась около воды на камень и равнодушно смотрела, как ее козы забрались прямо в бассейн. Несколько мужчин, кто в юбках фута, кто в потрепанных брюках и гимнастерках, в холодке обменивались последними новостями. Молоденькая девушка, похожая на стройную газель, прогнала хворостиной коз и начала набирать воду в бурдюк старой консервной банкой. Я примерился к полному бурдюку. В нем было пуда полтора, не меньше. Девушка легко вскинула на плечо бурдюк и грациозной походкой пошла по тропе в горы. Путь ей предстоял неблизкий, километров пять. Картина была патриархальной и мирной. Мы почти забыли, что совсем недавно слышали вой падающих ракет и видели горевшую деревню.
Резкий свист со скалы вернул нас к действительности.
— Тревога!.. Самолеты!..
Мы попрятались в скалы и наблюдали, как высоко в небе пролетала на запад четверка «страйкмастеров».
...С утра мы слышали отдаленный грохот боя и, когда подошли к штабу Западной зоны, обнаружили лишь теплую золу от костров, брошенные котлы и несколько бойцов тылового охранения.
— Все ушли на плато отбивать рейд наемников,— сообщили нам.
Еще один день закатился золотым солнцем за ломаный гребень дофарских гор, наступила долгожданная ночная прохлада. Глухие разрывы и пулеметные очереди, доносившиеся издалека, утихли.
Мы заночевали в большой, просторной пещере. Здесь размещалась ставка командования Западной зоны и отдыхали бойцы. С потолка пещеры свешивались сталактиты, образовывавшие причудливые арки и колонны. Между ними чернели потайные ходы, ведущие в недра горы к складам оружия и продовольствия: пещера служила также перевалочной базой для снабжения подразделений, которые сражались дальше, близ Салалы.
Нас разбудили громкие голоса. Пещера заполнилась десятками вооруженных, возбужденных людей. В углу ярко горела керосиновая лампа, и группа командиров осматривала захваченное английское оружие.
— Пошли, я тебя познакомлю с героем сегодняшнего боя, Мухаммедом Али, — потянул меня Ахмед к вооруженному автоматом бородачу, стоявшему поодаль. Мухаммед Али выглядел, пожалуй, как типичный араб пустыни — у него была смуглая кожа, крупный горбатый нос, жилистое тело. Свою бороду он аккуратно подстригал, оставив лишь неширокую полоску с мыском на подбородке. Бороду дополняли щегольские усы. Лицо Мухаммеда казалось спокойным и немного надменным.
— Откуда здесь взялись англичане и наемники? — спросил я его.
— Прошлой ночью две роты наемников выехали на автомашинах из лагеря Хаглит. Ты знаешь, что это за лагерь?
— Нет.
— Смотри, — показал он карту. — К северу от гор у англичан есть в пустыне одна база. Мы их никак не можем из нее выкурить, потому что подступы видны как на ладони, и в случае опасности с базы вызывают по радио авиацию.
— Это далеко отсюда?
— Километров сто по пустыне... Так вот, наемники заняли брошенный год назад военный пост Даан-Хор. Наверное, хотели закрепиться в Западной зоне.
— Как вы узнали об их появлении?
— Пастухи... Недалеко пасли коз два бедуина, они и сообщили в штаб... Дальше Даан-Хора наемники не пошли. Они установили орудия и начали стрелять по горам, чтобы нагнать страху. Но не сообразили выставить боевое охранение, хотя густой кустарник подступал прямо к их позиции. Пока наемники были заняты обстрелом гор, мы подобрались к ним и открыли огонь из минометов. Дело было перед заходом солнца. Эти горе-вояки не выдержали, погрузились в автомашины и поспешили удрать. При отходе один из грузовиков подорвался на нашей мине...

В эту ночь в пещере больше никто не спал. Мы сидели с Мухаммедом Али на краю обрыва и наблюдали, как светлеет черная долина. Над гребнем горы показался сегмент солнца, и восточная часть неба стала золотистой. Светило поднималось быстро, буквально на глазах. Темно-синее небо голубело, как будто выгорало, приобретая обычный белесый оттенок. Рыжие горы и корявые безлиственные леса, отдохнувшие в ночной прохладе, снова оцепенели в неподвижном зное.
...«Дерево свободы растет быстрее, если его поливают кровью борцов». Я не раз слышал эти слова в Дофаре. Они не показались мне просто красивой фразой.
Один из основателей Народного фронта говорил мне:
— Мы считаем, что только та революция достигнет успеха, которая не страшится жертв.
Он протянул мне пачку листовок, каждая с портретом бойца и подписью: «Пал смертью храбрых». Я вглядывался в юные, почти детские лица и вдруг увидел два знакомых, они промелькнули передо мной прошлый раз то ли на привале, то ли в пути. И вот этих юношей нет. Они погибли.
Но многие из тех, кого я знал раньше, продолжают борьбу. На одной из горных троп я встретил сопровождавшего нас два года назад бедуина Сайда с его неразлучной, отлично вычищенной винтовкой. Казалось, он еще больше высох. На его голове, подстриженной «под ноль», шрам от осколка. Он возвращался из госпиталя и снова шел с отрядом в зону боев. Все так же воинственно топорщились его колючие усы.
Другая встреча была совсем неожиданной.
Меня познакомили с Гудой в Бейруте за год до второй поездки в Дофар. Мой друг, ливанский студент, предложил мне:
— На нашем факультете учится одна дофарка, активистка Народного фронта. Хотите встретиться с ней?
— Буду рад.
Мы прошли по вечерней улице Хамра, где кафе со столиками, стоявшими прямо на тротуаре, были битком набиты нарядной публикой, а по мостовой бампер к бамперу шли машины, не включая фар — все заливал свет реклам, — свернули на улицу Жанны д"Арк и направились к американскому университету. Напротив него, в одном из снэк-баров за чашкой чая сидела худенькая, изящно одетая девушка. Она писала в блокноте математические формулы.
— Товарищ Гуда, — представил ее ливанец, и я ощутил энергичное пожатие маленькой руки.
— Почему вы вступили в Народный фронт? — спросил я Гуду, когда мы уселись к ней за столик.
Она ответила не сразу:
— ...Видите ли, когда я была еще подростком и жила в Салале, в семье довольно обеспеченной и счастливой, я увидела однажды, как стражники избивали провинившегося раба на глазах у его дочери. Тогда я решила посвятить свою жизнь борьбе против угнетения.
Скажу откровенно: в то время я ей не поверил, несмотря на ее серьезный тон, уж слишком хрупкой и изнеженной выглядела эта девушка.

...Утренний переход выдался особенно тяжелым для нашего отряда. Подошло к концу продовольствие, и накануне наш рацион состоял лишь из вареного риса и чая. Мы натощак поднимались на перевал, где не было источников воды, и бойцы к своей тяжелой выкладке добавили еще полные бурдюки. Дневали мы в тени скалы в каменистом пади и наслаждались ветерком. Вечерний переход показался уже легче, и мы еще засветло пришли к школе, о которой в освобожденных районах сочиняли стихи и слагали песни.
У портрета Ленина в почетном карауле замерли подростки, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. Мальчишки и девчонки в возрасте от 6 до 14 лет под звуки горна собрались на торжественную линейку. Их горящие глаза следили за тем, как на шест поднимается флаг Народного фронта. В центр площадки вышла... Гуда. На ней были брюки и солдатская гимнастерка, перепоясанная ремнем с тяжелым патронташем, за плечами винтовка.
— Что здесь делает Гуда? — спросил я Ахмеда.
— Товарищ Гуда — директор школы.
— Мы собрались сегодня, — начала девушка звонким голоском, — чтобы отметить день рождения великого вождя всех угнетенных, человека, имя которого стало знаменем борьбы, веры, надежды...
Она изменилась за этот год: еще больше похудела, посуровело и обострилось ее лицо. Но тихая и спокойная улыбка осталась все той же.
После линейки Гуда приветливо, как старых знакомых, встретила нас, угостила крепким чаем, провела по школе, познакомила со своими питомцами. Да, она бросила университет, чтобы перебраться в эти угрюмые, но дорогие ее сердцу горы. Зачем? Учить детей. В школе имени Ленина было 350 учеников — дети дофарских беженцев и солдат Народно-освободительной армии, рабов из Салала и кадровых работников Народного фронта.
Школа. При этом слове у нас возникают в памяти светлые классные комнаты и парты, лаборатории и спортивные залы. Два года назад в Далькуте «школа» с десятком-другим учеников располагалась на гальке пляжа. Сейчас на площадке, под деревьями с воздушными корнями, в тени нависших скал было разбито несколько продранных палаток. Их не хватало, и к ним пристроили пяток хижин, сложенных из сучьев. На солдатских одеялах спали, ели и учились дети. Зимой они дрожали от пронизывающего холода, в апреле — мае изнывали от жары, затем наступал сезон дождей и туманов, когда месяцами на ребятах не оставалось сухой нитки.
И все же это школа.
— Мы начинаем с того, что учим детей арабскому языку, так как в горах жители говорят на своих диалектах, — рассказывала Гуда. — Мы даем начальные представления об анатомии и физиологии человека, естествознании, математике, знакомим учеников со всемирной историей и географией, рассказываем о положении в зоне Персидского залива, о революционных движениях во всем мире. Мы хотим, чтобы дети оказались достойны современного мира и были готовы жить в новом обществе, основанном на социальной справедливости.
В школе всего три учителя. Ученики разбиты по звеньям и отрядам, они сами по очереди убирают жилища и территорию, носят воду в тяжелых бурдюках, собирают дрова, разжигают костры, чистят котлы, готовят пищу. Питание непритязательное — рис, немного томатной подливы, чай с ложкой сгущенки. Впрочем, это уже много значит для детей, которые раньше лишь изредка ели досыта.

— Ты привыкла к жизни здесь? — спросил я Гуду. — Тебе не трудно?
— Вскоре после приезда сюда я тяжело заболела от плохой воды. Товарищи отправили меня в Аден лечиться. Потом я привыкла к воде и плохо сваренному рису. Сначала мне было тяжело в горах, я тратила час на дорогу, которую другие преодолевали за пятнадцать минут. Давила плечо винтовка. Но я знала: так надо, и постепенно привыкла.
— Ты не жалеешь, что приехала сюда?
Гуда не успела ответить. Прозвучал пронзительный свисток. Лица детей на мгновение обратились к небу, затем все бросились врассыпную. Над горами навис рев самолетов. Дети уже знали, что самолеты означают смертельную опасность, что по сигналу тревоги надо прятаться в бомбоубежищах, замереть в скалах. Дети постарше были вооружены. Шла война, и здесь винтовки у них в руках воспринимались не как игрушки.
Когда самолеты улетели, Гуда ответила на мой вопрос:
— Нет, я не жалею. Вся моя жизнь в этих детях. Пусть они победят. В них мое счастье.
На следующий день рано утром мы снова отправились в путь. Мы собирались посетить Главную военно-тренировочную базу Народного фронта, которую называли «Лагерем революции». Он был расположен сравнительно недалеко от школы, и Гуда отпустила с нашим отрядом нескольких вооруженных подростков. Они повели нас кратчайшим путем по своим ребячьим тропам, и нам приходилось сгибаться в три погибели, чтобы пролезть под низкими ветвями колючих деревьев или под нависающими скалами.
Через несколько часов мы выбрались на каменистый склон, поросший жалкими агавами и мелким кустарником. Раздавались отрывистые команды. Юноши и девушки в форме делали обманные движений) били прикладом невидимого противника, кололи штыком, поворачивались и снова наносили удары.
Солнце палило, в тени было за сорок. Занятия, видимо, шли давно. Измученные лица курсантов посерели от пыли и обострились, но никто не высказывал ни малейшей жалобы.
Вскоре инструктор объявил перерыв, и курсанты с веселыми криками, совсем как мальчишки и девчонки в школе на перемене, побежали взапуски к ближайшей лужице с тепловатой, протухшей водой.
Через полчаса мы были в лагере. В сухой сезон дофарцы не нуждаются в палатках, и курсанты и командиры расположились прямо под довольно густыми кронами низкорослых деревьев, сохранивших маленькие жесткие листья. Серые одеяла, серые мешки, защитный цвет одежды делали лагерь неразличимым с воздуха. Рядом, метрах в ста, в овраге на кустах висели влажные бурдюки, в шалашике хранилось продовольствие, а на камнях стояло несколько котлов — здесь была кухня.
В «Лагере революции» половину курсантов составляли девушки. Они несли равную нагрузку с юношами и проходили вместе с ними военную подготовку, учились грамоте, посещали политические занятия, работали на кухне. Сейчас, к вечеру, умытые, отдохнувшие, посвежевшие, они хлопотали у кипящих котлов или жарили на сковородках, намазанных козьим жиром, толстые блины-лепешки. Волосы у них подстрижены коротко, по-мужски, одеты они в грубую мешковатую форму, не расстаются с винтовками, но грациозность и изящество сквозили в каждом их движении.
Я попросил разрешения сфотографировать одну из них.
— Товарищ Марьям, — представил мне ее Ахмед.
Девушка крепко, смело, нисколько не смущаясь, пожала протянутую руку.
— Марьям, ты могла бы стать кинозвездой, — пошутил я.
— Кинозвезда? А что это такое?
— Товарищ Марьям, как и другие курсанты, никогда не видела кино, — сказал Ахмед строго. — Если они звезды, то они горящие звезды революции, — добавил он несколько высокопарно.
— Вы все носите короткие прически, потому что вам так нравится или это революционный стиль? — обратился я к девушке.
— Нет, просто... так гигиеничнее. В походах не хватает воды. Короткие волосы легче вымыть.
— Марьям, я слышал, что девушки-курсантки собираются выйти замуж только после Победы, а ты как?
Девушка смутилась.
— Нет... Не знаю... Почему же?..
Вечером после ужина ко мне подошел Ахмед:
— Товарищ Алексей, приглашаем тебя на политзанятия, послушаешь.
— Что за тема?
— Положение женщины в обществе...
— О, ты, как я посмотрю, что-то начал увлекаться женским вопросом.
— Не иронизируй. Для нас это очень важное дело. В горах среди местного населения женщин большинство. Ведь мужчины, парни сражаются на фронте. Женщины здесь наша опора.
В полной темноте на поляне расселись курсанты — юноши и девушки, образовав большой круг. Их не было видно, только мерцали огоньки сигарет. Тот, кто хотел прикурить, накрывал голову плащ-палаткой или платком, чтобы собрание не засекли с воздуха.
— Во имя революции, во имя жертв революции, — произнес в тишине ночи Ахмед и на мгновение замолк.
Я не буду пересказывать то, о чем говорил Ахмед, что обсуждали юноши и девушки. Важно было, кто и под каким небом произносил слова «раскрепощение женщины», «эксплуатация человека человеком», «равенство мужчин и женщин», важно было, с какой страстной верой и горячностью говорили об этом курсанты, которые еще вчера жили в средневековье.
А. Васильев
(обратно)
Стратегия вмешательства
 Что значит — «найти свое дело»? Географ мечтает об институте гармонии человека и природы.
История с географией
Что значит — «найти свое дело»? Географ мечтает об институте гармонии человека и природы.
История с географией
Право, я не знаю, о чем вам рассказать. Все, что мы с Кириллом делаем, пока дает скорей отрицательные результаты...
Алексей Ретеюм несколько смущен, и это понятно: еще вчера их работами интересовались лишь коллеги. И вот постановление Бюро ЦК ВЛКСМ о присвоении ему и его другу Кириллу Дьяконову премии Ленинского комсомола за «Исследование изменений географической среды под влиянием речных гидротехнических сооружений», всесоюзный резонанс, внимание прессы. А он недавний выпускник, еще и сейчас похожий скорей на студента, чем на научного работника.
— Как бы вам все это объяснить?.. — продолжает он. — Простите, у вас есть другая профессия, кроме журналистской?
Узнав, что я гидротехник, кончал строительный институт, Алексей оживляется.
— Вот-вот, встречаете бывших однокашников, и они рассказывают: перекрывал Ангару, строил Красноярскую ГЭС. А я географ. Мы с Кириллом изучаем, как водохранилища влияют на климат, на леса, вообще на жизнь вокруг них. А теперь представьте: ваши коллеги проектируют новую ГЭС, тратят на это годы, уже прикидывают, сколько миллионов киловатт получит народное хозяйство. А мы проводим экспедиции, тоже тратим годы и доказываем: строить эту ГЭС нельзя, иначе будет нанесен непоправимый ущерб природе и убыток перевесит выгоду. Допустим, с нами, географами, соглашаются, проект не воплощают в жизнь. Что же мы получаем в итоге?..
С другом Ретеюма Кириллом Дьяконовым я встретился на кафедре географического факультета МГУ, где он преподает и ведет научную работу. Он только что вернулся из Западной Сибири. Тысячи километров пролетел над тайгой, увидел огромный нефтяной край в местах, где лишь недавно впервые ступила нога человека. И хотя подвиг нефтяников Тюмени и Самотлора не мог не вызвать у него восторга, он заметил и иное: линии электропередачи порой ведут через здоровый лес, хотя можно было его обойти по болотам, гибнет от нефти рыба в Оби.
Говорят: лес рубят — щепки летят. Так вот географ на первый взгляд интересуется этими щепками. Сейчас Дьяконов работает над важнейшей темой: «Прогнозирование развития природной среды на 2000 год под влиянием человека». Он уверен: нефть нужно добывать так, как это делают на Самотлоре, заботясь о том, чтобы после разработки не осталась пустыня. Но кое-кто считает, что географы говорят «под руку».
Пытаюсь разобраться, почему так происходит. После известных постановлений правительства об охране природы географы стали полноправными участниками всех крупных проектов — и переброски вод северных рек, и строительства гидростанций, и освоения нефтяных районов. Комплексный подход к проблемам — веление времени.
Появилась новая, конструктивная география, изучающая влияние хозяйственной деятельности человека на природу. За специалистами этой области знания теперь последнее слово в проектах преобразования окружающей среды. География из Золушки становится принцессой. Но географы нет-нет да вспомнят: очень долго она ходила в Золушках.
Кирилл и Алексей поступили на географический факультет МГУ, когда никаких сказочных преобразований в судьбе этой науки еще не предвиделось. Был конец пятидесятых годов. Стартовали первые спутники, в строй входили атомные электростанции. Абитуриенты мечтали об атоме, грезили космосом, штурмовали физические и авиационные институты. На этом фоне успехи географии выглядели скромно — давно минула пора открытия новых земель, с карты исчезали последние «белые пятна». Что же привлекло к ней тогда Кирилла и Алексея?
Ретеюм отвечает: для него вопрос решился просто — семейная традиция. Мать биолог, отец окончил географический факультет, потом занялся геологией. Алексей детство провел на Памире, увлекался ихтиологией, экспедиционный быт знал не понаслышке. На столе его с детства лежал солидный географический труд, переведенный отцом.
А Кирилл... Что привело его сюда, на 18-й этаж МГУ, где сотни преподавателей и студентов занимаются «описанием Земли»? Он отвечает: случай. Мне кажется, это не совсем так.
И родители и родственники у него — инженеры, преподаватели технических вузов. Они звали его в свою отрасль знания. А в нем сидел какой-то бес противоречия: свою жизнь он решил строить сам, как говорится, без подражаний. Вспоминался школьный географ, который влюбил его в эту древнюю науку, показал ее неброскую красоту. Однако Кирилл решил пойти на геологоразведочный. И вот здесь в его судьбу действительно вмешалась случайность.
В геологоразведочном институте его встретили прохладно. Пытались отговорить от трудной и модной тогда профессии. Боялись, что придут в институт случайные люди. Тогда Кирилл решил поменять не профессию, а вуз. Так он приехал в Московский университет. Но до геологического факультета не доехал. Лифт случайно завез его на 18-й этаж, к географам. Здесь его встретили приветливо, сказали, что после окончания факультета его ждут экспедиции, намекнули на перспективы географии, на ее грядущую молодость — Золушка уже примеряла туфельки принцессы, — и он остался там.
Много ли студенту нужно?
Многое значит престиж профессии. Мой приятель — хороший шекспировед — стесняется говорить о своей работе, чтобы не вызвать тривиальный, болезненный для специалиста вопрос: «А был ли Шекспир?»
Если бы я встретил Кирилла и Алексея перед поступлением в МГУ, то отсоветовал бы им идти на географический. Нас, гидротехников, учили, что страна наша сказочно богата и водой, и землей, и лесами, пользуйся — все равно еще много останется. А географы уже тогда (правда, робко) поговаривали о вреде, который порой наносит природе зарегулирование рек. И кое-кому из моих коллег радетели природы представлялись оторванными от жизни чудаками, чем-то вроде жюль-верновского Паганеля.
Но и география географии рознь. На естественных факультетах МГУ Дьяконова и Ретеюма ждало немало соблазнов. Ну в самом деле, зачем посвящать жизнь каким-то водохранилищам, если можно заняться океаном? Ведь вот они рядом, знаменитые океанологи Л. А. Зенкевич и В. Г. Богоров, известные путешественники и ученые, которые плавали еще на легендарном «Персее» в начале двадцатых и бороздили океан на «Витязе» в середине шестидесятых. Как могли два юноши, мечтающие о больших делах, не увлечься океаном, не попасть в «зону притяжения» известных океанологов? Так вот поди ж ты, не попали!
Алексей и Кирилл объясняют это по-разному. Кирилл говорит, что на океанологию шли в основном бывшие матросы, и Кириллу не хотелось оказаться среди «морских волков». Алексей добавляет: не нравилась зоология, уж очень, мол, там «архаичное» классифицирование.
Так ли это? Кирилл, похоже, неробкого десятка, увлекается спортом, да и ростом не обижен. Алексей же и тогда был увлечен ихтиологией, разделом все той же «архаичной» зоологии.
Мне кажется, дело в другом. Они уже тогда интуитивно понимали: дело не в величине объекта, который ты изучаешь, а в поставленной перед собой цели. И еще: к делу жизни должна лежать твоя душа. И они искали это дело.
Говорят, что главное для студента — учиться. Что ж, не спорю, знания важны. Но если еще в институте человек не нашел себя, то диплом получит не специалист, готовый «творить, выдумывать, пробовать», а холодный сапожник.
Кирилл и Алексей искали свое дело. И еще они искали друг друга. Второе может показаться странным: учились в одной группе два неплохих парня, вместе еще на первом курсе работали по вечерам на кирпичном заводе, встречались на лекциях, семинарах, комсомольских собраниях, а по-настоящему подружились только на последнем курсе. А может, не странно? Каждый из них еще не нашел себя, как же было ему найти другого? Объединяет дело...
После третьего курса Дьяконов и Ретеюм поехали на практику в Забайкалье. Не вместе — врозь: не было у них тогда общего дела.
Алексей работал в горах, занимался гидрологией — изучал режим рек и ледников. В общем, обычная студенческая практика. Только на материале Забайкалья он опубликовал свою первую научную работу, на которую географы ссылаются и до сих пор.
А Кирилл? Он работал в производственной организации. Не просто практика — работа. Отряд — десятки рабочих, крепких, напористых. Жесткий план: нанести на карту столько-то квадратных километров непроходимой тайги, болот. И он начальник партии. А быть начальником — значит отвечать за все, делать то, чему не учили в университете. То кто-то пропил аванс и не на что его кормить, то другой не полез в топь и контур нанес на глазок. А начальник отвечай, выкручивайся как можешь.
Кирилл понимал: в экспедиции всякое бывает, но ему, географу, это было не по душе. Он наслаждался в часы аэрофотосъемки. Нравилось смотреть на землю с высоты. И хотя основная работа забирала почти все время, у него уже, видимо, вырабатывался географический подход к ландшафту: не просто зарисовать леса, поля, озера, а объяснить, почему здесь все так, а не иначе.
Все-таки со смешанным чувством он возвращался домой. Позади четыре с половиной месяца ежедневного, изнуряющего труда. («Выдержал, значит могу — здорово!») Но удовлетворения от работы он не испытывал. А впереди последние два года, Пора зрелости для студента, диплом. Нужно выбирать себе дело. Но какое оно?
Однажды на заседание научного кружка пришел профессор Семен Леонидович Вендров. Он сообщил: в Институте географии АН СССР организуется экспедиция на Рыбинское водохранилище, желающие могут записаться. Кирилл и Алексей заинтересовались, и Семен Леонидович стал объяснять, какая это проблема — искусственные водоемы. Ведь Волга уже превратилась в цепочку озер, начинается преобразование великих сибирских рек — Оби, Енисея, Лены. Но как все это отразится на окружающей среде? Неизвестно. Не то чтобы географов не интересовали такие вопросы. Просто, когда водохранилищ было немного, подобная проблема не была еще актуальной. Зато сейчас...
Нельзя сказать, что они сразу почувствовали — вот она, их тема. Да и не хотелось им тогда заниматься водохранилищами: новая область знаний, нет своих авторитетов — у кого учиться? Но, с другой стороны, новая область — свобода действий, никакой тебе мелочной опеки (Вендров отпускал их одних на Рыбинское море). А учиться? Тот же профессор С. Л. Вендров крупный ученый, и вместе с тем за его спиной двадцать лет практической работы — на производстве, в проектных организациях, министерстве.
Ребята поверили профессору. Потом они поверили в себя. Так они шагнули в ту единственную, свою тему, которая не только стала их целью, но и сделала их самих друзьями.
 Пришел, увидел, описал?..
Пришел, увидел, описал?..
Лето в тот год выдалось на славу — солнечное, ровное. Студенты других факультетов завидовали географам: вот уж у кого не практика — курорт, все время на берегу Рыбинского моря, купайся — не хочу. И Кириллу, хорошо помнящему походы по Забайкалью, Дарвинский заповедник на Рыбинском водохранилище показался местом тихого отдыха. В отряде не рабочие — студенты, у группы свой грузовик, руководитель Иван Долгушин, хоть и преподаватель, но больше товарищ (почти ровесник). О чем еще мечтать студенту?
Уже тогда Рыбинское водохранилище было чуть ли не самым изученным водоемом в мире. А там, где выполнены сотни работ, нетрудно сделать еще десяток. В общем, материала на его берегах хватило бы не на одну дипломную работу. Так что ж, за работу? А там еще останутся дни позагорать, отдохнуть...
Но в жизнь отряда и Дьяконов и Ретеюм входили тяжело. Что-то их не устраивало, нет, не на водохранилище — в самой науке. В те годы география была еще описательной дисциплиной. Не только студенты, научные работники выезжали, чтобы, к примеру, описать какой-то район, хребет, провести «инвентаризацию».
В то время географы изучали в основном чаши искусственных морей — это нужно было для энергетики и водоснабжения. С появлением крупных водохранилищ внимание ученых сосредоточилось на берегах: большие волны «грызли» побережья, угрожали домам и дорогам. Но почти никого не интересовало, что происходит там, за береговой чертой, как влияет новый бассейн, к примеру, на климат. Авторитеты пожимали плечами: что здесь изучать, водохранилище не море.
Дьяконов и Ретеюм решили проверить «очевидное»: поставили метеоприборы в створе у берега, провели наблюдения.
Однако здесь их ожидало самое трудное. За изменением климата наблюдают годами, десятилетиями, а в их распоряжении всего один сезон. Так что же, отступить?
Говорят, исследователя характеризует не сам объект его изучения, а методы, которые он при этом применяет. Недостаток времени — беда многих естествоиспытателей. Искусство состоит в том, чтобы спрессовать и обуздать время. Астроном не может ждать миллионы лет, чтобы проследить эволюцию звезды, он делает вывод, изучая старые и молодые звезды. А географ? Ему на первый взгляд проще: рождается водохранилище — можно наблюдать за изменениями в окружающей среде. А если раньше таких наблюдений не было? Что с чем тогда сравнивать? Время не повернешь вспять. Так как же реконструировать прошлое?
Свои наблюдения — хорошо. Но ведь можно получить новые сведения, если иначе обработать то, что сделали другие. Дьяконов и Ретеюм взяли многолетние показания рыбинских метеостанций, которые наверняка не испытывали влияния водоема, так далеко были расположены. А проведя сравнение, определили, что же нового принесло в климат окружающих мест Рыбинское водохранилище: примерно в десятикилометровой зоне у берегов он сделался более морским.
Но климат — это еще не все: водоем подтопил леса у берегов. Работы по лесу проводил Дьяконов. Здесь он вместе с Ретеюмом применил «метод эргодичности». (Они говорят: «Мы, пожалуй, этот метод впервые осознали».) На научном языке он формулируется так: «Если два географических события могут следовать друг за другом, то они в виде пространственных фаз должны иметь общую границу». В переводе на обыденный язык это означает примерно вот что: ничего в природе не происходит бесследно, все оставляет свой след в почве, зеленом покрове. Только нужно эти «записи» найти и расшифровать.
А было это совсем непросто. Вокруг водохранилища верховые болота. Вот и решай тут, что же, водоем или болото, подтопило округу? Непросто ответить, и как подтопление отразилось на деревьях. Одни породы — осины, березы, сосны — стоят на берегу с пожелтевшими кронами, другие — ивы, например, — процветают и в воде за сотни метров от берега.
Дьяконов и Ретеюм выбрали профили-створы, идущие от водоема в глубь суши. И начался скрупулезный подсчет — трав, деревьев, животных. Они видели, как вода оттесняет жизнь, прогоняет кислород от корней растений, обрекая деревья на гибель. Но почему же иные из них все же процветают? И здесь Дьяконов нашел ответ: исключения только подтверждают правило; для тех растений, что страдали от недостатка воды, подтопление стало благом. Природа не любит отвечать «да» или «нет», между ее явлениями существуют сложные связи.
Когда Ретеюм и Дьяконов защитили дипломы, профессор Вендров предложил их работу напечатать. В Институт географии АН СССР начинающие стажеры-исследователи (тогда только ввели эту должность) пришли с неплохим научным багажом. Но это не были люди, довольные собой. То, что они сделали, тоже было «инвентаризацией»: изменить влияние Рыбинского моря на среду никто уже не мог.
Значит, просто фиксировать события, описывать то, что уже свершилось, не в силах ни предсказать события, ни тем более их изменить? К этому ли они стремились?
Чтобы природа не предъявила счет
В их статье о Рыбинском водоеме меня заинтересовали сноски. На первый взгляд авторы переходят границы темы: их интересует переброска вод Печоры и Оби, искусственные моря, которые только еще должны были появиться на карте. Зачем, для чего? Оказывается, Рыбинское водохранилище для них лишь модель, прообраз будущих северных водоемов. Вот зачем они сравнивают его,
например, с Ладожским озером: им хочется по двум точкам нащупать кривую влияния водохранилищ на природу.
В. Г. Белинский писал: мы вопрошаем прошлое, чтобы оно объяснило настоящее и намекнуло о грядущем. Люди хотят знать, что принесет им будущее, приблизить желаемое.
Институт географии, где работали Дьяконов и Ретеюм, был весь устремлен в будущее. Грандиозные планы преобразования природы, о которых мечтали десятилетиями, вот-вот должны были начать воплощаться в жизнь. И страна спрашивала географов: а не вызовут ли новые водохранилища каких-либо необратимых последствий для лесов и полей, для рыбного хозяйства и главным образом для населения затопляемых районов?..
Ответить на этот вопрос поручили в том числе Дьяконову и Ретеюму. Им повезло: их только что сформированный отдел состоял из молодых людей. А его руководитель, профессор Геллер, требовал, чтобы они проявляли инициативу. Так, двое выпускников МГУ были посланы на «очень динамичный объект» — изучать возможные последствия создания Обского моря.
Поезд шел на север, в Салехард, а перед их глазами все еще была Москва, бесконечные совещания и споры в Гидропроекте и у себя в институте. Гидротехники предложили невиданный, грандиозный проект: перегородить плотиной могучую Обь недалеко от устья, построить ГЭС, вдвое, втрое превосходящую по мощности знаменитые волжские гиганты. В европейскую энергосистему СССР влилась бы мощная сибирская река электрического тока. Однако при этом на Западно-Сибирской низменности появилось бы тысячекилометровое, без всяких кавычек, море, во много раз больше искусственных водоемов на Волге и Днепре.
Проектировщики говорили: все равно Западная Сибирь — царство болот, а чем море хуже топи? К тому же ни крупных селений, ни городов, ни железных дорог перемещать из зоны затопления не придется — их там просто нет. Правда, придется вырубить огромные площади леса. Но ведь предлагается не обычный, а грандиозный проект. Игра стоит свеч.
Дьяконов и Ретеюм работали на Оби два года. Плавали по ней на моторке, летали над ней на самолете, обходили пешком ее берега — ставили приборы, изучали климат, леса, жизнь зверей и рыб. Нет, это только издали и на первый, поверхностный взгляд Западная Сибирь может показаться сплошным болотом, пустыней.
Возвратившись в Москву, они написали, что Обское море создавать нельзя. Девять месяцев оно будет сковано льдом, и это равносильно для климата Западной Сибири тому, как если бы Северный Ледовитый океан продвинулся на сотни километров к югу. А леса? Миллионы гектаров погибнут под водой будущего моря. А зона подтопления окажется еще больше! Нет, вырубить столько древесины, если вокруг бездорожье, болота, — это фантастика. А рыба? Море зальет мелководье — «рыбьи столовые». Даже судоходство не получит того, что ему обещают, дорогу кораблям могут преградить «вспышки» — поднявшиеся со дна огромные торфяные поля.
В разгар борьбы и спора у географов и биологов появились мощные союзники — нефтяники. В недрах Западной Сибири было обнаружено целое море нефти. Так неужели залить его морем воды? Не лучше ли строить ТЭЦ, а не перегораживать Обь?
Доводы географов и нефтяников перевесили. Правда, проект Нижне-Обской ГЭС еще не до конца опровергнут (предлагают создать другое, более скромное по размерам водохранилище). Но, похоже, в Западной Сибири строят без учета того, что селения и нефтяные вышки когда-либо окажутся под водой. Пожалуй, именно при обсуждении проекта Нижне-Обской ГЭС голос географов прозвучал в полную силу.
И все-таки трудная должность быть защитником природы. Ведь географам далеко не безразлично, будет ли в стране обилие электроэнергии или нет. Но они впередсмотрящие, именно им приходится отвечать, во что обойдется стране это обилие... И думать о том, как помочь создать обилие таким образом, чтобы потом люди не хватались за голову и не ругали на чем свет стоит своих отцов.
О проекте переброски вод Печоры и Вычегды в бассейн Волги им рассказывали еще в школе. Станет полноводным усыхающий Каспий. Получит воду засушливое Приволжье. Корабли пойдут из Баренцева моря в Каспийское. Северная вода на славу поработает в турбинах волжского каскада. Однако не обмелеет ли при этом Печора? И это предусмотрели гидротехники: в ее устье было решено построить плотину и мощную Усть-Ижемскую ГЭС.
...Дьяконова и Ретеюма встретило торопливое северное лето. В мае на Печоре еще был лед, в июне выпал последний снег. Но зато как быстро здесь все расцвело: там, где, кажется, лишь вчера ловил рыбу, на заливном лугу трава по пояс. Пойма — оазис в холодной пустыне. Здесь более мягкий климат, хорошие условия для животноводства. Население в основном живет поймой.
Но, может быть, Усть-Ижемская ГЭС не так уж много изменит? Исследования Дьяконова и Ретеюма показали — много. Более суровым станет климат, а здесь важен каждый градус тепла в недолгое лето. Тундра пойдет на юг, северная граница ржи отступит. Будут залиты и луга в пойме, и леса, и пастбища для оленей. Погибнет уникальное, самое крупное на Земле семговое стадо, вымрет ряпушка в Усе. Пострадает и рыболовство в Баренцевом море. Печора выносит туда теплые воды, ил — все это необходимо для трески, наваги, а плотина отсечет животворный ток.
Против Усть-Ижемской ГЭС они выступили резко и бескомпромиссно. Но критика их была позитивной. Они предложили выход из положения: строить плотину не в устье, а в верховьях. Меньше будет энергии? Зато Северу не будет нанесен непоправимый вред. Что же касается воды, то ею он действительно может поделиться с югом: только качать ее лучше по трубам. Так уже поступают на Иваньковском водохранилище при снабжении водой Москвы. Видимо, и в других местах этому способу принадлежит будущее. Энергия за счет напора воды — это привычно. Но вода, перебрасываемая за счет энергии... Новое всегда непривычно.
«Давайте все поставим на глобус!»
Что бы ни делал географ, он держит в памяти земной шар. В любом клочке Земли, как солнце в капле, отражается вся планета. Н. И. Вавилов любил повторять: «А теперь давайте все поставим на глобус!» — то есть посмотрим на ту же проблему в планетарном масштабе.
Лет семь назад в Московском университете появился не совсем обычный студент. Алексей Ретеюм уже окончил один факультет, теперь он поступил на другой — биологический. Быть может, он хотел поменять специальность? Разумеется, нет. Не хватало для работы знаний? Нет, географический дает очень солидную подготовку, в том числе общебиологическую. По-новому осмысливал материал для диссертации? Но через два года на студенческой скамье сидел уже кандидат наук Ретеюм.
Зачем, для чего? Обычно людям хватает и одного факультета, тем более в столичном вузе.
Мы как-то разговорились, о чем мечтает географ. Оказывается, об абсолютно новом институте геотехники, где намечались бы планы планетной хирургии — преобразования природы, но с полным учетом всех ее внутренних связей. Институт гармонии человека и природы. Планетная хирургия, как и обычная медицина, будет лечить, а не убивать.
Так вот, набрали мы в институт и биологов, и математиков, и кибернетиков с электронно-вычислительными машинами. Алексей забеспокоился: а что будут делать в таком институте географы? Не то чтобы он сомневался в руководящей здесь роли своей отрасли знаний, но, видимо, ему хотелось знать то же, что знает каждый из сотрудников подобного института. Иначе современному географу нельзя. Если он не владеет обширным комплексом знаний, не находится в курсе достижений и методов биологии, математики, инженерии, то он не может комплексно мыслить, уверенно просчитывать последствия вмешательства человека в дела природы.
Мне говорили: Алексей фантазер, мечтатель, увлекается теорией. И в самом деле, его влечет к обобщениям — есть у него, к примеру, статья с красноречивым названием «Об одной закономерности обмена химическими элементами и энергией между природой и обществом». А мне виделось иное: каждая его работа существует не сама по себе, а как деталь общего взгляда на природу. Он каждую проблему пытается изучить досконально (для этого и нужен был биофак), чтобы потом все «поставить на глобус». Ведь еще А. Гумбольдт говорил: география — комплексная наука...
О Кирилле Дьяконове я слышал иное: трезвый практик, двумя ногами стоит на земле. И это, вообще говоря, верно: нередко его статьи заканчиваются практическим советом, важным для лесного хозяйства. Но пусть не представляется вам узкий специалист, ничего не видящий за своими лесами. Он тоже держит в памяти земной шар.
Кирилл побывал в нескольких странах, но больше всего по сердцу пришлась ему Монголия. И не потому, что другие страны хуже, но там ему показывали только города, а здесь пустыню, реки, дальние аймаки. Он увидел почти девственную землю — таких уже немного на Земле — и с новой силой ощутил задачу, поставленную перед географами В. А. Обручевым: не просто изучать ландшафт, а выяснить, почему он сложился так, а не иначе. Не покой — статика, а движение — динамика. Видеть все в процессе развития.
Кирилл говорил мне, что ищет для своих студентов почти не тронутый человеком клочок Земли, где можно было бы по-настоящему обучать их географии. Мечтатель он, этот Дьяконов. А впрочем, нет, все-таки практик. Он ведь не просто радеет за природу, он ее защищает. Трезво, во всеоружии знаний — ради самой природы и ради человека, ибо отделить человека от природы нельзя, невозможно.
...Нью-Йорк, ООН. В стеклянном небоскребе собрались молодые географы, биологи, инженеры. Их цель — выработать рекомендации по охране окружающей среды. Председателем секции «Человек и природа» избирается представитель Советского Союза, посланец комсомола Кирилл Дьяконов.
На сцену поднимаются представители разных стран. На экране сменяются кадры: испакощенные берега Рейна, пляжи Англии в мазуте от затонувшего танкера «Торри каньон», радужные пленки нефти, плывущие даже в самых глухих уголках Атлантики. Смрадная тень загрязнения нависла над планетой.
Вновь и вновь председатель настойчиво задает аудитории вопрос: кто же виноват?
Далеко не у всех есть желание поворачивать разговор в это русло. «Мы не философы, социологи, политики, а специалисты; давайте обсуждать профессиональные вопросы. И вообще: разве автомобиль простого Джона меньше загрязняет среду, чем автомобиль мистера Форда?»
Но уйти от разговора не удается. Ученые разных стран приводят точные факты: заводы, извергающие серные газы, неочищенные отходы, танкеры, сбрасывающие в море нефтяные отбросы, — всюду монополии экономят на очистке.
Комиссия под председательством Кирилла Дьяконова осудила империализм за отравление окружающей среды.
Отсюда, из Нью-Йорка, Кирилл по-новому увидел свою страну, по-новому оценил те споры, которые он и Алексей вели с проектировщиками гидроэлектростанций. Да, порой они спорили горячо, резко, казалось бы, непримиримо. Но как бы ни расходились взгляды, все они защищали интересы общества, не думая о денежной корысти, личной финансовой выгоде. А вот здесь за всем стояли деньги. Огромная личная выгода. Культ денег — Кирилл, конечно, об этом читал и слышал. Но другое дело увидеть, как случайный прохожий любовно разглаживает доллар, как сдачу в магазине подают с поклоном, чуть ли не на золотом подносе. И когда дело касается охраны природы, то за всем крутятся незримые колесики арифмометра: выгодно-невыгодно, кому выгодно или невыгодно, насколько... Чистый воздух, леса, изумительные пейзажи, прозрачные реки — все дебит-кредит. Убытки-прибыли, прибыли-убытки... Здоровье людей, их будущее — все рассматривается сквозь призму прибыли. Есть, конечно, и бескорыстные гуманисты, и честные ученые, и благородные порывы общественности. Но тон задает бизнес.
Полет из Нью-Йорка в Москву занял всего десяток часов. И тут Кирилл уже не умом, а сердцем понял, как же мала наша планета, как нужно сохранить ее голубой и зеленой, чтобы было на ней вволю земли, воды, воздуха, чтобы досталось и нам, и правнукам... И как трудно это.
Говорят, название «география» устарело: в переводе оно означает «описание Земли». Сегодня, сейчас эта наука все больше изучает, как человек переделывает — как он должен переделывать — свою планету. Но как бы ни менялось содержание, древняя география остается наукой о Земле.
Александр Харьковский
(обратно)
Бой с сабало

Приближался день моего отъезда из Гаваны. Нанося прощальные визиты своим кубинским друзьям и знакомым, я заехал к приятелю, детскому врачу, и застал его в гараже, где у него была настоящая слесарная мастерская. Доктор любил делать все сам, своими руками. Но больше всего он гордился подводными ружьями уникальной конструкции.
Среди ружей, которые показывал доктор, были арбалет с тремя парами резиновых тяжей, пружинный карабин, разное оружие газового боя.
— Самое мощное ружье, — пояснил доктор, — работает на сжатом углекислом газе. Он нагнетается вот в этот баллон. Ружье очень легко управляется. Давление в боевой камере порядка тысячи фунтов. Это дает высокую начальную скорость двухфунтовой металлической стреле и могучую убойную силу.
— Красиво, но ведь только для музея! Практически никакого применения, — сказал я.
Мой друг посмотрел на меня «докторским» взглядом. Я понял, что сказал не то:
— На акул разве только?..
— Нет, не только на акул. Хочешь попробовать?
Я задумался. Шуточное ли дело: почти килограммовая стрела с потенциальной возможностью поражения цели в радиусе 10 метров. С таким ружьем на барабулю не пойдешь. Словно сознательно подгоняя ход моих мыслей, доктор сказал:
— Я бы не хотел, чтобы об этом проведал мой сын. Я его на эту охоту не беру.
— Это так... — я осекся на слове и закончил фразу с уже деланной улыбкой, — так занимательно?
— Увидишь сам. Посиди здесь, пока я отпущу последнего больного, почитай что-нибудь. — И доктор вышел.
В мастерскую доктор вернулся со словами:
— Пойдешь со мной охотиться у входа в порт?
— Так ведь там совершенно ровное дно, сплошной ил и грязь.
— У бакенов есть банки. Глубина десять-двадцать метров, не больше. В это время года там гуляют...
— Акулы. Круглый год они там гуляют.
— Нет, не акулы. Поинтереснее — сабало.
Мне приходилось встречаться с этой сильной рыбой. У нее красивое серебристое тело и отвратительное рыло, но, признаться, среди моих трофеев сабало не было.
— Хочешь проверить, охотник ли ты, приглашай друга поопытнее да посмелее и, если надумаешь, звони в пятницу.
В тот же вечер я договорился по телефону с одним знакомым. Доминго Альфонсо пришел от предложения доктора в восторг, а я принялся разыскивать по разным книгам сведения о рыбе, с которой предстояло встретиться в столь опасном месте, как вход в Гаванскую гавань.

Сабало, тарпон, silverfish, silverking, или атлантический тарпун, относится к отряду сельдеобразных. Эта смелая, уверенная в своей неуязвимости пелагическая рыба одета, как средневековый рыцарь в кольчугу, в крупную и чрезвычайно крепкую чешую. Добывать ее в открытом море решаются лишь опытные охотники.
У места предполагаемого поиска сабало, примерно в кабельтове от маяка Эль-Морро, стояла самоходная баржа, которая по вечерам вывозит в открытое море городской мусор, а рядом небольшое греческое торговое судно. Закрепив лодку за якорную цепь баржи, мы принялись готовиться к выходу в воду. Альбертико, сын доктора, конечно, проведал об охоте. Он заметно нервничал и поминутно проверял, все ли в порядке в акваланге, который мы захватили на всякий случай по его настоянию. Ему было разрешено идти в воду с аквалангом только в том случае, если с нами что-нибудь приключится. Матросы, особенно на «торговце», высыпали на палубы. Их загорелые, дубленные морской солью лица выражали недоумение. С баржи крикнули, что всего четверть часа назад вокруг рыскали акулы.
Мне было немного не по себе. Нахлынула знакомая каждому спортсмену тревога оттого, что предстояло идти в воду с чужим, мною не опробованным ружьем и встретиться с серьезным противником.
Доминго Альфонсо был готов первым и терпеливо ждал нас с доктором. Мы принайтовили к ружьям особенно крепкие концы в 25 метров, а к ним вместо обычных поплавков спасательные круги. Главная задача каждого состояла в том, чтобы ни за что не выпустить из рук ружья, так как легко раненный сабало в состоянии утащить ружье даже с таким тяжелым поплавком, как круг, далеко в море.
Мутная, зеленовато-оранжевая вода и совершенно безжизненный, словно в пустыне, пейзаж окружили нас, как только мы оставили лодку. Дно просматривалось в глубине волнистой, покрытой илом поверхностью. Вокруг никого. Ведущим был доктор, а мы, как два «ястребка», по бокам и чуть сзади следовали за ним.
Встреча произошла неожиданно. Из дымки, как эскадрилья из облаков, прямо на нас выскочила стайка в пять серебристых рыб. Самая мелкая, должно быть, весила килограммов четырнадцать. Первым выбрал цель, изготовился и выстрелил Доминго Альфонсо: он нырнул, и тут же под водой прозвучал резкий оглушительный звук. Из дула ружья, с силой вытолкнув стрелу, белым атомным грибом вырвался газ. Сабало метнулся в сторону серебристым лучом прожектора, а стрела толщиной с мизинец, ударившаяся о его тело, изогнулась, как от удара о железобетон, и стала падать на дно.
Я выбрал жертву поменьше, норовя выстрелить в угон, чтобы гарпун без труда проник под чешую. Однако в момент выстрела рыба повернулась боком. В ушах зазвенело, в лицо ударила волна. Я вцепился обеими руками в ружье, ожидая рывка. Но повторилась история с Доминго Альфонсо, с той разницей, что на месте, где только что находилась рыба, планировали, как осенние листья, несколько крупных ромбовидных чешуи. Стрела, однако, не согнулась.

Не успел я разобраться, что же произошло, как рыба, в которую я только что стрелял, подошла ко мне и с необъяснимым интересом, слегка приоткрыв жуткую свою пасть, принялась рассматривать меня. По телу побежали мурашки. Подтягивая стрелу, я поплыл навстречу рыбе. Она с еще большим удивлением, но абсолютно без всякой поспешности, вразвалочку отошла. Показалось, что в ее огромных, круглых, как кофейные блюдечки, глазах я прочел вопрос: «Что за странное животное с двумя хвостами выпускает изо рта пузыри и на расстоянии делает больно?»
Рядом раздался выстрел, и мимо, чуть ниже, пронеслась светлая тень, оставляя за собой бурый след. Доктор был верен себе и теперь следовал за своей добычей, как водный лыжник за моторной лодкой.
Я оказался в одиночестве — один, в воде, у входа в порт! Думать об этом было нельзя. Следовало действовать. А вокруг плавало уже не менее десяти рыб. Та, в которую я стрелял, была ближе других и, кажется, все время пыталась заглянуть мне в глаза. Особой агрессивности в ее поведении не чувствовалось, но непонятно было, что притягивало ее к явному врагу. Ни одна рыба, включая акул, подобным образом себя не вела.
Подныриваю и, изловчившись, стреляю. Вся стая шарахается в сторону, но тут же возвращается. Моя добыча бьется на стреле. Сила тяги небольшая. Вижу, что выстрел угодил повыше жабр.
Мысленно прикидывая, как глубоко засел гарпун, начинаю подгребать к лодке. Рыба сопротивляется, но я оказываюсь сильнее. Стая следует за нами. Собираю волю и гоню мысль: что, если хоть одна из них сообразит подскочить ко мне и цапнуть зубастой пастью?
Появляется Доминго Альфонсо. Он плывет от лодки. Уже успел заменить стрелу. Мне становится легче. Вот звучит его выстрел, и он вступает в борьбу. Раненый сабало носится вокруг, как игрушка на нитке. Вижу, как мой товарищ судорожно стремится сорвать что-то с шеи. Бросаю свое ружье и мчусь к нему: сабало опутал его шею шнуром, и петля сдавливает горло. Хватаю шнур почти у самой стрелы. Мгновения хватает, чтобы Доминго Альфонсо, который даже в этой ситуации не выпустил ружья из рук, освободился от пут. Сабало сильно бьет мощным вильчатым хвостом, в масках у нас обоих полно воды.
Оставляю Доминго Альфонсо дальше сражаться с рыбой один на один, выплескиваю воду из маски и глазами ищу мой круг. Оранжевое пятно оказывается совсем рядом. Подплываю и довольно легко подтягиваю ружье. Мой сабало покорен — видно, выстрел в голову сильно оглушил его.
Доктора встречаю на полпути от лодки. Он сжимает левую руку в кулак и выставляет вверх большой палец. Его трофей уже в лодке.
Когда я передаю стрелу лодочнику, Альбертико стоит на носу и пристально следит глазами за отцом и его кругом. Моряки с баржи и торговцы шумно приветствуют меня. Только тот, кто сам когда-либо испытывал радость победы, может оценить овладевшее мной тогда чувство. Возвращаюсь к «карусели». Иначе то, что происходит вокруг доктора, назвать нельзя. Стая, в которой теперь уже наверняка более двадцати пяти рыб, носится кругами с приличной скоростью. Доктор, однако, хладнокровно выбирает ту, что покрупнее, и... снова отличный выстрел. Стрела пронзает жабры насквозь. Рыба уходит на глубину и сильно тянет за собой ружье. Доктор слегка погружается и выпускает ружье, но хватается за линь. Руками в кожаных перчатках он потихоньку стравливает конец, пока не достигает круга: расчет прост — выждать, дать рыбе самой утомиться.
Очередь за мной, но неудача. Хоть и попадаю под нужным углом, гарпун входит в тело рыбы неглубоко, и она вырывает его вместе с куском мяса, который тут же проглатывает одна из ее сестер. Не успеваю перезарядить, как рыба уже рядом и буквально лезет на меня. Нажимаю на спуск, от звука гудит в голове — сабало дергается и замирает.
Где-то поблизости стреляет Доминго. Когда мы оба возвращаемся от лодки, я вижу кровавый след на шее друга. Доктор все еще не совладал со своим трофеем. Рыба его очень крупная и не дается в руки. А надо ухватиться за стрелу, и тогда удастся направить рыбу в нужную охотнику сторону.
Неожиданно стая исчезает так же внезапно, как и появилась. Доктор немедленно, раздвинув пальцы в виде латинского V, приставляет руку к стеклу маски и два раза убирает ее. Это означает: «смотри», «внимание». Нам ясно: доктор приписывает молниеносный уход рыб возможному появлению более сильных хищников, и поэтому мы с Альфонсо Доминго становимся друг к другу спинами, прикрывая доктора со стороны моря.
Наконец ему удается схватить стрелу. Он перебирает по ней руками, пока не достигает тела рыбы. Та отчаянно сопротивляется, бьет хвостом, но охотник уже вне опасности, и мы плывем к лодке.
На пристани нас ждал представитель портовых властей, который весьма темпераментно выразил свое неудовольствие по поводу того, что мы затеяли охоту в неположенном месте, но тут же, сменив гнев на милость, присоединился к собравшимся, чтобы с жаром высказать свое восхищение.
Крупный экземпляр, который подстрелил доктор, от рыла до хвоста имел без четырех сантиметров два метра, на весах он потянул 114 фунтов. Я занял третье место, но был безмерно счастлив. Правда, нас и было всего трое, но, согласитесь, для человека, столкнувшегося с сабало впервые в жизни, это совсем неплохо...
Юрий Папоров
(обратно)
Непостоянство земных постоянных
Все устаревает — даже значение астрономических постоянных, будь то период вращения Земли, наклон ее оси или расстояние от Солнца. Те величины, которыми пользовались, были приняты международным соглашением еще в 1896 году. Их точность перестала удовлетворять, и недавно Международный астрономический союз создал комиссию для пересмотра астрономических постоянных. В Главной астрономической обсерватории АН СССР их уточнением занимается отдел, руководимый академиком А. А. Михайловым, который дал интервью нашему корреспонденту.
— В ночь с первого на второе июля 1972 года весь мир перевел часы на секунду. Теперь, не доверяя равномерности вращения Земли, мы пользуемся атомными часами. Каков же, Александр Александрович, источник неточности планетарных часов?
— Вероятно, мы потому верим в равномерность вращения Земли, что очень доверяем своим ощущениям. Ведь замечаем же мы, когда равномерно движущийся поезд замедляет или ускоряет свой ход. Значит, должна быть заметна и неравномерность вращения Земли, если бы таковая имелась.
Однако астрономы, определяя время по кульминации звезд (прохождению звезды через линию небесного меридиана), замечали, что один период вращения Земли может отличаться от другого в пределах нескольких миллионных долей секунды. До поры это можно было отнести за счет погрешности хронометров. Но, когда появились очень точные кварцевые, а совсем недавно и атомные часы, оказалось, что неравномерность вращения Земли действительно существует. Этому есть объяснение: планету тормозят приливные волны в ее коре, вызванные притяжением Солнца и Луны, влияют и перемещения масс как внутри, так и на поверхности земного шара.
В обычной жизни вносимые всем этим в суточный ход погрешности можно не учитывать. Даже самые быстроходные самолеты не нуждаются в очень точном определении времени полета. Совсем другое дело, если нужно рассчитать орбиту корабля, отправляющегося к Венере. Здесь до долей секунды нужно знать время, знать точные географические координаты стартовой площадки. Приходится учитывать уже и форму планеты, и распределение в ней масс, и многое, многое другое.
— Вы сказали: географические координаты. Но ведь широту, долготу было принято считать величиной постоянной. Не определяете же вы каждый раз заново местоположение своей Пулковской обсерватории?
— Время от времени нам это приходится делать, так как координатная сетка параллелей и меридианов колеблется и сползает. Для точного определения ее положения в заданный момент на параллели 39°8" находятся пять международных станций службы широт (советская расположена в Средней Азии, в Китабе). Координаты станций определяются с большой точностью по звездам, данные передаются в мировой центр в Японии и в несколько ведущих обсерваторий, в том числе и в нашу ГАО АН СССР. Так что местоположение, к примеру, Пулкова или Москвы не есть нечто неизменное во все времена. Правда, отклонения величины координат от средних весьма незначительны. Но в геодезии, астрономии и в некоторых других случаях их нередко приходится учитывать.
— Если параллели и меридианы слегка колеблются, то, значит, и полюса не стоят на месте? Это уже твердо установленный факт?
— Да. Полюс движется по спирали, уходя от своего положения более чем на десять метров.
— Значит, координатная сетка не перемещается, а дрожит?
— Нет, полюс совершает сложное, не только колебательное, но и поступательное движение. Полюс отклоняется на десять метров относительно некой средней точки, но, кроме того, сама эта точка дрейфует к Лабрадору со скоростью около десяти сантиметров в год.
Это явление исследовал советский астроном А. Орлов. Я произвел расчеты по более полным данным и получил схожие результаты. Теперь «мгновенное» положение полюса в соответствии с недавней рекомендацией Международного астрономического союза определяется относительно того среднего места, которое он занимал в 1903 году.
— Наблюдения за полюсом ведутся всего шесть-семь десятилетий. Можно ли на их основе сказать, как протекал этот дрейф в прошлые эпохи и как будет двигаться полюс в будущем?
— Думаю, что можно. Из-за несовпадения оси вращения Земли с ее осью инерции планета должна, так сказать, болтаться, как плохо подтянутое велосипедное колесо. Однако таким образом раскачать массивную Землю не удастся, для этого она слишком тяжела. Другое дело — земная кора. Это сравнительно тонкая оболочка, которая может скользить на эластичном подкорковом веществе мантии.
Присмотримся, какие силы действуют на высокую гору, находящуюся в средних широтах. Вершина ее при вращении Земли испытывает большее центробежное усилие, чем подошва. В результате игры сил гора стремится сдвинуться, сползти к экватору. На нее действует так называемая «полюсобежная сила», она сильнее всего сказывается в средних широтах и исчезает у полюсов и на экваторе. Сила в двенадцать раз больше того усилия, которое вызывают приливы в море и океане! Как же в отличие от приливных сил она действует постоянно и в одном направлении — к экватору.
А теперь взглянем на глобус. В центре Азии, как раз в средних широтах находится высокогорье Тибет. Поскольку «полюсобежная сила» сильнее сказывается на горных областях, то Тибет должен тянуть Азию на юг. Южная Америка с ее Андами соответственно стремится на север. Северная же Америка служит как бы противовесом. Антарктида в этом передвижении почти не участвует, так как она обрамляет полюс. Низменные Европа и Австралия тоже находятся как бы вне игры.
— Не «полюсобежная» ли сила определяет дрейф материков?
— Разумеется, мобилисты в своих расчетах эту силу учитывают. Нельзя же упустить постоянно действующее усилие, порождаемое вращением Земли! По моим расчетам, равнодействующая «полюсобежной силы» пытается сдвинуть земную кору вдоль 97-го градуса восточной долготы, что вызывает видимое движение полюсов в обратном направлении. Однако движение материков астрономическими методами определить пока еще нельзя, поэтому пусть географы и геологи разбираются сами, дрейфуют материки или нет. Возвратимся к дрейфу Северного полюса.
По моим расчетам. Северный полюс должен дрейфовать вдоль 83-го градуса западной долготы в сторону Канады. Но ведь это движение и подтверждается непосредственными наблюдениями! Если причина такого дрейфа — вращение Земли и несимметричное распределение масс в ее коре, то, следовательно, Северный полюс движется в этом направлении уже давно. Так будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет существенное изменение очертаний суши.
— Не этим ли дрейфом полюса на юг объясняются изменения климата в предыдущие эпохи?
— За последние 100 000 лет Европа пережила несколько оледенений. Полюс же за это время сместился всего на 11—13 километров. Разумеется, заметно повлиять на климат это не могло. Другое дело, если взять более длительное время, например, 10 миллионов лет (по геологическим масштабам и это немного). За это время полюс окажется южнее на 1000 километров, что, безусловно, не может не сказаться на климате Европы.
— Если мы уж заговорили о таких больших промежутках времени, то возникает вопрос: как изменится длительность суток, которая в обыденной жизни воспринимается нами как постоянная и извечная? Ведь вызванные Луной приливы тормозят вращение Земли.
— Да, такое действие Луны постоянно сказывается, сутки становятся длиннее, но лишь на тысячные доли секунды в столетие. Однако приливным действием Луна замедляет вращение Земли, а сама переходит на более далекую орбиту. Наступит такое невообразимо далекое от нас время, когда земные сутки увеличатся в 55 раз и станут равны удлинившемуся месяцу. Издали сможет показаться, что оба небесных тела как бы кружатся в вальсе. Но в этот танец вскоре вмешается своим притяжением Солнце. Оно еще несколько замедлит вращение Земли, сутки станут длиннее месяца. И вот тут может совершиться нечто трагическое: Луна подойдет слишком близко к Земле, войдет в опасную для нее «зону Роша». В этой зоне наш спутник окажется под мощным воздействием гравитационных сил Земли. Они либо разорвут его, либо обрушат на Землю.
Но это только гипотеза. По расчетам немецкого математика X. Герстенкорна, Луна в этой зоне уже была, но ничего страшного с ней не случилось. Другие исследователи вообще полагают, что в «зоне Роша» она не бывала и никогда не будет. Нам известно лишь современное состояние дел, никто не знает начальных условий, когда образовались оба небесных тела, никто не знает, является ли Луна дочерью Земли или самостоятельной планетой, притянутой земным тяготением.
— Разве последние исследования Луны не внесли ясность хотя бы в вопрос ее происхождения?
— Мы живем в пору детства космических полетов и несколько преувеличиваем их возможности. Представьте, что корабль инопланетян спустился где-то в Сахаре, а затем в Антарктиде. Сколь обоснованны будут выводы инопланетян о Земле? Примерно в таком же положении находимся мы, когда рассуждаем о происхождении Луны по данным первых полетов.
Образовалась ли Луна одновременно с Землей из некоего протопланетного облака? Я, например, не представляю, как мелкие частицы, летящие быстрее пули, попадают друг в друга и не взрываются, а слипаются в ком, образуя планету. Более вероятной мне кажется теория захвата: Земля пленила самостоятельную планету Луну и сделала ее своим спутником. Математически эта гипотеза хорошо разработана.
И наконец, вполне возможно, что Луна все-таки была когда-то частью Земли. Во всяком случае, исследованиями лунного грунта это опровергнуть пока не далось. Я задал вопрос участникам одного из последних международных конгрессов, и очень многие высказались как раз в пользу третьей гипотезы.
Мм фактически только сейчас по-настоящему приступаем к изучению Земли и Луны. Так что мы еще узнаем немало нового.
Записал А. Самойлов
(обратно)
Прованс и провансальцы

Упрямец Ван-Гог, приехав в Арль, твердил: «Прованс — та же Голландия». Но его картины — неистовые краски, вихревые, мятежные линии — воспели Прованс самобытный и неповторимый.
Не смотрите на карту, скажет житель Прованса. По этой карте все, что по левому берегу Роны,— Прованс, а что по правому — уже Лангедок. Но как разделить Вильнев и Авиньон? Неужели Бокэр не такой же прованский город, как Тараскон? В то же время настоящий провансалец скажет, что восточнее Сан-Рафаэля начинаются земли Ниццы и кончаются земли Прованса, хотя официально Французская Ривьера входит в него.
Последний сюзерен Прованса Шарль Менский завещал в 1481 году свое графство Франции, но местные жители вот уже почти полтысячи лет защищают свое право называться провансальцами.

Достаточно вспомнить борьбу провансальцев за свой образ жизни, борьбу, в которую вдохнул новые силы великий поэт Фредерик Мистраль (1830—1914). Он писал свои стихи только на прованском — языке трубадуров. Лучшие творения посвятил он родному краю, и его поэзия стала живой жизнью Прованса. На тихой сельской улочке, карабкающейся в гору, на шумной площади, старинные камни которой отполированы временем, можно увидеть позеленевшие медные доски со звучными строфами Мистраля. Зачастую строки написаны прямо от руки на стенах домов, выбеленных южным солнцем: «Плоть Прованса вырезана из камня ветрами, солнцем и дождями. Лик его обрамлен виноградниками, оливковыми рощами и медвяными травами».
...Представьте себе один из старинных замков в предгорьях Альп: крыши нет, перил на крыльце нет, стекол в окнах нет, трехлистные пальметки на стрельчатых арках сломаны, герб над воротами изъеден мхом, по дворцовому двору гуляют куры, к изящным колонкам на галереях привалились свиньи, в часовне, заросшей травой, пасется осел... Но в один прекрасный день сын крестьянина влюбляется в эти величественные развалины и возмущается их осквернением; он поспешно прогоняет скот с дворцового двора, отстраивает парадную лестницу, восстанавливает резные украшения, вставляет стекла в окна, покрывает заново позолотой тронный зал...
Восстановленный дворец — это прованский язык. Сын крестьянина — это Мистраль.
Так писал великий провансалец Альфонс Додэ.
Жители Прованса издавна слыли во Франции гордецами и философами. По сей день они считают себя наследниками античной мудрости и свысока поглядывают на невежд северян. «Наш Гарский мост постарше Пон-Нёф в Париже», — говаривают они. Гавоты — жители департаментов Убея, Кейраса, Гапенсе и верховьев Дюранса — служили некогда учителями в зажиточных буржуазных семьях. Да, да, бедные крестьяне после пяти месяцев изнурительных сельских работ уходили на зиму в Марсель, Экс, Авиньон, а то и дальше на север преподавать французский, арифметику и даже латынь. «У гавотов груба только одежда», — гласит прованская пословица. Ярмарка учителей проходила в ноябре в Барселонетте. Крестьяне стояли на площади и ждали покупателей. Перья различной расцветки, воткнутые в их шляпы, свидетельствовали о предметах, которые они могут преподавать. Затем они отправлялись пешком к своим ученикам — четыре дня до Экса, пять до Марселя, шесть до Авиньона. За время отсутствия отцов старики обучали малышей, подготавливая учительскую смену. Последний альпийский крестьянин, знавший латынь, умер недавно в Кейрасе.
В нашем веке борьба крестьянина Мистраля за Прованс продолжалась: в 1907 году было основано общество гардьянов — прованских ковбоев — «для поддержания и упрочения веры в быков, арлезианские костюмы, традиции Камарга и процветание прованского языка».
Жители Прованса превыше всего ставят право на личную свободу и готовы заплатить за него, если надо, жизнью. Однажды старый люберонский крестьянин, играя в кафе, швырнул карты на стол и пробормотал вполголоса: «Довольно, пойду покончу с собой». Он не был ни безумным, ни разгоряченным, ни пьяным. Лишь много месяцев спустя нашли в глухом ущелье его тело с ружьем в руках.
На Люберонском массиве и по сию пору можно найти места, где не ступала нога человека. Лишь в начале XX века открыли здесь Вердонское ущелье. И совсем недавно с вертолета обнаружили таинственный грот в другом ущелье, Артюбийском, где средневековые фальшивомонетчики плавили серебро.
В смерти того крестьянина не был повинен мистраль. Этот холодный ветер плохо действует на приезжих, он леденит душу, сводит с ума своей настойчивой свирепостью, но местные жители свыклись с его буйным норовом — для них это просто зима.

«Ледяная ночь, мистраль (он еще не стих). Вижу в окна блеск и даль гор, холмов нагих», — писал Бунин.
Наверное, именно присущее провансальцам качество — не лукавить с самим собой, полно и искренне раскрывать свое «я» — дало оригинальнейшего живописца — Сезанна, уроженца Экса, а отрешенность от сутолоки бытия и поэтическое воспарение подарили миру не только Мистраля и Додэ, но и французского Икара — жившего и умершего в Авиньоне Монгольфье.
Кто утверждает, что в руинах нет никакой красоты, пусть посмотрит восхитительный замок в деревне Тур-д"Эг, который трубадуры прозвали «монументом красоты и безумия».
Ныне от замков-крепостей остались одни развалины — Рошмор, Вивье, Донзер, Марнас, Пиоленк, но и они хранят в своих замшелых камнях источники вдохновения, откуда били родники поэзии — будь то письма мадам де Севиньи или божественная лирика Петрарки.
Изъеденные солнцем и ветрами башни кажутся продолжением скал, их можно принять скорее за творение природы, чем за дело рук человеческих. Это оттого, что жители Прованса в течение веков не отвергали уроков жизни. Люди и природа взаимно моделировали друг друга.
Высвеченные солнцем крепостные стены, тяжелые цепные мосты, перекинутые через рвы, подпирающие небо массивные башни с угрюмыми бойницами «машикули» предстали из векового сна въяве — в последние десятилетия в Провансе восстановлено много памятников античности и средних веков.
Но совсем уникальна деревня-курорт Пор-Гримо — осуществленный недавно проект, опыт воссоздания прованской деревни, отвечающей современным требованиям «отдыха на воде».
Лет десять-двенадцать назад архитектор Франсуа Споэрри обнаружил в глубине залива Сан-Тропе заболоченные участки, густо поросшие травой и камышом, — раздолье для уток. Над заливом на склонах холма раскинулась старая деревня Гримо с развалинами большого замка. Возникла мысль попытаться, сохранив ландшафт, создать антипод современным курортам из стекла и бетона: построить здесь озерный городок. Архитектор без всяких колебаний выбрал прованский стиль — он отвечает характеру местности, он помогает сочетать независимость жителей с их общительностью.
Кварталы расположены в виде островков, соединенных между собой мостами. У каждого судна свой причал, конец которого — продолжение дома или разбитого перед ним небольшого сада. Чтобы не нарушить облика настоящей деревни, вместо магазинов построены лавки, на маленькой площади под открытым небом — рынок. Сейчас архитектор подумывает о том, чтобы построить в Пор-Гримо небольшую арену для корриды.
Впрочем, здесь, в Провансе, культивируется не бой, а скорее игра с быком. Она носит название «course libre» — «игра без правил». Поскольку это не бой, здесь нет матадоров и бандерилий, в игре может принять участие любой смельчак, который рискнет встать на пути разъяренного животного. Он должен выхватить цветок или кокарду, прикрепленную между лирообразными рогами черного камаргского быка.

Провансальцы уважают свободу каждого, в том числе и быка, и если за четверть часа никто не сорвет кокарду, быка оставляют в покое, и гардьяны гонят его обратно в манадо — стадо.
А лошади?! Они носятся по болотным маршам Камарга, по сытной и бархатистой травке лугов, расцвеченной цветами лаванды — синей в зимнюю пору, красной в летнюю, — дикие и свободные, как ветер. Галлы — большие охотники до лошадей и покупают их за большие деньги. На это обратил внимание еще Юлий Цезарь. Снежно-белые лошади — гордость провинции, им присваивают громкие имена «Люцифер», «Цезарь», «Шарль».
Забираясь ближе к воде, лошади вспугивают стаи розовых фламинго, уток, цапель, выпей. Здесь попадаются даже настоящие чибисы. В дельте Роны зимуют и постоянно обитают десятки видов птиц, гнездятся три тысячи пар фламинго. В Камарге организован национальный заповедник, и трудно найти во Франции другое место, где люди в такой же мере готовы были бы сотрудничать с природой.
Не то чтобы здесь не было браконьеров — огнестрельного оружия в наши дни не меньше, чем во времена Тартарена, — но настоящий провансалец не купит дичи или зайца, подбитого в запрещенное для охоты время. Провансальцы ходят на охоту главным образом, чтобы, как утверждают они, «не растерять природных инстинктов».
Но не инстинкты, а столетиями приобретавшееся осознание законов того, что ученые теперь называют экологией, водило ружьем человека, который недавно выстрелил в самолет, опрыскивавший поля раствором ДДТ, и заставил его приземлиться. «Они хотели уничтожить комаров, — презрительно рассказывают в Камарге, кивая
головой на север. — Но они не спросили нас. Уничтожьте комаров, что будет с лягушками, с рыбой, с птицей?»
Провансальцев беспокоят реактивные самолеты, распугивающие птиц; удобрения на рисовых плантациях — они отравляют насекомых и земноводных и причиняют лошадям мучительный зуд; в лагунах из-за химических веществ гибнет рыба и растительность.
Директор заповедника доктор Люк Хоффман разрабатывает проект расширения заповедной территории. Это связано с выплатой компенсации частным владельцам тысяч акров земли. Поддержат ли его в Париже? Он надеется. Люди начинают постепенно ценить то, что они имеют в единственном экземпляре. А где найти другой Камарг? Другой Прованс?
Г. Гаев, И. Писарев
(обратно)
Фриц Лейбнер. Человек, который дружил с электричеством

Показывая «Дом на холме» новому клиенту, мистер Скотт очень надеялся, что тот не обратит внимания на опору линии высокого напряжения. Столб маячил прямо перед окном спальни и уже дважды отпугивал покупателей — оказалось, что пожилые люди по необъяснимой причине боятся электричества. О том, чтобы перенести столб не могло быть и речи — линия, бегущая вдоль цепи холмов, была основным источником энергии для местечка Пасифик Фоллз. Поэтому оставалось только всячески отвлекать внимание посетителей.
Однако и на сей раз мистеру Скотту не помогли ни молитвы, ни красноречие. Уроженец Новой Англии мистер Леверетт — так звали нового клиента — заметил столб сразу, как только они вышли на террасу. Он внимательно осмотрел приземистую колонну из крепких балок, восемнадцатидюймовые стеклянные изоляторы и черный ящик трансформатора, через который отводился ток в несколько соседних домов. Взгляд его скользнул по четырем толстым проводам, летящим с одного серо-зеленого холма на другой, и он наклонил голову, как бы прислушиваясь: слух его уловил низкий ровный шум, вызываемый движением электронов.
— Вы только послушайте! — воскликнул он, и впервые в его бесстрастном голосе прорезалась какая-то эмоция. — Пятьдесят тысяч вольт! Вот это энергия!
— Сегодня, наверное, особые атмосферные условия. Обычно ничего такого не слышно, — ответил мистер Скотт, погрешив слегка против истины.
— Ах вот как? — с некоторым разочарованием удивился Леверетт.
Когда осмотр дома был полностью закончен, пожилой клиент вдруг попросил вернуться на террасу.
— Шум-то так и не исчез, — сказал он. — Должен вам признаться, что этот гул успокаивающе действует на мои нервы. Как, например, отзвук ветра или шум потока, моря. Грохот машин я ненавижу, поэтому и уехал из Новой Англии. А этот звук для меня будто голос природы — мягкий, спокойный. Так вы говорите, что его здесь можно услышать редко?
Продажа недвижимости требовала гибкости, и мистер Скотт этим качеством обладал.
— Видите ли, — заявил он прямо, — сколько я ни выхожу на террасу, всегда слышу этот звук. Шум иногда нарастает, иногда спадает, но есть он всегда. Но так как большинству людей этот шум не по душе, приходится о нем умалчивать.
— Что ж, вас вряд ли можно упрекнуть. Ведь большинство людей — из породы баранов, а то и хуже. У меня еще к вам такой вопрос: не живут ли здесь поблизости коммунисты?
— Ну что вы! — не моргнув глазом ответил мистер Скотт. — Во всем Пасифик Фоллз нет ни одного коммуниста.
— На восточном побережье коммунистов полным-полно. Тут-то их, конечно, меньше. Ну что же, будем считать, что договорились. Я согласен снять «Дом на холме» вместе с мебелью за названную вами сумму.
— Вот и отлично! — мистер Скотт лучезарно улыбнулся. — Вы, мистер Леверетт, тот самый человек, который нужен нашему городку.
Они пожали друг другу руки. Покачиваясь на каблуках, мистер Леверетт вслушивался в тихое жужжание проводов, а на лице его играла гордая улыбка обладателя.
— Электричество, — сказал он, — это восхитительнейшее из явлений. Чего только мы не можем с ним сделать, как, впрочем, и оно с нами. Например, если кто-то хочет эффектно и безболезненно отправиться на тот свет, нужно всего лишь как следует полить газон, взять в руки кусок медного провода, а другой его конец закинуть на линию. Бабах! Качественно процедура ни в чем не уступает электрическому стулу, а внутренние потребности человека удовлетворяет гораздо лучше.
Мистер Скотт внезапно ощутил, как к горлу подступает тошнота, а в голове даже мелькнула мысль о разрыве только что заключенной сделки. Он вспомнил седовласую даму, которая сняла дом лишь для того, чтобы в одиночестве принять смертельную дозу снотворного. Потом он успокоил себя мыслью о том, что Южная Калифорния всегда славилась чудаками и сумасшедшими и в основном его съемщиками были люди с различного рода аномалиями. Даже если сложить вместе манию самоубийства, тихое помешательство на почве электричества и болезненный антикоммунизм, то и в этом случае Леверетт был не большим безумцем, чем множество его знакомых.
— Вы думаете сейчас, не самоубийца ли я? — прервал его мысли мистер Леверетт. — Видите ли, просто я люблю иногда порассуждать вслух, пусть даже о чем-то необычном.
Опасения мистера Скотта окончательно исчезли, и, приглашая Леверетта в кабинет для оформления документов, он был снова, как всегда, уверен в себе.
Три дня спустя мистер Скотт зашел проверить, как себя чувствует новый жилец, и нашел его на террасе. Мистер Леверетт сидел в старом кресле-качалке и слушал пение проводов.
— Садитесь, пожалуйста, — предложил он мистеру Скотту, указывая на одно из стоящих тут же современных кресел. — Должен вам сказать, что «Дом на холме» вполне оправдал мои ожидания. Я слушаю электричество, а мысли мои разбредаются во все стороны. Иногда мне кажется, что в шуме проводов я различаю голоса. Ведь есть же люди, которые слышат голоса в шуме ветра.
— Вы правы, я где-то читал об этом, — согласился мистер Скотт, которому стало как-то не по себе. Но, вспомнив, что в банке чек мистера Леверетта приняли без всяких разговоров, он приободрился и даже вставил замечание: — Да, но ведь в отзвуках ветра мы слышим целый диапазон звуков, а шум проводов слишком монотонный — в нем ничего нельзя различить.
— Какая ерунда, — возразил мистер Леверетт с легкой улыбкой, и было неясно, шутит он или говорит серьезно. — Возьмите пчел — они ведь всего лишь жужжат, а между тем очень умные насекомые, и некоторые энтомологи утверждают, что у них есть свой язык.
С минуту он молча качался в своем кресле. Мистер Скотт уселся напротив.
— Да, — повторил мистер Леверетт, — в электричестве мне слышатся голоса. Электричество рассказывает мне, как оно путешествует через все Штаты. Это похоже на движение пионеров на запад: линии высокого напряжения — это дороги, а гидроэлектростанции — придорожные колодцы. Теперь электричество проникло повсюду — в наши жилища, на заводы, в правительственные кабинеты. Ничто от него не укроется. А ведь есть еще другое электричество — то, что бежит по телефонным проводам и осуществляет радиосвязь. Это младший брат нашего знакомого из высоковольтных линий, а дети, как известно, обладают тонким слухом. Таким образом, мой друг, электричеству известно о нас все, все наши секреты. Ему свойственны человеческие качества: чуткость, живость, отзывчивость, и, в сущности, оно вполне дружелюбно, как все живое.
Мистер Скотт и сам размечтался, слушая этот странный монолог. «Такой поэтический и немного сказочный текст был бы отличной рекламой для «Дома на холме», — подумал он.
— Однако иногда электричество может и рассердиться, — продолжал мистер Леверетт. — Чтобы этого не случилось, его нужно приручить. Узнать его привычки, ласково с ним обращаться. Бояться его не нужно. Вот тогда с ним можно будет подружиться. Ну да ладно, мистер Скотт, — сказал он уже другим тоном, вставая с кресла. — Я знаю, что вы пришли проверить, не натворил ли я чего в вашем доме. Идемте, сегодня экскурсию провожу я.
И, несмотря на протесты мистера Скотта, который уверял, что пришел вовсе не за этим, мистер Леверетт настоял на осмотре.
В одной из комнат он остановился и объяснил:
— Я убрал ваши электроодеяло и тостер, так как считаю, что электричество не должно выполнять такие прозаические функции.
Насколько можно было судить, новый жилец дополнил интерьер дома лишь старым креслом и неплохой коллекцией индейских наконечников для стрел.
Наверное, мистер Скотт обмолвился у себя дома об этой коллекции, потому что примерно через неделю его девятилетний сынишка спросил:
— Папа, помнишь того дядю, которому ты всучил «Дом на холме»?
— Бобби! Клиентам дома сдаются, запомни.
— Ну ладно, па. Так я к нему ходил смотреть коллекцию индейских наконечников. Знаешь, кто он? Заклинатель змей!
«О боже, — подумал мистер Скотт, — ведь чувствовал я, что с этим Левереттом что-то нечисто. Наверное, он специально искал дом где-нибудь на холме, потому что в жару туда сползаются змеи».
— Только он заклинал не настоящую змею, а шнур от электроутюга. Сначала-то он показал мне свои стрелы. А уж после присел на корточки, протянул руку к шнуру, и сразу же свободный конец начал шевелиться, а потом вдруг поднялся вверх, точь-в-точь как кобра на картинке. Так здорово!
— Видел я когда-то этот фокус, — сказал мистер Скотт. — К концу провода нужно привязать прочную нитку — вот и все.
— Что же я, по-твоему, нитки бы не увидел?
— Если нитка того же цвета, что и фон, можно и не увидеть, — объяснил мистер Скотт. Потом ему в голову пришла другая мысль. — Бобби, а ты не заметил, был ли другой конец шнура включен в сеть?
— Конечно, был. Дядя сказал, что, если бы в шнуре не было электричества, у него ничего бы не вышло. Так что, па, на самом-то деле он заклинатель электричества. Это я нарочно сказал, что он заклинатель змей, чтобы было смешней. А потом он вышел на террасу и заколдовал электричество из проводов, и оно двигалось по его телу. Было даже видно, как оно переходит с одного места на другое.
— Интересно, как же это можно увидеть? — спросил мистер Скотт, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. Он представил себе, как мистер Леверетт стоит не двигаясь, глаза горят, словно бриллианты, а вокруг него сверкает сноп голубых искр.
— Ты знаешь, па, от этого электричества у него поднимались на голове волосы, то с одной, то с другой стороны. А потом он сказал: «Теперь спустись на грудь», и тогда носовой платок, который у него был в кармане пиджака, распрямился и поднялся немного вверх. В общем, па, все было как на лекции в музее техники.
На следующий день мистер Скотт отправился в «Дом на холме». Однако ему не пришлось задавать свои тщательно обдуманные вопросы, потому что мистер Леверетт встретил его словами:
— Наверное, сын рассказал вам о представлении, которое я устроил в его честь. Должен вам сказать, что я очень люблю детей, хороших американских детей — таких, как ваш сынишка.
— Да, он мне обо всем рассказал, — признался мистер Скотт, которого такое откровенное начало разоружило и немного сбило с толку.
— Впрочем, все, что я ему показывал, было не более чем детской забавой.
— Это понятно, — ответил мистер Скотт. — Я сразу догадался, что шнур от утюга у вас танцевал с помощью тонкой нитки.
— Похоже, что у вас на все есть готовый ответ, — глаза мистера Леверетта лукаво заблестели. — Давайте-ка выйдем на террасу и посидим там немного.
В этот день линия высокого напряжения гудела громче обычного, но через некоторое время мистер Скотт должен был признаться себе, что этот шум действительно успокаивает. Да и спектр звуков шире, чем ему казалось раньше, — можно было выделить нарастающий треск и затихающий гул, шипенье и рокот, чмоканье и вздохи. Мистер Скотт вслушивался, и ему тоже казалось, что он различает голоса.
Легонько покачиваясь в кресле, мистер Леверетт говорил:
— Электричество рассказывает мне не только о своей работе, но и о своих развлечениях — о танцах, пении, концертах больших оркестров, о своих путешествиях к звездам со скоростью, в сравнении с которой ракеты ползут как улитки. Говорит оно и о своих неприятностях. Вы, наверное, слышали об этой катастрофе, когда Нью-Йорк вдруг погрузился во тьму? Электричество рассказало мне, как все произошло Огромная масса электронов словно взбесилась — видимо, от переутомления — и замерла без движения. Электричество уверяет, что подобная опасность существует в Чикаго и Сан-Франциско. Уж слишком велики нагрузки.
Электричество очень щедро и любит свою работу. Но ему бы хотелось, чтобы люди как-то считались с его проблемами и вообще уделяли ему немного больше внимания.
Оно учит нас цельности, единству, братской любви. Если на каком-то участке не хватает энергии, электричество со всех сторон спешит на помощь, чтобы закрыть брешь. С одинаковым рвением оно обслуживает Джорджию и Вермонт, Лос-Анджелес и Бостон. Патриотизм его виден и в том, что свои самые сокровенные тайны оно выдает лишь стопроцентным американцам, таким, как Эдисон и Франклин.
Вам известно, что электричество убило одного шведа, который пытался повторить опыт Франклина с «электрическим колесом»? Теперь вы сами видите, что электричество — это великая сила, действующая на благо Соединенных Штатов.
Слушая все это, мистер Скотт подумал, что не очень бы удивился, узнав о существовании секты почитателей электричества, организованной мистером Левереттом.
Возвращаясь из «Дома на холме», мистер Скотт чувствовал себя абсолютно спокойно — жилец был скорее всего безвредным чудаком... Впрочем, лучше на всякий случай запретить Бобби ходить к нему.

Вскоре газеты сообщили о непродолжительных, но серьезных по последствиям перерывах в работе электрической сети в Чикаго и Сан-Франциско. Посмеиваясь над забавным совпадением, мистер Скотт в шутку подумал об использовании электричества для предсказания будущего. «Кто хочет узнать свое будущее по проводам?» Во всяком случае, способ более современный, чем гаданье на кофейной гуще.
Только однажды мистера Скотта охватило то недоброе чувство, которое он испытывал во время первой встречи с Левереттом. В этот раз Леверетт вдруг рассмеялся и сказал:
— Помните, когда-то я вам рассказывал, что будет, если забросить медный провод на линию высокого напряжения? Я придумал более простой способ свести счеты с жизнью. Достаточно направить на линию мощную струю воды из шланга, держась при этом за металлический наконечник. В идеальном варианте вода должна быть теплой и соленой.
Слушая его, мистер Скотт с удовольствием отметил, что был совершенно прав, запретив Бобби приходить сюда.
Но в остальном мистер Леверетт вел себя ровно и был полон оптимизма.
Изменилось все неожиданно, хотя позже мистер Скотт вспомнил, что первым вестником этой перемены была брошенная как-то мимоходом фраза:
— Вы знаете, мне стало известно, что американское электричество, путешествуя в батареях и аккумуляторах, добирается до самых отдаленных уголков земного шара. Оно циркулирует в электросети Европы и Азии. Более того, некоторая часть его попадает прямо в Советский Союз. Наверное, оно посылает туда своих разведчиков, чтобы наблюдать за коммунистами.
Во время следующего визита мистер Скотт сразу заметил существенную перемену в настроении жильца. Качалка одиноко стояла в углу, а мистер Леверетт нервно шагал по террасе, время от времени бросая беспокойные взгляды то на столб, то на темные рокочущие провода.
— Хорошо, что вы пришли, мистер Скотт. Я в ужасном состоянии. Я просто потрясен. Мне нужно кому-то обо всем рассказать — если со мной что-нибудь случится, ФБР должно знать правду. Хотя, откровенно говоря, не знаю, что здесь может сделать ФБР.
Сегодня я узнал, что электричество обслуживает весь земной шар — да, да, весь! — что в наших линиях течет энергия из России, а в русских линиях — наша, что электричество самым бесстыдным образом переходит из одной страны в другую. Ему все равно, в России оно или в Америке, заботится оно только о себе. Я чуть не умер на месте, когда об этом услышал. Более того, электричество решило не допустить никакой серьезной войны, даже если это будет война в защиту интересов Америки. Ему, видно, на нас совсем наплевать, только бы его линии да электростанции были в порядке. А если кто захочет нажать кнопку, чтобы начать атомную войну, электричество сразу же убьет его — будь то здесь или в России!
Я начал спорить с электричеством, сказал, что всегда считал его истинным патриотом Америки, напомнил об Эдисоне и Франклине, велел ему, наконец, разобраться вовремя и вести себя как подобает. Но электричество только смеялось в ответ.
А потом оно стало мне угрожать! Сказало, что, если я только попробую вмешаться и сорвать его планы, оно обратится за помощью к своему дикому брату с гор, который меня выследит и убьет. Посоветуйте, что же мне теперь делать? Ведь я здесь один на один с электричеством!
Мистер Скотт сделал все возможное, чтобы успокоить старика. Ему даже пришлось обещать, что он еще раз придет завтра утром, хотя себе он поклялся, что теперь заглянет сюда не скоро.
Уходя, он заметил, что шум линий высокого напряжения поднялся до мощного гула. Мистер Леверетт повернулся к проводам и серьезно сказал:
— Слышу, слышу.
Ночью на Лос-Анджелес обрушилась редкая для этих мест буря, сопровождавшаяся сильным ветром и ливнем. Пальмы, сосны и эвкалипты были вырваны с корнями, сады на склонах гор смыты и уничтожены.
Гром гремел с такой невиданной силой, что некоторые жители, незнакомые с такими шутками природы, в панике звонили в полицию — не началась ли атомная война.
Произошло несколько труднообъяснимых происшествий. К месту одного из них полиция на следующее утро вызвала мистера Скотта — единственного человека, знакомого с умершим.
Ночью, когда буря достигла апогея, грохотал гром и сверкали молнии, мистер Скотт вспомнил слова Леверетта об угрозах электричества, о его диком брате с гор. Однако сейчас, при свете дня, он решил не сообщать об этом полиции, да и вообще не упоминать о мании Леверетта — это могло только усложнить дело и, кроме того, — чего греха таить — усилить страх, таящийся где-то в глубине души.
До прихода мистера Скотта на месте происшествия ничего не трогали. Тело лежало там, где его нашла полиция, только не было тока в толстом проводе, который, как бич, оплел худые ноги Леверетта.
Полиция с помощью экспертов следующим образом объяснила происшедшее: во время сильной бури один из проводов линии высокого напряжения, проходящей в тридцати метрах от дома, был сорван порывом ветра, и один конец его упал в открытое окно спальни, где и обвился вокруг ног мистера Леверетта. Смерть наступила мгновенно.
Однако эту версию можно было принять лишь с очень большой натяжкой, так как она не давала объяснения некоторым второстепенным, но весьма подозрительным фактам. Например, тому, что сорванный провод не просто влетел в окно спальни, но потом каким-то образом попал из спальни в гостиную, где и настиг свою жертву. А также тому, что вокруг правой руки Леверетта, словно лишая его возможности спастись бегством, змейкой вился черный телефонный шнур.
Перевел с английского М. Загот
(обратно)
Сихотэ-Алинские ночи

…Саша молча передвигался по комнате, как бы давая возможность мне самому осмотреться, подумать и иногда, словно следуя моим мыслям, подвигал рисунок, чертеж, карту или, проходя мимо, едва заметным движением поглаживал ложу ружья. Он был спокоен. Только иногда хитро поглядывал в мою сторону, и я не мог понять: то ли это своеобразное смущение, когда посмотрят на тебя почти мельком, а затем проверяют, заметил ли ты этот взгляд; то ли самая настоящая хитрость, когда приготовлен сюрприз, но до срока ты о нем ничего не узнаешь.
Вчера он выглядел иначе. Быстро вошел в номер гостиницы, установил проектор, не теряя времени, направил на белую стену и, чередуя слайды, коротко комментировал: «Вид с самолета на устье Кабаньей — берег Японского моря», «Изюбр, задранный волками...», «Костер оказался в двухметровой яме...» Показав около двадцати слайдов, Саша спрятал проектор в портфель и поспешно распрощался. Просто вчера ему предстояло сдать последний экзамен, и он волновался, а сегодня, кажется, сдал и явно хочет чем-то меня удивить.
В дом к Саше я попал через открытые даже в выходной день двери Приморского филиала Географического общества СССР. Здесь я узнал о зимней экспедиции: три студента геологического факультета Дальневосточного политехнического института — Александр Паничев, Алексей Демин и Геннадий Коренев — во время зимних каникул прошли по приморской тайге от берега Японского моря в глубь материка около трехсот километров. Шли по почти не населенному району, без палаток и спальных мешков, через перевал в горах Сихотэ-Алиня, по открытым пространствам, по берегам рек... В отчете написано: «Цель экспедиции — разработка рекомендаций по организации и проведению исследований в зимних условиях Сихотэ-Алиня... Особое внимание уделено возможности движения на лыжах по руслам рек, водоразделам, лесным массивам, разработке оптимального способа ночевки на открытом воздухе в зимних переходах, выбору и приготовлению пищи, а также наблюдению за морально-психологическим состоянием участников при больших и длительных физических нагрузках в суровых зимних условиях, выбору одежды и обуви. По возможности проведены исследования этнографического характера...»
Саша достал из портфеля вычерченную им самим карту маршрута, положил передо мной на стол и отошел к окну. Я пробежал глазами по красной пунктирной линии, шедшей сначала вдоль побережья, до устья реки Венюковки, где в квадратике было написано: «Хибара капустоловов».

...Долина. Дует северный пронизывающий ветер. Почувствовали, что слабо Одеты, но вскоре это ощущение прошло. По уплотненному ветром снегу шли с легкими рюкзаками вдоль побережья Японского моря, мимо больших заливов с низкорослыми елями по берегам. Только к концу дня, пройдя восемнадцать километров, почувствовали, что лыжи плохо подогнаны к валенкам. Поначалу долго блуждали в поисках пристанища. Лиманы затянуты льдом, глубина снега сорок-пятьдесят сантиметров, трудно угадать, где река. Начало темнеть, а хижины нет. Решили заготавливать на ночь дрова.
Едва разгорелся костер, вернулся из разведки Алексей. Он был раздет, и стало ясно: нашел. Среди низеньких елей и корявых, искореженных ветром лиственниц стояла хибарка капустоловов, построенная из толя и продуваемая всеми ветрами. Еще целый час в темноте ползали по снегу, ломали сучья, искали дрова. Наконец отыскали ящик... Огня хватило на суп из пакета и чай. Первая ночевка была холодной...
Утром решали только один вопрос: как идти — по припаю или по сопкам? Солнце уложило на снег тени небольших деревьев, и они стали казаться выше. Подогнали лыжи, надели очки. Алексей успел уже сходить к берегу, вернулся и сказал, что можно двигаться по припаю. Отправились в путь. Прошли по устью Венюковки и увидели остатки изюбра, задранного волками. На льду лежали кости, разодранная шкура и не тронутый волками желудок. Он был серовато-желтый, круглый, словно набит опилками... Немного в стороне — лисий след. Вышли на побережье, к припаю. Лыжи пришлось снять. Двигались прыжками. Только обогнув скалы, сумели снова надеть лыжи. Без них просто невозможно...
В прошлом году ребята вчетвером ходили на Кему — реку, что впадает в Японское море. Экспедиция была неудачной, но полезной. На ее опыте они уже знали, что спортивные лыжи непригодны в таких условиях, проваливаются в снег, что ватные телогрейки прогорают от искр костра. По пути на Кему участники экспедиции поднялись на перевал. Начался буран, который зверствовал в течение восьми дней. Измотавшись, ребята окопались под корнем большой ели. На исходе было время — начинались занятия в институте, да и продукты кончались.
В этой экспедиции ребята сделали и еще один вывод — желательно, чтобы в таких сложных лыжных переходах участвовали трое. И вот почему: в условиях приморской тайги трудно найти район, где можно было бы идти более ста километров без зимовий, и, встречаясь с охотниками, троим легче принять их гостеприимство, легче и охотникам накормить, уложить спать, да и общение удается лучше, когда меньше людей. Но главное — психологический фактор. Втроем меньше разногласий...
Для новой экспедиции были подготовлены охотничьи лыжи и сшиты суконные куртки и брюки...
Сейчас ребята с самого начала записывали на карточки свои наблюдения: температуру воздуха (на ночь выставляли градусники), количество снега, характер леса, количество следов и кому они принадлежат. К закату надеялись выйти к поселку. Прислушивались: обычно к перемене погоды кричит желна — дятел с тоскливым голосом. Желна молчала. Минул закат, пошел снег, наступила темнота. Вот устье реки, а поселка нет. Потом оказалось, что это была Кюма. До Кабаньей надо было идти и идти, и только к ночи впереди показался огонек и раздался лай собаки. Подошли — ноги не гнутся. Бросили рюкзаки и постучали в первую дверь. Поселок — семь домов. Когда-то здесь был лесхоз. Сейчас остались смотритель телефонной линии и его помощник.
Утром, бодрые и выспавшиеся, прошли вверх по реке Кабаньей и оглянулись на просыпающийся поселок. Впереди устье реки Дагды, зимовье охотников. Хорошо бы, конечно, иметь попутный ветер, но зимой ветры обычно дуют с материка к морю. И поскольку экспедиция направлялась а глубь материка, ветер нещадно хлестал по лицам. А надо было еще записывать наблюдения, и Саша писал: «По правому берегу реки базальтовое плато и выгоревший лес; вдоль левого берега — сопки с лиственничным лесом, ближе к пойме реки — кедры...»

Саша отошел от окна, вернулся к столу и начал разбирать рукописи, складывать на шкаф листы ватмана. Вся его большая комната, войдя в которую сразу понимаешь, что ее хозяин геолог, имеет одно удивительное свойство: в ней нашлось место рюкзакам, коллекции минералов в шкафу, набору геологических инструментов, бумагам, лыжам, на свободной стене висит в гордом одиночестве охотничье ружье — но здесь совершенно нет места для кровати. На чем он спит? В свои двадцать два года Саша окончил четвертый курс института, член Географического общества, которое снарядило экспедицию. назначив Сашу ее руководителем. Среди бумаг на столе я заметил фотографию Саши: худой, с бородкой, весь в снегу. На обороте написано, что фотография сделана охотниками, которых повстречали в последней экспедиции.
В квартире послышались чьи-то шаги и затихли, Саша снова хитро глянул на меня и улыбнулся.
— Хотите чаю? — спросил Саша.
Я кивнул.
— В тайгу мы берем с собой настоящий чай. В него можно добавлять лимонник для тонуса, иногда заваривать ягоды. Вообще-то не надо брать с собой то, что может дать тайга. Но чай, по-моему, обязателен. Я знал охотника, который не признавал чая, а пил только растопленный снег. И заболел: начала шелушиться кожа, пошли по всему телу болячки, наступил авитаминоз.
Саша поставил на стол три чашки, вышел на кухню, откуда донесся чей-то голос, и вернулся назад. Даже по комнате он двигался легко, натренированно, и я подумал, что самым важным в трудную минуту является психологический фактор и эта натренированность. Человек способен выдержать зимой в таежных условиях без жилья дней пять, но если больше — накапливается усталость от постоянного недосыпания, холода, он начинает делать ошибки, появляется нервозность... В предыдущей экспедиции отряд провел на снегу четырнадцать дней и все же вернулся обратно, не дошел.
Люди, которым доводилось оставаться один на один с природой в подобных условиях, безусловно, знают, что силы человека утраиваются, если он уверен, что где-то в сорока, семидесяти или даже ста километрах есть жилье. К охотникам Саша относится с особой теплотой. Он и не скрывает этого — долго вместе со мной рассматривает фотографию зимовья.
...Зимовье уютно расположилось на слиянии рек Дагды и Кабаньей. Хороший сруб с двускатной крышей. На крыше связка капканов. Рядом с избушкой поленница дров, и на ней завернутые в брезент продукты. У входа на гвоздях разноцветные мешочки и два ружья. Охотники никогда не вносят их в дом: отпотевают. У порога замерзшая бутылка растительного масла. Дверь не заперта. Внутри никого нет, но прибрано, порядок. На столе лежит осколок зеркала. Над печкой отпаривается привязанная буханка хлеба. Печь истоплена, на лавке ведро с водой. Все это говорило о том, что хозяева недалеко и скоро будут. Из угла, виляя хвостом, вышла собака. Стеречь дом — не забота охотничьей собаки, и потому любому человеку она рада, трется о ногу... Геннадий подбросил в печку дров, Алексей и Саша вскипятили воду и только было собрались заваривать чай, как раздался стук в дверь:
— К вам можно?
Вошел смуглый, среднего роста человек лет двадцати пяти, с черной бородой, окутанной инеем, в суконной куртке, из-под которой до самых колен свисал голубой вязаный свитер.
— Николай, — представился вошедший хозяин дома и широко улыбнулся, обрадованный приходу людей в его жилище. Через несколько минут вернулся второй охотник — средних лет, в таком же наряде, только сам сухощавее, и потому одежда на нем выглядела мешковатой. Они разделись и немедленно принялись за стряпню. Приволокли с мороза мясо и стали крутить пельмени. Они так просто и непринужденно угощали всю троицу, так искренне были рады, что ребята почувствовали прилив сил. Они готовы были расспрашивать и рассказывать сами обо всем на свете хоть до утра. И это было прекрасно, но из всех благ ребята выбрали сон. Охотники остались гостеприимными до конца. Они продолжали рассказывать, даже когда ребята окончательно заснули. Вечером охотники не поверили в маршрут экспедиции, но, когда утром они услышали, что ребята действительно намерены дойти через перевал на Зеву, в верховья реки Дагды, они самым серьезным образом осмотрели их одежду, лыжи и дали несколько советов, которые позже пригодились. На перевале надлежит быть осторожными. Много снегу, и на лыжах пройти очень трудно. Вообще они не помнили, чтобы, зимой кто-нибудь шел через перевал.
— Будете проходить зимовье, — сказал Николай, — возьмите там мяса. Сколько угодно.
— И не пейте после него сырую воду, — добавил второй.— Только чай.
Саша сделал несколько фотоснимков охотников, они тоже щелкнули каждого из тройки и еще долго стояли, опершись на «белки» — охотничьи ружья, провожая взглядом до тех пор, пока трое не скрылись за поворотом.
Саша собрал фотографии, папку с рукописями и чертежи. Один чертеж, вернее рисунок, я задержал в руках, и Саша улыбнулся:
— Это отражатель. В прошлую экспедицию мы испытывали палатку по типу чума эвенков — шесть шестов, обтянутых тонкой бязью. Но, как и наши телогрейки, палатка не выдержала испытаний, прогорала от искр. Поэтому, прежде чем уйти во вторую экспедицию, мы вместо чума решили сделать тент-отражатель. Отражатель похож на ширму, которую, чтобы поставить, надо раздвинуть. Это три шеста, связанные на вершине и обтянутые бязью. И отправились за город, в дачное место, чтобы переночевать на снегу, испытать его. Принцип прост: ложимся, как бы прячась от ветра за отражателем, а в ногах разводим нодью — костер из сложенных в длину пирамидой бревен. Над головой небо. Люди удивлялись, думали, наверное, что ребята спятили.
Я прекрасно понимал, что спать на снегу, когда знаешь, что где-то недалеко дома, станция, город, — это не то же, что ночлег в тайге. Разумеется, и там человека поддерживает сознание, что где-то бродят охотники, проходят, пусть очень редкие, охотничьи тропы, стоят зимовки. Понятно Сашино отношение к охотникам. Их хижины — это своего рода населенные островки с маяками в безлюдном море тайги. Есть особая радость во встрече с человеком в самые трудные часы жизни. Никогда не забываются ни сама встреча, ни человек, который вселил в тебя уверенность, накормил, подсказал дорогу.

...Охотники были правы. Снега много — и за день экспедиция прошла не более двадцати километров. Сделали, правда, короткую остановку в зимовье, заготовили мяса. Сначала по совету охотников его сильно выварили, потом зажарили досуха, сложили в мешок. Здесь, в зимовье, чувствовалось, что люди далековато. Впереди перевал. Помнили сомнения охотников, прошлогоднюю неудачу. За эти дни втянулись в походный ритм и реже чувствовали усталость. И если она приходила, то была другой, чисто физической. К закату солнца подошли к ключу Каленому. Снег до полутора метров. Изогнутый ветром березняк. Чем ближе перевал, тем больше снега.
Сбросили рюкзаки и молча разошлись в разные стороны — искать место для ночлега. Густой и очень удачный ельник отыскал Гена. На кронах лежит снег, но под деревьями яма: копать до земли меньше. К тому же выкорчеванная сосна лежит корнями у ямы и защищает от ветра. Саша и Алексей таскают бревна, предпочтительно ольху. Геннадий готовит ужин. Ему же предстоит ночное дежурство у огня. Через час возле ночлега — гора напиленных двухметровых поленьев. Выкопали снег, настелили елового лапника. Сложили нодью. Установили против ветра тент-отражатель. И ветер не тревожит, и дым глаза не ест. Поужинали. Термометр показывает минус 41. Гена завернулся в овчинный тулуп и должен через каждые два часа подкладывать в нодью бревна. Саша и Алексей забрались в мешок из двух одеял и заснули. Луна осветила ельник, длинные тени от деревьев легли на синеватый снег. Звенящую тишину нарушают выстрелы лопающихся от мороза деревьев...
В коридоре снова раздались шаги, приблизились, и в комнату вошел человек. В руках он держал трехлитровую банку виноградного сока. Саша, не скрывая довольной улыбки, смотрел на парня, как на чудо света. Потом взглядом как бы спросил меня: «Ну как, оценили?» Это, вероятно, и был тот сюрприз, который он так долго готовил. Парень широко и смущенно улыбнулся и начал открывать окна.
— Накурили-то как, — просто сказал он, поставил на подоконник банку, стакан и, распахнув окно и дверь, снова обнял банку, налил стакан соку и выпил.
Саша познакомился с ним уже в Охотничьем, в конце пути. Юра Макаров охотник, ему двадцать один год, работает в промхозе. Крепкий, с длинными гладкими русыми волосами. На загорелом лице широкие скулы, улыбка обнажает два ряда белых крепких зубов. Мощный торс, крепкие мышцы ног, проступающие сквозь тонкую ткань брюк.
— Как приезжаю в город, первые дни не могу дышать, а тут еще табаком начадили...
— А что, если отварить картошки?! — неожиданно предлагает Саша, и я понимаю, что делает он это не ради самой еды, а чтобы показать «своего» охотника в полном блеске. И тут же добавляет: — Знаете, как охотники хранят картофель? Нет? Высыпают картошку в бочку с водой и замораживают. Когда нужно готовить, откалывают картошку вместе со льдом, чуть-чуть оттаивают, сразу очищают и в кипяток. Во льду, говорят, она сохраняет все свои качества.
Юра не выдерживает:
— Это не самый лучший способ. Надо очистить, нарезать, засыпать в мешок — и на мороз. Так картошка может храниться очень долго... Как пельмени. Только с мороза надо сразу в кипяток. А еще можно так: если есть рядышком «талик» — незамерзающий родник, то прямо на его песчаное дно высыпают несколько мешков картошки и выбирают по мере надобности. Достанешь, а она совершенно свежая. — Юра вышел на кухню и оттуда уже крикнул: — Сейчас что-нибудь сварю.
— Он приехал во Владивосток за фотоаппаратом, — пояснил Саша. — И еще мечтает о хорошей лайке. Говорит, что готов поехать за ней хоть в Москву.
— Откуда он?
— Приехал в Приморье с геологами из Шушенского. Попал в Бикин и «вписался» в эти места. Он хороший охотник. Есть люди, которые в охоте видят только источник дохода. Чтобы добыть, например, тридцать соболей, убивают несколько изюбров. Для приманки тридцати соболей хватило бы мяса одного изюбра, но это мясо надо всюду таскать с собой. А участок большой, и эти так называемые «охотники» не упустят изюбра, если он рядом.
— Люди в тайгу приходят разные, часто случайные, — подтвердил Юра, заглянув в дверь.— Такие все хотят только брать от тайги, только брать.
Саша по-прежнему смотрит на Юру с особым уважением, хотя они почти одногодки.
— Скоро будет обед, — улыбнулся Юра, возвращаясь из кухни. Он подошел к подоконнику, вылил в стакан остаток сока из банки и вдруг виновато улыбнулся, быстро ушел в другую комнату и вернулся с новой, полной трехлитровой банкой:
— Извините, увлекся. Это вам, пейте.
Было такое впечатление, что он покупает соки целым фургоном, и под его банки Саша выделил отдельную комнату.
— Набираюсь витаминов. Пью соки и ем мороженое, — пояснил Юра. — Пока я еще не вошел в норму.
— Он даже в ресторане, — подтвердил Саша, — заказал себе много сока и мороженое.
— Одно плохо, — огорченно сказал Юра, — письма идут долго. У меня в Москве была девушка. Мы переписывались, но потом... Мне в прошлом году в июле послали две телеграммы, а получил их нынче весной. В Охотничьем двадцать пять человек взрослого населения, и почту привозят, когда наберется много писем... Доставай соль, картошка поспела.
...К перевалу подошли в три часа дня. Кричала желна. Солнца не было, ползли низкие облака. У ключа Ефимова Саша отправился вверх на разведку. Порошит мелкий снег. У костра ребята молча доедают картошку. Снега около двух метров. Возвращается Саша. Надо идти, пока снег прилипает к лыжам. Затвердеет — тогда будет трудно одолеть подъем в 45 градусов. Лыжи хоть и широкие, и называются охотничьими, но не гнутся, не пластичны. Носки лыж должны выходить на поверхность, чтобы подминать снег, а они как подводная лодка — зарываются, сковывают движение. Приготовления окончены, вещи собраны, начался штурм. Каждый, приминая глубокий снег, внимателен, смотрит под ноги. Ребята ступают по нескольку шагов, соскальзывают, часто падают. Не снег, а какая-то вязкая масса, от которой никак не отделаться. Ощущаешь ее тяжесть. По лицам побежали ручейки пота. Рюкзаки отяжелели, тянут назад. Первая остановка. Трое сходятся вместе, садятся на рюкзаки и молча достают сухое мясо. Гена дрожащей рукой раздает пайки. Слышно, как дышит каждый. Постепенно мурашки начинают пробегать по остывающим спинам. Вокруг белое безмолвие, и впереди перевал. Встали и снова вверх. Вязко, шаг за шагом отвоевывается у склона. Снова падение, остановка. Что может быть лучше, чем хруст сахара, когда нет сил идти? И опять вперед, стряхивая ручейки пота с лица. Кажется, если остановишься — замерзнешь. Одежда вымокла. Ноги налились свинцом. Стемнело. Упрямо опустив головы и почти автоматически работая руками и ногами, продолжают идти. Вдруг почувствовали, что уже не тянет вниз, не скользит. Огляделись: поляна, вокруг ельник, облепленный снегом. Это перевал. Насквозь мокрые, ребята быстро меняют на открытом воздухе нижнее белье. Пар бежит от разгоряченных, красных тел. Сухая одежда неожиданно разморила, почувствовали сильную усталость.
После того как съели полведра каши и высушили верхнюю одежду, прямо в ней полезли в одеяла. Но сон не шел. Нодья не горела. Из костра валил пар и дым: подтаявший снег заливал огонь. Температура резко понизилась, к утру стало минус сорок три. Маленькая поляна, со всех сторон окруженная высокими деревьями — перевал, — казалась дном колодца. Где-то вверху ветер разогнал облака, и в небе появились, словно вызрели, звезды... Холодно, согреться нельзя. Светает. Костер опустился и тлел где-то в двухметровой глубине. По краям ямы ребята разложили бревна и, сидя на них, пытаются согреться дымом, жадно, как рыбы, хватая ртами свежий воздух. Каждый контролирует другого, чтобы не заснуть, не упасть в яму с костром. Утром все были похожи на копченых рыб. Лица коричневато-серые, заскорузлые. Желаний никаких, только спать.
Пожалуй, эта ночь была кульминационной в испытаниях... Еще вчера полная неизвестность, гнетущее состояние перед перевалом, трудный, затяжной подъем. Сегодня, несмотря на усталость, в сознании сквозь сон как бы вспыхивало слово: прошли, прошли... Утром огляделись: вокруг бесконечная равнина, необычная для Сихотэ-Алиня. На сотни километров раскинулись болотистые мари с островками ельников.
Взяли азимут 240 градусов на устье Сагды-Биасы, впадающей в Зеву. Засекли направление на островок елей и пошли, предвкушая близость последней точки маршрута — поселка Охотничьего.
Надир Сафиев
(обратно)
За порогами-крокодилы

Телефонный звонок разбудил меня не сразу. Мне понадобилось не меньше минуты, чтобы сквозь обрывки сновидений до сознания дошел смысл слов Али:
— Туан (Туан — господин (малайск.), обращение к старшему по положению или по возрасту. — Прим. автора.), завтра можно поехать на охоту. Вставай пораньше...
— Какая охота, Али? — Я ничего не понимал. В час ночи такое предложение выглядело довольно странным. Была суббота, и единственно, о чем я мечтал накануне, — утром подольше поваляться в постели.
— Я буду ждать туана рано утром, — временами пропадая, доносился до меня голос Али.
Теперь я совсем проснулся и, конечно, сразу же согласился.
— Хорошо, Али, приеду! — крикнул я в трубку. — На кого будем охотиться? — В это время в мембране что-то захрипело, и голос моего друга исчез окончательно.
Но теперь это меня не смущало. Я знал, что раз позвонил Али, то меня ждет интересное приключение. Мой приятель был сыном старосты приморской деревушки. Отец, как и другие жители деревни, считал его бездельником. У парня, кроме страсти к охоте и бродяжничеству, не было других увлечений. Этот добродушный малый был великолепным знатоком джунглей. Уже при первой встрече я узнал от него немало интересного о повадках животных, о которых имел представление только по книгам. Али рассказывал о них как о своих хороших знакомых. Многие звери в его рассказах наделялись прямо-таки человеческими чертами. Я много раз с удовольствием бродил с ним по лесу, когда у меня было свободное время. Перспектива поохотиться вместе с Али сразу перевесила желание отдохнуть.
Я начал укладывать вещи, стараясь ничего не забыть. В джунглях можно встретить самых различных животных — от слона до карликовой антилопы-пеландута, возвышающейся над землей всего на двадцать сантиметров, не говоря уже о тиграх, медведях, обезьянах и
пантерах. Я не знал, на кого нам предстоит охотиться, и поэтому снаряжался капитально, стараясь предусмотреть любую неожиданность.
...Поеживаясь от ночной свежести, я вывел машину из гаража. Асфальт с убаюкивающим шорохом вырывался из-под колес автомобиля. Из-за темной завесы, деревьев по сторонам дороги вспыхивали временами таинственные зеленые и красноватые огоньки.
Какие-то птицы вспархивали из-под колес. В рассеянном свете фар трудно было определить расстояние, и мне каждый раз казалось, что птица вот-вот врежется в ветровое стекло.
Я до сих пор не знаю, чем это объяснить, но в тропиках ночное шоссе — излюбленное место для прогулок самых разных животных. Может быть, их привлекает теплый асфальт? Наверное, именно так, поскольку больше всего ночью на дорогах встречается змей, ящериц и других холоднокровных животных. Рано утром, когда на работу еще не вылетели крылатые уборщики мусора и лесные санитары, на оживленных магистралях можно собрать неплохую коллекцию змей, ящериц и жаб.
Али встретил меня у своего дома и, едва я вылез из машины, потащил к реке. На горизонте, изрезанном зубчатыми вершинами гор, заалело, и почти сразу показался край солнечного диска.
Недавно в горах прошли дожди. Река Сунгей Мерах вздулась и с удвоенной энергией вгрызалась в плодородные почвы долин. Ее кофейно-коричневые воды несли в море тысячи тонн ила, расцвечивая синюю гладь грязно-рыжими полосами. Река несла искалеченные стволы деревьев, охапки травы и другой мусор, собранный на пути с гор.
У дощатых мостков, где уже принялись за стирку женщины, ритмично ударяя свернутым бельем по отполированным камням, стояли две лодки. В них погрузили наше снаряжение. На корме были устроены навесы из листьев пандануса, которые должны были укрывать нас от солнца.
— Дождемся начала прилива, тогда грести будет легче, да и вода станет спокойнее, — скачал Али.
Солнце поднялось выше, и стало довольно жарко. Начавшийся прилив повернул течение реки вспять, помогая гребцам. Мы сели в первую лодку. Мимо медленно проплывали зеленые берега. Лодки еще не вышли из зоны, где морская вода смешивается с пресной. Здесь было царство мангров, сплошной стеной стоявших по обоим берегам. Среди темных узловатых стволов, затопленных водой до зеленых ветвей, словно черные растопыренные пальцы, торчали воздушные корни, позволяющие этим деревьям расти в местах, периодически заливаемых во время прилива. Берег был испещрен норками маленьких береговых крабов. При малейшей опасности они мгновенно скрывались в своих убежищах, чтобы снова как по команде вылезти наверх, когда угроза минует. Дальше вверх по течению река ныряла в тоннель, образованный кронами деревьев, густо переплетенных лианами.
Лодка вошла под зеленые своды леса. Вокруг стало сыро и сумрачно. Берега сблизились, и гребцам приходилось напрягать все силы, преодолевая бурное течение. Гребцы тяжело дышали и часто сменялись. Капли пота скатывались по их обнаженным спинам, хотя зеленый полог джунглей надежно прикрывал нас от палящего солнца, свет которого проникал сверху в виде неясных бликов.
Минуты складывались в часы. Мне уже надоело однообразие зеленых кулис, тянувшихся по обоим берегам реки, и я спросил:
— Али, скоро приедем на место?
— Как только дойдем до порогов, — с наслаждением затягиваясь сигаретой, ответил он.
— А на кого мы будем охотиться? — Я вспомнил, что за суматохой сборов так и не успел спросить его об этом.
— На крокодила, туан.
Я сразу забыл, что совсем недавно ругал Али за то, что он не дал мне поспать вволю. Да и кто не пожертвовал бы сном, чтобы принять участие в такой охоте? Я тут же потянулся к ружью и стал вспоминать, куда положил патроны, начиненные картечью. Али снова озадачил меня, сказав:
— Ружье не нужно, туан. Мы будем ловить крокодила, как рыбу.
— Как рыбу?! — Мой рыбацкий опыт не шел дальше ловли щурят на блесну. Правда, как и у каждого рыбака, у меня тоже пару раз попадались рыбины, неизбежно срывавшиеся с крючка, о которых я потом рассказывал:
«Вот такая щука ушла», — разводя при этом руки в стороны как можно шире.
Но теперь было другое дело. Самый маленький крокодил даст сто очков вперед самой большой щуке. Опыта в ловле крокодилов у меня не было. На память приходили только кадры из давнего фильма «Охотники за каучуком», где герои плыли на лодке по какому-то месиву из крокодилов и меткими выстрелами укладывали на месте ревущих хищников, пытавшихся залезть к ним в лодку.
Я забросал Али вопросами, но он как истый охотник считал, что говорить перед охотой о добыче — верный способ остаться ни с чем. Поэтому в ответ я услышал только:
— Потом все увидишь сам, туан.
Через некоторое время издалека донесся неясный шум. Чем дальше мы продвигались, преодолевая течение, тем громче становился раскатистый гул. Приближались пороги. Когда рев падающей воды стал заглушать наши голоса, в сплошной зелени, окаймлявшей берега, показался просвет. Круто вильнув, обе лодки уткнулись в берег. Оглядываясь по сторонам в надежде немедленно увидеть крокодила, я соскочил на глинистую землю. Отдав несколько распоряжений, Али последовал за мной.
Некоторое время мы молча шли по узкой тропинке среди сырых зарослей, смахивая облепивших нас москитов. Причем Али воспринимал атаки этих надоедливых насекомых совершенно равнодушно. Я же со стороны наверняка напоминал ветряную мельницу.
Пожалуй, ни одно насекомое в тропиках не докучает человеку так, как москит. Он походит внешне на комара, разве только поменьше и цветом потемнее. Но характером и повадками резко отличается от своего северного собрата-увальня. Пока наш комар, предупредив о своем приближении долгим звоном, усядется, примостится и будет нерешительно перебирать ножками, выбирая удобное место, куда можно вонзить хоботок, его можно десять раз прихлопнуть. Другое дело москит. Он нападает мгновенно и, с налета вонзив жало, улетает прежде, чем его успеваешь убить. А чтобы насытиться, ему нужно ужалить не один раз. Поэтому, если вас осадил пяток москитов, вам будет казаться, что их по меньшей мере сотня.
Через некоторое время тропинка пошла круче вверх, влажная глина под ногами сменилась каменистой осыпью, и сырой тоннель кончился. Как по волшебству, исчезли и москиты. Они докучают только ночью или в темных сырых местах. Деревья раздвинулись, и впереди показались заросли аланг-аланга — высокой жесткой травы и колючего кустарника, растущего на месте старых вырубок и пожарищ.
Пробираясь по узкой стежке среди аланг-аланга, приходилось внимательно следить, чтобы не зацепиться за острые шипы и колючки или не порезаться об острую траву, похожую на нашу осоку, увеличенную в несколько раз. Потом аланг-аланг кончился. Мы вышли на поляну, спускавшуюся к берегу реки в том месте, где вода с шумом низвергалась вниз с десятиметровой высоты.
Пока я стоял, любуясь величественным зрелищем, появились наши спутники. Они принесли с собой все узлы и свертки, сложили их под гигантскими фикусами на краю поляны и немедленно принялись за устройство лагеря. Мог внезапно набежать дождь, и нужно было приготовить себе укрытие. Никаких инструментов, кроме нескольких длинных тесаков-парангов и дубин, ни у кого не было. Однако моих спутников это не смущало. За несколько минут между деревьями были установлены навесы, опиравшиеся одним концом в землю, а другим на три палки, воткнутые в глину. Листья пандануса и пальм, плотно уложенные сверху, гарантировали надежное убежище в самую сильную грозу, несмотря на кажущуюся несолидность постройки. Малайцы переняли технику строительства таких шалашей от аборигенов Малайзии, бродячих охотников-собирателей, которые и поныне кочуют кое-где в джунглях.
Али предложил мне пойти на разведку, на место будущей охоты.
Мы отошли метров на сто, и я сразу потерял всякую ориентировку. Пожалуй, только шум водопада мог подсказать мне, где примерно находится лагерь. Правда, в присутствии Али я чувствовал себя довольно уверенно. Он сроднился с лесом, знал его как никто другой. Для него все вокруг говорило понятным языком, для него не было неразрешимых загадок.
Впереди показались заросли бамбука. Зеленые стволы стояли сплошной стеной. Я подумал, что нам предстоит сделать большой крюк, чтобы обойти это препятствие. Но Али быстро разыскал в этих зарослях тропинку, проложенную многими поколениями животных. Она была плотно утоптана.
Миновав бамбуковый лес, мы вышли на огромное болото. На илистых отмелях неторопливо расхаживали белые птицы, похожие на цапель, только ростом поменьше. Время от времени они застывали на одной ноге и, клюнув что-то с земли, запрокидывали голову, заглатывая добычу. Али показал мне следы, похожие на отпечатки трезубцев.
— Крокодилы, — коротко сказал он. — Они выходят погреться на солнце. Охотиться пойдем ночью.
Когда мы вернулись в лагерь, на поляне уже пылал костер. Над огнем исходили паром разнокалиберные котелки, распространяя вокруг аппетитные запахи. Приглашать к столу никого не пришлось. Собственно, стола и не было. Мы уселись на землю в тени деревьев вокруг медного котла с вареным рисом. Вилок и ложек тоже не было. Все прекрасно обходились пальцами правой руки. Вместо тарелок каждый отрезал себе кусок от широкого бананового листа. В скорлупках кокосов — острые приправы.
Кроме карри из цыплят, к рису подали вареную рыбу с красным соусом и тертой мякотью кокосового ореха, жареные клешни крабов, креветок, лангустов и прочую морскую живность. Отдельно стояла банка с крохотными зелеными и красными стручками перца.
Многие блюда были мне незнакомы, и я внимательно следил за тем, как их ели мои соседи. Все шло хорошо, пока Али, как и остальные, не взял из банки стручок перца. Он откусил половину и отправил вслед пригоршню риса и кусок рыбы. Не желая отставать, я последовал его примеру.
Зеркала в тот момент передо мной не было. Но я словно со стороны увидел, как мои глаза налились слезами и вылезли из орбит, почти касаясь стекол очков. Рот широко раскрылся, а выражение лица стало как у человека, который чему-то удивился и не может прийти в себя. Я начал судорожно шарить вокруг себя руками, не в силах произнести ни слова.
Остальные, посмотрев на меня, перестали жевать и тоже удивились. В течение некоторого времени мы представляли собой группу очень удивленных людей, молча смотревших друг на друга. Все еще шире разинули рты, когда по моим щекам заструились обильные слезы, а я, не закрывая рта, прохрипел:
— Аир! (Воды!)
Быстрее всех разобрался в ситуации Али. Выхватив из чашки какой-то кусок, он по пути зачерпнул ладонью риса и все это метнул мне в рот. Легонько стукнув меня по подбородку, он дал толчок моим мышцам, так что я обрел способность жевать, продолжая обливаться слезами. Тут все поняли, что причиной исполненной мной пантомимы был перец, который носит выразительное название ломбок-сетан, или чертов перец. Он настолько едок, что у непривычного человека, попробовавшего его, на нёбе вскакивает волдырь, как от ожога. До конца обеда у меня не проходило ощущение, будто во рту у меня тлеет небольшой костер. Его не могло потушить огромное количество воды, которое я в себя вливал. Теперь каждое незнакомое блюдо я брал с предельной осторожностью. Под взглядами моих спутников, которые напрасно пытались спрятать улыбки, я осторожно откусывал небольшой кусочек и, если ничего страшного не случалось, начинал есть.
...Солнце уже скатывалось к вершинам деревьев, когда мы встали после отдыха и стали пить чай. Али давал указания насчет предстоящей охоты. Несколько человек пошли в лес готовить факелы из смолистых корней и веток. Али, порывшись в узлах, вытащил большой аккумуляторный фонарь и острый крюк на длинной веревке с поводком из стального тросика. Один из охотников зашивал свиной желудок, наполненный требухой. Это будет приманка для крокодила. Ее специально взяли с собой из деревни.
Вскоре из-за ближайшей вершины показался лунный диск, и мы тронулись в путь. Пламя факелов бросало тусклые багровые отблески на землю и едва позволяло различать место, куда ступала нога. Как я понял, факелы были нужны скорее для того, чтобы смолистым дымом отпугивать москитов, которые окружали нас сплошным звенящим облаком. Я шел вслед за Али, стараясь ступать по его следам.
Ночью совершенно нельзя было узнать тех мест, по которым мы проходили днем. Как Али умудрялся держать правильное направление, остается для меня тайной за семью печатями. А он, ни разу не сбившись, точно вывел нас к тропинке, пересекавшей бамбуковые заросли. Здесь идти стало намного легче.

Вскоре под ногами зачавкала холодная жижа, выступавшая из-под толстого слоя мха и стелющихся трав. Впереди открылась прогалина, в конце которой в лунном свете засеребрилась вода болота с темными пятнами островков, покрытых зарослями кустарника. По знаку Али все потушили факелы. Пройдя по краю трясины к широкому зеркалу открытой воды, Али включил фонарь.
Яркий луч медленно скользил по тускло отсвечивавшей воде, казавшейся таинственной и глубокой. Сноп света несколько раз высветил широкий полукруг на воде. Али переместился на несколько десятков метров в сторону. Мы последовали за ним. На этот раз едва фонарь прочертил световую дорожку, как метрах в тридцати от берега словно в ответ вспыхнули два красных тусклых огонька.
Али шепотом отдал какое-то приказание. Двое парней, насадив на крюк наживу, раскрутили веревку и зашвырнули приготовленную приманку в воду. Конец веревки привязали к торчавшему неподалеку пню. Два рубиновых фонарика двинулись по поверхности воды в ту сторону, где с громким всплеском упала приманка. Потом огоньки исчезли из виду. Еще через мгновение веревка натянулась струной, а вдали от берега послышались яростные всплески и забурлила вода.
Не дожидаясь команды, охотники вцепились в веревку и начали тянуть ее изо всех сил на берег. Али спокойно давал указания, и в соответствии с ними веревку то стравливали, то опять натягивали.
Ноги охотников скользили в жидкой грязи. На обнаженных торсах вздувались и опадали узлы мышц. Чувствовалось, что на другом конце веревки достойная добыча. Цепочка людей, ухватившихся за веревку, то подавалась вперед, то отступала назад. Эта картина напомнила мне хорошо известное соревнование по перетягиванию каната. Со стороны трудно было бы определить победителя этого соревнования, которое шло на этот раз между крокодилом и людьми, если бы Али каждый раз, как только веревка подавалась на берег, не набрасывал ее кольцами на пень. Преимущество людей было бесспорно. Крокодил не мог утянуть веревку в воду — она была крепко привязана к пню. Но в этой игре ставкой для него была жизнь, и он, видимо, не собирался легко с ней расстаться.
Я был не в силах усидеть на месте и метался вокруг, стараясь никому не попадать под ноги. У меня хватило ума понять, что самой лучшей помощью с моей стороны в данный момент будет одно — не мешать охотникам.
В начале охоты все говорили только шепотом, а сейчас ночные джунгли гудели от наших криков. Я думаю, что на два километра в округе не осталось ни одного зверя, который бы не унес ноги, испугавшись этого шума. Случайный прохожий, наверно, немало бы подивился, окажись он близ этого места, услышав вплетающееся в дружный хор малайцев, кричавших «тарик, лепас!», оглушительное русское «давай, давай!».
Борьба с крокодилом продолжалась уже почти час. Азарт первых минут схватки постепенно схлынул, и крики поутихли. Люди измотались, а конца охоты еще не было видно. Мне стало казаться, что ловля крокодила действительно мало чем отличается от рыбалки. Нужно только иметь силу и терпение. Я не раз слышал от бывалых рыбаков, что им приходилось вываживать крупных сазанов и щук по часу и больше.
Неожиданно веревка ослабла так, что охотники почти повалились навзничь, но продолжали быстро выбирать ее из воды, чтобы не дать крокодилу возможности перекусить ее выше стального тросика. Али издал предостерегающий крик: крокодил, убедившись, что ему не удержаться в родной стихии, ринулся на берег.
Почему-то существует убеждение, что крокодил — медлительное, неповоротливое животное. В эту ночь я имел возможность убедиться, что это далеко не так. Потом Али рассказал мне, что крокодил свободно может догнать бегущего человека.
И тогда я сам видел, как с громким фырканьем, переходящим в глухой рев, на берег вылетел из воды здоровенный крокодил. В темноте, которую едва рассеивал лунный свет, рептилия показалась мне исполинских размеров, не менее пяти метров в длину. Если бы ему удалось уйти, я до сих пор был бы уверен в этом, хотя сейчас крокодила таких размеров, пожалуй, уже не встретишь. Их шкура слишком ценная добыча, и им не дают вырастать до таких размеров.
Но и наша добыча представляла собой внушительное зрелище, даже когда я смог присмотреться к ней поближе. На покрытой складками выпуклой морде в свете фонаря холодным бешенством сверкали светло-зеленые глаза, пристально следившие за действиями людей.
Крокодил открывал и закрывал усеянную длинными зубами пасть, тщетно пытаясь перекусить стальной поводок. Могучее тело оливково-бурой, почти черной окраски напружинилось, готовое к молниеносному броску на противника. Самое страшное оружие крокодила — хвост, которым он может разнести в щепы небольшую лодку, был приподнят, готовый для удара. Именно ударом хвоста крокодил выбрасывает на берег каскады воды, ила и песка, сбивая с ног небольших животных и ослепляя крупных. Так он поступает перед тем, как кинуться на жертву, неосторожно приблизившуюся к воде. Глядя на него, я понял, что эта «рыбалка» не столь безопасное занятие, как мне казалось вначале.
Не спуская глаз с крокодила, Али осторожно выбрал слабину и намотал веревку на пенек. Повинуясь его знаку, два охотника вонзили в бока крокодила, где твердый панцирь переходит в мягкую кожу брюха, бамбуковые копья. Да, в такой темноте и скученности ружье — вещь опасная. Али категорически запретил мне взять его с собой, иначе я не удержался бы от соблазна, и неизвестно, чем все могло кончиться. Поэтому, когда крокодила ловят на крюк, до сих пор пользуются оружием дедов и прадедов...
Охотники навалились на древки копий всей тяжестью, стараясь удержать крокодила на месте, но он сделал резкий поворот всем туловищем и отбросил их в стороны. Мощный хвост метался из стороны в сторону, круша все на своем пути. Последовала новая атака, и один из охотников, ловко увертываясь от ударов хвоста, набросил на него петлю.
Вскоре крокодил стал напоминать огромную подушку для булавок. В его боках и брюхе торчало не менее десятка копий, на концах которых на мгновение повисали люди, отбрасываемые в стороны резкими поворотами огромной туши. Крокодил метался по берегу, ограниченный в своих движениях только веревкой, привязанной к пню.
Вот кому-то удалось привязать к дереву вторую веревку, петля которой захлестнула хвост. Охотникам стало легче. Теперь все зависело от искусства Али, который ловко выбирал слабину, а когда это позволяли делать движения крокодила, набрасывал петли на пень. Чтобы застраховаться от всяких неожиданностей, несколько человек попытались набросить на хвост еще одну петлю. Для этого охотникам пришлось приблизиться к разъяренному животному на опасную дистанцию.
Крокодил, словно почуяв беду, заметался еще яростнее, напрягая все силы, чтобы освободиться. В это время веревка, удерживавшая хвост, не выдержала и лопнула. В одно мгновение пушечный удар живого бревна из мышц и непробиваемой кожи настиг одного смельчака. С громким криком тот упал на землю, но тут же вскочил на четвереньки, пытаясь увернуться от страшной пасти.
Казалось, сейчас произойдет непоправимое. Но Али доказал, что его недаром выбрали руководителем. Он бросился к упавшему и в последний момент рванул его с того места, куда веревка с крюком позволяла дотянуться крокодилу. Страшные челюсти щелкнули буквально в полуметре от охотника.
Несчастье, случившееся с товарищем, словно прибавило энергии и смелости остальным. Несмотря на отчаянное сопротивление зверя, через несколько минут все было кончено.
И тут снова поднялся невообразимый гомон. Каждый, стараясь перекричать другого, вспоминал захватывающие моменты сражения. Али едва удалось восстановить порядок. Снова зажгли факелы. Крокодила перевернули на спину, обнажив брюхо лимонно-желтого цвета. Ловко работая ножами, охотники начали снимать с него шкуру, чтобы не тащить всю тушу в лагерь.
Я подошел к раненому. Он сидел, вытянув ноги, терпеливо ожидая, когда им смогут заняться. Кожа во многих местах была содрана чуть не до костей. Но удачная охота, видимо, заставляла его забыть о боли, и он говорил так же оживленно, как другие.
Вскоре охотники закончили работу. Оставив тушу убитого крокодила на съедение его собратьям, мы вернулись в лагерь. Усталость быстро сморила даже самых выносливых...
Обратное путешествие по реке выглядело приятной прогулкой. Лодки быстро шли по течению. Я сидел на корме и смотрел на растянутую шкуру крокодила, который оказался и при свете дня не таким уж маленьким. Почти три с половиной метра. Такой добычей можно было гордиться. И я гордился, потому что отчасти считал этого крокодила своим. Если мне уж не удалось приложить к его поимке руки, то я вдохновлял от всей души охотников криками. И об этом красноречиво свидетельствовало сипение, которое вместо слов вырывалось у меня из горла...
Юрий Папамиши
(обратно)
Там, глубоко под такыром
 Эски Сув — Старая вода. Миллиард километров, пройденных водоискателями
Эски Сув — Старая вода. Миллиард километров, пройденных водоискателями
Есть сотни хитростей, не зная которых не приготовишь доброго обеда и не заваришь чая в здешних местах: во всех колодцах вода разная, да к тому же меняется в зависимости от сосуда, в котором ее перевозят и хранят. Лучше всех о свойствах воды знают химики и стряпухи. Я бы даже поставил в обратном порядке: стряпухи и химики. Какое место в лагере святое? У очага. Так вам ответят пастухи и геологи, археологи и шоферы.
...Еще рдеют Плеяды и голубо мерцает Орион. На востоке шелестят сполохи, предвестники внезапной и пышной зари, но до нее не близко. Буровая гудит с какой-то отчужденностью к окружающему, ровно, мощно: вертится долото, струится глинистый раствор, работа идет. Буровики спят чутко — стоит двигателю застыть, вскакивают: что случилось?
Наташа Карепова уже на ногах. За вагончиком, у поросшего кустарником бархана, чем-то крепко стучит о землю.
— Чего в такую рань? — ворчит Гаврилов, начальник отряда, прокашливаясь спросонья.
— Чертов... (удары)... саксаул. Никак... (бьет сильно и зло)... С вечера не заготовила...
Я помню, легла она позже всех, пока не перемыла посуду.
Топор саксаул не берет, но, если колотить стволом оземь, он распадается на жгуты. Горят они багровым и почти беспламенным жаром, как бы с трудом отдавая накопленное в тканях солнце. Но разжечь — уйма хлопот; даже бензином обдашь — пыхнет, и только бока обуглятся. Можно обложить верблюжьей колючкой, но ее требуется много, а наломать — попробуй. Годится и кандым, но куда приятней несколько стебельков его поставить в кувшине на обеденный стол; букеты пустыни угловаты, сухи, ломки, они пахнут перегретой пылью и волей. О свойствах растений пустыни лучше всех знают ботаники и стряпухи... ну, может быть, ботаники чуть больше.
— Вот вы всю жизнь в Кызылкуме, не считая войны. Тяжелее всех кому? — Я спрашиваю Сморогова Ивана Васильевича, шофера.
— Оно конечно, у плиты... Особливо на перетаске...
В давние тридцатые годы в городок Ходжейли на Амударье привезли на барже полуторку с зелеными бортами, и единственного водителя Ваню попросили доставить бидоны с водой к дальней отаре. Там засыпало песком колодец. Ваня повел, весь обратившись в слух: как шуршит песок под колесами, стучат камешки на увалах и булькает вода в радиаторе... Чабаны долго помнили, как из полуденного марева, перевалив бархан, выплыла, затарахтев, невиданная машина. Сморогов с тех пор и возит — или воду, или людей, которые ее ищут. Или их инструменты.
Я вижу, как ребята на буровой скидывают куртки, рубашки. Остаются в одних касках и плавках. В одиннадцать подъем труб. «Запарка будет», — бросает кто-то из буровиков. От грохота ничего не слышно, но ребята кричат и как-то понимают друг друга. Я улавливаю обрывки фраз: «Захватывай... Крепление... Подводи ключ...»
Лязгая и кружась, колонна вздымается вверх — грохот усиливается, и еще громче и неразборчивей кричат бурильщики. А из круглого отверстия посреди помоста, только что обнажившегося и пахнувшего подземным холодом, плеснула вода...
До забоя осталось двести метров. Пройдет немного дней, и «точка» будет пробурена. А потом? Начнется то самое перетаскивание, о котором упоминал Сморогов. На новую точку. До нее иногда десятки верст. Вышку снимают с основания, но не демонтируют, а волокут, прицепив к трактору, просматривая впереди каждый метр. Медленно ползут машины с вагончиками. Идут рабочие. Повариха обгоняет их, таща бидон с водой, роет под каким-нибудь барханом ямку, вздувает огонь, защищая его собою от ветра, ставит казанок, чтобы люди нашли здесь очаг, без которого нет ни лагеря, ни стойбища.
Десятки таких буровых бригад работают в пустыне. После них остаются торчать из-под песков металлические трубки высотой по пояс. Это как бы смотровые глазки в глубину. Время от времени к ним подъезжают на машинах техники и, запустив на стальном тросе желонку, достают пробу. Пробы показывают движение воды, перемены в ее составе.
...Как изменилась пустыня! На днях я удивлялся тому, что вот ехала машина своей дорогой, свернула к нашему лагерю, и никто не бросился с расспросами, с неизменным прежде «хабар бар?». Значит, не в диковинку. А теперь, гляжу, и того пуще. Идут по дороге два старца. В папахах, с посохами, у одного через плечо перекинут бурдючок. Одни! Пешком! Случилось что? Может, беда какая стряслась — и вот, не дождавшись транспорта, не успев даже верблюда оседлать, спешат за помощью?.. Ничего подобного. Вздумалось навестить приятеля, он пасет овец в соседнем кочевье, и пошли. В полной уверенности, что какая-нибудь машина по пути догонит и подвезет. И вот встретили Сморогова...
Дорог в пустыне столько, сколько шоферов. В отделе кадров, когда оформляют водителя, шутят: ну, быть еще одной колее. Наезженным колеям можно доверять. Они легли на твердый грунт, и каждый поворот обдуман.
— Никакое конструкторское бюро лучше не проложит, — говорит Сморогов и вдруг добавляет: — Я кызылкумской закалке, может, жизнью обязан. — Четыре года он воевал за баранкой. — Бывало, глянешь, дорога пустынная, тихая. Нет, брат, жди подвоха: фриц, он хитрый. Либо простреливает дорогу, либо заминировал. Бочочком, по-над оврагом пролезешь, а чуть правее возьмешь — сядешь. Глаз-то наметанный. И груз цел, и сам цел!
— Ваших дорог тут, поди, тысячи? — спрашиваю я.
— Наших? — переспрашивает он, не совсем поняв. — Гидрогеологических? Да, почитай, все наши.
Действительно, когда по моей просьбе в бухгалтерии Приаральской гидрогеологической экспедиции попробовали прикинуть общий километраж, пройденный экспедицией за последние, скажем, десять лет, получилась цифра, близкая к миллиарду. Теперь можно, не колеблясь, утверждать, что каждый увал на огромной территории, каждая ложбинка и останец исследованы водоискателями.
Геологи тряслись в кузовах, придерживая руками теодолиты, рейки; шоферы в это время работали в раскаленных кабинах, выворачивая непослушный руль, беспокойно щупая ладонью пышущую жаром стенку мотора. Геологи лазили, измеряли, отбивали образцы, шоферы прочищали забитые песком фильтры. Вечером, когда геологи заносили последние записи в пикетажную книжку, шоферы работали под машиной, делая профилактику, подкачивая шины, мысленно прикидывая завтрашнюю дорогу. Ведь с рассветом снова в путь, машина должна быть в готовности. Всей воды, взятой с собой на маршрут, не хватило бы, чтобы отмыть руки шоферов, и они просто оттирали их бензином, прежде чем взять суповую миску. Комбинезон набухал от масла, и на солнце казалось, он вот-вот задымится... Так искали воду.
О том, что она есть, прячется глубоко под такырами, догадывались издревле; в тех же местах, где она залегала неглубоко (по здешним меркам, разумеется, метрах в пятидесяти-сорока), ее умели находить. Сейчас строятся разные догадки, каким образом это делалось — при помощи лозы, которая, дескать, изгибалась в нужном месте, или при помощи тончайших наблюдений над поведением животных, птиц и над растениями. Рассказывают, что, когда к одному аксакалу прибежал внучек с сообщением, что электроразведка «учуяла» воду под их кишлаком, тот ответил: «Теперь они пойдут в Кыз-Кеткен». И верно, силовые линии поля повели именно туда... Когда живешь одною жизнью со своей землей, зимой замираешь у мангала, весной расцветаешь, летом вольно кочуешь с ветром и отарой овец, начинаешь чувствовать эту землю иначе, чем горожане.
Лет двенадцать назад в поселке Шоркуль, близ Нукуса, начали строить гаражи, мастерские, лаборатории, дома. Гидрогеологи обосновывались в пустыне в преддверии больших трудов. Вскоре на должность начальника экспедиции был назначен молодой инженер Леонид Сафронов. Один за другим приехали и другие молодые специалисты — Нурмамат Рузимбетов, главный геолог, Владимир Красиков, главный инженер, Виктор Соколов, главный гидрогеолог. Народ крепкий, шумливый, дотошный. В кабинетах, еще пахнувших известкой, далеко за полночь горел свет. Вокруг домов посадили акации. Теперь они густые и высокие, в ветвях возятся горлинки, а под зеленью бегают дети, которые родились в поселке.
На стене сафроновского кабинета висит карта, на ней цветом, значками и цифрами нанесены данные о всех найденных водах. Впечатление такое, что десятилетний труд потрачен на то, чтобы перевести в символы живую природу. Таков язык науки! Под песками глухо колышутся озера, шепчутся ручьи, ревут водопады, стынут заливы и рукава. Нет такого участка на карте, на котором не значилось бы присутствие воды, правда, не всегда питьевой. Если месторождение принято называть по населенному пункту на поверхности, то можно говорить, что существует водное месторождение Кызылкум. Да! Возможно, строго научно это не совсем так, поскольку воды приурочены к разным отложениям и разнятся по составу, но мне хочется подчеркнуть масштабность открытия. А кроме того, следует еще учесть, что воды, ныне относимые к непитьевым, завтра могут быть переведены в категорию питьевых: техника опреснения быстро прогрессирует.
Давно миновали времена внезапных открытий, совершаемых одним человеком; гидрогеология как бы вернулась к временам, когда безвестные кумли («песчаные люди») не славы ради, не объявляя даже имени своего, рыли между барханами колодцы. Нынче имена известны, но как перечислить всех, кто бурил, возил, измерял? Называть же одних руководителей не совсем правильно. Хотя как не упомянуть Наримана Наруллаевича Хаджибаева: талантливый ученый, он посвятил воде всю жизнь, ведает гидрогеологической службой Узбекской республики. Подбодряя, осторожно подправляя, он доверил молодежи сначала ухватить, а постепенно и размотать запутанный узел вопросов, связанных с разведкой грандиозного Южно-Приаральского артезианского бассейна.
Бесспорно, это уникальное явление природы. Западная и южная границы бассейна проходят по Амударье, северная — по Аральскому морю, восточная достигает возвышенностей Букантау, Ауминзатау. На этой огромной площади под стопятидесятиметровой толщей палеогеновых глин, на глубине от 200 до 500 метров залегают водоносные горизонты; их три, в некоторых местах четыре-пять. Вода, как выражаются специалисты, «с напором»: фонтаны достигают пятнадцатиметровой высоты. И довольно горяча — до 36°.
Открытием гидрогеологов немедленно воспользовались города и кишлаки. В Палванбае мне показывали виноградную плантацию; лозу привезли из-под Бухары, выбрав самый крупный и сахаристый сорт винограда — он прекрасно прижился. В Бий-базаре посадили гранатовую рощу, в Ишанауле — персиковую. На улицах десятков поселков появились водоразборные колонки. В Кипчаке я долго смотрел на девушку, поливавшую из шланга площадь перед клубом. Из шланга! Площадь! А в самом центре Кызылкума построен поселок чабанов, которым гидрогеологи по праву гордятся; некоторое время назад в нем выбирали первый сельсовет, и их пригласили как почетных гостей.
...Литой, тяжелый и душный ветер задувал в кабинку пыль; небо заволокло маревом, и горизонт размыло; опалово-оранжевые блики загорались на нем и потухали. Похоже было, что надвигается песчаная буря. Справа открылась продолговатая впадина; далеко на дне ее что-то блеснуло. Мираж?
— Скважина, — объяснил Сморогов.
— Почему ж блестит?
Он посмотрел на меня, не понимая моего недоумения, потом догадался и молча развернул машину.
Чем ближе мы подъезжали, тем отчетливей различал я посреди озерца высокую трубу с утолщениями; из ее отверстия хлестала толстая струя воды. Ветер иногда изгибал ее и далеко уносил брызги. Берега были скользки и пусты; ни одного кустика не выросло поблизости. Машина остановилась, мы вышли наружу. Озерцо было мертво. Я понял, что школьная истина — вода приносит в пустыню жизнь — верна лишь наполовину. Жизнь в пустыню приходит тогда, когда к воде прикладываются человеческие руки.
Кем-то предусмотрительно были набросаны ящики, бочки, на них положены доски; по ним к трубе можно было пройти, как по мосткам. Сморогов разделся и, на цыпочках добравшись до струи, стал с наслаждением плескаться. Старики наши, едущие в гости, так крепко спали в кузове, что не проснулись даже, когда машина остановилась. Только теперь один из них поднялся, улыбнулся беззубым ртом и спрыгнул на землю.
Он тоже прошел по доскам к трубе и напился из ладоней. Потом, повернувшись к Сморогову, стал о чем-то говорить, горестно кивая головой и показывая на ладони, с которых стекали капли.
— О чем он?
— Да вот... — неохотно перевел шофер, — говорит, эски сув — старая вода, древняя...
Позже я узнал от главного инженера Владимира Красикова, что, действительно, скважина пробурена в древние отложения, в которых вода накапливалась миллионы лет. И миллионы лет потом хранилась под землей. Около трехсот скважин в пустыне открыто фонтанируют, выливая понапрасну бесценную влагу. Она уходит в песок, образуя провалы, воронки, солончаки. Если бы собрать ее и пустить по каналу, какое бы это было подспорье народному хозяйству! Красиков рассказывает об этом с горечью. Открыв воду, гидрогеологи передали ее организациям, ведающим водным хозяйством, и с тех пор находятся с ними в состоянии непрерывной вражды. Задвижки системы «Лудло», поставленные на скважинах для режимной эксплуатации, пришли в негодность, трубы прохудились...
Страшно подумать, но расчеты неумолимо показывают, что, если не принять самых решительных мер, месторождение погибнет. Оно вытечет через каких-нибудь десять-пятнадцать лет. Прекрасная вода, которая накапливалась в недрах миллионы лет, растечется по такырам и испарится под ветром и солнцем.
Когда эти заметки были уже написаны, я получил от Красикова письмо. Дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. Некоторые скважины отремонтированы. Усилен контроль за использованием артезианской воды. Но этого явно недостаточно, и гидрогеологи, пишет Красиков, не собираются складывать оружие.
Янги Сув — Молодая вода. Дерзкий эксперимент гидрогеологов
Пока в Кызылкуме разворачивалась череда блестящих открытий и связанная с ней череда дискуссий, прогнозов, опасений и строительного азарта, в другой пустыне, на запад от Амударьи и Арала, упорные поиски приносили больше разочарований, чем надежд.
Попав на Устюрт, думаешь, как несхожи между собой две соседки пустыни... Гряды кызылкумских барханов, заросли саксаула и тамариска, в которых плутают песчаные зайцы и лисы, вспоминаются даже с отрадой. Нет-нет да прошумит неподалеку, вздымая пыль, отара овец; впереди с тяжелым медным колоколом на шее шествует мохнатый козел, а сзади молчаливо и прытко семенят громадные степные овчарки, пригнув головы и глядя будто бы только себе под ноги. Чабана порою и нет поблизости: пьет чай в юрте у приятеля, уверенный, что вожак и сторожа путь знают. На горизонте где-нибудь играют верблюды, гоняясь друг за другом. Где их табун? Иногда за десятки верст.
Но табунщикам тоже нечего беспокоиться. Верблюды вернутся. А чужой человек их не обидит.
Устюрт являет собой совсем иную картину. Безжизненная пустыня, изборожденная мрачными котлованами; пухляки, посыпанные соляной пылью; кругом голо и серо. Автомобильные колеи пересекают плато ровными и беспорядочными линиями, пучками скапливаясь у колодцев, которые здесь редки, отстоят друг от друга иногда на добрую сотню километров. К востоку Устюрт обрывается уступами — чинками; местами они напоминают крепостные стены, местами — застывший океанский прибой. В известняковой кипени обрывов по весне кое-где пробиваются роднички. Но ненадолго. Пересыхают.
А нужда в воде с каждым годом все острее. Прежде инженеры и агрономы обходили Устюрт стороной; даже геологи заглядывали сюда нечасто. Но вот понадобилось проложить через плато газопровод. Сюда приехали бульдозеристы, сварщики, топографы. Им на смену прибыли каменщики, штукатуры, шоферы. Был воздвигнут целый город — Комсомольск-на-Устюрте. В нем живут те, кто обслуживает трассу. Геологи открыли нефтяное месторождение. Запасы его невелики, но, возможно, поблизости скрыты другие залежи. Их ищут. К восточному берегу Арала все чаще пристают рыбацкие суда. Возникли поселки рыбаков.

...Виктор Соколов улетал на Устюрт ранней весной; снег еще не успевал стаять. За зиму его накапливалось много, и таял он медленно, ослепительно сверкал под солнцем. Такыры превращались в озера. Сливаясь друг с другом, они тянулись цепью. Прилетали утки, вились в воздухе, стайками плавали вдоль берегов, подныривали, что-то отыскивая в воде, будто в ней могла водиться рыба. Но с каждым днем солнце все сильнее наливалось жаром. Озера высыхали на глазах. Проходила какая-нибудь неделя, и уже невозможно было представить, что в этой прокаленной пустыне могла быть хоть капля влаги.
Возвращался Соколов осенью, когда начинались дожди. Нужно было успеть спуститься с чинков, пока не развезло степь. Дожди тоже лили обильные — то бурно шумя, то с тихим шелестом. Возвращался он усталый, деятельный, отощавший. Спешил в кабинет Сафронова, отложив до вечера душ, бритье и городской обед. Туда приходили Владимир Красиков и другие инженеры. Раскладывали схемы бурения, описания кернов, карты, пикетажки. Сопоставляли с документами других партий. Сравнивали с аэрофотоснимками. В чинках «проклевывался» водоносный горизонт, но, что называется, «спорадически развитый, маломощный». Кое-где показывались залежи, да тоже куцые, из них и порядочного табуна не напоишь. Каждый год глубокой осенью в кабинете Сафронова до поздней ночи засиживались люди. Тетя Даша, уборщица, кипятила на плитке чай, приносила хлеб, помидоры, колбасу...
Как ни бились люди, воды на Устюрте найти не могли. А вода нужна! От этой нужды не скроешься. Когда Сафронов и его друзья бывали на Устюрте, то каждая проезжающая мимо машина, издалека везущая воду буровикам или газовикам, воспринималась ими как немой укор. И постепенно вызрела мысль, поначалу показавшаяся им шальной, дерзкой, невыполнимой...
Но прежде два слова о формах залежей.
Подземная вода может залегать пластами, горизонтами, рукавообразно, линзообразно. В Кызылкуме, например, форма залежей кое-где копирует русла древних рек и водотоков. Когда-то, просочившись сквозь берег и дно, вода ушла вниз и, угнездившись в водонепроницаемых породах, уперлась в горизонт соленой воды. Соленая вода — более тяжелая — служит как бы опорой. Получается нечто вроде коктейля. Теперь, если в его верхнюю (пресную) часть опустить трубу, можно спокойно выкачать ее, не потревожив нижней. Гидрогеологи Приаральской экспедиции превосходно изучили эту форму залежей и научились использовать ее.
Вода просачивается сквозь дно и берега... Сквозь такыр она просочиться не может, глина водонепроницаема. А что, если помочь воде? Что, если создать искусственную залежь? Увести пресную воду под землю, «посадить» ее на соленую и законсервировать. Искусственно повторить процесс, происходивший по руслам древних рек. Разве не дерзкая мысль?
Вдохновителем проекта снова выступил Нариман Наруллаевич Хаджибаев, а осуществление его он доверил опять же молодым «приаральцам». Надо сказать, что мировой практике известны отдельные и робкие попытки искусственного маганизирования — так называется процесс создания искусственных залежей. Но никто никогда не решался использовать для этого трещиноватые известняки. Порода эта как будто бы мало подходит для подобного эксперимента, но, что делать, она особенно распространена на Устюрте...
И вот в один прекрасный день по степи пронесся «газик». Виктор Соколов выбирал подходящий такыр. Он должен был быть и достаточно большим, и цельным, и чуточку наклонным, и отвечать многим другим требованиям. Кажется, впервые такыры изучали с точки зрения их практической пригодности. Наконец отвечающая всем критериям глиняная плоскость была облюбована. Позвали буровиков. Они просверлили породы, чтобы уточнить их состав и глубину, на которой залегают соленые воды. Прилетели взрывники. Они оцепили местность. Раздался взрыв. Рядом с такыром образовалась круговая траншея с островком посредине.
Траншею и такыр соединили канавкой. У устья ее приладили заслонку. Поднимать и опускать ее можно при помощи воротка. Такие несложные гидротехнические сооружения часто встречаются на арыках Средней Азии. Эксперимент начался.
— Хотите взглянуть на него? — предложил Владимир Красиков. — Я лечу туда завтра. — И тут же предупредил: — Вы того... не расписывайте особенно. Штука сложная. Результат пока неясен. Вот доведем до ясности, тогда пожалуйста. А то, знаю, распишете в два приема... — «В два приема» — его любимое выражение. Для него чайник чаю выпить — в два приема; отчет написать — в два приема...
Я обещал не «расписывать», и мы полетели.
Тут нужно хотя бы немножко рассказать о тех, без кого вообще были бы невозможны современные геологические исследования в пустыне. О летчиках. Наш самолет вел Сарсен Абдуллаев. Он один из самых молодых в Нукусском аэропорту. Возил почту, рассыпал удобрения
над полями, обслуживал строительство газопровода — словом, долго летал над «культурной зоной», прежде чем ему доверили работать с геологами. Официально это именуется: «полеты с самостоятельным выбором площадок».
По пути на Устюрт мы садились несколько раз. Абдуллаев подолгу кружил над такырчиком, на который хотел посадить машину, всматривался в его очертания, в то, как колышутся кустики полыни, чтобы определить направление н силу ветра, в то, как взлетают и садятся птицы. Потом на бреющем полете пересекал такырчик несколько, раз, держа в руке секундомер. Зная скорость самолета, нетрудно вычислить длину площадки. Хватит ли ее, чтобы сесть? Один раз мы даже чиркнули колесами землю, но в последний момент, чему-то не доверившись, Сарсен потянул штурвал. Самолет взмыл.
В пустыне нет ориентиров, определить направление полета можно, только сверяясь по карте. Абдуллаев часто зовет Красикова, вместе смотрят то в карту, то на землю... Впрочем, Красиков и без того неотрывно глядит в оконце. Для гидрогеолога лишний раз обозреть с высоты «объекты» очень важно. Подземная вода влияет на ландшафт, на растительность. Скажем, древние, давно уж засыпанные русла рек и протоков, невидимые с земли, сверху различаются четко. Они выделяются по цвету и как бы прорывают другие формы рельефа. А это важный поисковый признак. Скопления тамариска и чингиля говорят о неглубокой линзе воды, а редкие кустики — о безводности. В общем, работы гидрогеологу в воздухе хватает.
Вдруг я замечаю, что Красиков машет мне рукой. Показывает в иллюминатор. Внизу прозрачно блестит слюдяное блюдце.
— Оно?
— Оно!
Идем на посадку.
Дело, ради которого был затеян этот трудный рейс, оказалось настолько простым, что, хотя меня заранее о том предупреждали, я не мог не почувствовать разочарования. Владимир поднял задвижку, и вода с такыра по цементному желобку побежала в канаву. На такыре вода казалась прозрачной и недвижимой, а поток бежал мутный, бесшабашный и шумный. Он бежал уже долго, но не заметно было, чтобы уровень озера понизился. Красиков фотографировал его, измерял скорость потока; лаборантки, прилетевшие вместе с нами, желонками брали пробы из скважин, пробуренных вокруг такыра.
— Вот и все, — сказал Красиков. — Больше ничего не будет.
Как это непохоже на современные эксперименты в физических и химических институтах! Но дело не в этом. Главное, что эксперимент протекал не в лабораторных, а в естественных, природных условиях. До сих пор геология лишь брала от природы, ничего не давая взамен, черпала из недр, не восполняя запасов, и даже самая мысль об этом еще недавно показалась бы несуразной. Устюртский же эксперимент, быть может, означает переход к новой геологии, к науке о восполнении запасов полезных ископаемых...
Поток продолжал бежать мимо нас, и дно ровика уже покрылось мутной водой. Пройдет несколько часов, и она просочится вниз. Ведь теперь препятствий на ее пути нет. Она дойдет до соленой воды. Но не растечется ли по ней? Не смешается? Удержат ли ее трещиноватые известняки? Никто не смог бы ответить сейчас на эти вопросы.
— А если ничего не выйдет? — спросил я Красикова.
Он пожал плечами:
— Попробуем закреплять известняки... — И отмахнулся: — А в общем, еще не знаю.
Мы замолчали. Я знал, что Красиков не поддержит моих мечтаний, и не высказал их вслух. Я думал о том, что пройдет несколько лет, а может, и больше, и Устюрт покроется вот такими круговыми ровиками с островками посредине. И любой путник, перейдя по мостику на островок, сможет подойти к колонке, открыть кран, и потечет чистая, холодная вода. Янги сув — молодая вода пустыни.
Яков Кумок, наш спец. корр.
Кызылкум — Устюрт
(обратно)
Танец гончаров

Попробуйте предложить гончару изготовить идеально правильный глиняный горшок, не пользуясь гончарным кругом. Можно ручаться, что лишь немногие из самых опытных мастеров возьмутся за такое трудное дело. В таиландской же деревне Банкхамор с ним справится любая женщина. «Моя мать научилась у своей матери, а ту учила ее мать...» — так обычно отвечают банкхаморки на вопрос, давно ли у них в деревне появились гончары. Любые хронологические изыскания тут бесполезны. Судя по археологическим находкам, женщины занимаются в Банкхаморе гончарным ремеслом по крайней мере 6 тысяч лет!
Секреты гончарного дела мастерицы из деревни Банкхамор начинают постигать с детства. Казалось бы, что хитрого сжечь рисовую шелуху, накопать глины, добавить в нее немного пепла да светлого промытого песка и тщательно размять? Между тем проходит два-три года, пока девочке доверят самостоятельно выполнять эту незамысловатую операцию. И лишь в 10—12 лет она впервые приходит на свое постоянное рабочее место — к невысокому пеньку в тени раскидистого дерева и берет в руки комок глины, которому предстоит превратиться в широкогорлый кувшин, пузатый горшок или чашу с затейливым орнаментом.
Вначале юная мастерица лепит из глины заготовку — цилиндр с толстыми стенками. Затем внутрь вставляется хинду — небольшая груша из обожженной глины — и начинается собственно гончарная работа: шажок вокруг пня и легкий хлопок деревянной лопаточкой по податливой глине. Шажок — хлопок, шажок — хлопок. У опытных мастериц движения настолько ритмичны и грациозны, что со стороны кажется: исполняется какой-то необычный экзотический танец.
Постепенно под «ударами молота» — деревянной лопаточки на глиняной «наковальне» — хинду — возникает горшок, миска или кувшин. Теперь предстоит самое ответственное — завершить отделку, то есть мокрым мягким мхом сгладить малейшие неровности на ставших совсем тоненькими стенках, а затем, вынув хинду, осторожными прикосновениями подушечек пальцев вывести ровный красивый край. Это поручается лишь наиболее опытным из мастериц Банкхамора — тем, кто имеет, так сказать, «личное клеймо». Готовые гончарные изделия несколько часов сушат на солнце, а затем обжигают на раскаленных углях, засыпав песком. Тем временем деревенские девчонки уже накопали целые корзины свежей глины. Завтра с утра мастерицы опять возьмут в руки хинду и, подобно своим матерям, бабушкам и прабабушкам, займутся гончарным ремеслом.
С. Барсов
(обратно)
До Фаши — один колодец
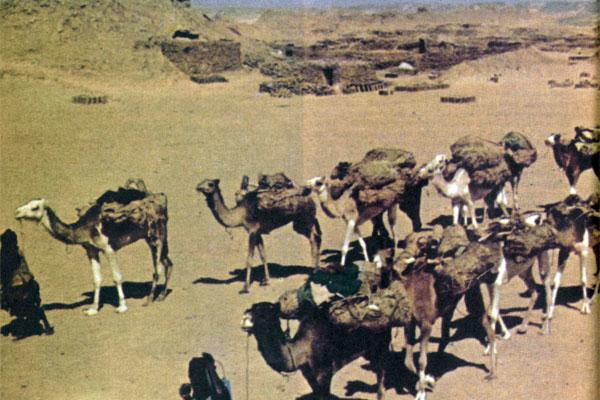
Окинув войлочный полог палатки, Айджи высовывает сначала левую, потом правую ногу, обутые в широкие сандалии. Пальцы погружаются в холодный песок. Айджи плотнее запахивает гандуру — длинную белую рубаху без рукавов. Сверху надета еще одна рубаха, цвета индиго, а на нее широкий шерстяной плащ, но Айджи все равно мерзнет. «Сахара — холодная страна, в которой часто бывает жарко», — говорят туареги. Айджи смотрит на небо. Сириус бледнеет — скоро утро, пора поднимать караван.
Айджи плохо спал эту ночь. Все чудилось ему, будто пронзительно кричит воробей асхара, а это верный признак, что следующим утром умрет человек. А может быть, верблюд? Все в руках аллаха.
Медугу, как называют старшину каравана туареги, идет мимо спящих верблюдов и, не сдержавшись, пинает ногой желтого дромадера, который вчера неловко опустился на колени и порвал веревки, стягивающие плиты соли. Соль рассыпалась белой грудой на песке, верблюды сломали строй и с жадностью накинулись на лакомство. Теперь они еще больше хотят пить, а вода в овечьих бурдюках едва плещется на дне. На трудном многодневном пути от Бильмы до Агадеса всего один оазис Фаши. Сегодня надо непременно добраться до него, там их ждет вода, а может быть, и выгодные сделки. Пора! Пора!

Мужчины седлают верблюдов, женщины подкладывают в занявшийся хворост сухие лепешки верблюжьего помета. Вокруг разгоревшегося костра кладут три бруска песчаника, ставят на очаг медный котел. Последние дни женщины готовили мучную кашу «хассид», которую заливали отваром из истолченной в порошок травы, или замешивали тесто, лепили из него маленькие шарики и бросали их в кипяток.
Но нынче день особый, сегодня они будут в оазисе, и в честь такого события третья жена медугу, Сабена, отменная повариха, достает давно припрятанные кусочки вяленого мяса и сыплет их в котел, вместе с бараньим жиром и мелко нарезанным луком. Погонщики молча, неотрывно следят за всеми движениями Сабены, как вдруг резкий птичий крик заставляет ее вздрогнуть, а мужчин — броситься к груде мешков, откуда послышался крик. Но нет — это не воробей асхара, это птица агашит н"угур, которую часто и совсем незаслуженно зовут «шакалом» только за то, что, завидев хищника, она громко и надсадно верещит.
Вынимая на ходу кинжалы из ножен, прилаженных к предплечью, чтобы всегда были под рукой, мужчины бросаются за пределы лагеря, где притаился настоящий шакал. Но поздно — грязно-желтая тень мелькает далеко в дюнах.
Айджи прикрикивает на погонщиков. Не мужское это дело гоняться за шакалом. Особенно достается его племяннику, Иколе, тот даже за саблю схватился. Разве он не знает, что у сабли есть душа и что ее нельзя осквернять кровью нечистого животного, которое питается падалью? Сабля может обидеться. Недаром, чтобы душа человека роднилась с душой оружия, мастера-оружейники оправляют холодную сталь клинка теплой медью рукоятки.
Погонщики возвращаются к костру и, не снимая тагельмуста — головной накидки, — принимаются за еду. Когда они вытаскивают кусочки мяса, мраморные браслеты на их руках глухо стучат о стенки котла. Сейчас, они мешают, но случись схватка — каменные браслеты, в нескольких местах охватывающие руку, хорошо защитят ее от сабельных ударов, так же как тагельмуст, плотно охватывающий всю голову — лицо, затылок, шею, — защитит их от ветра и песка.
Через полчаса караван уже в пути. Айджи идет первым, лишь длинные тени верблюдов опережают его. Он оглядывается и бросает горделивый взгляд на свой караван.
Даже у самой бедной туарегской семьи не меньше семи верблюдов: два — для перевозки воды и пищи, четыре — для транспортировки груза или утвари, да еще верблюдица — для приплода. Семья кочевника средней зажиточности владеет 25 верблюдами, 15 овцами и 40 козами. А в караване Айджи 250 верблюдов, больше половины — его собственные. Остальные принадлежат родственникам. Перевозка соли — дело прибыльное. Еще знаменитый Ибн-Батута писал: «В Валате за груз соли платят восемь-десять мискалей (1 Один мискаль — 4,25 г.) золота, а в городе Мали за этот груз получишь до сорока мискалей». Раньше соль возили в виде длинных, до полутора метров, брусков — так как осаждается она в глубоких четырехугольных ямах из красной глины. Когда подпочвенная соленая вода испаряется, в яму подливают новую порцию раствора. Это повторяется до тех пор, пока плотный слой соли не достигнет толщины, сантиметров в пять, после чего его осторожно, одним бруском, извлекают из ямы.
В Бильме, откуда идет караван Айджи, соль готовят или в виде круглых лепешек — это чистая столовая соль из профильтрованного раствора, или в форме длинных цилиндров — такая серая, неочищенная соль идет для скота.
Верблюды, принадлежащие кочевникам, вот уже полвека протаптывают соляные тропы в Нигере и Нигерии — с тех пор, как французские колонизаторы подавили восстание туарегов и тысячи семей переселились из Алжира на юг, в эмираты Кано и Кацину. Теперь большинство туарегов живет на территории Нигерии. Так утверждают чиновники. А погонщики верблюдов только пожимают плечами. Что такое граница? След змеи на камне, орла в небе. Покажи мне, где горб верблюда, и я скажу тебе, где его хвост. А граница? Кто ее видел?
Ветер. Вот чего боится медугу, с тревогой вглядывающийся в даль. Не обычного, постоянного в Сахаре ветра, который налетает порывами, топорщит шерсть на горбе верблюда, перебирает шерстяную бахрому попоны и тонко звенит золотыми женскими серьгами. «В Сахаре ветер встает и ложится вместе с солнцем», — говорят туареги.
Нет, медугу боится ровного, прохладного бриза, который вначале тихо, будто ласкаясь, проносится по пустыне. Он усиливается исподволь, незаметно. Но Айджи хорошо знакомы эти грозные признаки, и люди спешиваются, рывком кладут верблюдов на землю и ложатся сами, укрываясь попонами. «Если взглянуть в этот момент на землю, — описывает песчаную бурю исследователь Сахары, египтянин Хассанин Бей, — то окажется, что она неузнаваемо преобразилась, словно на ее поверхности протянули трубопровод, из тысячи отверстий которого пробиваются тоненькие струйки пара. Песок подскакивает и вихрится. Создается впечатление, будто пустыня содрогается изнутри. Сначала крошечные песчинки секут по коленям и бедрам. Но вот поднимаются все выше и в конце концов попросту захлестывают путника. Все погружается во мрак. Видны только силуэты верблюдов, мир наполняется свистящими, кусающими, колючими созданиями. Ветер загоняет песок во все щели».

И вдруг, словно по мановению волшебной палочки, хаос бури прекращается. Айджи поднимает голову. С тагельмуста струей сыплется песок. Солнечный диск лишь смутно угадывается сквозь плотный занавес. До оазиса два часа ходу. И почти всю эту часть пути на караван все еще будет медленно оседать песчаная кисея, словно ложится туман.
Взглянул бы сейчас француз Анри Дюверье, автор красивой легенды о туарегах — благородных рыцарях пустыни, на этих усталых людей, истерзанных многосуточным переходом и песчаными бурями, он понял бы, что туареги — это труженики пустыни. И награда для них — оазис, клочок земли, где есть тень и вода.
Верблюдов разгружают уже при звездах. А с первыми лучами солнца начинается долгий торг. Туареги выкладывают на ковры свои товары, жители оазиса на плетенные из пальмовых листьев циновки — свои. У кочевников выбор товаров больше, зато работы ремесленников Фаши пленяют глаз искусными орнаментами шерстяной вышивки, рисунками на коже. Три меры соли отдает Айджи за черный бумажник, изукрашенный белыми, зелеными и красными треугольниками. В Фаши издавна изготовляют чистые, яркие краски для обработки кожаных изделий. Белую краску делают из толченого риса, разведенного в пахте, зеленую — из медного купороса, смешанного с пахтой и солью аммиака. Из соцветий проса дурры, замоченных в воде, при добавке окиси натрия получают красный цвет. Черную краску — из золы, желтую — из кожицы плодов граната.
Но основной предмет «экспорта» из Фаши — финики. В оазисе сотни финиковых пальм. Средний урожай с каждой 25 килограммов. Особенно щедрыми бывают пальмы в возрасте от двадцати до шестидесяти лет. Но иногда дерево вдруг перестает давать плоды. Не помогает ни ежедневная поливка, ни обкладывание корней верблюжьим навозом. Что делать тогда? И Айджи с интересом наблюдает сцену, разыгрывающуюся на его глазах: хозяин подходит с мотыгой и делает вид, что хочет подсечь строптивое дерево. Но прежде он громко произносит: «Ты больше не даешь плодов, я тебя срублю». При этом он слегка стучит мотыгой по стволу. Сосед урезонивает хозяина: «Зачем ты губишь пальму, она обязательно принесет тебе на следующий год много фиников. И дереву надо отдохнуть». Начинается ожесточенный спор, в ходе которого хозяин еще несколько раз ударяет по дереву мотыгой, а сосед громко стыдит его и взывает к пальме, чтобы она не давала хозяину повод дурно говорить о себе. Хозяин поддается уговорам и уходит.
Хотя сам медугу никогда не выращивал пальм, он знает, что это верное средство заставить дерево образумиться. Айджи зачерпывает мимоходом из ведра горсть фиников и протягивает их своему любимому белому верблюду. Тот не спеша берет плоды, мусоля ладонь хозяина. «Придем в Агадес, — говорит медугу, — куплю тебе новую уздечку. Старая вон ведь как губу натерла...»
Г. Полугаевский
(обратно)
А. Мошковский. Спирька — волчья смерть

Он удобно лежал на мягких теплых шкурах, и сны один за другим медленно и дремотно плыли на него.
Резкий толчок стряхнул со Спирьки сны. Он испуганно вскочил.
— В стадо собирайся. Пора,— раздался сипловатый голос отца.
Здесь только дошло до Спирьки, что сегодня его очередь дежурить в стаде, что ему нужно ехать в тундровую стынь. Он зевнул, прислушиваясь, как жена за пологом мнет и скребет о стальной скребок оленью шкуру, и вздохнул.
Ну и жизнь! Даже поспать толком не дадут. После дежурства на холоде он мог проспать залпом хоть все двадцать четыре часа.
— Быстрей пошевеливайся! — прикрикнул отец, и Спирька, кряхтя и отдуваясь, стал натягивать на худые босые ноги меховые тобоки.
Прихрамывая сразу на обе ноги, вышел из-за ситцевого полога сутуловатый, с недовольным, опухшим со сна лицом.
— Не выспался? — скосил глаза отец.
Спирька промолчал: отец был бранчливым стариком.
— Поспи еще маленько, я съезжу за тебя к олешкам. Дело привычное. А молодому лучше поспать.
Спирька стал нехотя умываться у рукомойника, смочил ладони, нос, подбородок, скулы. Отец же не умолкал:
— Женился, прибавленья ждешь, мужиком стал. А все как телок-несмышленыш!.. Может, в базу оседлости хочешь? Доски пилить и гвозди заколачивать — не оленей пасти. Сюда многие просятся.
Спирька вытирался краешком вафельного полотенца. А отец все говорил и говорил. Сказал и о том, что ночью из тундры доносились выстрелы — видно, волки нападали на стадо, и ему, Спирьке, надо смотреть на дежурстве в оба.
А чего не смотреть? Будет смотреть...
Отец не ошибся: передавая ему в стаде смену, пастух Иван показал три порванные оленьи туши.
Спирька пятерней почесал под капюшоном малицы темя и спросил пастуха:
— Стрелял?
— Разве попадешь?! Хитрые, сволочи! Близко не подпускают и вертятся, как овода.
Спирька сплюнул в снег и взял из его рук винтовку.
— А я попаду.
— Ну еще бы! Чтоб ты да не попал... Почему опоздал? Опять со шкур поднять не могли?
— Грузи свои туши и езжай отсюда! — бросил Спирька и стал безучастно смотреть, как Иван с сопеньем втаскивал на нарты те, что осталось от оленей. Спирька кутался в малицу и ждал, чтоб тот поскорее уехал.
Тяжело захрустели, переваливаясь по кочкам, нарты, и Спирька остался в тундре один. Один, если не считать двух оленегонных лаек и боевой нарезной винтовки старого образца. Он похлопывал себя по бокам и жалел, что не надел поверх малицы совика.
Стоял серый полярный вечер. Был октябрь, но снег уже почти лег. Спирька дул на щеки, подпрыгивал, кидал себя с ноги на ногу. Рядом, выбивая копытами снег, жевало ягель и дышало — казалось, согревало тундру — огромное стадо. Оно блуждало и растекалось в редких елочках и кустарнике.
Спирька не боялся ни холода, ни одиночества. Таким его сделала тундра. Тут ему было не до сна: негде, да и не время. В тундре он любил думать. Спать хорошо в чуме, на шкурах, когда рядом горячие, как уголья, плечи жены, молодой, крепкогрудой. Полгода назад привез он ее в чум из соседнего стойбища. А в тундре — олени, в тундре — ветер, а вот теперь и волки. Явились. Собаки умные твари, но собаки есть собаки. По их части нюхать и рвать клыками, а думать — это по твоей части. Ты — человек...
Сильный топот сотен копыт заставил его вскинуть голову. Луна, скользившая за тремя слоями туч, высунула краешек, облила жидким светом снег и суматошно несущееся стадо.
Спирька вскинул винтовку.
Шерсть на собаках встала дыбом, с лаем кинулись они к стаду. Спирька следом. И закричал, отпугивая волков. Храпя и сталкиваясь друг с другом рогами, кружило вокруг него стадо. Черная, гибкая тень метнулась где-то внизу под оленьими животами.
Спирька бросился на лай и рычание собак. Ударил с колена по улетающей тени, заранее зная, что промажет. Волков не было — были одни тени.
Потом стало тихо. Никто не беспокоил стадо. Спирька с трудом дождался "рассвета у небольшого костра.
Два разорванных теленка, задрав кверху одеревеневшие морды, смотрели на него стеклянными глазами. Они лежали в наплывах красного льда.
Спирька сжал обеими руками винтовку, глотнул слюну, сухой кадык его дернулся.
На исходе суток приехал новый дежурный по стаду, бригадир Емельян. Подошел, тронул тобоком задранную телячью морду с перегрызенным горлом.
— Не укараулил?
Спирьку словно ударили под дых.
— Сам попробуй. Стая, видно, большая развелась.
— А кто Ивану грозился?..
Спирька промолчал.
— Самолет бы вызвать, — сказал бригадир, взваливая туши на нарты; Спирька помогал грузить. — Да как сообщить — рации-то нет. С воздуха бы всех перестреляли.
Последних его слов Спирька не слышал. Он поднял с земли припорошенный снежком хорей и закричал на рванувшихся вперед быков.
В стойбище к нему подошел Иван, и Спирька придержал упряжку, чтобы не наехать на него.
— Ну как, были? — спросил Иван.
— Были.
— Порвали?
— Куда пошли, куда! — бешено заорал Спирька на быков, и те подлетели к чуму, едва не сбив нартами крайние шесты.
Ел и пил чай он молча. Мрачно. Отчужденно. Кончил еду и в первый раз даже не бросил взгляда на свой колыхающийся от ветра балаган с мягкой постелью. Снежинки, падавшие в чум сквозь мокодан, таяли у него на губах, застревали на ресницах и медленно превращались в капли. Отец с полувзгляда понимал сына.
— Ну чего там, — сказал он, — с кем не бывает... Не убережешь каждого... Пока жив ненец — жив и волк. Чего там. Спать полезай, убухался, поди...

И Спирька послушался отца. Он сдернул с ног тобоки, скинул пиджак и втиснулся на свое место, на шкуры. Лег на правый бок и уставился в тонкую, чуть тронутую инеем занавеску полога. Жена спала. Дышала, чуть приоткрыв рот, и ситец слегка покачивался. Спирька слышал, как, покряхтывая и похрустывая костями, улегся отец, как мать шикнула на собак, задула лампу и зашуршала одеждой.
Он лежал и смотрел в темноту.
Бригадир вернулся из стада, как и положено, через сутки. В его чуме уже сидел Спирька и курил папиросу. Он отряхнул пепел и поднял на Емельяна глаза.
— Троих, — сказал бригадир. — Да одного теленка унесли. Надо срочно самолет вызывать. Худое дело.
— Надо. Но покуда доберешься до рации — две недели пройдет, — рассердился Спирька. — Сколько оленей не станет!
— Да-а-а, — протянул Емельян и стащил с малицы совик.
— А знаешь что? — сказал Спирька, и сказал так тихо и сдержанно, что бригадир забыл бросить совик на латы.
— Что? — напряженно спросил он.
— То, что в мое дежурство я убью волка. А может, и двух. И все время буду их убивать, пока они тут.
Емельян с шумом бросил совик в сторону.
— Утка хвасталась озеро выпить...
Спирька встал, прямой, как прут.
— Увидишь, Емельян. Только мне помощь нужна. Двоих пастухов.
Опрокидывая низенькие скамеечки, бригадир прошел по чуму, сел за столик и потянулся к стакану чая.
— Чего напридумал. Пастухам отдыхать нужно перед дежурством. Никого не дам.
— Помоги тогда сам, — Спирька провел рукой по лицу.
— Нашел дурака.
Дочка бригадира, Аня, маленькая, смешливая, с черненькими мышиными глазками, пустила сквозь зубы:
— Ай-яй-яй... Все разбегайтесь! Идет Спирька — волчья смерть! — И прыснула в подол платья.
Спирька швырнул в нее кусок шкуры, и та прикусила язык.
— Тогда я возьму мальчишек. Кто побойчей... Ладно?
Бригадир уже пил третий стакан чаю.
— Это можно. Бери. Только расскажи, в чем дело...
Утром, в день своего дежурства, Спирька распорядился запрячь три упряжки из лучших быков, на одну сел сам, на другие посадил своего братишку Семку, четырнадцатилетнего подростка, и Петьку, сына пастуха Ивана. Расставил две упряжки километра за четыре друг от друга по обе стороны стада и велел ждать его нарт и ничего не бояться.
Никто не знал, что день назад Спирька долго колесил вокруг стада, изучал волчьи следы на снегу, их направление, длину шага и прыжка. Теперь он выехал на легких нартах к стаду. За плечами болталась винтовка. Он спрятал упряжку за кустами ивняка с той стороны, откуда обычно нападали волки. Чуя полную безнаказанность, хищники обнаглели. Не прошло и часа, как Спирька увидел волка. Едва заметный среди кустов и кочек, он бежал, низко свесив хвост и нюхая снег. Он казался крохотным отсюда. Нечего было и думать попасть в него.
— Оленьей печени захотел, стервец, — прошептал Спирька и направил нарты в его сторону.
Волк застыл, поднял вверх морду и бросился от стада.
Спирька дернул вожжу, заорал на быков, и они галопом ринулись по кустарникам и горбам. Они несли его легко, оставляя сзади слабые следы полозьев. Ветер свистел в ушах, комья снега били в лицо. Олени несли изо всех сил, но Спирьке этого было мало. Он пустил в ход хорей. Волк мчался длинными прыжками и легко уходил от преследования, то скрываясь за кочками, то выскакивая на взгорки. Он несся, выгибая спину. Он летел, то вытягиваясь в струнку, то сжимаясь в комок, все увеличивая расстояние между собой и нартами.
Ему нельзя было дать ни минуты передышки.
Спирька не спускал с него глаз и думал: будет он удирать по прямой в лес или пойдет, как обычно, большими кругами? Если не пойдет кругами — все сорвется. А если пойдет, Спирьке помогут расставленные упряжки.
Он чуть не заорал по-мальчишески «ура!», увидев, что волк отвалил от прямой влево. Но когда волк опять отклонился, Спирька забрал правее, стал ошалело орать и заставил зверя изменить свой курс. Скоро нарты достигли его следов, сдвоенных, широко брошенных друг от друга, — волк шел прыжками.
Олени устали, от них валил пар, шерсть взмокла, языки вывалились. Они хрипло дышали. А волк шел все так же легко и упруго, точно в нем была навечно заведенная пружина, безотказно бросавшая его тело огромными скачками вперед. Но теперь расстояние между ними почти не увеличивалось. Спирька гнал волка по кругу. Подлетая к сизому леску, он пронзительно свистнул, и вслед за тем сбоку появилась свежая упряжка с Семкой. На ходу перескочил в нее Спирька, а братишка прыгнул в его упряжку. Как бешеные несли быки пастуха по целине, по сдвоенному, точь-в-точь как у собаки, следу. Снежная пыль окутала его, и он на миг потерял из виду зверя. Как Спирька обрадовался, увидев, что просвет между следами чуть уменьшился! Волк начал уставать. По рассказам других он знал: хочешь загнать волка — не дай ему остановиться.
Спирька вспотел. Винтовка больно колотила его по плечам и спине, руки и ноги замлели, и, чтоб пошевелить ими, он время от времени приподымался на нартах. Расстояние между упряжкой и волком сокращалось. Быки видели невдалеке хищника, таращили в испуге глаза, бросали в стороны головы, но вожжа, крики и хорей гнали и гнали их на волка.
Теперь, пожалуй, в него можно было попасть. Но вдруг промах? С ходу бить нельзя, рискованно — мушка будет прыгать, а совсем остановить быков — упустишь время; еще дальше уйдет хищник — и, кто его знает, может скрыться. И он гнал упряжку вперед, ведя волка по кругу. Когда к нему подскочила новая, свежая упряжка, он уже не мог впрыгнуть в нее на ходу. Задыхаясь от усталости, он кулем перевалился в нее и помчал по следам — уже коротким, глубоким, измученным следам.

И когда расстояние между ними сократилось метров до сорока, Спирька, не останавливая быков, одной рукой снял винтовку, вскинул, чуть попридержал быков, прицелился — и сухо лопнул выстрел. Пуля поймала волка в воздухе. Он взлетел над кочкой невредимым, а опустился со свинцом в лопатке. Однако, подскочив к нему, Спирька увидел, что зверь только ранен. Он остервенело полз по снегу, перебирая лапами и оставляя прерывистый красный след. Он был весь мокрый, шерсть клочьями дыбилась на спине и боках. Почуяв за собой человека, волк внезапно повернулся к нему, прыгнул в сторону, клацнул зубами и захрипел.
— А олешек кушать вкусно? — спросил Спирька, поднимая винтовку...
Скоро к стойбищу подъехали три упряжки. На задних нартах лежал волк.
— Всех их надо так, — сказал Спирька уже в чуме, кладя в рот сразу два куска оленины, — всех по очереди.
— Точно, сынок, надо, — поддакнул отец, подрезая кожу и, как чулок, стаскивая с волка серовато-бурую, в желтых подпалинах шкуру. — Так оно и будет.
А через час, когда Спирька исправно посапывал в своем балагане, а возле чума шумела детвора, катавшая из снега огромную бабу, старик отогнал их подальше и свирепо крикнул:
— Тише вы!.. Спирьку разбудите...
(обратно)
Говорят бородатые боги
 В 1931 году археологи Э. Моррис. Дж. Шарло и А. Моррис, исследуя Храм воинов в Чичен-Ице на Юкатане, обнаружили там древние росписи и опубликовали сенсационное сообщение: «Фрески изображают ряд эпизодов, в которых светлокожие люди с длинными желтыми волосами оказываются побежденными в битве н приносятся в жертву темнокожими воинами. Необычные черты первых дают повод для весьма интересных догадок относительно их происхождения...» Белокожие индейцы Америки... Откуда и когда пришли они в Америку? Или они такие же аборигены, как и их темнокожие собратья? Какую роль сыграли они в становлении древнеамернканских культур? Мы предлагаем фрагмент статьи Тура Хейердала, которая посвящена этой проблеме.
В 1931 году археологи Э. Моррис. Дж. Шарло и А. Моррис, исследуя Храм воинов в Чичен-Ице на Юкатане, обнаружили там древние росписи и опубликовали сенсационное сообщение: «Фрески изображают ряд эпизодов, в которых светлокожие люди с длинными желтыми волосами оказываются побежденными в битве н приносятся в жертву темнокожими воинами. Необычные черты первых дают повод для весьма интересных догадок относительно их происхождения...» Белокожие индейцы Америки... Откуда и когда пришли они в Америку? Или они такие же аборигены, как и их темнокожие собратья? Какую роль сыграли они в становлении древнеамернканских культур? Мы предлагаем фрагмент статьи Тура Хейердала, которая посвящена этой проблеме.
Собственно говоря, фрески Храма воинов в Чичен-Ице лишь возродили споры о белокожих аборигенах Америки. А родилась эта загадка еще во времена конкисты. Когда Франсиско Писарро завоевал Перу, его двоюродный брат, хронист Педро Писарро записал для потомства, что
некоторые представители местной правящей знати были белее, чем испанцы
(1 Здесь и далее курсивом выделены свидетельства древних хроник и записи индейских легенд. (Прим. ред.)). Писарро добавляет, что инки считали этих людей потомками своих богов, виракочей. Недаром стоило испанцам высадиться на берегу, как инкские гонцы, сменяя друг друга, донесли до императора — в горы — весть, что вернулись виракочи — люди морской пены, выполнив свое обещание. У перуанцев не было бород, но было слово, обозначающее бороду (сонхасапа), и было слово для обозначения белых чужеземцев (виракоча), которым они по сей день нередко называют европейцев. Белая кожа и бороды помогли Писарро с горсткой людей пройти невредимым через укрепленные горные долины Перу и покорить крупнейшую в то время империю — огромное войско индейцев с благоговением смотрело на возвратившихся виракочей.
Мнимые виракочи под командованием Писарро в полной мере воспользовались ошибкой инков. Они безнаказанно задушили верховного правителя на глазах его воинов. Громя и грабя все подряд, конкистадоры пошли дальше на юг вдоль Аданского высокогорного плато от Куско до огромного инкского храма в Каче, посвященного Виракоче. Внутри этого архитектурного шедевра они обнаружили каменную статую самого священного правителя Кон-Тики Виракочи — длиннобородого человека с царственной осанкой. Хронист Инка Гарсилассо в ту пору записал:
Испанцы, когда увидели этот храм и статую описанного вида, склонны были считать, что святой Варфоломей дошел до Перу, просвещая язычников, и что индейцы сделали статую в память этого события.
Впечатление от статуи и рассказов инков о странствующем чужеземце, который в далеком прошлом посетил Перу вместе со своими белыми бородатыми сподвижниками, было так велико, что испанцы много лет не покушались на статую. А испано-индейские метисы Куско создали братство, избрав своим покровителем святого Варфоломея. Однако в конце концов испанцы поняли свою ошибку: храм они разрушили, статую сперва изуродовали, потом унесли и разбили. Та же участь постигла и множество других священных статуй Виракочи.
Продвигаясь через огромную инкскую империю, испанцы видели развалины циклопических мегалитических сооружений доинкской поры. Один из самых замечательных образцов мегалитической архитектуры в Новом Свете встретился им в Винаке, между Куско и океаном. Испанский хронист Сьеза де Леон записал в 1553 году:
Когда я опрашивал соседних индейцев, кто соорудил этот памятник древности, они отвечали, что это сделали люди другого народа, среди которых были бородатые и белые вроде нас самих, и люди эти, по их словам, пришли сюда задолго до правления инков и поселились здесь.
Это предание в народной памяти укоренилось настолько, что перуанский археолог Л. Валькарсель, прибывший для изучения руин Винаке через 400 лет после Сьезы де Леона, услышал буквально то же самое: будто бы эти сооружения были воздвигнуты иноземцами, «белыми, как европейцы».
Идя дальше на юг, испанцы подошли к озеру Титикака. По всей инкской империи исторические предания единодушно называют центром обитания виракочей остров на этом озере с тем же названием — Титикака.
Когда Бандельер через 350 лет приступил к раскопкам руин острова Титикака, эта местная версия все еще существовала. Ему рассказали, что давным-давно остров был населен благородными людьми неизвестного происхождения, похожими на европейцев; они брали в жены местных женщин, а дети их стали инками.
Подводя итоги, можно сказать: буквально все хронисты, сопровождавшие конкистадоров или побывавшие в Перу сразу после конкисты, в своих сообщениях упоминают доинкских виракочей. Приводимые ими данные различаются в частностях, так как были собраны в разных концах огромной инкской империи, но в главном они совпадают.
Само имя Кон-Тики Виракоча состоит из трех имен одного и того же белого бородатого божества. В древние, доинкские, времена он был известен как Кон в приморье Перу и как Тики в горах, но, когда во всей области утвердилось владычество инков и распространился их язык (кечуа), инки объединили все три имени. Легенды индейцев чиму на севере Перу повествуют о том, что этот бог приплыл с севера, идя вдоль побережья. В большинстве легенд нагорья он внезапно появляется на озере Титикака, как земное воплощение Солнца. По преданиям, он сперва обосновался на острове Титикака, потом с целым флотом камышовых лодок перебрался на южный берег озера, где построил мегалитический город Тиауанако. Виракочу и его белых бородатых сподвижников называли митима — индейское слово, означающее «поселенец».
Согласно преданиям, Виракоча посылал из Тиауанако во все концы Перу своих белых бородатых сподвижников, которые говорили народу, что он их бог и творец. Однако в конце концов, недовольный враждебностью местных индейцев, решил уйти. Индейцы во всех частях инкской империи рассказывали испанским хронистам о пути следования Виракочи и двух его главных сподвижников. Один помощник Виракочи направился от озера Титикака вдоль горного хребта на север; другой шел через приморье, сам же Кон-Тики Виракоча избрал средний путь на север через Качу (где в его честь изваяли статую, похожую на святого Варфоломея) и Куско (здесь ему приписывается сооружение мегалитических стен). Из Куско он спустился на берег Тихого океана и собрал виракочей около порта Манта в Эквадоре. А затем эти солнцепоклонники вышли в океан и поплыли на запад.
Итак, анализируя легенды индейцев приморья Северного Перу, можно сказать, что так называемый панперуанский культурный герой ушел на запад, то есть в сторону Полинезии. Но пришел он с севера. А севернее инкской империи, в гористой Колумбии, жили чибча, еще один народ, который к приходу европейцев уже достиг высокого уровня цивилизации и создал замечательную культуру. Исторические предания чибча описывают пришельца как высокого белого человека по имени Бочика в длинном, развевающемся одеянии, с бородой до пояса. Он правил много лет, потом ушел, оставив преемника, которому завещал быть справедливым повелителем. Бочика был также известен под именем Суа (так здесь называли солнце), и, когда сюда впервые пришли испанцы, их приняли за его посланников и называли Суа или Гагуа, что тоже означает «солнце».
По местным преданиям, Бочика, он же Суа, пришел с востока. А восточнее земли чибча, в Венесуэле и прилегающих областях, мы опять встречаемся с воспоминаниями о странствующем мудром герое. Он фигурирует под разными именами, например Цума или Зуме. Прожив с данным народом некоторое время, он уходит. Одни легенды сообщают, что герой ушел по своей воле, по другим версиям, он был изгнан недовольными его поучениями строптивыми жителями.
К северу от Колумбии и Венесуэлы панамские индейцы куна, которые вырезали письмена на деревянных дощечках, также сохранили предания о том, что после страшного потопа явился
великий человек, который... учил людей, какой образ жизни вести, как называть вещи и пользоваться ими. Его сопровождали ученики, они распространяли его учение.
Севернее Панамы, в Мексике, до прихода испанцев процветала другая высокоразвитая цивилизация — ацтекская. Огромная военная империя ацтеков, подобно инкской, была намного больше Испании или любого другого европейского государства тон поры. И однако Эрнандо Кортес с небольшим отрядом одолел могучего императора с такой же поразительной легкостью, с какой Писарро через несколько лет овладел инкской империей.
И главной причиной тут было не столько военное превосходство испанцев, сколько замешательство индейцев — верховным божеством ацтеков был бородатый белый Кетсалькоатль.
Похоже, что первоначально слово «Кетсалькоатль», как и «Виракоча», было наследственным именем или даже титулом для династии сменявших друг друга священных правителей, которые поклонялись богу Солнца и вели от него свое происхождение. А уже потом все Кетсалькоатли — и Виракочи тоже — слились в одно божество.
Имя Кетсалькоатль — составное, его вольно переводят словами «Пернатый Змей»; кетсаль (трогон сплендеус) — высокочтимая ацтеками птица, а коатль — змея, священный символ света и божества как в Мексике, так и в Перу. Кетсалькоатль был высшим богом у ацтеков, Виракоча — у инков. И однако, как указывает крупнейший специалист по истории Америки Б. Бритон: «Мысли ацтеков пленял не столько бог Кетсалькоатль, таинственный творец видимой вселенной, сколько верховный жрец Кетсалькоатль в славном городе Толлане (Тула), учитель искусств, мудрый законодатель, добродетельный властелин и непревзойденный строитель». Он скончался на берегу Мексиканского залива и был похоронен там сподвижниками, после того как они сожгли его тело и имущество. Однако другие предания утверждают, что Кетсалькоатль и его свита сели на волшебный плот из змей и уплыли, дав торжественное обещание вернуться и снова вступить во владение страной.
Соседями ацтеков были майя, обитатели тропических равнин полуострова Юкатан, вдающегося в Мексиканский залив. Великая цивилизация майя отцвела еще до прихода испанцев, но разрозненные остатки народа сохранили подробные предания о происхождении культуры предков. В этих преданиях говорилось о двух различных культурных героях Итцамне и Кукулькане. Оба были бородатые, но пришли на Юкатан в разное время и с противоположных сторон, приведя предков майя.
О потомках первых майя Бритон, обобщая записанные легенды, пишет: они говорили, что их предки пришли издалека двумя волнами. Самая крупная и древняя миграция, если верить легендам, шла с востока, через океан (или сквозь него, ибо боги открыли им двенадцать путей сквозь океан). Руководил этой волной мифический просветитель Итцамна. Вторая, поздняя и не столь крупная волна пришла с запада, ее возглавлял Кукулькан.
Кукулькан, пишет исследователь, в легендах обрисован как великий зодчий и строитель пирамид, основатель города Майяпан; по его велению были воздвигнуты многие важные здания в Чичен-Ице.
Деятельность Кукулькана точно совпадает с тем, что приписывалось Кетсалькоатлю. Больше того, если в ацтекских преданиях Кетсалькоатль уходит на восток, в сторону Юкатана, то в преданиях майя Кукулькан приходит с запада, со стороны Мексики. Бритон подчеркивает, что одна из хроник майя о Кукулькане начинается с прямого указания на Тулу и Ноноаль — названия, которые неотделимы от предания о Кетсалькоатле, — и заключает, что, по-видимому, Кукулькан был исконным майяским божеством, одним из их богов-героев, причем миф о нем настолько совпадал с мифом о Кетсалькоатле, что священнослужители обоих народов стали их отождествлять.
В самом деле, слово «кукулькан» — попросту перевод слова «кетсалькоатль». «Кукуль» — майяское название птицы кетсаль, «кан» означает «змея».
Кончилось же все согласно легендам так же, как в Мексике и Перу: белый и бородатый священный правитель удалился туда, где заходит Солнце.
Человек, уходящий с Юкатана на запад, должен был попасть в область обитания цендалей, в леса Табаско и Чиапаса. Цендальские легенды, концентрирующиеся вокруг культурного героя Вотана, который пришел со стороны Юкатана, были первоначально записаны на цендальском языке со слов местного жителя.
Вотан слыл градостроителем, ему приписывали основание Паленке с огромными каменными пирамидами, две из которых, подобно древнеегипетским, содержали погребальные камеры. Вотан привел с собой из родной страны сподвижников или подчиненных, которых в мифе называют цекиля — носящими юбки — из-за широких длинных одеяний. Эти люди помогали ему насаждать цивилизацию... Когда наконец пришло время ему уходить, он не удалился в долину смерти, как надлежит всем смертным, а через пещеру проник в подземное царство и нашел путь к «Корню Небес».
С высокогорных плато Чиапаса нам не надо в поисках следов Вотана проникать в подземелье, достаточно спуститься на приморские равнины, населяемые зоки, чтобы увидеть его снова, теперь уже под именем Кондоя.
Зоки, чья мифология нам, к сожалению, очень мало известна, были соседями цендалей и постоянно общались с ними. До нас дошли только неясные фрагменты древнейшей мифологии этих племен, но сохранились легенды, показывающие, что и они разделяли столь распространенную среди их соседей веру в милостивого бога, насаждающего культуру. По этому мифу, их изначальный предок, бывший также всевышним богом, явился из пещеры на высокой горе в их стране, чтобы наставлять и управлять ими. По преданиям зоки, он не умер, а спустя какое-то время вместе со своими слугами и пленниками, нагрузив их сверкающим золотом, удалился в пещеру и заложил вход в нее, с тем чтобы явиться снова в какой-нибудь другой части мира и творить такое же благо другим народам.
К югу от майя, цендалей и зоки жили гватемальские киче. Предания киче сохранились для потомства в списке их национального эпоса «Популь Вух». Из этого источника мы узнаем, что обитатели Юкатана, служившего воротами
из Южной Мексики в Центральную Америку, хорошо знали бородатого «странника», который, видимо, не однажды проходил через их территорию. Известный в Гватемале под разными именами (одно из них — Гукумац), он просветил местные дикие племена и помог им создать свою собственную цивилизацию, но с ним, как с Виракочей, Кетсалькоатлем и другими подобными героями, нелюбезно обошлись, и он, разгневанный неблагодарностью этих людей, покинул их навсегда. В прошлом веке и в начале нынешнего было немало попыток объяснить парадоксальное присутствие белокожих бородатых людей в длинных одеждах в преданиях и легендах смуглых безбородых индейцев тропической Америки. Кое-кто предполагал, что пышные бороды и широкие одеяния — аллегорический намек солнцепоклонников на лучи солнца. Существует также версия, что предания эти вовсе не древние, а возникли после испанского завоевания.
Но археологи в захоронениях и среди руин обнаружили чрезвычайно реалистичные скульптуры и другие изображения бородатых людей. Причем эти памятники во многих случаях были созданы не только до прибытия испанцев, но и до возникновения цивилизаций ацтеков, инков и майя.
Большинство статуй, найденных испанцами в развалинах Тиауанако и представлявших, по местным версиям, родоначальников разных племен, подвластных Кон-Тики Виракоче, было уничтожено конкистадорами. Но несколько скульптур индейцы спрятали. В 1932 году американский археолог В. Беннет, производя раскопки в Тиауанако, открыл статую, несомненно изображающую Кон-Тики Виракочу — бородатого, в длинном одеянии, перевязанном поясом. Широкое одеяние украшено изображением рогатой змеи и двух пум — символ верховного бога как в Мексике, так и в Перу. На берегах озера Титикака были обнаружены и другие бородатые статуи доинкской поры.
В приморье Перу почти не было подходящего для ваяния камня, но представители культур чиму и наска либо лепили, либо рисовали на керамике изображения своего древнего культурного героя, снабжая его усами и бакенбардами. Эти изделия относят к древнейшей эпохе чиму, или мочика, родоначальников местных цивилизаций и строителей самых замечательных перуанских пирамид.
Головы и целые фигурки из керамики, реалистически изображающие все тот же бородатый персонаж, распространены и дальше на север — в Эквадоре и Колумбии; их можно встретить также на Панамском перешейке и в Мексике. Вообще реалистические изображения бородатого мужчины широко известны по всей Мексике. Их можно проследить в каменной скульптуре, в рельефах, на плоских стелах, в керамике, в золотых изваяниях, в росписи на сосудах и на штукатурке, в рисуночном письме складных бумажных книг доколумбовой поры. Борода то длинная, то короткая, то приглаженная, то косматая, то заостренная, то окладистая, даже раздвоенная — нечто подобное мы видим в искусстве Древней Месопотамии. В некоторых случаях, как свидетельствуют испанские хроники, майяские жрецы и другие важные лица, не имея собственной бороды, носили накладную, чтобы уподобиться божественным учредителям их религии.
Современная археология пришла к выводу, что цивилизация, лежащая в основе последующих цивилизаций тольтеков, майя и ацтеков, возникла на лесистых тропических равнинах у берегов Мексиканского залива. Но ведь именно сюда подходит мощное течение, пересекающее Атлантику, и здесь высадились испанцы во главе с Кортесом. И именно здесь археологи обнаружили удивительные скульптуры, созданные загадочным народом, который в науке получил имя ольмеков. Местные леса небогаты строительным камнем, поэтому ольмеки отыскивали глыбы весом до 25 тонн и тащили их за 80 километров через болота и заросли туда, где сооружались храмы. С несравненным мастерством они высекали человеческие головы и полные фигуры (объемные скульптуры и рельефы) настолько реалистично, что мы можем считать их портретами.
Судя по этим скульптурам, позировали для ольмекских скульпторов два контрастных этнических типа. Один явно негроидный толстые губы, широкий и плоский нос, круглое лицо с простодушным, несколько хмурым выражением. Археологи обычно называют этот тип «бебифейс». Второй тип ольмекских скульптур выглядит совсем иначе: узкое лицо, чеканный профиль, орлиный нос, тонкие губы, борода — от маленькой и острой до такой длинной, что археологи иногда в шутку называют этот тип «дядя Сэм». И ни один из этих двух ольмекских типов даже отдаленно непохож на какую-либо из известных этнических групп древней Америки.
Но они характерны для древних цивилизаций Старого Света.
Почему не задуматься над предположением о том, что выходцы из Малой Азии переплыли океан и основали колонии как раз в то время, когда на берегах Мексиканского залива возникла ольмекская цивилизация? И столь необычен был облик пришельцев, что местные жители посчитали их посланцами Солнца, запечатлев это и скульптурах, фресках, легендах...
Перевел с английского Л. Жданов
Океан — древняя дорога человечества
И так, как вы только что убедились, у майя, ацтеков, чибчей, инков и многих других народов Центральной и Южной Америки действительно были распространены легенды и предания о неких пришельцах — творцах и хранителях индейской культуры, И в числе важнейших отличительных признаков во внешнем облике этих людей легенды называют светлый цвет кожи и бороду. Нередко эти же признаки приписывали индейцы своим местным богам. Когда наука располагала только литературными свидетельствами о «рыжебородых пришельцах», считалось, что эти индейские легенды родились уже в новое время в связи с вторжением в Америку европейских колонизаторов и христианских проповедников. Правда, и этот существенный на первый взгляд аргумент нетрудно было отвести. Не случайно же инки приняли завоевателя Перу, испанского конкистадора Писарро и его солдат за вернувшихся к ним богов. К тому же информация о «бородачах» содержится не только в легендах и преданиях, но и в памятниках изобразительного искусства древних народов Центральной и Южной Америки.
Но что решает дело окончательно — это мумии таинственных немонголоидов, обнаруженные в многочисленных захоронениях вдоль всего побережья Перу и Северного Чили. И примечательно, открытые некрополи предназначались для социально привилегированной части тогдашнего общества. А антропологические исследования этих захоронений показали, что часть погребенных резко отличалась от физического типа аборигенного населения обеих Америк. (Тому, кто хочет ближе познакомиться с этими исследованиями, я советую обратиться к книге Т. Хейердала «Американские индейцы в Тихом океане».) Итак, судя по всему, в реальном существовании пришлых светлокожих бородачей в доколумбовой Америке вряд ли можно сомневаться.
Конечно, никто из серьезных исследователей (среди них, разумеется, и Т. Хейердал) не считает, что это были представители «высшей белой» расы, которые «облагодетельствовали» американских монголоидов-варваров. Но кто они и откуда пришли? Пока загадка остается загадкой. Тур Хейердал ставит вопрос о возможности проникновения какой-то волны древних средиземноморцев в Америку через Атлантический океан. Думаю, у Хейердала достаточно оснований для выдвижения такой гипотезы. Плавания на «Ра» и «Ра-2», во всяком случае, доказали, что папирусные суда древних жителей Средиземноморья могли выходить в открытый океан и благополучно пересекать Атлантику. Отождествление этих средиземноморских «викингов» с каким-то конкретным народом — задача, которую еще предстоит решить.
Так вновь и вновь Тур Хейердал подводит вас к выводу о том, что историческое единство человечества и его культуры начало формироваться гораздо раньше, чем принято было думать, ибо океан не только разъединял и изолировал на долгие тысячелетия заселявшие разные материки группы человечества, но и соединял их. Это принципиально новая историческая модель древнего мира, и именно в этом вижу я суть, главное значение исследовательских поисков Тура Хейердала.
В. Вахта, кандидат исторических наук
Тур Хейердал
(обратно)
Визит к огнепоклонникам

В небольшой комнате, отделенной от зала храма золоченой решеткой, тянулись вверх танцующие языки желтого пламени. Жрец в белой шапочке-тюбетейке и белом одеянии торжественно вступил в комнату, закрыл лицо покрывалом, чтобы не осквернить огня дыханием, и положил в него несколько сандаловых полешек, привезенных паломником из Индии. Храм наполнился душным, сладковатым ароматом.
Вряд ли эта операция произвела бы на меня особое впечатление, если бы не мысль, что я вижу огонь, который горит не угасая более 1300 лет.
Небольшая община огнепоклонников, уцелевшая в Иезде, в Центральном Иране, — это своего рода осколок религии, охватывавшей некогда половину древнего мира. Две с половиной тысячи лет назад жрецы храмов огня вместе с воинами державы Ахеменидов распространили ее от Аральского моря до нильских берегов, от Босфора до предгорий Гималаев. Геродот писал, что, когда Ксеркс прибыл со своим войском в Грецию, на специальной колеснице был доставлен за ним и императорский огонь. После мусульманского завоевания почти все иранцы приняли ислам, и только отдельные общины огнепоклонников в Иране, а также в Индии и Пакистане (там они известны как парсы), сохранили заветы предков.
В храме огня висит изображение русого, или, точнее, рыжебородого мужчины — Заратуштры, иначе называемого Зороастром (См. «Вокруг света», 1973, № 7.). Его считают основателем новой религии — зороастризма в начале первого тысячелетия до нашей эры, причем огонь почитался им как священный отблеск божества. Но сами огнепоклонники относят проповеди Заратуштры еще на полторы-две тысячи лет назад.
В Европе имя Заратуштры долгое время было известно лишь историкам, пока в конце прошлого века его не приспособил для своих нужд германский философ Ницше, пытавшийся приукрасить чужими гимнами свой культ «сверхчеловека». А нацисты похитили у зороастрийцев знак солнцеворота — свастику, которая для современного мира стала символом чудовищных злодеяний, преступлений, жестокости. Верховный жрец тегеранской общины огнепоклонников Ростам Шахзади Анджаман, сын и внук священнослужителя, говорил мне: «Нацисты украли, опозорили наш символ. Но мы не откажемся от него. Ведь само слово «свастика» — древнеиранского происхождения. «Су» — добро, «астика» — основа, «суастика» — «добрая основа».
По-европейски одетый юноша сидел на полу храма, а рядом с ним жрец читал на древнеиранском языке заунывную молитву. Иногда он брал щепотку пыли из чаши, стоявшей перед ним, и сдувал ее с ладони. Что означал этот жест? Что все в мире бренно? Что все мы станем пылью и прахом? Никто не объяснил мне. Огнепоклонники держатся очень замкнуто и не посвящают чужого в тайны своих ритуалов.
Я вышел из храма и попал в рощицу субтропических сосен. На фронтоне храма на языке пехлеви замысловатая вязь надписи: «Добрая мысль, доброе слово, доброе дело» — тройственная заповедь зороастрийцев, а несколько выше — изображение крылатого мужчины — бога Ахурамазду.
Недалеко от Иезда на скалистых холмах стоят «башни молчания». Раньше на их вершинах зороастрийцы оставляли умерших в печальном одиночестве смерти. Появление этих «башен молчания» зороастрийцы объясняли по-разному. Наиболее убедительной мне показалась версия, почерпнутая одним из моих собеседников из древнеарийских книг. Согласно преданиям арийские племена пришли из краев, где лето длится два месяца, а зима десять. Если труп зарыть, он не разложится, не сольется с землей. Поэтому его оставляли на башне на солнце на растерзание птицам. Уже много десятков лет башни близ Иезда пустуют — иранские огнепоклонники начали придерживаться тех же обычаев захоронения, что и мусульмане. Лишь в Индии парсы все еще используют «башни молчания».
Иезд — старый торговый центр на краю пустыни. В Иране, где восточная экзотика осталась только в виде поделок в лавках, предназначенных для туристов, он исключение из правила. Лабиринты узеньких немощеных улиц, глухие глинобитные стены, гомон и суета крытых базаров, купола с отверстиями для света, высоченные вентиляционные башни (в 50-градусную жару они улавливают малейшее движение воздуха) — таков этот город. Впрочем, хотя он и объявлен исторической реликвией, сейчас в нем начинают прокладывать широкие проспекты, раздвигая плотно сбившиеся глиняные дома и обнажая то, что раньше стыдливо пряталось от глаз прохожих. Так уж повелось, что настоящий персидский дом, зороастрийский или мусульманский, словно хочет повернуться спиной — глухой стеной — к внешнему миру, представленному враждебной пустыней, и уйти в себя, в прохладу застенчиво прячущихся помещений.
Раньше отдельные кварталы зороастрийцев как бы утверждали и закрепляли их обособленность, изолированность. Сейчас, в эпоху телевизоров и развитых коммуникаций, замкнутая психология огнепоклонников все более размывается. В том же Иезде молодежь забывает древнеиранский язык пехлеви, на котором прежде говорила вся их община, и даже дома переходит на современный персидский — фарси. Старики ворчат, но молодежь считает себя прежде всего иранцами, а уж потом зороастрийцамн.
Ростам Шахзади Анджаман говорил со мной о настроениях молодежи неожиданно спокойно: «Мы должны сохранить главные основы, принципы нашей общины, а не внешние формы. Возьмем хотя бы одежду. На барельефах Персеполиса вы можете увидеть, как одевались наши предки. С тех пор мы столько раз меняли покрои платья! Сейчас, кроме жрецов во время службы, все зороастрийцы одеваются по-европейски. Для нас главное — дать всем детям образование...»
...Автобус из Иезда в Керман отходил рано утром. Еще затемно к нему собрались люди. Среди них я узнал молодого человека, которого видел накануне в храме Огня. Оказалось, что он окончил среднюю школу и ехал в Керман и дальше в Заранд. Там, на каменноугольных шахтах, работали его родственники, добывая топливо для огнедышащего индустриального храма современного Ирана — доменной печи Исфаганского металлургического комбината.
В. Алексеев
(обратно)
Р. Штильмарк. Волжская метель
 Продолжение. Начало в № 2.
Глава вторая. Беглец
1
Продолжение. Начало в № 2.
Глава вторая. Беглец
1
Венный врач с парохода «Минин», доктор Пантелеев, в первый же день белого ярославского мятежа был назначен старшим ординатором полевого лазарета. Развернули его наспех, в нижнем этаже школьного здания, недалеко от Ильинской площади. Персонал лазарета — старший и младший врачи-ординаторы, фельдшер, сестра милосердия и две сиделки из офицерских жен — сбился с ног.
Утром 10 июля доктор Пантелеев устало глядел, как неумелая хирургическая сестра тратит лишние аршины бинта на перевязку пожилого офицера, раненного в бедро. Вспомнился недавний пациент на «Минине» с такой же раной и сиделка-послушница из Яшмы. Вот бы кого сюда в помощницы! Опытная, быстрая, толковая. Красавица к тому же... Надо ли было отсылать ее к смертникам на барже? Подумаешь, красный агент! Впрочем, действительно, за красными своими пациентами в каюте она ухаживала самоотверженно, а к Губанову, да и к самому доктору Пантелееву отнеслась весьма холодно. К белым явно не расположена. Видимо, и в самом деле неспроста!..
— Внимание! Боевая тревога! — орет дневальный по лазарету. Значит, какое-то начальство пожаловало. По всем временным палатам забегали легкораненые. — Всему персоналу, всем ходячим больным немедленно обуться, одеться по форме и выходить во двор на построение!
Явился в лазарет с этим приказом некто поручик Фалалеев, шеф перхуровской полиции. Лучше не спорить! Нашли время для построения, черт побери!
Доктор Пантелеев снял халат, ополоснул под рукомойником руки, подтянул пояс и вышел во двор, внутренне негодуя. Фельдшер, старый служака, уже выстраивал легкораненых. Вид у обеих шеренг был далек от воинского идеала. Поручик Фалалеев верхом на гнедой лошади, нетерпеливо поигрывал шашкой. Как только он убедился, что лазарет строем выходит на улицу, Фалалеев взял лошадь в шенкеля и поскакал на площадь. Сопровождал его вестовой из бывших унтеров.
За углом колонна чуть задержалась, пропуская громыхающие машины бронедивизиона, кое-как державшие равнение. Следом за дивизионом двинулись на площадь конники числом до эскадрона. Пантелеев видел, как эти кавалеристы лихо выскочили на простор, изрядно на ходу растянулись по всей площади и следом за броневиками свернули за ограду Ильинской церкви. Однако вместо того чтобы скакать за машинами, конники по команде эскадронного снова завернули вправо и опять очутились на площади. Они вторично прогарцевали перед зрителями, будто участвовал в параде не один, а два эскадрона. За конниками с тихим лепетом блестящих спиц и шелестом резиновых шин промелькнули велосипедисты-самокатчики. Эти завернули на площадь не дважды, а даже трижды, всякий раз искоса посматривая на начальство: ладно ли делают?
«Кому и кто втирает очки этим парадом? — сердито думал доктор Пантелеев, присматриваясь к этим нехитрым военным уловкам. — Парламентеры красные, что ли, явились для переговоров?» Но тут прозвучала команда, и на площадь вступили «войсковые тылы». В том числе и сам военврач Пантелеев.
Он увидел на тротуаре наспех уложенный дощатый настил, а на этом слабом подобии трибуны группу генералов и полковников. В центре группы важно стояли два иностранных офицера. Их форма была незнакома доктору.
Видимо, ради них и учинен парад перхуровских частей...
Показывать тылы вторично не понадобилось — вид их был слишком невзрачен. Строй повернул налево, к лазарету.
Воротясь в операционную, Пантелеев узнал от сестры, что юнкер, ожидавший операции в паху, тем временем успел истечь кровью прямо на носилках, в коридоре...
Уютный балкон двухэтажного особняка на Волжской набережной завален мешками с песком. Они защищают от шальных пуль зеркальные стекла нижней квартиры. На втором этаже половина стекол выбита. Жильцам пришлось покинуть верхний этаж дома. Это вызывает у хозяев даже чувство злорадства: там разместились зимой по ордерам Ярославского совдепа четыре большевистских рабочих семейства, переселенные из полуразрушенных бараков. Хозяин особняка, польский инженер Здислав Зборович, понимает, что этим людям неважно жилось в ветхих бараках, но... он-то тут при чем? Он-то покупал особняк у полковника Зурова для себя!
Покупку совершили весной 1917 года, и немало приятных гостей перевидал особняк на Волжской набережной за быстротечное лето. Приезжали деловые люди из Москвы, Парижа и Манчестера. Перед ними играли пианисты, танцевали прелестные балерины, читали пророческие стихи поэты Бальмонт и Северянин, пел знаменитый тенор Смирнов. А как шли коммерческие дела, связанные с поставками на союзную армию!.. Потом — переворот в октябре. Чека. Очереди. Уплотнение. А теперь?
В доме не горит электричество, припахивает керосиновым перегаром от ламп, и дамы с тревогой прислушиваются к стрельбе на городских окраинах.

Впрочем, трагические июльские события не были неожиданными для семейства Зборович. Уже с зимы 1917/18 года стали появляться в уплотненном особняке новые приезжие. Они тоже выступали в задних комнатах особняка перед избранным кругом слушателей. Собрания шли, правда, без сверкающих люстр и криков «браво!», но с каким вниманием слушатели ловили каждое слово!
Был среди этих приезжих эсер Борис Викторович Савинков. В недавнем прошлом, при Керенском, Борис Савинков, будучи помощником военного министра, ввел смертную казнь за воинские преступления. Совещались с ним в особняке Зборовичей генералы Гоппер и Карпов, бывали посланцы французских и британских дипломатов.
Хозяйка дома, пани Элеонора, завязала дружеские отношения с артисткой ярославского «Интимного театра» Эльгой Барковской, у которой был поклонник, сыгравший немаловажную роль в подготовке событий, — поручик Фалалеев.
Поручик имел такой простоватый вид и так подчеркивал свой демократизм, что ярославские партийные руководители принимали его за выходца из низов, заслуживающего доверия. Давнишний завсегдатай чайных, бильярдных и трактиров, Фалалеев хвалился особой осведомленностью о делах уголовного мира и предложил уездным властям свои услуги в качестве надежного блюстителя порядка. Ярославские власти поручили ему пост комиссара уездной милиции. Поэтому Перхуров знал обо всех переменах в дислокации частей, обо всех разногласиях в губкоме и губисполкоме, имел адреса руководителей, план караульной службы, сведения обо всех запасах на городских складах.
Самый же младший отпрыск семьи Зборовичей лично участвовал в нанесении первого удара, в захвате артиллерийского склада у Леонтьевского кладбища, на Всполье. Правда, офицерам захват склада удалось произвести почти бескровно, а первыми, кто прискакал из города на рассвете 6 июля по сигналу тревоги, были конные милиционеры поручика Фалалеева. Семнадцатилетний Владек Зборович вернулся домой героем, в офицерской форме с погонами прапорщика, которые будто бы собственноручно укрепил на плечах молодого воителя сам Главноначальствующий!
В уютном особняке Зборовичей приготовили после воинского парада званый ужин, где полковник Перхуров обещал поделиться с почетными ярославскими гражданами радостными новостями о ходе патриотического дела.
2
Главноначальствующий прикатил на Волжскую набережную в потрепанном, но не потерявшем изящества автомобиле «непир». Сопровождали его штабист полковник Зуров и бывший адъютант Зурова подпоручик Михаил Стельцов.
По знаку главы нового городского управления меньшевика Ивана Савинова оркестр сыграл туш. Музыкантов набралось мало, и приветственный туш по случаю прибытия Главноначальствующего получился жидковат. Сидевшие в зале поднялись с мест и наконец увидели главного героя ярославских событий.
Выше среднего роста, смуглый, резкий в движениях, плотно влитый в защитный мундир, Александр Петрович Перхуров пересек зал и поднялся на возвышение, некогда служившее сценой артистам. Чуть сутулясь и ни на ком не останавливая надолго взгляда черных острых глаз, Главноначальствующий поднял руку, как бы протестуя против туша. Кивнул ближайшим знакомым, поклонился артистке Барковской, но вовсе не заметил поручика Фалалеева, державшего артистку под руку. Заговорил отчетливо и резко:
— Господа! Рад возможности известить вас о важном событии на нашем участке борьбы за освобождение России.
Зал замер. Лишь за обоями осыпалась штукатурка от сильных разрывов. Это бил по городу красный бронепоезд.
— Сутки назад отбыли за Волгу квартирьеры французской армии, присланные от главного штаба союзного командования на русском Севере. В ближайшие часы в Архангельском порту высаживается десант экспедиционных англо-французских войск. Мы переживаем исторические минуты.
Как бы подтверждая слова Перхурова, начали бить большие угловые часы в зале. Звон был мягкий, густой и показался всем таким многозначительным, что Перхуров пережидал все восемь ударов. Когда «часы истории» отзвучали, он продолжал:
— Мне сообщили, что после высадки в Архангельске войска союзного десанта проследуют прямо в Вологду, Рыбинск,
Ярославль
и Муром. Во всех этих городах восстание против большевиков развивается успешно. Через несколько суток по захваченному нами железнодорожному волжскому мосту союзники соединятся с нашей группировкой, и мы вместе двинемся для завершающего удара к Москве.
Публика захлопала в ладоши. Перхуров поманил к себе пана Владека.
— Прапорщик Зборович! За храбрость, проявленную вами при захвате артиллерийских складов, награждаю вас орденом святого Георгия III степени и назначаю адъютантом моего штаба.
Полковник умолчал, правда, о том, что ящик георгиевских крестов был обнаружен на складе, так что новоявленных георгиевских кавалеров в городе заметно прибыло. Присутствующие об этом не ведали и были растроганы. Перхуров закончил так:
— Вас, господа офицеры Зборович и Стельцов, я не хочу похищать нынче у милых барышень в этом зале. Извольте завтра к восьми утра явиться в штаб для исполнения служебного долга. А нам с полковником Зуровым приходится спешить!
И старшие офицеры укатили на своем «непире». Повеселевшие гости устремились к накрытым столам. После ужина гостям был преподнесен сюрприз — выступление Барковской...
От выпитого вина, добрых вестей и смелых комплиментов артистка находилась в очаровательном чаду.

К исполнительнице подлетели два офицера с бокалами.
— Вы пригубите? Сочтем за счастье!
— Благодарю вас, господа! Как вас зовут, подпоручик? Михаил Стельцов? Это о вас говорил что-то Главноначальствующий? А вас, пан Владек, я даже не успела поздравить с первым крестом. Уверена, что он не последний. Но здесь так накурено и душно! Хочу на воздух, к реке... Опасно? С такими кавалерами, как Мишель и пан Владек? Разве не за храбрость вам нынче вручен этот крестик? Достаньте лодочку, Владек, мне пришла фантазия покачаться на волнах!
Тихая ночная Волга отражала столько пожаров, что казалось, будто в темных берегах струится багрово мерцающая лава. Стрельба попритихла в глухую пору. Изредка прокатывалась пулеметная дробь или бухало орудие, на миг озаряя волжский мост или тучу над крышами. Вперемежку с орудийными зарницами мелькали грозовые, бледные и слабые в сравнении с артиллерийскими вспышками. Барковская спускалась с откоса, поддерживаемая Стельцовым. Владек был уже внизу. Грозная ночь и легкое опьянение отнимали ощущение реальности.
— Какой мистический вечер! И никого, никого вокруг! Вниз, вниз, вниз! Мишель, ведь я сумасбродка! Смотрите, наш пан Владек и в самом деле поймал какую-то лодку! Он прелесть, этот ребенок, я его расцелую за лодку! Боже мой, но там уже кто-то сидит, в этой лодке? Фу, да это, оказывается, мальчишка. Говори сейчас же, кто ты такой и зачем приплыл сюда... А то эти господа тебя живо... Впрочем, Владек, отведите его наверх, пусть-ка поручик Фалалеев, когда вернется, хорошенько поговорит с этим рыбаком. Мы же с мосье Мишелем покараулим лодку и непременно дождемся вас... Оревуар, Владек!.. Мишель, кажется, собирается гроза. Господи, какое зарево! И уж который день. Я мерзну, садитесь ближе. И не кажется ли вам, что мы сейчас любуемся несчастным Ярославлем, как некогда император Нерон — пожаром Рима, им самим подожженного?
3
С того часа, когда партия арестантов попала на борт плавучей тюрьмы, паром приставал к барже еще дважды или трижды, высаживая новых узников, но ни разу заключенным не давали поесть. Потом перестали привозить новых, вести с воли прекратились, надежды на спасение стали гаснуть. О положении в городе гадали по звукам боев. Видеть же люди могли только небо над головами, либо серое, в клочьях грязного дыма, либо черное, в зареве пожаров.
Лежа на штабеле поленьев, Сашка Овчинников в который раз осматривал баржу и думал: как выручить отсюда Антонину?
Уже в первые сутки плена, когда для него и старца Савватия сложили широкую постель из березовых плах, Овчинников не позволил поднимать себя. Превозмогая боль, он сам вскарабкался на приготовленное ложе.
— Хватит нянчиться! — заявил он, красный от смущения. — Небось уж затянуло рану. Пора костыли ладить. Пока могу и ползком.
Антонина только руками всплескивала.
— Не слушайте вы его! Ему еще позавчера вспрыскивания были. На пароходе еле допросилась перевязки. Куда ему ползать, костыли ладить? Погубит себя только!
Иван Бугров ободрял и сиделку и раненого, втолковывал нетерпеливому больному:
— Дуришь, парень! Радуйся, что швы целы и нога в лубке. Силушку береги, война впереди еще долгая.
— Располагать надо не дольше как до часа расстреляния нашего или потопления вкупе с сим ветхим ковчегом! — вмешался как-то в разговор Бугрова с Сашкой увечный старец Савватий. — Прости им, господи, ибо во злобе своей не ведают, что творят и над кем творят.
— Нет, дедушка, — успокаивал старика Бугров. — Для расстреляния нашлась бы стенка и на берегу. И утопить такую лохань середь Волги, на глазах горожан, дело непростое. Потому и толкую — не на час или два здесь располагаться надо. Может, поплавать придется, вот и надо силушку беречь.
Овчинников заметил, что заключенные на барже, не сговариваясь, молчаливо признают некоторых людей как бы за старших. К таким людям принадлежали, скажем, костромич Иван Бугров, рабочий Иван Вагин, губкомовец Павлов, сотрудница военкомата белокурая девушка Ольга. Никто не выдвигал их в начальники, и сами они совсем не выделяли себя, даже не старались распоряжаться, но именно к их словам прислушивались, сообщениям верили, советы исполняли, а поступки их становились примером.
Сашка ощущал не совсем еще понятную силу, сплачивающую этих людей. Она придавала им уверенность и спокойствие, словно они знали что-то такое, во что остальные не посвящены. Сашка про себя называл их «товарищи старшие» и определил, что среди трех сотен узников их едва ли наберется десятка полтора.
В городе все чаще ухали пушки, пулеметные очереди иногда сливались в неумолчный вой. Поблизости от баржи сочно хлюпала вода, заглатывая осколок или пулю. Сашка улавливал, как вдруг смачно чокнет пуля пониже ватерлинии, и вскоре где-то под дровами булькнет струйка... Появились и первые жертвы. При попытке достать из-за борта питьевой воды погиб чуваш Василий Чабуев. Потом удалось найти бидончик, расплести кусок каната и черпать воду уже без особенного риска... Однако не выдержал голода Шаров — попытался кричать из бортового проема: «Хлеба! Хлеба!..» Выпросил только губановскую пулю, и вскоре в дальнем конце трюма лежало уже пятеро убитых.
Однажды вечером Сашка решил потолковать с Иваном Бугровым. Дескать, голод отнимает последние силы. Пора что-то делать.
Овчинников медленно сполз со своего ложа. Старец Савватий спал. Чернело на груде поленьев монашеское одеяние Антонины — она даже не пошевелилась, когда Сашка, волоча раненую ногу и сгибаясь в три погибели, пустился в первое свое путешествие по барже.
За штабелем на корме шло заседание партийной группы заключенных. Они только что выслушали помощника ярославского губвоенкома Полетаева. Его доставили на борт с последним паромом. Он рассказал о гибели ярославских партийных руководителей Нахимсона и Закгейма, о новых приказах, расклеенных в городе за подписью Главноначальствующего вооруженными силами северной Добровольческой армии Ярославского района полковника Перхурова.
— В Рыбинске, слыхать, то же самое, — вставил рабочий Пронин, металлист из Твериц. — Про это тоже в приказах написано. Бои, похоже, затягиваются. Люди на барже надежду теряют.
— А что, если попытаться как-то с берегом связаться? — высказалась Ольга. — Может, плотик соорудить, послать кого-либо на берег? Знают ли люди, что мы здесь? Неужели никто не добивается, чтобы нам хоть передачи от родных разрешили? Сердце у меня сжимается, как о старушке своей подумаю, ведь ей эту баржу из окошка видно: на набережной дом.
— Что ж, — в раздумье сказал помвоенкома, — может, мысль твоя правильная, подумаем. Но пока надо людей от черных мыслей отвлечь, поднять дух товарищества. Тут на носу мужчина есть в темном пиджаке, работник музея. Я прислушался, как он хорошо про наш город рассказывает. Мне думается, пусть бы погромче, для всех рассказал о земляках наших и про памятники исторические.
— Ну насчет церквух разных старик монах почище того музейщика наплел бы, — заметил Пронин сердито. — Ох, видел я, пока нас сюда из каземата вели, как такой же праведник-монах с колокольни по нашим стрелял.
— Из Спасского монастыря не одни офицеры стреляли, с монахами вместе, — подтвердил и Вагин, — Уже и поговорку кто-то пустил: «Что ни попик — то и пулеметик». Кстати, каким же ветром к нам на баржу монаха и монашку занесло?
— Это я могу объяснить, — сказал Бугров. — Старик попал за то, что офицеру казачьему заявил, не его, мол, дело стариковское в мирские распри вникать и беляков на брань благословлять. Безвредный старик. А сиделка-послушница раненых не покинула, к белякам не пристала. И скажу вам так, товарищи: сиделка, как видите, очень хорошая, заботливая, никому в помощи не отказывает. Не надо бы на каждом шагу повторять: монашка, монашка! Уж случайно ли, нет ли угодила с нами — пусть научится понимать нашего брата, не дичиться нас. Молода еще, жизнь вся у нее впереди.
— Небось приучали ее на нас как на зверье смотреть, — начал было Пронин, как вдруг из-за штабеля высунулась чья-то рука и легла на плечо Бугрову. Все с удивлением узнали раненого Сашку Овчинникова.
— Ты что, Саша? — в недоумении спросил Бугров. — Чего тебе?
Сашка внимательно посмотрел на серевшие в сумраке лица, дольше всех задержал взгляд на Ольге. У нее был карандашик и книжка курительной бумаги: пока совсем не стемнело, Ольга делала для себя пометки. Овчинников примостился на полене рядом с Ольгой и обратился к помвоенкома Полетаеву:
— Пишете, значит? Что ж, запишите и меня.
— Куда тебя записать, товарищ? — удивился Полетаев. — У нас партийное собрание. Кончим и потолкуем с тобой. Погоди малость.
— Нечего и годить. Пишите и меня в ваше собрание. Чтобы и мне, стало быть, считаться как партейным. Пишите так: Овчинников Александр Васильевич, с 1897 года. Еще чего про меня знать надобно?
— Ты хочешь в коммунисты записаться? Так тебя понять?
— Да. Желаю вступить.
— А ты кем на воле был?
— Крестьянин я. Из села Яшмы.
— Бедняк? Середняк? Ведь крестьяне разные бывают.
— Дед бурлачил, а отец вроде середняком был. Своего хозяйства я не имею, на брата работаю.
— А брат твой?
— Овчинников Иван. Этот справный. Конным делом промышляет. Но я делов его больше знать не хочу. Учиться надумал уйти.

— Ну а в политике разбираешься? Знаешь, что по этой части с коммуниста спрос немалый?
— Разбираюсь плоховато, а научиться желаю. Насчет белых-красных вроде бы разобрался, на то мужику большого ума не надо.
— Газеты читаешь? Ленина знаешь, слыхал?
— Слыхал. Всей красной силе — голова.
— Разрешите мне! — вмешалась Ольга. — Вот, понимаешь, Овчинников, если придут сюда, на баржу, белые офицеры, они раньше всего скомандуют: коммунисты, комиссары, жиды — два шага вперед! Это может случиться ночью, через час, в любую минуту... И должен коммунист, не дрогнув, голову сложить за народ. Ты подумал об этом?
— Как раз об этом и подумал. И так решил: с вами держаться. Все сумею как подобает. Не сумлевайтесь, пишите!
— А в бога ты веруешь, Овчинников?
— Конечное дело, верую. Что же я, зверь?
— А знаешь, что коммунисту верить в бога не положено?
— Стороною слыхал, только не может того быть, чтобы Ленин запрещал человеку в бога веровать, совесть иметь. Никакой цены такой шеромыжник без совести не имеет.
— Видишь, какой ты еще несознательный товарищ? Владимир Ильич, товарищ Ленин, пишет и повторяет, что религия — опиум народа. Буржуазия отравляет дурманом ум трудящихся, чтобы сделать их покорными рабами. И только. Ясно?
— Не, неясно. Много добрых людей верует. Вон хоть Антонина. У нее отец-мать образованные были, а она верует. Человеку понятие надо иметь, что грех, а что дозволено. А без бога как понимать грех? Почему не украсть, не убить, клятвы ложной не дать? А ты — опиум! Выходит, и на присягу плюнуть можно?
— Вот что, Овчинников, — сказал помвоенкома. — Это разговор нужный, но долгий. Сейчас, понимаешь, некогда. Подумать надо, как от пуль защититься, мертвых убрать, надежду укрепить...
— И я про это думаю, планы строю. Имею еще силы немножко. Если надумаете что — и я с вами. Все исполню, что поручите.
— Да ведь ты не с нами, а с господом богом, — сказал Смоляков, металлист со станции Урочь. — Ты богу слуга, а не людям. Держись ближе к Бугрову, он тебе растолкует, чего ты еще не понял.
— Ну а в партию-то вы меня записали?
Смоляков привстал, давая понять Сашке, что он лишний здесь.
— Позвольте мне! — взял слово Бугров. — Парня я знаю. Никак господин подъесаул с ним общего языка не нашел, а мы должны найти. Считаю так, товарищи: надо уважить просьбу! Каждый, кто до смертного часа останется верен делу революции, достоин считаться коммунистом, если сердце его того требует. А билет на берегу выдадим. И оговорку сделаем, чтобы занялся потом изживанием своих предрассудков.
Смоляков с сомнением покачал головой.
— Эдак Бугров и попа и монашку — всех вовлечет.
— Нет, не вовлечет! — горячо возразил Вагин. — Те на барже случайные попутчики наши, а у этого парня просто путаница в башке насчет совести. Я так думаю, что церковной божественности у него и в помине нет, а совесть бедняцкая, рабочая есть. Ставь на голосование. Я. Бугров, Павлов — мы за.
— И я проголосую «за», — сказала Ольга. — Он у нас фронтовик.
— А скажи мне, товарищ Овчинников, еще одну вещь, — остановил голосование помвоенкома. — Если, может, придется нам эту баржу покинуть на лодочке или плоту, кого бы ты первым спасать стал?
Вопрос озадачил Сашку. Было темно, отсветы пожаров и луна позволяли смутно видеть бледные лица «старших». Их-то и надо бы спасать, самых нужных на берегу людей, а не девушку-послушницу, которую он, Сашка, на беду свою, полюбил больше собственной жизни...
— Говори, Овчинников, — поторопил своего подшефного Бугров. — Не смущайся, говори на партийном собрании и везде только правду. Кого, стало быть, в первую очередь?
— Думается, кого... постарше и послабее, — произнес Сашка.
— А может, сами сперва спасемся, а потом придем на выручку слабым, коли не помрут к тому времени? По душе тебе так?
Овчинников уловил иронию и обрадовался:
— Не, сперва слабых!
— А коммунистов-то когда же? Али в последнюю очередь?
— Не, зачем в последнюю... С остальными вместе...
— Запоминай, Александр, — строго сказал помвоенкома. — На поле боя коммунист приходит первым, а покидает его последним. Так впредь сам и живи! Что ж, товарищи, проголосуем. Я лично «за».
Сашка, поддерживаемый Бугровым, добрался до своего березового островка, когда рассвет уже начал брезжить. Антонина примостилась в ногах Савватия и берегла его сон. Надеждин, очень слабый, пробормотал, глядя на Сашку:
— Двужильный ты, что ли, Овчинников? Рана только подживает, а он чуть не приплясывает! Швы пора ему снимать, слышь, сестрица?
Но сиделка в этот раз будто и недослышала. Приподнялась, тихонько скользнула мимо Сашки, повела плечом так, чтобы не коснуться мимоходом его локтя. Когда прикорнула на своей поленнице, Сашка различил глухие рыдания и почти скатился с поленьев.
Он добрался до Тони, но та резко оттолкнула его руку.
— Отойди! Отступник ты... — тело ее сотрясалось в ознобе. — С безбожниками заодно. Вечер целый... в обнимку со стриженой. От совести, от бога отрекся. Знать тебя не хочу!
— Напрасно ты, Тоня. От совести не отрекался и в обнимку не сидел. Ольга — товарищ нам, и мне и тебе. А без тебя мне жизни нету, на том и стою, как стоял.
— Шел бы с миром к себе! Господи, спаси мою грешную душу! Не понял ты, Саша, что у меня нынче на сердце было. Как я тебя ждала!
— Про что ты, Тоня? В толк не возьму! Неужто... обнадеживаешь?
— Грех мне, Саша, но уж и сама противиться не могу! Я ведь тебя не по-божески, по-женски люблю. За счастье считала одним воздухом с тобою дышать, как заезжал к нам на постоялый двор. В монастыре третий год, словечком не перемолвимся, письмеца послать не посмела, все равно не пересилю я это в себе! Старец душу мою как стеклянную насквозь видит. Велел тебе сказать... А ты... к тем, к той.
— Боязно и слушать тебя, Тонюшка! — ошалело пробормотал Сашка.
— Не гляди на меня так, Саша. Старец велел, чтобы я уговорила тебя плыть на берег, ради нашего спасения. А я боюсь, чтобы ты себя смерти подвергал. Уж лучше, если суждено, за руку тебя взявши, вместе и чашу испить общую.
Сашка начал понимать, с чем ждала его Тоня, обиду ее... Он сжал в ладонях исхудавшую девичью руку.
— А что он велит мне делать там, на берегу, если доплыву?
— По усмотрению поступать. Может, с кем из начальства поговорить, убедить отпустить невинных. Или конвою добра посулить, чтобы лодку подал и нескольких спас. А ежели не тронешь ты их сердца, может, сам тайком лодку пригонишь, во тьме или тумане. Словом, коли мы все трое окажемся на берегу, то послух монастырский он с меня снимет. На брак с тобою благословит.
В трюме рассвело, Сашка отодвинулся на самый край Тониной поленницы. Даже не заметил, как здоровая нога погрузилась в воду.
— Ну, а... кабы не вышло у меня дело, тогда как будет? Скажем, белые отпустят или красные спасут — неужто нам опять разлука?
— Ох, Саша, ты говоришь так, будто нам уж ворота отсюда распахнуты, только в троечку твою сесть! Кругом-то голод и смерть.
— Это я, Тоня, понимаю. Да ведь и с теми, «старшими», про то же толковали, только подкладка у ихнего разговора иная. Говорят, перво-наперво увозить надо с баржи больных и старых, а сами — последними останемся, такая доля партейная. Это как считать, Тоня, безбожники они али нет?.. Так скажи ты мне прямо — если живы будем, ждать ли тебя с троечкой-то?
— Да уж видно, Саша, сам понять должен, какая из меня теперь послушница, если сама в любви тебе призналась. Быть мне либо... в черном скиту молчальницей, либо уж... за тобою, Саша!
...Рассвет, очень чистый и ясный, набирал силу и обещал жаркий день. Над баржей и во всех бортовых проемах сияло розовое и голубое небо. Стрельба как будто поутихла, ветерок отогнал дымовые облака.
Внезапно в левом проеме Антонина, не сомкнувшая глаз после объяснения с Сашкой, увидела в небе что-то похожее на светлый крест.
Он вырастал и перемещался, а одновременно Антонина различила странный стрекочущий звук. Он по-хозяйски вторгался в утреннее затишье, стал требовательно громким, пока серо-голубой крест шел наискось над баржей. Мелькнули красные звезды на крыльях, лучистый диск впереди, похожий на сияющий нимб святого. На единый миг, при легком крене аппарата, показалась очкастая голова в гладком блестящем шлеме.
— Аэроплан! — сообразила Антонина, когда от проплывающего креста отделился какой-то маленький темный предмет.
Аппарат скрылся за выступом кормы, и тут же донесло сильный тугой звук, от которого дрогнула земля и качнулась баржа с узниками. Эхо разнесло грохот взрыва далеко вниз и вверх по реке, но в треске
пулеметных очередей стрекочущий звук не пропал, а лишь отдалялся постепенно. И Тоня вдруг, впервые за много лет, отчетливо вспомнила лицо своего отца, будто сам он внезапно предстал перед нею, в таком же очкастом шлеме... Фотография отца была у мамы еще на пароходе «Кологривец»... Снова раздался взрыв авиационной бомбы. Стрекотание мотора слышалось еле-еле. Изможденные узники баржи даже не пробуждались от этих новых звуков войны, и лишь Сашка, уснувший в волнении, при взрывах динамитных бомб приоткрывал и сразу же вновь смыкал глаза.
На барже начались уже шестые сутки плена. От голода и пуль погибли десятки человек. Утром 11 июля участники совещания — Вагин, Смоляков, Павлов, Бугров, Полетаев, Ольга и Сашка — подняли узников на постройку бруствера из поленьев. Их выкладывали впритык к борту, делали правильные «перевязки», чтобы баррикада не осыпалась. Артельное дело пошло быстрее, чем надеялись инициаторы.
Вместе с другими трудился работник музея, знаток города. Он рассказал, что в библиотеку Демидовского лицея, саму по себе драгоценную, буквально на днях привезли из осажденного Петрограда еще более ценные рукописи и книги. Думали, Ярославль надежнее!
К вечеру бруствер был готов. Под его защитой стало возможно похоронить убитых
Отодрали от борта широкую доску. Первым положили тело Василия Чабуева, застреленного в начале плена. Под защитой бруствера выдвинули доску с телом за борт. Помвоенкома негромко сказал:
— Прощай, товарищ! Пролетарский гимн и салют над тобою и всеми борцами за Революцию прозвучат после нашей полной победы!
Два человека шестом снизу приподняли край доски.
Как только за бортом раздался всплеск, с берега ударил пулемет. Пули вспарывали обшивку баржи, били по торцам поленьев, поднимали брызги у борта, но никто из пленников не был задет.
За тусклой дымовой завесой к горящему городу неслышно подкрались мглистые сумерки. Резкие хлопки выстрелов казались совсем близкими. Все чаще край неба подергивался багровым пламенем, где-то на улицах раздавался грохот, будто на булыжник обрушивается целый дом.
Антонина лежала на спине и не спускала глаз с Сашки. Вдвоем с Бугровым они готовились плыть к берегу и наблюдали за рекой из оконного проема под кормовой полупалубой.
Течением несло бревна, поваленные деревья и столбы с обрывками проводов. Иногда проплывал мимо баржи вырванный с корнем куст или измочаленная крона ивы — следы пушечного обстрела берегов.
Ольга дала им адрес: бывший особняк полковника Зурова на Волжской набережной, на втором этаже, спросить бабку Пелагею Петровну, ткачиху, Олину мать. Она поможет раздобыть хлеба у городских пекарей. Только осмотрительнее с нижними жильцами. Если придется с ними разговаривать — надо обратиться либо к прислуге, либо к девочке Ванде. Хуже всех сама пани Элеонора, эта обязательно выдаст!
Днем Антонина подозвала Сашку к старцу Савватию. Узнав, что Сашка поплывет, как стемнеет, старец опустил руку в карман рясы и извлек нечто бесценное: просфору и два кусочка сахару!
— С самой Яшмы сберегаю! — шепнул он Сашке, пораженному неслыханной щедростью. — Монастырские перед отъездом подарили. Господь подсказал приберечь до крайности. Подкрепишь силы! Может, и я сподоблюсь пчельничек свой скитский узреть, если господь тебе воспоспешествует!
Сашка попытался подсунуть подарок старца Антонине, но та пригрозила, что пожалуется Савватию: не ей задано Волгу переплыть. Она сама обняла его на прощание, поцеловала крепко и спрятала голову на его широкой груди. Когда простилась, стала глядеть, как Сашка с Бугровым присели на краю поленницы по обычаю русских людей перед дальней дорогой, а потом полезли на верх бруствера.
Наверху пловцы съели до мельчайшей крошки разломанную просфору, успевшую почти окаменеть в кармане Савватия, и сжевали сахар. Пустые желудки, растревоженные малой порцией еды, больно заныли, но уже через десяток минут оба признались друг другу, будто и в самом деле силушки несколько прибыло.
Оба наблюдателя выросли на реке, они сразу распознавали любой предмет, проносимый течением. Почти одновременно разглядели, что сверху, из-под моста, плывет челнок или лодка. Пустая ли?
Сашка ухватился за стойку проема, но бдительный пулеметчик Иван Губанов заметил движение и полоснул по окну очередью. Сашка мигом скатился на бревна бруствера, Антонина внизу лежала бледная, будто неживая. Бугров потянул Сашку на кормовую полупалубу.
— Может, за рулями сумеем спуститься!
Они по-пластунски добрались до погребальной доски, оставленной наверху, перешли вдоль фальшборта к рулевым брусьям. Ступая на палубный настил, Овчинников последний раз махнул Антонине — он терял ее теперь из виду.
На рябоватой, уже темнеющей поверхности Волги они отыскали знакомую лодочку. Скоро поравняется с носом баржи...
— Плыть надо за нею как можно дольше. Хорошо бы с поленом! — шепнул Сашка напарнику. — Как выйдем из-под обстрела — заберемся в лодку.
На корме валялось несколько иссохщихся поленьев. Сашка выбрал сучковатую, очень сухую лесину. Бугров полена не взял: буду, мол, отдыхать на спине. С поленом слезать неловко.
Глубоко внизу, между громоздкими лопастями рулей, булькала и быстро струилась маслянисто-черная в тени баржи вода. Глядя сверху на воду между рулями, легко было поддаться иллюзии, будто баржа плывет. Но оба посланца хорошо знали, что судно намертво закреплено двумя якорями. Стальной трос, носовой, был туго натянут, пеньковый, кормовой, давал слабину.
— Пошли! — прошептал Бугров. — А то лодку упустим!
Прячась за рулевыми брусьями, оба слезли вниз, к воде... Сашка спустил полено, потом окунулся сам. Волжская вода показалась обжигающе холодной. Бугров тихонько охнул, пускаясь вплавь. Течение сразу подхватило обоих.
На барже отрядили наблюдателей. К верхним проемам поднялись Смоляков и Павлов. Они сообщали остальным пленникам:
— Нырнули оба. Шибко их несет. Уже, верно, на сотню сажен. Рябь на воде, темнеет, видать плоховато. С берегов и подавно!
Но наблюдатели ошибались! Подъесаул-пулеметчик давно обратил внимание на лодку вдали и следил в бинокль, не покажется ли на воде голова подозрительного пловца, какого-нибудь смельчака из числа смертников с баржи. И вот не одна, а две головы среди ряби.
Вражеский пулеметчик был терпелив и хитер. Перхуровское начальство знало, кому доверить старшинство на посту, охраняющему баржу с заложниками! В темное время при любых подозрительных признаках подъесаул сам ложился за пулемет и не спускал глаз с баржи.
Сейчас он выжидал долго, желая успокоить беглецов, обмануть мнимой безнаказанностью. И рассчитал он верно.
Беглецы, еще не выйдя из зоны прицельного обстрела, пошли на сближение с лодкой. Ветер дул с верховьев, лодка могла далеко опередить пловцов.
И когда лодка заметно качнулась — это Сашка первым прицепился к ее корме, — стрелок взял ее точно на мушку, заранее определив расстояние с помощью сетки бинокля. В следующее мгновение Бугров ухватился за борт, и Сашка с воды подсадил его в лодку. Потом и Сашкина голова показалась над бортом...
Смоляков успел бодрым голосом воскликнуть: «Сели! В лодку наши сели!» — как пулеметчик Иван Губанов дал длинную, точную очередь. Пробитая десятком пуль лодочка стала тонуть: несколько мгновений она продержалась на поверхности, сильно кренясь вправо, и через минуту ушла под воду.
При звуке пулемета Антонина вскочила с места и, спотыкаясь в длинном своем одеянии, бросилась наверх. Смоляков быстро подтянул ее к себе, и девушка, не таясь, ничем не маскируясь, выглянула из проема.
Она сперва ничего не поняла из того, что творилось там, ниже по течению, в отсветах городских пожаров. Потом догадалась: плавный веер всплесков на поверхности Волги — это работа пулеметчика с берега. Она увидела, как среди этих непрерывных всплесков на миг показалось и опять погрузилось в воду что-то черное, очевидно днище лодки. Больше там, рядом, ничего не было — взблескивала вода, и плыло в некотором отдалении от всплесков белое полено.
Застигнутые в лодке смертоносной свинцовой струей гребцы погибли, и Волга взяла их на дно, к остальным жертвам с баржи?..
Пулеметчик на берегу приостановил огонь и вглядывался в смутную даль, гордясь отличной своей работой. И вдруг он услышал пронзительный женский крик, прозвеневший в сумерках, доселе наполненных только звуками боя и привычными шумами реки. Крик долетел со стороны баржи. Пулеметчик повел стволом налево, нащупал темную массу баржи и дал по ней короткую очередь: тах-тах-тах!
Может быть, ему требовалось сменить ленту или остудить воду в кожухе, только очередь по барже не повторилась. Да и сделалось там по-прежнему тихо. Кричавшую, видно, уняли свои...
...Угодив под пулеметную струю, Сашка нырнул. Он еще не успел совсем забраться в лодку, выпал из нее мгновенно, а под водою сразу метнулся в сторону.
Но очередью его задело. Только пуля потеряла в воде силу и вошла Сашке в правое плечо уже ослабленной. Все же удар был тяжел, тупая боль сразу ошеломила Сашку. Правая рука онемела и сделалась чужой. Сгоряча он уходил под водой от новых пуль, загребая одной левой, и старался как можно дольше не выныривать на поверхность — это было единственное, что остаток сознания велел ему.
Пловцу ненадолго хватило дыхания, и он поднялся наверх, когда веер пуль еще добивал лодку. Сашка видел и тонущую лодку, и лежавшее на дне ее тело Бугрова. Когда лодка с трупом черпнула всем бортом, Сашку немного отнесло от места крушения, куда упорно продолжал бить пулеметчик. Долетел до Сашки и женский крик над водой, но сознание работало так смутно, что он не узнал голоса и даже не подумал об Антонине...
Вокруг него сделалось тихо. Пулеметчик внезапно перенес огонь. Александр Овчинников и не ведал, что это Тоня отвлекла от него огонь на себя...
Без поддержки не поплывешь с онемевшим плечом. Где полено? Пловец увидел его чуть впереди, добрался до него, приладил между сучьями раненую руку, а левой стал выгребать прочь от опасного правобережья.
Прояснились мысли. Значит, Бугров, верный товарищ, погиб, и он, Сашка, с незажившим бедром и новой пулей в плече, очутился в одиночестве посреди Волги. На нем — ответственность за Тоню и всех людей на барже, понадеявшихся на него.

Справа — Стрелка Которосли. Ярко пылает красивое здание со многими колоннами. В воздухе сгущается запах жженой бумаги. Вот что-то вроде хлопьев черного снега оседает на воду близ Сашкиной головы. Он сообразил, что пылающее здание — это Демидовский лицей с драгоценной библиотекой и редкими рукописями, перевезенными из Питера, а черный снег — пепел от сгоревших книг. Сашка подумал, что его собственная смерть значила бы мало в сравнении с гибелью таких сокровищ.
Пловец не сразу заметил, как поравнялся с песчаным Нижним островом. Заросший ивняком, похожий на отмель, остров темнел слева, однако Сашка обращал все внимание на правый берег, где не стихал огневой бой. Течением пловца несло к отлогой песчаной косе острова, но мысли Сашкины мутились и гасли.
Полено прошуршало по песку. Сознание смутно запечатлело на миг темный рыбачий шалашик повыше отмели. У самой воды что-то темное... Небольшая человеческая фигурка... Чайник в руках... Подошел воды зачерпнуть из Волги?..
Явь или бред? Мальчишка-то знакомый, яшемский, Макаркой зовут, попадьи тамошней племянник. Откуда он здесь, в Ярославле?..
Сашка очнулся в шалаше. Тупая боль давила тело, а нога и плечо были словно накачаны этой болью. Давешнее видение яшемца Макарки оказалось не бредовым — вот он, живой, вихрастый, в ситцевой рубашке, несет весла к большой лодке. Придерживает лодку женщина — не Макаркина мать ли? Двое незнакомых мужчин неумело ладили Сашке перевязку и пытались о чем-то расспросить спасенного. Но он ничего-ничего не мог припомнить.
Продолжение следует
(обратно)
Красная птичья потеха

Мы приехали в Бернгардовку под вечер. Было серо, слякотно и пустынно. Под ногами хлюпали желтые от опавшей листвы лужи. В такую погоду только неотложные дела могли выгнать человека из дому. Валентин шел быстро. Возле одного из домов остановился, сказал:
— Вот здесь и снимаю комнату. В город его не повезешь: в тепле держать не годится...
Ястреб сидел в сарайчике, поставленном в глубине небольшого огорода. Валентин осторожно усадил птицу на руку, одетую в кожаную перчатку, и вынес на улицу. Ястреб веером распушил хвост, резко взмахнул крыльями и тут же беспомощно рухнул вниз, остановленный должиком — крепким кожаным ремешком. После двух-трех таких же неудачных попыток притих, тоскливо цвиркнул. Голова его повернулась к нам, холодно блеснул зрачок. Валентин не торопясь вложил в руку, на которой держал ястреба, полуощипанную тушку голубя. Переступив, ястреб встал на нее. Грозно сжались саблевидные черные когти.

— Чтобы не убежала, — прокомментировал Валентин. — Не решил, будет есть или нет, но отпускать уже не хочет. Я недавно его привез из вологодских краев. Еще и не занимался с ним толком...
Темное мясо голубя неудержимо притягивало к себе ястреба, но он все еще держал голову прямо, недвижимо: в нем боролись голод, страх, гордость, злоба. На какой-то момент его привлекли мелькнувшие в темнеющем небе свиристели. Он так и подался вслед за ними, потом вдруг резко склонил голову набок и коротким, стремительным движением вырвал клок мяса. Еще, еще...
— Вот и хорошо, — облегченно вздохнул Валентин. — Ястребы, они сговорчивые. Соколы, те, случается, умирают, так и не согласившись взять пищу у человека.
Валентин перекладывает голубиную тушку в правую руку, чуть-чуть отводит ее в сторону:
— Ну-ка попробуй перескочить. Смелее!
Ястреб медлит, ему страшно расстаться с перчаткой, которая вела себя дружелюбно. Голубь, однако, там, в другой руке, и ястреб не отрывает от него взгляда. Наконец лапы, прикрытые пестрыми перьями, шевельнулись — взмах крыльев, неловкий скачок, и ястреб снова рвет голубиную тушку.
— Поддается. Может, и получится из него охотник, — вслух размышляет Валентин. — Впрочем, все может статься...

Валентин несет птицу обратно в сарай:
— На день, а то и на два ему достаточно, — заключает он. — Потом опять приеду. И так всю зиму. Кстати сказать, Филипп, с которым я затравил зайца, похож на него...
О Филиппе и зайце я уже слышал и довольно четко представляю себе, как все было. Заяц неожиданно вымахнул из кустов, крупный, тяжеловатый на ходу, солидный. Валентин тогда же окрестил его «профессором». Вот только шубка не шла ему, мешала стать совсем важным — недолинявшая, куцая, раздерганная: белая шерсть вперемешку с рыжей, не успевшей выпасть.
Филипп, серый тетеревятник, был раза в три меньше косого. Самец. Таких называют челигами: у хищных птиц они обычно намного слабее и меньше самок. Спустить Филиппа — значило подвергнуть его риску. Здесь было о чем поразмышлять, но сработал охотничий азарт. Привычное движение руки, одетой в кожаную перчатку, — кольца опутенок, охватывающих лапы, скользнули по должику, и вот уже ястреб рвется к добыче...
Заяц сразу оценил опасность, понял, что не уйти, и, когда Филипп готов был вцепиться в лохматую шубу, стремительно перевернулся на спину, поднял лапы. Птица, спасаясь от острых когтей, взмыла вверх; косой успел проскочить по направлению к лесу еще несколько метров, прежде чем ястреб снова повис над ним.
Заячья спина ушла из-под птицы в последнюю секунду: чуть не по самым перьям скользнули заячьи лапы, хищник едва успел отвернуть в сторону. Так повторялось несколько раз. До леса оставалось совсем немного, но заяц, видно, не рассчитывал больше на свою ловкость и впрыгнул в первый попавшийся на пути куст. На его счастье, куст попался раскидистый, в нем было где затаиться. Ястреб сделал круг и сел тут же, на сухую вершинку.
Валентин застыл на месте. Что будет дальше? Ястреб не торопясь поджимает одну лапу. Точно так, когда спит. Значит, устроился надолго, не собирается улетать. Неужели решил пересидеть зайца, дождаться, когда тот отважится поскакать дальше?
Больше часа стыла тишина над поляной. Заяц поверил ей. Беспечно выскочил из куста, словно ему никогда и ничто не угрожало. Ястреб не потерял ни секунды. Косой дернулся, но было поздно: одна из хищных лап уже впилась в него. Заячий вскрик прорезал осенний воздух. Челиг натужно махал крыльями, тянул вверх непосильную ношу. Поднять, конечно, не поднял, но не дал зайцу снова перевернуться на спину. У зайца вся надежда теперь была на лес, он протащил на себе ястреба еще метра четыре, но тот чувствовал присутствие хозяина, оно подстегивало его, и птица яростно цеплялась за добычу. Обреченно дыша, заяц повалился на бок...
— Я подбежал, не без труда освободил зайца от ястребиных когтей, сунул его в шалгач — сумка такая из лозы и кожи для живности. Ястреба повабил на перчатку, — дополняет Валентин на обратном пути к электричке свой прежний рассказ. — Мог бы Филипп справиться с зайцем в одиночку? Конечно. Он бы от него не отцепился. Сокол, тот своим жертвам ломает шеи. Клювом. У него на клюве специальный зубец. У ястреба зубца нет, но зато кровожаден. Сокол сытым никого не губит. Ястреб никогда не пропустит случая задавить птицу. Даже друг друга не щадят. Этот же Филипп сожрал потом одного из самых хороших моих ястребов — Розового. По оплошности я привязал их на шесте слишком близко друг к другу...
Что с тем зайцем сталось? — повторил Валентин мой вопрос. — Я принес его в деревню, показал всем. Потом посмотрел, что глаза у него остались целы, серьезных ран нет, и ночью выпустил в лес. Понравился мне «профессор» своим мужеством. Заслужил пощады. Кстати, птиц я тоже всегда выпускаю, если они после ястреба остаются живыми. Не могу добивать. Да и не в добыче дело...
Мы встречаемся с Валентином не впервые, и каждый раз я с наслаждением вслушиваюсь в музыку старинных речений. Помцы — от помыкать, ловить. Вабить, повабить — значит манить, приманивать к себе сокола или ястреба, приучать их возвращаться к охотнику и садиться на руку, одетую в кожаную перчатку, или на специальное вабило — обычно крыло птицы, на котором хищник получает мясо. Упоминавшиеся вскользь опутенки — это ремешки из оленьей замши. К опутенкам прицепляют должик — прочный ремень с утолщением, шляпкой на конце. К должику крепится шнур, или, если следовать старинной терминологии, вервь: она мешает птице улететь. К принадлежностям соколиного и ястребиного наряда относятся также клобучок, нагрудник, нахвостник, обножи, сильца, колокольцы, вотолки, ворволки. Помчи, опрометы, кутни, поножи, гвозди с сильями — это различные приспособления для ловли птиц. Самих соколов и ястребов по возрасту делят на гнездарей, слетков, молодиков, розмытов, дикомытов...
Несомненно русские и все-таки незнакомые слова, которых не найти даже у Даля, всплывают одно за другим. За ними целый мир, ныне полузабытый, высокое искусство красной, как говаривали пращуры, славной птичьей потехи. Валентин Михайлович Прикащиков — один из немногих, а может, и последний ее поклонник в наших краях.
— Отец у меня был ветеринарным врачом и ружейным охотником, — рассказывает Валентин. — От него я много узнал про животных. Птицами увлекся с детства. Сначала всяких птах ловил. Для себя, для продажи. Лет с пятнадцати заинтересовался ястребами. Это у меня, видно, в крови. Если верить дядюшке, сокольником был наш пращур. Потом уже кто-то из его наследников, когда интерес к соколиной охоте стал пропадать, пошел в приказчики. Отсюда и фамилия наша...
Валентину лет тридцать с небольшим. Стройный. Красивые волосы, уложенные на старинный манер. Есть в нем какое-то спокойное достоинство, некоторая горделивость, строгость. Родом он ленинградец, здесь вырос, окончил десятилетку. Работает много лет на одном месте — лаборантом в научно-производственном объединении «Пластполимер». Все свободное время отдает птицам, отпуск проводит только на Севере.
— Что мне на тех югах делать, — коротко поясняет он. — На Вологодчине деревенька есть такая — Тудозеро. Там меня теперь уже все знают...
Сокол, во всяком случае лучшие из соколов, — продолжает Валентин, — птица северная. В неволе их в полумраке держат на ледяных глыбах. Добывают и добывали прежде в основном на Севере, на берегах ледовитых морей. В документах можно прочесть о Канином Носе, Терской и Двинской сторонах, о Тиунском береге, о Печорском крае. Оттуда больше всего да еще из Сибири их везли. В специальных коробах, обитых изнутри овчиной.
Историю соколиной охоты Валентин знает великолепно: дома у него целая библиотека. Среди прочего — несколько роскошно изданных еще в прошлом веке фолиантов с превосходными иллюстрациями.
Кое-что он показал, а потом и принес мне. И я на несколько вечеров погрузился в повествование о древнем промысле, где соседствует как будто бы несовместимое: азарт и выдержка, риск, мужество и расчет, наблюдательность, осторожность.
Откуда пошла на Руси соколиная охота, сказать трудно. Сокол был уже в личном гербе Рюрика, а соколиный двор держал Олег, воевода Игоря. Ловчих птиц можно увидеть на фресках Софийского собора в Киеве. Страстным сокольником рисуется в летописи Владимир Мономах: он стремится вникнуть во все хлопоты соколиного двора, сам заботится о любимых своих соколах и ястребах.
В средние века в Москве и под Москвой, не считая частных птичьих охот, существовало два государевых сокольих двора — Семеновский и Коломенский. Зимой птиц содержали в светлицах, летом — в амбарах. Поставляли голубей для кречетов и ястребов, конечно, крестьяне. На протяжении столетий они несли «голубиную» повинность. На территории нынешних Сокольников в Москве располагалась слобода, где жили кречетники, сокольники, ястребники, а также несколько помытчиков и зверовщиков, со своим начальством. Была при царском дворе и специальная должность сокольничьего: впервые она упоминается в документе, датированном 1613 годом. Выступал тогда в этой роли пращур Пушкина — думный дворянин Гаврила Григорьевич Пушкин.
Но расцвела птичья потеха в России при отце Петра I — Алексее Михайловиче. На царских кречатнях при нем содержалось до трех тысяч соколов. Сокольников своих Алексей Михайлович знал до подноготной. Отправляясь в поездки, царь регулярно слал сокольничьему Афанасию Ивановичу Матюшкину письма. Сохранилось двадцать пять таких писем. Царь постоянно напоминает в них Матюшкину, чтобы «робят», то бишь сокольников, держал в руках и чтобы они были «вежливы», «меж себя в дружбе», чтобы «раздору не было никакого». Благодаря этим письмам дошли до нас имена многих сокольников — Паршутка, Михейка, Левка, Митрошка, Корчмин, Шатилов, Марк...
Все, что было связано с сокольей охотой, окружалось некоторой таинственностью. Посторонним проникнуть в царские кречатни было немыслимо. Знатный чужестранец, барон из Австрии, полгода добивался возможности увидеть и нарисовать царских кречетов. Птиц показали, но в специальной избе. Их принесли шесть сокольников в ярких дорогих кафтанах. Птицы тоже были в новых клобучках из великолепной ткани с длинными золотыми веревочками на правых берцах. У лучшего из соколов — белого цвета с крапинами — на правом берце красовалось золотое кольцо с рубинами. Чужестранец поинтересовался, где водятся кречеты. Ответ был:
— В областях великого государя.
Церемония пожалования рядового сокольника в начальные была замысловатой и торжественной. Она расписана в старинном документе «Урядник сокольничьего пути», составленном при Алексее Михайловиче.
Открывался «Урядник» красноречивым гимном соколиной охоте. «Безмерно славна и хвальна кречатья добыча, — восклицал его составитель. — Красносмотрителен и радостен высокова сокола полет. Премудра же соколья добыча и лет».
В древности ловчих птиц, конечно, приручали не ради забавы: они помогали добывать пропитание и часто оказывались надежнее силков или лука. При Алексее Михайловиче соколиная охота все еще считалась добычливой, но уже тогда ее ценили прежде всего как зрелище. Ведь сокол своего рода спортсмен среди хищников, и ему очень важно, как будет добыта птица...
— У меня не выходит из головы рассказ одного из знакомых орнитологов, — говорил мне как-то Валентин. — Он наблюдал за кречетом, этой благороднейшей птицей из соколиного семейства, на Куршской косе, под Калининградом. Там, на орнитологической станции, огромные ловушки: кольцуют попавших туда во время перелетов птиц. Так вот. Шторм баллов десять. Неба не видно, и не тучи его закрыли, а белая водяная пыль. А кречету все нипочем. Играется с поморником: птица такая есть. Ударит, взмоет вверх и снова идет на снижение. В соколиной охоте это называется сделать ставку. Не меньше десяти ставок кречет сделал. Потом, когда наигрался, схватил и понес птицу на берег. Сел на вершине холма, принялся поедать добычу...
Такое обычно для сокола. С первой ставки он никогда не поражает и не стремится поразить добычу. Он снова и снова взмывает кверху, словно наслаждаясь своей силой, быстротой, ловкостью, точностью прицела. На земле сокол никогда никого не трогает. Только в воздухе. Кречеты способны достигать высоты около двух тысяч метров — черной точкой становятся для невооруженного глаза. Охотятся они часто на пару: один летит понизу, спугивает дичь, второй держится наверху, готовый на нее броситься.
Сейчас соколы — редкость. На воле их даже увидеть удается не каждому. В старину существовало специальное сословие помытчиков, занятых ловлей кречетов. Известны, к примеру, двинские и каргопольские помытчики: на царские кречатни они должны были ежегодно поставлять по два кречета белых, три крапленых и по тридцать пять серых. Самыми ценными считались белые, особенно самки. Попадались они крайне редко, их даже не упоминают в перечне обязательной посылки: удачи нельзя требовать, на нее можно только надеяться.
Труд помытчиков признавали тяжелым. Их многие десятилетия освобождали от податей и налогов, даже от яма (обязанности поставлять лошадей или корм для лошадей государевым людям) и городового дела (строительства крепостных сооружений). Цена выношенному соколу была огромной — во все времена он стоил нескольких коров, целой избы и даже более.
Гоняли на Север ватаги помытчиков, старались задобрить их, прикрепить к ремеслу — не случайно. Если посольству какому куда ехать, в числе главных подарков почти всегда были кречеты. В Англию, Польшу, Данию, Турцию — куда только ни слали русских соколов...
Не просто было помытчикам добираться до ледовитых морей, огромной выносливости требовал и сам промысел. Кречеты гнездятся на скалах, в труднодоступных местах. Брать их из гнезда опасно. Ловить с помощью перевесов — сложно. Но не каждому дано и такое терпение, чтобы часы, дни, недели проводить на помцах, в полевом сидении без всякой надежды на успех.
— За все годы у меня побывало только четырь небольших соколика-чеглока, — не без грусти сообщает Валентин.
Большого, одного из лучших — странствующего сокола-сапсана Валентин пытался поймать у истока Невы в Петрокрепости: орнитологи сказали ему, что сапсаны пролетают над нею каждую осень. Валентин отправился туда со всем снаряжением, просидел восемь дней, но бесполезно: канюков видел больше сотни, а сапсаны так и не появились. Чеглоков же Валентин добыл около полюбившейся ему деревеньки Тудозеро.
В ремесле помытчика на первый взгляд ничего хитрого нет: надо разложить в поле сеть-тайник, привязать по соседству манную птицу и, как только сокол появится, шпарнуть, подбросить ее навстречу хищнику. Обычно он тут же бросается на нее, вонзая когти. Спрятавшемуся поблизости охотнику остается только притянуть его вместе с манной птицей к сетке и обоих накрыть ею. Но как увидеть сокола, не прозевать его? Помытчики никогда не надеялись на собственную зоркость. Помогали им серые сорокопуты: маленькие птахи из семейства воробьиных. При приближении сокола сорокопут первым торопится всех предупредить об опасности. Далеко окрест разносится его суховатое «чек-чек-чек»: словно камень стучит о камень.
Валентин действовал в полном согласии с вековыми традициями. Поймал сорокопута, привязал его на колышек неподалеку от сетки-тайника, вырыл ямку, чтобы сторожкой птице было куда спрятаться от хищника. За манную птицу взял зяблика. Сам укрылся в кустах, метрах в сорока.
«Чек-чек-чек» — зазвучало очень скоро. Сорокопут торопливо побежал к ямке. Валентин и сам увидел чеглока. Шпарнул зяблика, не промедлив. Чеглок пролетел как ни в чем не бывало. Не заинтересовался ни сорокопутом, ни зябликом, словно их вовсе не было. Так продолжалось несколько дней. Отпуск Валентина таял как весенний снег, а вынашивать и приручать было некого. Валентин даже растерялся, не понимая, почему у него ничего не получается.
Отступать все-таки не хотелось. Он оставил на время свою сеть. Решил понаблюдать за соколиками, присмотреться к ним. Тогда и увидел, как над небольшим озерком они берут ласточек. Выходит, не зябликом, а ласточкой надо их приманивать. Теперь они стали дежурить в другом составе: человек, серый сорокопут, ласточка.
Сначала вроде бы все шло по-прежнему, но уже на второй день чеглок после того, как ласточка, словно выстреленная, метнулась ему навстречу, сделал первую ставку. Играючи. Царапнул птицу и тут же взмыл вверх. Потом опять устремился вниз, нанес несильный удар и снова стал набирать высоту. Ласточка храбро отстаивала жизнь, металась из стороны в сторону, и соколик, видно, решил, что охоту пора кончать. Он начал снижение с вытянутыми лапами в замедленном темпе, рассчитывая каждое движение. На этот раз удар был смертельным, и чеглок вместе с ласточкой повалился на осеннюю жухлую траву. Победитель не чувствовал, как его потянули к сетке вместе с жертвой.
— Быстрый чеглок. Как молния, — замечает Валентин. — Он был слетком — так называют молодого сокола, слетевшего с родительского гнезда, но еще не линявшего, не мытившегося. Понятливый. Я приучил его ловить жаворонков. К сожалению, в неволе они недолго охотятся: два-три года. Потом теряют свои боевые качества. А жить — живут. В Нью-йорском зоопарке сокол прожил 162 года... Вообще-то, чтобы по-настоящему заниматься сокольей охотой, надо быть от всего свободным...
Это не фраза. Красная птичья потеха требует высокого профессионализма, и о ней, естественно, стали забывать сразу, как только была ликвидирована государева служба «сокольничьего пути». Поймать птицу сложно, еще труднее обучить ее.
Учеба начинается с держания, или вынашивания. Ястреба укутывают в специальную пеленку — усеченный конус с отверстием для головы, надевают ему на лапы опутенки и привязывают к ним должик. Все первые сутки ястреба носят привязанным к руке, одетой в кожаную перчатку. Останавливаться нельзя: необходимо, чтобы птица чувствовала непрерывное движение. Стоит задремать, промедлить минуту, зазеваться — птица моментально воспрянет духом: глаза у нее проясняются, снова проглянет в них диковатый блеск — и тогда все начинай сначала.
— Первые, самые трудные сутки, вынашивают обычно вдвоем, попеременки, — объясняет Валентин. — Но однажды я остался один. Ястреб, как назло, попался необычайно упорный. Бился я с ним трое суток. Трое суток не спал. Держался только на кофе. Потом, когда он начал наконец клевать мясо, в пору было заплакать от радости, от облегчения...

Время на вынашивание во многом зависит от возраста птицы. Легче приручить гнездаря — птенца, взятого прямо из гнезда и не успевшего на воле научиться летать. Слеток, птенец, привыкший к полету, дается труднее; розмыт — птица, которая однажды уже линяла, тем более. Самое сложное — покорить дикомыта, взрослого, опытного ястреба, линявшего, мытившегося много раз. Но и почетнее всего, всего заманчивее: из дикомытов вырабатываются лучшие охотники. В неволе невозможно научиться тому, что само собою приходит в свободной охоте, рядом, крыло в крыло с другими матерыми, умудренными годами хищниками.
— После того как сокол взял мясо, он еще не стал ручным, — предостерегает Валентин. — Может и когтями хватить. Когти у него длиною до трех с половиной сантиметров. Беречься их надо. Мне самому сколько раз попадало...
После первых бессонных суток сокольник может дать себе отдых. Ночью он спит сам и позволяет спать птице. Но только ночью, в темное время. Зари ждать нельзя. Надо вставать до света и снова начинать бесконечное, бессмысленное, если смотреть со стороны, хождение по избе.
— Вынашивание продолжается неделю или даже десять дней. Какая жена вытерпит мужа, занятого столь несерьезным делом? Вот так и живу один... Птица, она всего тебя требует. Разве кто поймет это... — продолжает Валентин. — Только через неделю или десять дней наступает пора вабить птицу. На это уходит еще две недели, а то и больше. Я приручаю ее тем, что даю клевать мясо на перчатке, где она обычно сидит. Сначала заставляю птицу переходить с руки на руку. Первый шаг дается с трудом, ястреб не сразу на него решается. Потом сажаю его на спинку стула, и он уже с нее возвращается на перчатку. Расстояние увеличиваю постепенно.
Первое время вабят, как говорили в старину, с вервью. Привязывают птицу бечевкой, легоньким шпагатом, таким, чтобы она его почти не чувствовала. Поторопишься, упустишь — насмарку труд трех-четырех недель...
После вабления наступает время притравливать птицу, учить охоте. Я беру для этого голубей. В городе их больше чем надо. Летают они великолепно. Увертливы. Ястреб сразу кидается на них. В книгах я читал, что полезно подзывать ястреба сигналом. Свистком, например. Я не придаю сигналу значения. Рассчитываю прежде всего на зрение, на прямую зрительную связь. Если ястреб далеко, машу ему рукой. К хвосту у него, кроме того, прикреплен колокольчик, который помогает отыскивать беглеца...
Настойчивости, терпения, умения подмечать самые малые малости в поведении и настроении живого существа, правильно толковать, понимать эти малости требует всякая дрессировка. Дрессировка ловчих птиц в особенности. Сокольнику, хочешь не хочешь, приходится быть собранным, сосредоточенным, чутким ко всему, что делается вокруг. Валентин не курит, не пьет. Даже сухого вина.
— В компании в этом отношении я человек тяжелый, — шутит Валентин. — Но что делать? Птица не любит табака. Пьяных тем более. Случалось, брали моих ястребов на руки люди под хмельком. Ястреб сразу взъерошится, натопорщится... Понимает, что человек не такой, как всегда, нельзя на него надеяться. Сокольником не каждый может стать. Любить надо соколью охоту, призвание иметь.
Я все-таки должен поймать сокола. Большого сокола, — который раз вздыхает Валентин. — Соберусь как-нибудь с деньгами, со временем и поеду на дальний Север. В те места, куда ходили когда-то помытчики.
На этот раз мы с Валентином беседуем в городе. За окном синее небо, и в нем своя жизнь. Мне радостно, что повстречал человека, для которого «сокол» — не звонкое слово из книги, а живое, близкое существо, воплощение красоты, восхищавшей когда-то наших пращуров.
Владимир Михайлов, Фото И. Константинова
(обратно)
Мышиный «рай»
Около пяти лет тому назад д-р Джон Колхаун из Института психического здоровья в г. Пулсвиль (штат Мэриленд, США) создал мышиный «рай», который назвал «Универсум-25». Этот «рай» представлял собой воплощение всех мышиных желаний, и все в нем должно было быть подчинено их исполнению. В «раю» еды было вдоволь, самой вкусной и разнообразной, сколько угодно питья. Мыши резвились на обширном пространстве при оптимальной температуре. Прекрасные условия жизни и необходимые прививки предохраняли их от болезней. Были предусмотрены также специальные отделения для беременных мышек, чтобы ничто не препятствовало им свободно размножаться. «Рай» был рассчитан на 4 тысячи «граждан».
Сначала поселили в нем четыре супружеские пары. Чувствовали они себя здесь прекрасно, и через год население «рая» насчитывало уже тысячу мышей. Некоторые из них дожили до мышиных седин (800 дней), что в пересчете на человеческий возраст составляет 80 лет. Однако вскоре что-то в этом «раю» испортилось. Третье поколение самцов устраивало между собою кровавые драки, во время которых множество мышей было загрызено победителями. И все же появилось на свет четвертое поколение, хотя и менее многочисленное. Мужские представители этого поколения уже не дрались между собой. Д-р Колхаун назвал их «красавцами», так как они отличались замечательным мехом, не тронутым зубами соперников. Но продолжения рода они не дали.
Экспериментатор пробовал спасти это поколение. Он переносил «красавцев» в другие клетки, к обычным, «не райским» самкам. Ничего не помогло: в один из майских дней 1973 года умер естественной смертью последний житель «Универсума-25». «Рай» опустел.
Д-р Д. Колхаун и его сотрудники загрустили, так как, по их мнению, возникает неприятная аналогия: люди стремятся жить в мире, свободном от болезней и проблем, связанных с обеспечением быта, а результаты опыта на мышах...
Что можно сказать об этом? Прежде всего опыт доктора Колхауна подтвердил известное положение об эволюционной бесперспективности изолятов. Не углубляясь в существо и детали идущих в этих условиях наследственных, генетических процессов, отмечу лишь, что в изоляции утрачивается пластичность вида, популяция как бы застывает. Кроме того, в каждой популяции существует «зараженность» летальными генами. Помимо этого, любая передатчица наследственных признаков — хромосома содержит в природе одну, две или больше вредных мутаций. Такова естественная «загрязненность» наследственного фонда любого вида животных. В обычных условиях при свободном скрещивании многочисленных особей все эти вредные мутации оказывают, однако, небольшое отрицательное влияние на жизнь популяции (здесь срабатывает сложный генетико-компенсационный механизм). Иное дело, когда происходит близкородственное скрещивание. При этом вредная изменчивость начинает проявляться и нередко приводит к разрушительным последствиям (таковы биологические основы юридических законов, запрещающих браки между ближайшими родственниками). В опыте доктора Колхауна были взяты четыре супружеские пары, которые в благоприятных условиях изоляции и при искусственном устранении внешних факторов естественного отбора дали многочисленное потомство. Понятно, что в этих случаях эффект близкородственного скрещивания проявил себя во всей своей полноте.
Сработал и еще один природный механизм. Он слишком специален, чтобы его здесь описывать. Отмечу лишь, что в неестественных условиях, тем более в условиях изоляции, пусть даже «комфортабельной», многие животные вообще плохо дают потомство. Вот почему, видимо, и тут многие особи третьего и, особенно, четвертого поколений лишились инстинкта размножения, что в конце концов и привело к вымиранию мышиного «рая».
Таким образом, опыт промоделировал вполне определенную генетическую ситуацию, подтвердил ранее сделанные теорией выводы. Проводить аналогию, как это попробовал Колхаун, с человечеством, да и просто с крупным сообществом животных в естественных условиях, нет никаких оснований.
Р. Чайченко, кандидат биологических наук, доцент Киевского университета
(обратно)
Оглавление
Слушаем пульс ледника
Хозяева восставших гор
Стратегия вмешательства
Бой с сабало
Непостоянство земных постоянных
Прованс и провансальцы
Фриц Лейбнер. Человек, который дружил с электричеством
Сихотэ-Алинские ночи
За порогами-крокодилы
Там, глубоко под такыром
Танец гончаров
До Фаши — один колодец
А. Мошковский. Спирька — волчья смерть
Говорят бородатые боги
Визит к огнепоклонникам
Р. Штильмарк. Волжская метель
Красная птичья потеха
Мышиный «рай»
Последние комментарии
7 часов 49 минут назад
7 часов 51 минут назад
14 часов 33 минут назад
14 часов 41 минут назад
20 часов 54 минут назад
20 часов 57 минут назад