Мед и яд любви [Юрий Борисович Рюриков] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Юрий Борисович Рюриков Мед и яд любви (Семья и любовь на сломе времен — I)
Любовь — это… проявление бессмертного начала в существе смертном.Платон
Это свет вечности в настоящей минуте… Когда человек любит, он проникает в суть мира.М. М. Пришвин
Любовь. Или это остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь.А. П. Чехов
«В суть мира»?
«Передать на сцену. Ответьте, пожалуйста. Он полюбил ее и стал смотреть на себя по-новому. Теперь он не считал себя ничтожеством, мало на что способным, рабом своих начальников и жизненных обстоятельств. Он стал и мир ощущать по-новому. Он стал чувствовать страшную ответственность за каждый свой поступок. Мир в кризисе, он странен и непонятен, и только он может что-то сделать с ним… Однажды она чуть не попала под машину, но он рывком выдернул ее из-под колес. Она не видела машину и обиделась на его грубость. Он в порыве сказал, что любит ее и вытащил бы ее из огня. После этого она изменилась, в ее глазах появилась жалость, и она стала избегать его. Ее раздражало его чувство. Она ощущала, что не имеет права быть беспечно счастливой, если кто-то по ее вине несчастен. Ее мучила совесть, он мешал ей быть счастливой, и она спросила его, согласен ли он на дружбу. Он оскорбился… Вопросы: 1. Считаете ли вы его чувство любовью? 2. Верно ли поступила она, если он ей не нравился и его любовь ей не льстила? 3. Что теперь делать ему? Писала девушка» (Москва, апрель, 1982, Дом культуры МГУ). А что, если вы сами попробуете ответить на эти вопросы? Причем дважды: сейчас, сразу и, скажем, после главы «Душа любви». Чьи ответы останутся теми же, у тех твердые взгляды на любовь, ясная позиция; чьи изменятся — у тех явная тяга к самоуглублению, душа, открытая для чужих истин…Над всемий временами
Афродиту Книдскую, эту великую скульптурную поэму любви, изваял Пракситель в IV веке до н. э. Афродита недаром была богиней любви и красоты — для греков любовь и красота были неотделимы. И она вся переполнена этой изобильной красотой тела и духа. Она высока, длиннонога, у нее тяжеловатые — для нас — руки и плечи, небольшая голова, крупные глаза и губы, мягкий и удлиненный овал лица. У нее высокие бедра, высокая талия, красивая и высоко поставленная грудь, и во всем этом есть какая-то высшая сила, олимпийская грация. Но это еще красота без изящества, без той взлетающей легкости, которая есть в Нике и которая входит сейчас в новые идеалы красоты. Она стоит, опираясь на одну ногу, и тело ее выгнуто от этого плавно и музыкально. Как будто медленная волна прошла по ее талии, по ее бедру и по ее ноге, прошла и оставила там свой изгиб. Рожденная из волны, она несет в себе ее медленную и спокойную красоту. Она вся — естественность, вся — умиротворенность: она нагая, но она стоит спокойно, в ее позе нет никакого стеснения. Она не боится, что ее нагота может привести кого-то в ужас. Она не боится, что ее саму может осквернить чей-то взгляд. Афродита как бы живет в особом мире — мире нормальных, не извращенных чувств. Она живет для простого человеческого взгляда, который увидит в ней и ее этос — выражение ее духовного величия, и ее эрос — выражение ее любовной привлекательности, увидит их гармонию, их красоту. И от того, что она выше и ханжества, и сластолюбия, она как бы поднимает до себя глядящих на нее, как бы очищает их, передает им частицу своей красоты, гармонии, частицу своего особого — естественного — отношения к миру. В ней заложен особый, полный огромных ценностей, идеал, и она как бы приобщает к нему глядящих на нее. И наверно, здесь, кроме прямого наслаждения от взгляда на нее, и лежит ее вечность, ее гуманистическая сила. Афродита Книдская — богиня гармонической духовно-телесной любви. Она вобрала в себя ее высшие ценности, и, может быть, от этого в ней есть неисчерпаемость, недостижимость, которая бывает в гармонии, в идеале. Это, видимо, не портрет, а мечта — мечта о том союзе любви и мира, которого нет в самой жизни. Это первая на свете утопия любви — любовь божественная, но и человеческая, идеал, возможно, на все времена. Потому что гармония между любовью и миром, наверно, может быть только преходящей, ее всегда, видимо, будет теснить их разлад — если только мир не будет переустроен по законам любви…Несколько ключей к книге
К новой цивилизации
Любовь — как бы монарх среди чувств, самое манящее из всех, но и самое обманное, самое разочаровывающее. Она дает самое сильное наслаждение и самую сильную боль, самое острое счастье и самую тяжелую тоску. Ее полюсы и контрасты сливаются в массу неповторимых сочетаний, и какое из этих сочетаний выпадет человеку, такой он и видит любовь. Любовь все время меняется, и особенно на стыке времен, когда одна эпоха выламывается из другой, когда круто перекраиваются человеческие отношения, чувства, взгляды. Наверно, поэтому вокруг любви всегда шли и, пожалуй, всегда будут идти бурные споры. Идут они и сейчас, и это естественно: в любви возникает сегодня много нового — неясного и полуясного, ичем новее это новое, тем больше споров оно вызывает. Любовь и семья — пересечение всех мировых сил, которые правят жизнью, зеркало всех перемен, которые идут в человечестве. И чтобы по-настоящему понять, что происходит в любви и в семье, надо, наверно, понять, что делается в устоях цивилизации, в глубинах социальной жизни: личные судьбы можно по-настоящему постичь только через планетарные призмы. В наше время происходит, очевидно, коренной перелом в земной цивилизации. Человечество попало в стратегическое положение, невиданное в истории. Оно начинает восходить на такие высоты, о которых раньше могло только мечтать в утопиях и в сказках; но под его ногами разверзаются такие пропасти, каких на его пути еще никогда не было. Оказываются под вопросом главные устои нынешней цивилизации. Куда ведет нас научно-техническая революция — в тупики или на новые просторы? Что дает людям и что отнимает великое переселение народов в сверхгорода, эти антиоазисы посреди природы? Не переродит ли нас отсечение от природы, не убьет ли в людях естественного человека? И как сделать, чтобы человечество перестало быть цивилизацией-хищником, которая пожирает планету? Три дамокловых меча нависли сейчас над человечеством, и каждый следующий мы осознаем хуже предыдущего. Это меч атомной смерти, меч экологической гибели и меч эгоизации людей, их нравственного вырождения. Все они выкованы главными устоями нынешней цивилизации: промышленно-технической базой человечества, типом поселения — нынешним городом, самим положением человека в укладе массовой цивилизации. Именно эти устои ведут к убийству природы и самоубийству человечества, и их, видимо, придется в корне переустраивать, создавать совершенно новую цивилизацию. И прежде всего человечеству нужна в корне новая промышленная база. Теперешняя база построена на принципе «после нас хоть трава не расти». Лишь 1–3 процента сырья, которое добывает промышленность, претворяется в вещи, предметы, а 97–99 процентов уходят в отбросы. Каждый год мы изымаем из тела планеты 100 миллиардов тонн сырья — и 97–99 миллиардов ухаем в отравление природы. К концу века человечество будет добывать втрое больше — 300 миллиардов тонн в год, и почти вся эта лавина — 290–297 миллиардов в год — станет отравлять землю, воздух, воду. Потому-то, как скорая помощь, человечеству нужна принципиально новая промышленная база — безотходная, экологически чистая, не губящая природу. Второй устой цивилизации, который так же губителен для нас — сегодняшняя жилая среда, человеческое поселение. Нынешняя деревня отсечена от культуры, в ней нет почвы для расцвета человека, для его глубокой и разносторонней жизни. Город, особенно большой, разрушает здоровье людей, их нервы и нравственность; он разобщает, эгоизирует их, превращает в толпу на улицах и в одиночек дома. Город, кроме того, главный отравитель биосферы: именно в городах собрана почти вся нынешняя промышленность. Человечеству нужно в корне новое поселение, которое отбросит изъяны нынешнего города и деревни и сплавит в себе их достоинства — сельское слияние с природой и городское — с культурой. Это будет, видимо, экополис (экологический город) — город-сад и город-лес, не враг человека и природы, а их друг. В коренном переустройстве нуждаются и другие устои цивилизации: и труд человека, и его гражданская и личная жизнь. Ими правит сейчас губительное распределение физического и умственного труда между разными отрядами людей, деление на управляемых и управляющих, узкая специализация и узкая жизнь, которая превращает человека в колесико и винтик общественного механизма. Научно-техническая революция ввела в число главных пружин жизни «надформационные» противоречия, глобальные — общемировые — проблемы. Эти новые генеральные противоречия жизни правят современным миром, пожалуй, сильнее старых, классовых. Они как бы стремятся вобрать их в себя, сделать своей частью, и это резко наращивает похожие социальные угрозы во всех системах. Чтобы создать справедливую цивилизацию, придется устранить все виды отчуждения личности, вытеснить их из труда, экономики, гражданской жизни, из семьи и личных отношений. Придется перевести все человеческие отношения на рельсы глубокой человечности, демократии, душевного союза друг с другом. Один из главных рычагов такого переустройства — коренная революция в воспитании и образовании. Уже много лет они делают из человека пассивного и нетворческого исполнителя, выращивают в нем приспособленчество, потребительство, я-центризм. Вместо них нужны в корне новые модели воспитания и семьи, в корне новое личное бытие, новая культура личных отношений. Все эти устои общества — от типа производства до воспитания — самые глубокие, по-моему, и самые нераспознанные у нас родимые пятна собственнической цивилизации. Все они враждебны высшим идеалам человечества и все сомкнуты в единую цепь, в кандалы на человечестве. И чтобы расковаться, нужен всесторонний, «всеустойный» переворот в цивилизации — отказ от всех ее античеловеческих основ, создание новых, истинно человечных. На такой переворот у нас осталось, как утверждают экологи, лишь несколько десятков лет. Мы так яростно отравляем природу, что уже в первые десятилетия XXI века в ней могут начаться необратимые перемены — первые шаги ее агонии — планетарного СПИДа. Успеем мы свернуть с гибельного пути или не успеем — вот генеральный вопрос для человечества, вопрос жизни или смерти. Потому-то и нужна сегодня неотложная, авральная стратегия спасения человечества — стратегия, без которой не будет ни любви, ни семьи, ни человека. Земля — как бы космический корабль, который попал сейчас в поле тяготения «черной дыры» и летит к ней с нарастающим ускорением. Чтобы спастись, надо аврально менять курс и так же аврально перестраивать все двигатели и все системы сохранения жизни. Но для этого нужен немедленный союз всех, кто летит на нашем гигантском космическом корабле: всех людей и народов, всех рас и классов… Только такой союз — и только авральное напряжение сил каждого — сможет избавить нас от катастрофы. И менять курс надо не только нашему вселенскому кораблю. Каждый человек — микромодель этого корабля, и каждому из нас надо, наверно, менять свой внутренний курс. Переустраивать придется, видимо, и всю ткань жизни, и всю ткань человеческой души. Потому что создание новой цивилизации — это создание и новой души человека, и новой души мира. Сегодняшние наши души гораздо больше тяготеют к разладу, чем к содружеству, и даже в наших личных отношениях больше разлада, чем лада, распри, чем дружелюбия. Родители и дети, юноши и девушки, мужья и жены — их душами и отношениями больше правят пружины самолюбия, чем «друголюбия», я-запросы, чем мы-запросы. Души близких больше соперничают, чем живут в мире, их силовые струны звучат чаще мирных. Почти с колыбели микроб разлада заражает нашу психику и создает в нас разладное подсознание, разладную автоматику чувств. Это психологическое эхо от социального устройства нынешней цивилизации, психологический оттиск этого устройства в наших душах. Цивилизация раздробленного человечества и раздробленного человека — так можно бы назвать теперешнюю цивилизацию. Человечество раздроблено на недружественные нации, классы, группы; человек раздроблен на сознание и подсознание, на мозаику враждующих желаний, запросов, склонностей. Цивилизация раздробленного человечества, видимо, идет сейчас к своему концу. Новая цивилизация, которая зреет в лоне нынешней, станет, наверно, цивилизацией единого человечества и цельного человека, и ее генеральным законом будет, очевидно, не соперничество, а содружество людей. Почти все стержневые идеи будущей цивилизации родились в лоне нынешней, в долгом ходе тысячелетий. Это и высшие идеалы человечности, которые выстрадала ваша цивилизация, и самые добрые основы жизненного устройства, которые она нашла. Это и общинные устои народной жизни, которые питают союз «я» и «мы», и вершины культуры всех времен и сословий, которые одухотворяют нас. Это и высшие коммунистические идеалы, и вечные истины, которые открыли разные расы и народы. Эти вершинные ценности нынешней цивилизации и станут, наверно, душой новой цивилизации. И величайшим строителем этой цивилизации, ее генеральным архитектором станет, пожалуй, любовь. Всякая любовь — братская, родственная, половая, любовь как принцип отношения человека к миру и к другим людям. Успеем ли? Сумеем ли мы совершить эту величайшую в истории человечества революцию? Пересоздадим ли первичные человеческие молекулы — семью, социальную группу — так, чтобы их атомы больше скреплялись не внешними силами, как сейчас, а внутренним тяготением друг к другу? Позволят ли совершить это пределы наших сил и сама природа человека? Очевидно, от действий каждого из нас зависит, какая смерть нас ожидает, смерть человечества или смерть одной цивилизации и рождение другой… Времени осталось так мало, что возместить эту гигантскую нехватку можно, пожалуй, только гигантским избытком усилий. Только все вместе — и каждый на своем личном участке, — и только сверхнапряжением всех сил — мы сумеем, возможно, перемагнитить силовые поля земли, перенастроить их по новым камертонам. Перенастроить все на земле, в том числе любовь и семью — колыбель всех глубинных основ человека, породителя его души и нравственности. Но успеем ли?.Шторм перемен
Перелом в цивилизации — вернее, предперелом — уже начинается. Мы уже делаем первые нащупывающие шаги по новой дороге, но не осознаем этого, как Колумб, который подплывал к новому материку, а думал, что это Индия. Чтобы понять, на какие именно материки мы вступаем, нам придется, наверно, по-новому понять многое в социализме. Я думаю, что обществоведение до сих пор понимает социализм в духе начала XX века. Наша нынешняя промышленная база, и все устройство жилой и рабочей среды, и многое в труде и общественных отношениях — все это стоит на досоциалистических принципах, на отчуждении человека. Уверен, что самые глубинные, самые «базисные» устои современной жизни — это, видимо, и самые глубокие «пережитки капитализма», вернее — «недожитки социализма». Мне кажется, социализм — не просто начало новой формации: это как бы предначало новой цивилизации. Это не просто ступень старой лестницы, а переход от одной лестницы к другой — последняя ступень старой лестницы и первая ступень новой. Многие у нас понимают коммунизм по-вчерашнему — просто как новую формацию. Но научно-техническая революция принесла коренные поправки в весь наш подход к миру, и коммунизм — уклад, который вберет в себя высшие идеалы человечества, — сможет, пожалуй, родиться только как совершенно новая цивилизация. Не как новая ветвь на дереве, а как совершенно новое дерево, и на новой почве… Главные устои индустриальной цивилизации искажают добрую человеческую нравственность, оттесняют нравственные двигатели жизни на задворки. Людьми и государствами гораздо больше нравственности движет вне-нравственный прагматизм (практицизм, от греч. «прагма» — польза). Возможно, в новом обществе нравственные двигатели проникнут в самую сердцевину базиса, и как сок пропитывает дерево, они будут пропитывать и корни, и ствол цивилизации. Если это случится, мораль, нравственность станет уже не «надстройкой», а генеральным фундаментом всей человеческой жизни… То, что мы сейчас переживаем, это, видимо, самый большой переход во всей истории — переход от стихийного и негуманного развития человечества к развитию сознательному и гуманному, которое будет строиться на основах нравственности. За нынешней научно-технической революцией идет такая же гигантская научно-биологическая революция — ее, впрочем, называют и новой ступенью НТР. Она принесет с собой взрыв биологических знаний, крутой рост их роли для всей нашей жизни — от производства еды до «производства» здоровья; а главное, она заменит многие технические основы нынешней цивилизации основами биологическими. А за ней уже посверкивают первые зарницы научно-психологической, гуманитарной революции. Она психологизирует все стороны человеческой жизни, приспособит всю жизнь к нуждам психологии. Все эти революции, видимо, сольются в один поток, пронижут до глубин устои цивилизации. Множественные революции будут пропитывать все пласты земной жизни, будут менять всю ее плоть. В середине нашего века главные открытия дало науке атомное ядро. В конце века такие открытия даст, как предполагают ученые, клетка — атом живой материи и ген — элементарная частица наследственности. Но в начале XXI века, возможно, самые главные для человечества открытия будут получены именно в психологии — психологии общения, чувств, отношений, труда. Открытия в биологии дадут новую промышленную базу: они позволят превратить нынешнюю техническую базу, губительную для планеты, в биотехническую, спасительную для природы и человека. Открытия в психологии дадут нам в корне новую, куда более человечную основу для всех человеческих отношений. С ходом веков жизнь человечества делалась все более однобокой, и нынешняя наша цивилизация куда больше техническая, чем психологическая. Ее усилия куда больше обращены на природу, чем на человека, на материальную культуру, чем на духовную, на внешние отношения людей, чем на их внутреннюю жизнь. Новая цивилизация, видимо, избавит человечество от этой однобокости. Она прибавит к нынешним политехническим и естественнонаучным устоям цивилизации психологические устои, и это в корне перекроит всю ткань человеческой культуры, всю материю цивилизации. В последние годы у нас много говорят о второй грамотности — компьютерной, которая важна не меньше первой. Но, пожалуй, куда важнее их обеих третья грамотность, психологическая, потому что она куда больше помогает человеку стать человечным. Это, наверно, самая главная грамотность для человека, от нее во многом зависит весь климат жизни, вся атмосфера отношений — и личных, и социальных. Мы живем во времена допсихологической цивилизации, и все устройство нашей жизни — устройство семьи, быта, труда, воспитания — стоит на незнании человеческой природы, на коренном разладе с законами нашей психологии, физиологии, нравственности. Научно-психологическая революция вытеснит, наверно, психологическую докультуру из всех слоев человеческой жизни. Труд, быт, гражданская и личная жизнь, управление обществом, воспитание — все будет перестроено по законам человеческой психологии, слажено с ней. Вся цивилизация будет переделана в соответствии с природой человека. По-моему, точно говорил об этом еще молодой Маркс: «…сделать себя самого мерилом всех жизненных отношений… устроить мир истинно по-человечески, согласно требованиям своей природы»[1]. Это глубинное перемагничивание всех пластов жизни, перенастройка их по камертонам человеческой психологии будет, видимо, идти мучительно, долго. Но оно, наверно, и станет последним шагом к новой цивилизации — цивилизации просвещенного и человечного человечества… Человечество вступило сейчас на небывалую историческую ступень — ступень самоубиения или самовозрождения на невиданно новой основе. Именно сейчас, в ближайшие десятилетия, начнется или переход к новой цивилизации, или агония человечества. Здесь лежит, по-моему, вопрос всех вопросов — самая генеральная идея времени, самая болевая из всех болевых точек. Это новая абсолютная точка отсчета для всех наших дел, всех поступков и замыслов. Куда ведет меня этот поступок, это слово, этот поворот наших отношений — по раздорному пути, пути к гибели, или к рождению в себе и в жизни новых спасительных устоев, мостиков к новой цивилизации — вот новое абсолютное мерило добра и зла, нужности или вредности любого нашего порыва, чувства, действия… «Мед и яд любви» — как бы книга-диспут, книга-спор. В 1967 году вышла моя главная книга «Три влечения. Любовь, ее вчера, сегодня и завтра», и с тех пор я постоянно получаю письма — с вопросами, несогласиями, драматическими историями… В семидесятые и восьмидесятые годы вокруг моих статей о любви шли большие споры в газетах и журналах. Кроме того, я часто выступаю в молодежной аудитории, и каждый раз из зала приходит ворох записок. Из массы таких записок, писем, вопросов я отобрал самые острые, печальные, задиристые; из возражений — самые веские и интересные. Их авторы спорят со мной и друг с другом, с экс-истинами и будущими истинами, с расхожими взглядами и заскорузлыми догмами.Акушер или могильщик?
Искусство спора — одно из главных, наверно, искусств жизни. В древности, у мыслителей Греции, оно было даже главным видом общения, главным рычагом, который поднимал знания к новым вершинам. Недаром Платон, крупнейший, пожалуй, гений древности, писал диалоги — сплошные диспуты, схватки мнений. Недаром диалектика (от «диалего» — спорю) была тогда искусством добывать истину через соревнование взглядов. С древних времен это искусство, увы, поблекло; мало у кого есть сейчас глубинный талант «диалектика» — сталкивателя позиций, который высекает из этого сталкивания искры истины. Спорящие часто воюют не за истину, а за истинку, не умеют увидеть в чужой позиции плюсы, которые таятся под скрывающими их минусами, не признают свои слабые места — сами стреноживают себя, не дают идти вперед. Все мы, конечно, знаем древний афоризм — в спорах рождается истина. Но так же верна и обратная мысль: когда споры кипят, истина испаряется. Все зависит от того, как эти споры идут — дружелюбно или враждебно, и как прислушивается спорящий к сопернику. Соперник играет великую, незаменимую роль для рождающейся истины: он показывает ее слабые места, служит их открывателем и тем самым — независимо от своего желания — помощником истины. Если защитник истины умеет усиливать ее слабые места, если он сам ищет соперника, чтобы углубить свою позицию, то тогда спор — акушер истины, он помогает ей родиться или окрепнуть. Но когда в споре ищут не истину, а победу, когда спорящие не умеют укреплять свою истину союзными ей частицами чужой истины, тогда спор — могильщик истины, он убивает ее. Наш век — век всеобщих революций во всех областях жизни, во всех ее фундаментах и этажах. Везде и во всем бурно рождается новое, везде и во всем бурно умирает старое. В этом шторме перемен, в этой буре сдвигов есть, пожалуй, только один спасительный путь — усиленно искать новые формы жизни, которые зеркально отвечали бы ее новой сути. Но любой поиск дает спорные результаты: старое сознание отстает от нового бытия, осознает его куда медленнее, чем оно меняется. Этот разрыв между рождением нового и его осознанием, видимо, неизбежен, но в последние десятилетия он резко нарастает и делается все опаснее. Ритм времени сейчас круто убыстрился, волны нового идут с невиданной частотой: мы еще не успели вглядеться в одну волну, а за ней летит другая, поднимается третья… Все мы, наверно, помним, в какие тупики привело нас отшатывание от больных проблем, острых и новых вопросов жизни. В недавние десятилетия обществоведы, печать, школа почти повально уходили от острых углов жизни, боялись стратегических проблем, заглушали критический подход фанфарным. Острые углы от этого становились режущими, социальные болезни делались хроническими и начинали подрывать весь ход прогресса. А ведь критичность, отрицание — первый шаг созидания, один из самых главных двигателей жизни. Никаким другим путем нельзя находить в жизни противоречия и отыскивать противоядия от них. «Мед и яд любви» — книга для молодежи, и именно потому в нее входят самые главные из нынешних сложных и неясных вопросов, те, с которыми мы сталкиваемся каждый день и которые будут нарастать, обостряться в ближайшие десятилетия. Их, пожалуй, можно смягчить только всеобщими силами, только соединенной умственной мощью целых поколений. По сложности в книге как бы два пласта — более простой и более трудный. В трудный пласт входят, во-первых, главные стратегические вопросы нынешней жизни. Это те ключи, без которых не понять, какие новые законы правят сегодня и обществом, и семьей, и нашими чувствами, не понять коренную революцию, которая идет сегодня во всех устоях личной и гражданской жизни. Во-вторых, в этот пласт входят и очень важные для всех нас психологические вопросы, о которых говорится в главах о характере и темпераменте. Они трудны, но без них почти невозможно продираться к хорошим отношениям сквозь джунгли семейных сложностей. Чтобы усвоить трудный пласт книги, понадобятся и волевые усилия, и подготовка, и — очень важно — интерес к сложным вопросам. Я стараюсь говорить о сложном просто, и в этой книге я по три-четыре раза переписывал все трудные места. Увы, не везде это удалось, но не из-за слабых стараний: чаще всего я упирался в нижний предел сложности, видел, что идти дальше — значит переупрощать сложность, насильственно распрямлять ее. У книги, конечно, будут разные читатели, с разной силой вдумчивости — и обычные, и серьезные. Пожалуй, естественно, если каждый станет искать в книге то, что ему близко, а страницы, которые покажутся ему сложными, или пропускать, или, наоборот, читать с удвоенной жаждой понимания.О чем идет речь в книге.
«Потребности у молодежи разные, и если кому-то нужна азбука любви, то нам нужна «Война и мир» современной любви. Мы читали ваши работы и ждем такую книгу от вас. Филологи». Эту записку я получил, выступая в Московском университете, моем родном вузе, и ее «социальный заказ» стал основой моих планов. Наверно, «Войну и мир» здесь надо понимать метафорически: чтобы в книге была не только азбука, но и алгебра любви, и чтобы ее охват был «эпопейный» — все главные измерения, все устои любви. В книге и пойдет речь обо всех сторонах современной любви и семьи, о мире, который они несут людям, о войне, которая в них разыгрывается, и о том, можно ли вытеснить эту войну миром. Книга, таким образом, будет охватывать все четыре семейные культуры — психологическую, половую, воспитательную, домоводческую, но с упором на самую сложную — психологическую. Речь в ней пойдет в общем-то о новой вселенской культуре личной жизни, ростки которой пробиваются уже сегодня и которая, видимо, станет править бытом завтра. Эта культура поможет, наверно, вывести личную жизнь из нынешних кризисов, создать для нее более благодатную почву. «Любовь и семья на сломе времен» будет состоять из трех частей. Перед вами первая — «Мед и яд любви». Это как бы «книга чувств». Она посвящена любви как чувству — до семьи и вне семьи; в ней говорится о ее вечных устоях и нынешних переменах, о ее разных психологических видах и разных ступенях ее жизни — утре, дне, вечере. Идет здесь речь и о новой психологической культуре супружества, и о том, на чем именно держится сегодня семья… О самой семье и о законах семейной жизни разговор пойдет во второй и третьей частях книги. Там я расскажу о новой культуре общения, не убивающей чувства, и об «инженерии» такого общения; о трех возрастах в жизни молодой семьи, об особых законах каждого; о культуре ссоры и спора; о законах пола и сексуальности, открытых в XX веке, и об основах просвещенной и человечной половой культуры; о главенстве и лидерстве в семье, о величии и рабстве домашнего труда; о разводах, «изменах», треугольниках — о новом их понимании; о ювенологии любви — науке о том, как продлить молодость чувства; об идущей сейчас биархатной революции — перевороте во всех отношениях мужчины и женщины, экономических и семейных, социальных и сексуальных… Особый раздел последнего тома будет отведен недавним открытиям в детской психологии и физиологии, которые в корне перевернули наше представление о детской природе. Эти открытия, видимо, приведут — уже начали вести — к величайшей в истории педагогической революции, к коренным переворотам во всем воспитании и образовании… Еще один раздел — «Архимедовы рычаги для семьи» — посвящен новой стратегии социальной помощи семье; эта помощь — универсальная, всесторонняя — нужна аврально, потому что без нее семья не сможет устоять. И самый конец книги — «Что ждет мир послезавтра» — гипотезы о том, какими могут стать любовь и семья через несколько поколений, если в мире воцарится новая цивилизация…Что такое «амурология».
Современные науки странно изучают личную жизнь. Они расщепляют ее, как апельсин, на дольки, и каждая занимается своей долькой, почти не касаясь других. Психологи изучают личные чувства и общение людей; социологи — семейную жизнь, виды семей и супружеских отношений; экономисты — домашнее хозяйство и материальные условия быта; демографы — рождаемость, брачность, разводы; сексологи — половые отношения; педагоги — воспитание в семье, отношения детей и родителей; этики — нравственный срез личной жизни. У каждой из этих дисциплин частичный подход, каждая ухватывает лишь одну сторону дела почти без связи с другими. Впрочем, в последнее время кое-какие частичные подходы стали вступать в союз: сексологический с социологическим, социологический — с демографическим и экономическим, педагогический — с психологическим… Но это, наверно, лишь первые полушаги, а здесь, пожалуй, нужна революция в самой методологии: нужен не частичный, а многосторонний подход к любви и семье, а для этого — новый метод их постижения. Если просветить любовь прожекторами всех видов знания, которые ее касаются, то в ней откроются такие глубины и такие затаенные россыпи чувств, какие недоступны частичному взгляду. Понять суть любви, увидеть ее роль для человека и человечества поможет, видимо, только такой вот панорамный подход. Никакие тандемы, никакие кентавры из двух-трех частичных наук неспособны охватить всю почву любви, все ее измерения и грани. Нужно, видимо, слияние всех частичных дисциплин, говорящих о любви, их переплавка в совершенно новую отрасль знания — сплав науки, искусства, культуры. На тяге к такому вот панорамному подходу, на разведочных и несовершенных шагах к нему и строятся мои работы. Как черновик такого подхода пишется и эта книга, — как писались предыдущие — «Три влечения», «Трудность счастья», «Самое утреннее из чувств». Это сплав традиционного и нового понимания любви, сплав того подхода к любви, который издавна был в человеческой культуре, науке, искусстве, и нового угла зрения на любовь, новых поворотов в ее психологии, этике, философии. Разговор о любви будет опираться здесь на открытия, которые сделаны и в жизни, и в разных человековедческих науках — в философии, психологии, физиологии и возрастной физиологии, в сексологии, биологии, воспитании, он будет основываться на достижениях социологии семьи, экономики быта, демографии, этики… Большинство этих открытий и достижений касаются любви не прямо, а косвенно, через промежуточные звенья, и выискивать их, сплавлять между собой, сопрягать с любовью приходится с трудом, на ощупь. Кроме того, у нас почти нет исследований в психологии любви, и нехватку их приходится восполнять опорой на открытия искусства, старого и нынешнего, и на личные наблюдения. Как одна из опор, сюда добавляется и «социология частного мнения» — те письма, записки, отклики, о которых тут говорилось и которые будут приведены в книге. Рождается как бы дисциплина-оркестр, наука-оркестр — новая отрасль знаний о любви, которую я в шутку зову амурологией. Это и не наука в современном смысле, она строится не на научных методах, понятийно-логических, которые дробят свой предмет, берут из него общее и отсекают индивидуальное. Ее метод — сплав дробящего познания с целостным, гибрид понятийного познания с образным. У Пушкина есть великолепные слова: Чья мысль восторгом угадала, Постигла тайну красоты? Красоту, видимо, нельзя постичь мыслью, она может открыться только перед восторгом мысли. Наверно, так же и с любовью: если и можно постичь в ней что-то, то только озарением мысли, сплавом мысли и чувства. В двадцатом столетии было сделано одно из величайших открытий в природе человека — была обнаружена совершенно разная роль мозговых полушарий. Левое полушарие ведает понятийным, логическим мышлением, которое отсечено от живых чувственных восприятий; правое — наглядно-образным, которое основано на чувственных восприятиях — зрительных, слуховых, двигательных… Понятийное мышление как бы дробит свои предметы на части, берет из них только их суть и отбрасывает их живой облик, их индивидуальность. Образное мышление схватывает вещи целиком — вбирает в себя их живой облик вместе с их сутью, но суть эта не проявлена или полупроявлена. У каждого из этих видов мышления есть своя сила и своя слабость, каждое может то, чего не может другое, и самой природой человека они предназначены для работы вместе. Когда-то человеческая духовная культура не делилась на науку и искусство, на понятийно-логическое и образное постижение мира. Еще у Платона они жили в единстве, как своего рода науко-искусство-философия, и этот сплав назвали потом словом «синкретизм» — от греческого «соединение, смесь». Образное и понятийное мышление жили тогда в естественном союзе, работали вместе. Потом они распочковались и стали все больше отдаляться друг от друга, все меньше усиливать друг друга своими уникальными достоинствами. Наука все больше дробилась на ячейки, и чем глубже она погружалась в каждую из них, тем меньше она могла охватить мир целостным взглядом. И искусство все меньше могло — само по себе, без союза с наукой — проникать в глубинные тайны человеческой жизни, постигать ее социальные и психологические загадки. Конечно, и наука и искусство дали людям гигантски много в своем обособленном развитии. Но сколько они недодали и что могли бы дать, если бы не ушли так далеко друг от друга? Такое отдаление резко противоречит природе человека: чем обособленнее работают полушария, тем меньше их плоды, а чем теснее их союз, тем больше его плоды. Сейчас уже ясно, что все самые великие открытия науки и искусства сделаны именно соединенными силами образного и понятийного мышления. Их нынешнее обособление — одна из основ нашей цивилизации и один из ее самых вопиющих разладов с природой человека. Возможно, сейчас наука и искусство подходят к последним пределам в своем отдалении, и вот-вот начнет рождаться новый синкретизм, новый сплав двух этих великих видов человеческого мышления. Здесь, наверно, проляжет одно из главных русел научно-психологической революции. Если это случится, наступит, видимо, коренной переворот во всем строении нашей духовной жизни, во всех основах наук, искусств, культуры. Это будет переход от науки, которая видит мир узко понятийно, и от искусства, которое видит мир узко образно, — к их гибриду, слиянию — науко-искусству, к цельному постижению мира, понятийному и образному вместе. И, может быть, постижение любви — амурология — станет одним из ускорителей этого перехода, одной из первых колыбелей, в которых будет расти новый синкретизм…Голоса неверия.
«Как сказал поэт: «Любовь — лишь капля яда на остром жале красоты». Это болезненное состояние психики, своего рода невроз, патология». (Записка на беседе. Ленинград, центральный лекторий «Знание», май, 1980). «Сможете ли вы опровергнуть тезис: любовь — всего лишь физиологическое родство?» (Институт электронной техники, Зеленоград, октябрь, 1980). «Не находите ли вы, что любовь напоминает сказку, которую человек сам выдумал, сам себя в ней уверил и вынужден все время под нее подлаживаться, а случаи резкого несоответствия считает чем-то ненормальным?» (Новосибирский университет, декабрь, 1976). «Чувство, которое называют любовью, мешает творчеству. Не только потому, что отвлекает мысли, но хотя бы и потому, что отнимает уйму времени. Любовь — чувство для людей второго сорта, для потребителей, которые не думают о том, чтобы оставить след в жизни. Людям мыслящим, творческим она приносит только вред» (Московский инженерно-физический институт, март, 1976). Однажды социологи спросили у 15 тысяч молодых рабочих, служащих, инженеров, научных работников, как они относятся к любви. Почти треть ответила, что не верит в любовь; часть разуверилась в ней, а многие думают, что это выдумка поэтов и писателей. Пожалуй, основания говорить так у них есть. Известно, как много поэтических преувеличений в воспевании любви; уже одно то, что о любви говорят стихами, рафинирует, утончает ее, приподнимает над тем, какой она бывает в обычной жизни. И «ангелизация» любви — превращение ее в диетическое, манное чувство, которое лишено чувственности, — тоже рождает недоверие к любви; к тому же многие представляют себе любовь раем одних только радостей, а раз такого рая нет, значит, нет и любви. На мельницу неверящих льют воду и браки-одуванчики, которые рассыпаются от первого ветерка, и разводы, которых все больше, и тусклые браки, которые держатся на долге, привычке, детях… И поэтому у многих рождается обидное недоумение: что происходит с любовью? Почему она слабеет? Да и есть ли она вообще? «Сейчас какая-то мультипликационная семья — женятся, а прошел месяц, берут развод. Есть даже пословица: гарантийный срок вечной любви — медовый месяц. Я не верю в то, что вы пишете, вообще ни во что не верю. Зачем вообще создана эта любовь, зачем все это, если даже в семьях между собой нет никакой любви, если отец чуть что поднимает руку на мать?.» (Женя Г., 16 лет, Горьковская область, Пильнинский район, село С., июнь, 1976). Личную жизнь сотрясают сегодня невиданные кризисы, и их вызывают — обычный парадокс прогресса — и изъяны жизни, и ее достоинства. Всякий прогресс всегда идет с утратами. Ягода убивает цветок — это закон жизни, сквозное противоречие прогресса, и оно резко влияет и на человеческую любовь. С давних пор одни мыслители считают, что человечество идет по ступеням прогресса, вверх, другие — регресса, вниз. Древние считали, что у человечества был сначала золотой век, потом серебряный, железный, и с каждым веком люди и их дела мельчали. Регрессионистские взгляды пропитывают и знаменитую «Теогонию» («Происхождение богов») Гесиода (VIII в. до н. э.), и мифы почти всех великих народов древности, и творения многих мыслителей. Идеология прогресса стала рождаться только в XVII веке, а сложилась в XVIII, в эпоху Просвещения. Это была не диалектическая идеология, она считала, что все в жизни только улучшается, идет от низшего к высшему. Тогда же ее изъяны едко запечатлел Вольтер в своем знаменитом ироническом афоризме — «все к лучшему в этом лучшем из миров». Двадцатый век доказал, что прогресс и регресс слиты между собой, как две доли одного ореха, и каждый шаг человечества состоит из гигантского полушага вверх и такого же гигантского полушага вниз. Этот губительный «парадокс прогресса» неслыханно обострился в конце XX века. Еще никогда техническая мощь человечества не была такой огромной — и еще никогда она не грозила планете экологической гибелью. Еще никогда государства и социальные системы не были так сильны, а вражда их так самоубийственна для людского рода. Еще никогда не было такого половодья хлеба и зрелищ — и таких наводнений безнравственности. Вместе растут демократия и фашизм, сытость и агрессивность, культура и варварство… Нынешнее движение человечества — это как бы «прорегресс», «репрогресс» — сплав прогресса с регрессом, спуск вниз по лестнице, ведущей вверх. Так могло бы двигаться фантастическое существо — гибрид крота, который роет вперед, краба, который ползет вбок, и рака, который тянет назад. У такого противоестественного гибрида два родителя. Во-первых, это расколотость человечества на враждебные лагеря, борьба стран и систем, которая заставляет их предпочитать тактические выигрыши, которые ведут к стратегическим проигрышам. Во-вторых, это близорукость (а часто и трусость) науки, обществоведов, управления, неумение промерять завтрашние последствия сегодняшних событий и открытий. Возможно, наши потомки изменят социальный облик человечества — обуздают социальную вражду и научатся умерять губительные стороны открытий и событий. Если это случится, может возникнуть новый вид исторического движения — прогресс без регресса, или с небольшими вкраплениями регресса. Но скорее всего диалектика света и тени, сплав зла и добра останется навсегда основой человеческого движения. Роль любви в жизни сегодняшнего человека снизилась и уменьшилась. Прошло время, когда человеком двигали немногие стимулы — стимулы, на которых сосредоточивались все силы его души и которые превращались от этого в страсть, в мощный пучок энергии, направленный в одну точку. Мы живем в эпоху многих стимулов, и духовная жизнь человека резко переменилась, из простой стала сложной. В нее вошли и осознались как главные — экономика, политика, рабочие обязанности, материальные и бытовые запросы, культурные итворческие тяготения, тяга к развлечениям и увлечениям… Любовь отошла назад, потеснилась, уступила им часть своего места среди пружин личной жизни. А вместе с этими громадными переменами любви мешают стрессовые перегрузки, нервная усталость, социальные тяготы и нехватки… Вся жизнь людей — внешняя и внутренняя — перестраивается в своих основах, и любовь занимает в этой перестраивающейся жизни новое, тоже перестраивающееся место. Она приходит в новые соотношения с нашими новыми потребностями, пропитывается новыми переживаниями, по-новому сплавляется с другими чувствами. Она что-то теряет и что-то приобретает, делается в чем-то слабее, в чем-то сильнее. В ней идут драматические переломы, и они больно ранят душу.Автопортрет чувств.
«Вы неплохо говорите о любви, по это — слова. А можете ли вы привести пример из жизни, чтобы можно было сказать: они любят. В самом высоком понимании этого слова. Из круга ваших друзей, знакомых» (о. Сааремаа, Эстония, студенческий строительный отряд, июль, 1974). Приведу три примера, в которых любовь была не только испытана годами жизни, но и просвечена через призмы психологических тестов. С этими людьми я познакомился в 1975 году, встречаюсь, переписываюсь с ними, дважды проводил с ними «круглый стол» счастливой семьи, сначала в «Комсомолке», потом в «Неделе». Их было три пары: Лариса и Игорь М-вы из Ленинабада; обоим было тогда по 34 года, он — детский врач, она — преподаватель вуза, семейный стаж 12 лет, родители двух девочек — 9 и 4 лет; Наталья и Валерий Т-ие из Новокузнецка, обоим по 30 лет, инженеры, семейный стаж 7 лет, родители двух мальчиков — 6 и 2 лет; Лайла и Петерис Б. из Латвии, из-под Риги, обоим по 25 лет, он — колхозный садовод, она — инженер связи, семейный стаж 4 года, родители двух мальчиков — трех с половиной лет и года двух месяцев. В беседе принимали участие специалисты: Виктор Иванович Переведенцев, известный демограф в публицист; Лена Алексеевна Никитина, соавтор новой системы воспитания, которую открыли ее муж, Борис Павлович Никитин, и она; Георгий Степанович Васильченко, доктор медицины, один из виднейших сексологов страны. Счастливые пары попали под дождь вопросов — дотошных, детальных, въедливых. Я составил для них специальные анкеты — с охватом всех сторон жизни, с ловушками, с тройным наложением одних вопросов на другие, то есть с тройной перепроверкой ответов. Три вопросника по-разному спрашивают об одном и том же, подсвечивают каждую серию ответов двумя другими, сопоставляют их между собой. Такая тройная перепроверка позволяет увидеть ошибки и неточности в ответах, позволяет отделить их от основного русла ответов, тех, в которых можно быть уверенным… Особенно интересными были ответы на психологические тесты — как бы автопортрет чувств, который счастливые нарисовали незаметно для себя. Тесты принесли тут неожиданное открытие. Все мы, наверно, понимаем, что у любви есть свои возрасты, и с годами она теряет юношескую пылкость, делается спокойнее, тише. Но оказалось, бывает и чувство, которое не подчиняется главному закону развития любви — закону старения чувств, закону, по которому каждое приобретение оплачивается потерей. Почему-то этот закон утрат, которые всегда идут вместе с приобретениями, мало действовал на их любовь; все они, судя по психологии их любви, были «продленными молодоженами». Любовь, которая обычно как бы река наоборот: чем дальше, тем она уже и мельче, у них — просто река: чем дальше, тем глубже, шире. И если у Петериса и Лайлы с их четырехлетним стажем это не очень выходило за грань нормы, то у Игоря и Ларисы — их стаж втрое больше — это поражало. Странно, но, делаясь глубже и многограннее, обретая уверенность и спокойствие, их любовь не теряла своего пыла: и физические, и эмоциональные ее огоньки горели так же ярко, как и в дебюте. Может быть, такое опрокидывание законов бывает астрономически редко — только у тех, у кого любовь — долгожитель — не на годы, а на десятилетия? Может быть, у такой любви свои законы, и они круто отличаются от обычных? Возможно, но в любом случае эта неподвластность закону потерь и приобретений ставит в тупик, и ее причины еще придется искать. Вот отрывки из одного психологического вопросника; Игорь и Лариса отвечали на него отдельно, не зная об ответах друг друга. «Вопрос. Исчезло или ослабло (у вас и у близкого человека) «ясновидение любви» — чувствование чувств другого человека, ощущение его ощущений? Лариса. Нет — ни у меня, ни у него. (Такой же ответ у Игоря). Вопрос. Чаще или реже, чем в первое время, вы угадываете с полуслова или полувзгляда, о чем думает, что переживает или что хочет сказать близкий человек? Игорь. Чаще — и я, и она. (Такой же ответ у Ларисы). Вопрос. Если ясновидение чувств угасло, пришло ли ему на смену сознательное внимание к внутренней жизни близкого человека, к его скрытым настроениям, переживаниям — замена стихийного ясновидения любви? Лариса. Они слились гармонически. Игорь. Одно другое дополняет. Вопрос. Был ли в вашей любви «эффект присутствия» — постоянная память чувств о любимом человеке, ощущение, что везде и во всем есть его отблеск, что все вокруг как бы напоминает о любимом человеке? Оба ответили «да». Вопрос. Когда он стал угасать? Игорь. Живет до сих пор. Лариса. Он существует всегда. В любой момент у меня есть ощущение, что он смотрит на меня». И ясновидение чувств, и эффект присутствия — черточки сильной любви, признаки ее первых, пылких шагов, и удивительно, что они не угасли через долгую череду лет. Впрочем, анкетка о ясновидении чувств и об эффекте присутствия — лишь дополнительная. Главные выводы о счастливых дал тройной тест «психологического портрета чувств». Каждый из них заполнял тест отдельно от другого; каждому было обещано, что другой не узнает о его ответах: это было нужно и для чистоты эксперимента, и для того, чтобы искренность ответов ничем не сковывалась. Только спустя несколько лет они узнали об ответах друг друга. Анкета 1. Расставьте, пожалуйста, по степени важности силы, которые вас связывают (поставьте — хотя бы примерно — порядковые номера»[2]. Здесь Лариса приписала: «нежность!!!»
Здесь Лариса приписала: «нежность!!!»
«Голову, сердце, тело…».
Лайла (посмотрите на ее ответ) везде поставила цифру 1 и приписала: «Это нельзя распределять по порядковым номерам, а самое важное — всё 1, а бытовые удобства не важны». Пылкость и нерасчлененность ее тяготений — как у счастливых молодоженов в медовую весну их счастья. Все одинаково важно, все нити — эмоциональные, физические, духовные. Все влечения — любовные, дружеские, родительские — горят одинаково сильно, и разобрать, что жарче, а что прохладнее, попросту невозможно. Да это и не нужно ее чувствам — их ничем не замутненная пылкость не нуждается в осознании. С точки зрения ее чувств она с Петерисом — любовники-друзья-супруги-родители одновременно, и все лики этого многоликого существа неразрывны между собой и равноценны. Проверочный тест («Что больше всего мешает вашим чувствам и отношениям») полностью подтверждает этот автопортрет ее чувства. Помехи, которые отметила Лайла, ни в чем не касаются Петериса: мешают только жилищные и материальные тяготы, а в любимом человеке нет ничего, что мешало бы ее любви. Вольтер говорил: любовь — сильнейшая из страстей, она атакует сразу голову, сердце и тело. Наверно, это не всеобъемлющее правило: у многих она не захватывает голову, у многих занимает не все сердце, а часть его; впрочем, это, наверно, уже не любовь, а менее глубокое чувство — влюбленность. Любовь Лайлы атакует все в ней, и это признак очень сильной любви — всепроникающей, всеобъемлющей, которая вбирает в себя всего человека. Юное полыхание этой любви во многом зависит от нервного склада Лайлы — пылкого, сангвохолерического (она — сплав холерика и сангвиника, это видно из других частей анкеты). У Петериса темперамент более спокойный: он сангвофлегматик — сплав флегматика и сангвиника. И характер чувств у него более «спокойный»: они не такие пылкие, но, возможно, более полновесные и глубокие (это часто бывает у душевно развитых людей со спокойным темпераментом). Для Петериса первые по силе нити, которые их связывают, — духовные: общие идеалы и взгляды, родительские чувства. (Оба они говорят, что, когда родился сын, это углубило их чувства, добавило к ним новые краски). Вторые нити для Петериса — эмоциональное и физическое влечение. Это чисто любовные ценности, обычные психологически-сексуальные тяготения любви. Возможно, эмоционально-физические магниты стоят у него ниже духовных, а не вровень с ними, потому что отношения их начались с дружбы, с духовной близости: в эти годы они даже влюблялись в других и рассказывали друг другу о своих увлечениях. Возможно, что в его сознании эта первая по времени ступень близости осталась первой по значению. Но его любовь — такая же всепроникающая, как у Лайлы: она захватывает его душу, разум, тело, она правит всей его внутренней жизнью. Третий тест («Что больше всего привлекает вас в близком человеке») выявил, что магниты, которые притягивают друг к другу Лайлу и Петериса, одинаковы. Каждый из них, не сговариваясь, поставил на первое место душевные качества близкого человека, на второе — его любовь; на третье место она поставила его дружеское отношение к ней, на четвертое — любовь к детям; в его ответах ее любовь к детям заняла третье место, а на четвертое он поставил ее заботу, внимание к нему. Лестница ценностей у них очень похожая, «родство душ» разительное. Возможно, это родство создала их глубокая любовь, но, возникнув, оно само стало продлителем и углубителем их любви.Любовь к его любви.
У Наташи и Валерия был после свадьбы тяжелый путь — путь ссор, отчуждений, угасания любви. И, только пройдя сквозь губительные пороги раздоров, они вышли к уверенному течению чувств. О силах, которые их связывают, они думают и одинаково, и по-разному, это естественно. Для нее первое место среди этих связей занимает духовная близость — общие взгляды, интересы, занятия; за ними идет эмоциональное влечение, потом родительские чувства. Что больше всего привлекает ее в близком человеке? На первое и второе место она ставит его любовь и его интерес к ее взглядам, занятиям. Это своего рода «отношенческий подход», когда дороже всего в близком человеке кажется его отношение к тебе, а потом уже — его личные свойства. (Наташа отмечает среди них — по ступеням важности — душевные качества, физическую привлекательность, искренность, ум). Такая очередность, когда сначала идет «любовь к его любви», и только потом — к нему самому, чаще, пожалуй, встречается у женщин. Все мы знаем, что женщины по своей природе эмоциональнее мужчин, чувства занимают больше места в их жизни, а чувства часто действуют по закону зеркала — «подобное отвечает подобному». Возможно, впрочем, что любовь мужа, его внимание к ней — по той же самой логике чувств — служит для Наташи главным выявлением его хороших свойств, зримым их воплощением. Только видя это воплощение в любви Валерия, она может уверенно оценивать и его черточки, которые ее влекут. Для многих женщин, кстати, важнее быть любимой, чем любить; вполне возможно, что это свойство самой психологической природы женщин. Во всяком случае, старое это наблюдение подтвердилось в исследовании ученого-психолога В. Зацепина. Он задал вопрос 300 юношам и 380 девушкам: если обоюдная любовь невозможна, кого вы выбрали бы в супруги: того, кого любите сами, или того, кто любит вас. 60 процентов девушек предпочли скорее быть любимой, чем любить, и 37 — в полтора раза меньше — любить самой. У юношей соотношение было обратным: предпочитающих любить оказалось в полтора раза больше, чем предпочитающих быть любимым. Большинство, как видим, не подавляющее, но отчетливое. Возможно, разгадка таких предпочтений в том, что стремление любить более активно, а быть любимым — более пассивно. Среди мужчин — по самой их биологии и психологии — активных больше, чем среди женщин, поэтому большинство мужчин стремится активно любить. Валерий отчетливо любит «по мужскому типу». Первую скрипку в его чувствах играет эмоциональное и физическое тяготение — ощущения очень активные, деятельные; только вслед за ними идут духовные созвучия — родительская любовь и общие взгляды. Потоки влечений, как видим, расположены здесь в традиционно мужском духе — по силе их активности, деятельности. Тест «Что больше всего привлекает вас в близком человеке» подкрепляет ответы Валерия на первую анкету. Больше всего его притягивают ее душевные качества и физическая привлекательность: он ставит их на первое и второе места — такие же места, на которых в анкете 1 стояли эмоциональное и физическое влечение. Третье место на шкале привлекающих его свойств занимает ее любовь к нему. У обоих она входит в число центральных магнитов, которые притягивают их друг к другу, и это исключительно важно. Для полноты счастья человеку абсолютно необходимо ощущать постоянный поток любви, которую изливает на тебя близкий человек. Любовь усиливает любовь — так бывает очень часто, хотя, наверно, далеко не всегда; когда сила двух любовей одинакова или близка, они усиливают друг друга; когда ответное чувство слабей, твоя любовь может — многие, наверно, испытали это — и раздражать, и казаться назойливой…Юность зрелости.
У третьей пары — Игоря и Ларисы — стаж, как мы помним, двенадцать лет. Двенадцать лет любовь их взрослела, менялась, делалась в чем-то другой, но не слабела. Посмотрите на ответы Ларисы: первые — и равные по силе — нити, которые связывают ее с Игорем, — это эмоциональное и физическое влечение. Такая лесенка влечений естественна для мужчины, а для женщины — говорит о силе ее любви, о ее юном накале. Недаром Игорь и Лариса, которым было тогда по тридцать четыре, не ощущали своего возраста и говорили, что часто чувствуют себя семнадцатилетними. На третье место среди скрепляющих ее с Игорем нитей Лариса вписала его нежность, заботу — тоже эмоциональные связи, а потом поставила духовные скрепы — общие взгляды, увлечения, занятия, интересы. И здесь перед нами любовь, которая атакует все в человеке — душу, тело, голову. В вопроснике о помехах для чувств около слов «рабочие неприятности» Лариса пишет: «Наоборот, сближают» — еще одно подтверждение, что у них любовь-дружба, душевная и духовная близость. И это любовь «по женскому типу»: в третьем тесте («что больше всего привлекает в близком человеке») сначала названа его любовь к ней, а потом — его забота, внимание. Личностные его свойства идут после — как и у Наташи. В такой расстановке магнитных сил тоже видна женская логика — логика чувств: «он любит — значит хороший», и «его любовь — проявление его хороших свойств». Ответы Игоря обнаруживают в первой анкетке некоторую «флегматизированность» его чувств (по нервному складу он, как и Петерис, сплав сангвиника и флегматика), а во второй и третьей — юношескую непосредственность, нерасчлененность этих чувств. Главная для Игоря сила, которая соединяет его с Ларисой, — общие взгляды, идеалы; второе-третье места делят физическое влечение и общие интересы; эмоциональное влечение неожиданно занимает четвертое место — ниже чисто духовного и чисто физического. Впрочем, такое чередование можно понять. Знакомство Игоря с Ларисой несколько лет шло по рельсам дружбы и только потом стало любовью, как у Петериса с Лайлой. Пожалуй, в его чувстве — как и у Петериса — отпечаталась эта «очередность» влечений, и во многом поэтому так громко звучат ноты «дружеских» — духовных — тяготений. А высокое — как и у жены — место физических влечений — знак, что юношеская стадия их любви, которая у многих кончается через 2–3 года, у Игоря с Ларисой светит тем же огнем, что и много лет назад. Во втором тесте — о помехах любви — Игорь сделал прочерк около всех десяти строк, в которых перечислялись недостатки близкого человека. И здесь выдает себя как бы юношеский характер его любви: никакие минусы близкого человека (а они, конечно, есть, как у всех нас) не снижают накал его чувств. И третий тест — об иерархии влечений — тоже говорит о молодой непосредственности его любви. Размеряя по важности то, что больше всего влечет его к любимому человеку, Игорь ставит на одно и то же 1–4 места сразу ее душевные качества, искренность, женственность, стойкость характера. Иприписывает (почти так же, как эмоциональная Лайла): «Расставить более четко — невозможно, ибо все важно одинаково». Откуда эта «всеважность», это неразличение по важности тех магнитов в ней, которые его влекут? Возможно, дело в том, что его чувствам незачем оглядываться на себя, незачем заниматься самопроверкой и самооценкой: никакие помехи в близком человеке не заставляют их делать это. И та эмоциональная энергия, которая у многих из нас уходит на преодоление таких помех, на мучительные разлады и тяжкие настроения, здесь добавляется к обычной энергии любви и усиливает ее. Уверенность их чувств, неразличение оттенков — что светит в любимом ярче, что меньше — это, пожалуй, и есть секрет их юношеского самоощущения: раз они испытывают юношеские по характеру чувства, то они и чувствуют себя в возрасте этих чувств. Вот — для неверящих и верящих — три любви трех разных пар. Не знаю, убедит ли неверящих «спектроскопия любви», которая тут проводилась, — попытка разглядеть, какие живительные лучи источает живая любовь живых людей, как эти лучи осветляют и отепляют их жизнь. Надеюсь, что эта психологическая спектроскопия не перешла в «анатомию любви» — рассечение живого потока чувств на мертвые «составные части», детальки психологического конструктора. Такая вивисекция («живосечение») любви холодным ланцетом логики убивает ее, она чужда всему ее духу. Правда, неверящие могут сказать, что тут говорилось не про обычную любовь, а про редкостную. Верно, счастливая любовь — это как бы вершина горы, а много ли места во всей массе горы занимает вершина? У такой любви есть, как мы помним, крупное отличие от обычной любви: счастливая любовь — река, со временем она делается полнокровнее, многоводнее, а обычная — река наоборот, со временем она мелеет, иссякает. Но, возможно, главные черты любви — всякой настоящей любви — просто видны здесь как под увеличительным стеклом; возможно, любовь-река — не только идеал любви, но и одна из ее норм — норма-максимум, или, может быть, норма будущего. А «река наоборот» — сегодняшняя норма, может быть, ненормальная, и она царит потому, что жизнь не дает делать любовь долгой, и мы сами не умеем продлять век любви… Впрочем, речь об этом пойдет дальше, в главе «Утро и день любви». «Надо ли распространять на всех ваш идеал, скроенный по образцу семей-исключений? Не противоречит ли этому многообразие человеческих индивидуальностей? Может быть, какому-то человеку для его самовыражения совершенно необходима «несчастливая», по вашим канонам, супружеская жизнь. Пример этому — Сент-Экзюпери: он писал, что без атмосферы тревоги, нервозности, эмоциональной напряженности, которую создавала его взбалмошная жена, он совершенно не мог бы творить» (ДК МГУ, ноябрь, 1984). По-моему, в этой записке хорош и бунт против шаблона — одного на всех, и подозрение, что несчастливость может быть и счастливой пружиной творчества. Пожалуй, можно бы сказать и сильнее: без ощущения несчастливости, которое рождают в нас какие-то изъяны жизни — и общей, и личной, — без такого ощущения нет и настоящего творца. Вспомним трагиков Древней Греции и «махакава» — великих поэтов древней Индии; вспомним арабов средневековья, пленников несчастной любви, и Петрарку — певца неразделенной любви; вспомним Данте, Сервантеса, Гёте, Стендаля, вспомним Лермонтова, Тютчева, Достоевского, Чехова, музыку Бетховена и Чайковского, трагическую лирику Блока и Маяковского… У всех у них чувство несчастливости (личной или социальной) было одной из главных творческих пружин. Достоевский даже говорил: «Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание?» Хотя, наверно, это уж слишком — ведь любить страдание — значит не просто принимать, а и желать, хотеть его. Но сила творцов в том, что они могут все в жизни превращать в пищу для творчества, и чем они крупнее, тем лучше делают из горя орудие борьбы с горем. Впрочем, затяжная личная несчастливость сковывает силу творца, разъедает ее. А для обычных людей куда животворнее климат добрых отношений, теплой внимательности: он нужен самим устоям человеческой психики — тяге наших нервов к положительным эмоциям — главной пище для них…Вечные устои любви.
Тайна тайн.
В чем же суть любви как чувства? В чем основа ее магической силы, которая преобразует всю жизнь любящего? Любовь — это, пожалуй, самый вершинный плод на дереве человеческих чувств, самое полное выражение всех сил, которые развились в человеке за всю его историю. Это как бы надстройка над глубинными нуждами человека, над первородными запросами его души и тела. Чувство любви — как бы сгусток всех идеалов человечества, всех достижений человеческих чувств. Впрочем, не только достижений и не только идеалов: в любви вместе со взлетами, видимо, всегда есть провалы, и она вся расколота на зияющие противоречия. Как у солнца есть лучи и есть пятна, как у огня — способность жечь и греть, так и у любви есть свой свет и своя тень, свой жар и свои ожоги. Пожалуй, это самое сложное и самое загадочное из человеческих чувств, и в ней одной больше тайн и загадок, чем во всех остальных наших чувствах, вместе взятых. «Можете ли вы дать определение любви как духовно-нравственного и биопсихологического явления? Можете ли определить ее место среди других человеческих чувств и ее значение для жизни человека?» (Новосибирск, гуманитарный факультет НЭТИ, ноябрь, 1976). Многие пытались «дать определение» любви, и, к сожалению, почти все эти определения неузнаваемо упрощали любовь. Чувство это такое тысячеликое, что еще никому не удавалось уловить его в сети понятийной логики. Не раз накидывали на него такие сети, но всегда в них оказывалась не «синяя птица любви», а ее жестококрылое подобие, закованное в перья наукообразных и скукообразных словес. Вот, например, одно из недавних таких определений — из «Словаря по этике» (М., 1983): «Любовь — чувство, соответствующее отношениям общности и близости между людьми, основанным на их взаимной заинтересованности и склонности… Л. понимается в этике и философии как такое отношение между людьми, когда один человек рассматривает другого как близкого, родственного самому себе и тем или иным образом отождествляет себя с ним: испытывает потребность к объединению и сближению; отождествляет с ним свои собственные интересы и устремления; добровольно физически и духовно отдает себя другому и стремится взаимно обладать им». Такой разговор о любви на враждебном ей языке умертвляет ее, превращает в труп чувства. Это узко понятийный, сухо логический подход, он отсечен от живого образного мышления и потому обречен на провал. Такая унылая ученость не способна ухватить живой трепет любви, ее противоречивейшую многосложность, ее тайны — тот «икс», который всегда пропитывает ее и не поддается никакому выражению словами. Определение, которое было бы более или менее верным зеркалом любви, должно, наверно, быть плодом понятийного и образного мышления вместе, нести в себе и текст — о том, что в любви ясно, и подтекст — о том, что неясно. (Как говорил Метерлинк, великий бельгийский поэт, «определить слишком точно — значило бы заковать в кандалы»). Оно должно быть очень многозвенным — равным многозвенности любви. В него должно бы входить большое и сложное переплетение мыслей; каждая из них как бы ухватывает один из лучей этого чувства, а все вместе, в единстве, они как бы вбирают в себя весь сноп этих лучей, все их переливы друг в друга. И такое определение, наверно, должно бы не начинать, а венчать разговор о любви, быть его сгущенным итогом, выводом из всего, что было сказано обо всех гранях любви. Впрочем, такая полная формула больше нужна, наверно, для научных целей — для психологии, для работы брачных консультаций и службы семьи. Для обихода достаточно, по-моему (вернее, полу-достаточно), тех блистательных, но не исчерпывающих слов, которые сказал Стендаль: «Любить — значит испытывать наслаждение, когда ты видишь, осязаешь, ощущаешь всеми органами чувств и накак можно более близком расстоянии существо, которое ты любишь и которое любит тебя». В самом деле, любовь — это как бы пир всех чувств, в ней участвуют наслаждения зрения, слуха, осязания, вкуса, обоняния — это знали еще в древней Индии и Аравии. В самом деле, это сильнейшая тяга к слиянию — и душевному, и физическому, тяга к тому, чтобы всем своим существом быть как можно ближе к любимому человеку. Но это только «часть» любви, одно лишь ее эмоционально-наслажденческое измерение. Да и не только любовь подходит к этим словам Стендаля, а и влюбленность — чувство менее сложное, менее многогранное.Двойная оптика любви.
«Почему, когда влюбишься, она кажется самой лучшей на свете, а как узнаешь поближе, видишь — все это обман, ничем она не лучше других?» (Берег Чудского озера, Эстония, летний лагерь молодежи, июль, 1974). Одна из главных загадок любви — ее странная, как бы двойная оптика. Достоинства любимого человека она увеличивает — как бинокль, недостатки уменьшает — как перевернутый бинокль. Иногда неясно даже, кого мы любим — самого ли человека или обман зрения, его розовое подобие, которое сфантазировало наше подсознание. Константин Левин влюбился в Кити, и у него возникло странное ощущение. «Для него все девушки в мире разделяются на два сорта: один сорт — это все девушки в мире, кроме ее, и эти девушки имеют все человеческие слабости, и девушки очень обыкновенные; другой сорт — она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого». В таком подъеме любимого человека на пьедестал просвечивает одна из самых драматических, самых морочащих загадок любви. Человечество знало о ней тысячелетия: недаром у Купидона из древних мифов была повязка на глазах, недаром Лукреций, римский поэт I в. н. э., говорил, что ослепленные страстью видят достоинства любимых там, где их нет, и не замечают их недостатков. Полтора века назад Стендаль попытался объяснить эту загадку своей теорией кристаллизации. Он писал в книге «О любви», что если в соляных копях оставить простую ветку, то она вся покроется кристаллами, и никто не узнает в этом блистающем чуде прежний невзрачный прутик. То же, говорил он, происходит и в любви, когда любимого человека наделяют, как кристаллами, тысячами совершенств. «Полюбив, — писал он, — самый разумный человек не видит больше ни одного предмета таким, каков он на самом деле». «Женщина, большей частью заурядная, становится неузнаваемой и превращается в исключительное существо». Поэтому, говорит он, в любви «мы наслаждаемся лишь иллюзией, порождаемой нами самими». Это, наверно, крайность, и вряд ли стоит считать всякую любовь чувством Дон-Кихота, которому грязная скотница казалась прекрасной принцессой. Но разве не верно, что любовь чуть ли не наполовину соткана из нитей фантазии? Впрочем, еще один союз красностей — рядом с обманом зрения в любви есть такое ясновидение, которое недоступно, пожалуй, никакому другому чувству. Любящий видит в любимом такие его глубины, о которых часто не знает и он сам. Свет любви как бы высвечивает в человеке скрытые зародыши его достоинств, ростки, которые могут раскрыться и расцвести от животворного света любви. Ясновидение любви — как бы чувствование потаенных глубин человека, безотчетное ощущение его скрытых вершин. Это как бы прозрение его неразвернутых достоинств, предощущение непроявленных сил, которые могут вспыхнуть от огня любви — и поднять человека к его внутренним вершинам. Интуиция влюбленного — странное увеличительное стекло: в зернах, которые заложены в человеке, она как бы видит уже расцветшие злаки, искры предстают перед ней пламенем, и ясновидение любящего выступает как чувство-«гипотеза», чувство-прогноз — чувство, которое видит человека в его возможностях, видит его таким, каким он мог бы стать. Это как бы подсознательное предвосхищение того идеального расцвета, к которому человек может прийти в идеальных условиях и не может — в обычных. Откуда взялся этот гибрид ослепления и дальновидения, прозрения и обмана зрения? Зачем он и как он проник в человеческую любовь? У него нет прямой, ближней цели, а есть, возможно, непрямая, дальняя, и она очень много значит для человечества. Двойная оптика любви — это, пожалуй, самый пылкий психологический двигатель, который влечет нас к высотам человечности: он побуждает человека хотя бы в чем-то делаться таким, каким его видят украшающие глаза любви. Так это или нет, неясно, но любовь от начала до конца расколота на полюсы, которые — загадка загадок — то и дело превращаются друг в друга. Это и розовое приукрашивание любимого человека, и рентгеновское проницание в него; это предвосхищение вершин в другом человеке, открытие глубин его души — и резкое, лживое преувеличение таких вершин и глубин; это чувство-иллюзия, чувство-обман — и чувство-предвидение, чувство-прогноз сразу. И рождает такое двоение одно и то же свойство любви: ее улучшающие глаза, ее добавляющее зрение, которое видит в человеке больше, чем в нем есть, — видит его то ли приукрашенным, идеализированным, то ли таким, каким он может стать от вздымающей силы любви. Интересно, что в самом строении человеческих нервов есть черты, которые помогают этой двойной оптике. Как выяснили физиологи, приятные, положительные ощущения проводятся по нервам лучше, чем неприятные, отрицательные. Передавая в мозг приятные ощущения (зрительные, осязательные, вкусовые, слуховые), нервная система усиливает их, передавая неприятные — ослабляет. Приятные ощущения как бы ставятся под увеличительное стекло, неприятные — под уменьшительное. Значит, биологические основы двойной оптики лежат в строении самих наших нервных механизмов, в глубинах самой нервной организации. Может быть, эти нервные механизмы двойной оптики — один из устоев нашей повышенной жизнестойкости, одна из скрытых пружин эволюционного возвышения человека. Но, может быть, двойная оптика ощущений — это первичная основа всякой жизни, сама ее суть — безотчетная тяга к радости, наслаждению, счастью. Любовь и влюбленность — резкие усилители этой обычно незаметной оптики. Фокусируясь на близком человеке, эта двойная призма рождает вереницы парадоксальных — обратных норме — чувств: маленькие, с песчинку, проблески человеческих достоинств видятся как слитки, а веские, как камни, изъяны всего лишь царапают, как песчинки… Ученые ищут в мозгу центры, которые излучают такие парадоксальные чувства, строят самые разные предположения о них. Лорис и Марджери Милн, авторы книги «Чувства животных и человека», пишут: «В нашем мозговом аппарате скрываются некие таинственные чувства, для которых еще не найдены специальные органы. Возможно, позже докажут, что почти все эти непонятные чувства связаны с «центром удовольствия», недавно локализованным в мозгу»[3]. Милны говорят, что возбуждение этого центра удовольствия заменяло подопытным зверькам еду, половое наслаждение, радости общения. Голодные крысы отворачивались от кормушки, поилки, от других крыс и до изнеможения жали на педальку, от которой шли радостные импульсы в их центр удовольствия. Но Милнов, пожалуй, стоит уточнить. Во-первых, это не центр, а целая зона удовольствия — в нее входят центры голода, жажды, полового чувства (либидо — от латинского «желание, страсть»). Интересно, что эта зона удовольствия занимает 35 процентов мозга у крысы, а зона неудовольствия — всего лишь 5 процентов. Это, наверно, тоже говорит о биологической сути земной жизни — о первородной тяге «живой материи» к наслаждению жизнью, к ее радостному переживанию. Во-вторых, у человека дело обстоит куда сложнее — таинственные чувства рождает не только его мозговой аппарат. Как уже говорилось, внемозговые нервные волокна усиливают и ослабляют наши ощущения, создают обманные, парадоксальные отклики. Видимо, в человеке, существе невероятно сложном, таинственные чувства источает и мозг, и сердце, и нервы, и, может быть, весь организм…Главный закон всех эмоций.
Но главная основа двойной оптики — это, наверно, принцип доминанты (господства), важнейший принцип работы мозга. В чем он состоит? Царящий в мозгу очаг возбуждения как бы подчиняет себе другие очаги, присваивает себе сигналы, идущие к ним, льет чужую воду на свою мельницу. Мозг усиленно впитывает одни сигналы и как бы не видит другие, даже противоположные — перекрашивает их в чужой цвет. Великий физиолог А. А. Ухтомский, создатель учения о доминанте, говорил, что доминанта — это «чувствительность и наблюдательность в одну сторону», «вылавливание из окружающего мира по преимуществу только того, что ее подтверждает». Пожалуй, все наши эмоции работают по такому принципу. У каждой из них как бы две линзы — увеличивающая и уменьшающая. Положительные, принимающие эмоции видят достоинства вещей через увеличительное стекло, а недостатки — через уменьшительное. Отрицательные, отвергающие эмоции, наоборот, видят через увеличительное стекло недостатки вещей, а достоинства — через уменьшительное. Положительной эмоцией правит двойная светлая оптика, отрицательной — двойная темная. Эмоция, видимо, всегда преувеличивает впечатления своего знака и преуменьшает — обратного. Но чем слабее эмоция, тем слабее и ее двойная оптика, чем сильнее — тем сильнее и эта оптика. Принцип двойной оптики — это, возможно, основной закон работы всех наших эмоций, и он резко двояк. Он круто усиливает энергию человека, нужную, чтобы добыть то, что нравится, или спастись от того, что опасно. Поэтому односторонность эмоций — один из главных трамплинов для всех взлетов человека, всех его открытий и достижений. Но та же односторонность — главная эмоциональная пружина всей слепоты человека, всех его провалов, самообманов — будничных и исторических, бытовых и «бытийных». Природа человека двойственна, и в идеале каждый порыв эмоций стоило бы уравновешивать сознанием. У сознания куда более точная оптика — не двойная, а почти зеркальная, «один к одному». Союз этих двух оптик резко усиливает их сильные стороны и ослабляет слабые. И чем горячее эмоция, тем больше ей нужен союз с сознанием — потому что чем мощнее мотор, тем сильнее должен быть и тормоз… «Ваши слова о двойной оптике очень растревожили меня. Искренне ли чувство к человеку, если в нем прежде всего ищешь недостатки, стараешься увидеть худшие черты его характера? В то время как должно быть наоборот…» (Завод им. Сухого, декабрь, 1980). Двойная оптика чаще всего — спутник пылкой, весенней поры любви или бурного, горячего чувства. Когда пылкость чувств спадает, слабеет и двойная оптика, романтическую призму чувств начинает теснить реалистическая призма сознания. Радужная оптика не умирает, но умеряется, она уже не ведет мелодию чувств, а служит ей тихим аккомпанементом, полузаметным или почти незаметным… Двойной оптики может не быть и у рационалов; ее может не быть и при слабом влечении. Она может не возникать и у человека с сильным чувством неполноценности; его подсознание подавляет эту оптику, не дает ей родиться: оно как бы хочет уравновесить этим свое чувство неполноценности, уравнять нравящегося человека с собой. Двойной оптики может не быть и у тех, кто опасается за свое будущее с нравящимся человеком. Интуиция фокусирует его на минусах этого человека, как бы сигналит о возможном провале… Двойная оптика — признак или нормального течения чувств, или их зеленого, юного бурления, голодной жажды любви. Отсутствие двойной оптики — сигнал об отходе от нормального течения чувств. Это как бы подсознательный загляд каких-то таинственных глубин человека вперед, в будущее, как бы предостережение о возможном крахе чувств — то ли из-за своих минусов, то ли из-за минусов близкого человека, то ли из-за несовместимости тех и других минусов. Другое дело — приглушенность двойной оптики, ее звучание под сурдинку: она может быть и нормой, когда кончился дебют любви и начался (говоря тем же шахматным языком) ее миттельшпиль, «середина». Впрочем, если такая приглушенность нарастает, усиливается, это может быть и отзвуком угасающей любви, знаком ее конца, эндшпиля… Везде тут, видимо, царит двоякость, нигде нет единого канона на все случаи жизни, а есть много вариантов, похожих, полупохожих или совсем не похожих друг на друга…Между смертными и бессмертными.
О розовом зрении любви люди знали с незапамятных времен. Но о провидческих глазах любви, о ее ясновидении совсем не говорится ни в старых трактатах о любви, ни в новой литературе. Непонятно, почему, но за всю историю человечества этот лик любви не увидел, кажется, ни один поэт, ни один мыслитель. Может быть, дело в том, что жизнь была враждебна этому лику, не давала ему проявиться, и уделом любви была драма, трагедия, а не идиллия? Впрочем, один человек — писатель и мыслитель сразу — нащупал это странное свойство. Когда Пьер Безухов полюбил Наташу, в нем появилась загадочная проницательность. «Он без малейшего усилия, сразу, встречаясь с каким бы то ни было человеком, видел в нем все, что было хорошего и достойного любви». «Может быть, — думал он, — я и казался тогда странен и смешон; но я тогда не был так безумен, как казалось. Напротив, я был тогда умнее и проницательнее, чем когда-либо, и понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что… я был счастлив». В этих словах явно есть парадокс — особенно если вспомнить старую истину, что любовь оглупляет человека. (Это, впрочем, полуистина, потому что любовь, как и все сильные чувства, и оглупляет и углубляет: она может притуплять обычный ум, но она резко усиливает интуицию — ум подсознания и сверхсознания). Толстой как бы говорит, что любовь делает человека умнее, что безумие влюбленного — это естественное, нормальное отношение к жизни, и оно кажется безумием только потому, что в жизни царят неестественные нормы. Конечно, такое отношение к людям обманчиво и утопично, оно схватывает в них только одну сторону, резко приукрашивает их. Но здесь просвечивает и важная черта человеческой природы — наша стихийная тяга к идеалу. Тяга эта очень сильна у детей: они наивно верят в человеческое совершенство, и любая слабость близкого человека поражает их как горестный удар. Тяга эта сильна и у тех, кто любит, и часто бывает, что чем сильнее любовь, тем сильнее и эта тяга. Человек, который любит, видит в жизни куда больше красоты, чем тот, кто не любит. Возникает как бы особая эстетика любви — серая пелена привычности спадает с вещей, и человеку открывается их подспудная прелесть. Любовь меняет все восприятия человека, делает их куда более чуткими к красоте. Эти восприятия, видимо, несут в себе тягу людей к совершенной жизни, к жизни, которая строится на законах красоты, добра, свободы, справедливости. И очень важно, что это тяга не просто разума, а и безотчетных чувств, самых глубоких эмоциональных глубин человека. Значит, самому миру человеческих чувств больше всего отвечает гармонический уклад жизни, и сама естественная природа человека бессознательно тянется к такому укладу. Значит, и чувства, и разум человека одинаково тяготеют к тому устройству жизни, в котором воплотились высшие идеалы человечества. Тяга к гармонии, к идеалу — родовое стремление человека, естественное, заложенное в самой его общественной природе. Эта тяга появилась в людях уже в первобытные времена. Она отчетливо отпечаталась в древней мифологии, которая родилась еще до религии — в ассирийской, египетской, греческой, индийской, китайской, в мифологии всех племен Австралии, Африки, Океании, Америки. Мифология — это ведь не просто «ложное объяснение движущих сил жизни». Это прежде всего вид утопии, вид создания идеала. В образе всемогущих богов и героев воплотились — в детском, сказочном виде — идеалы древних людей, их стремление быть владыками тех сил, чьими рабами они были. И хотя эти идеалы выступали тогда в испуганной, искаженной страхом и незнанием форме, они вобрали в себя тягу людей к совершенству, их стремление быть всезнающими, всесильными, всемогущими. В древней мифологии уже были собраны почти все главные мечты человечества, которые живут и сейчас: тяга к повелеванию бегом ветров, течением рек, тяга к могучему труду, которому все доступно, к мгновенно быстрому передвижению и полетам, к свободной от нужд и тягот жизни, к равенству и справедливости. Это были первые великие социальные утопии и в них впервые появились зародыши тех всечеловеческих идеалов, знамя которых потом подхватили лучшие силы человечества. Двадцать четыре века назад Платон создал первую в человеческой культуре философию любви; она была очень крупным шагом в постижении человеческой любви, а позднее стала истоком для большинства любовных теорий. Любовь для Платона — двойственное чувство, она соединяет в себе противоположные стороны человеческой природы. В ней живет тяга людей к прекрасному — и чувство чего-то недостающего, ущербного, стремление восполнить то, чего у человека нет. Эрот двулик, говорит Платон, он несет человеку и пользу и вред, дает ему зло и добро. Любовь таится в самой природе человека, и нужна она для того, чтобы исцелять изъяны этой природы, возмещать их. Так впервые в нашей цивилизации возникла мысль о великой вздымающей силе любви, о ее роли творца, исправителя людской природы, ваятеля лучшего и целителя худшего в ней. Одна из основ любовной теории Платона — его учение о крылатой природе души. Человек для Платона, как и для других идеалистов, состоит из бессмертной души и смертного тела. Душа человека — маленькая частица «вселенской души», и сначала она парит в «занебесной области», по которой разлита «сущность», «истина»— великое первоначало всего мира. Потом душа теряет крылья, не может больше витать в божественном мире и должна найти себе опору в смертном теле. Но, живя в нем, частичка вселенской души рвется назад, в занебесную область. А чтобы вернуться туда, ей надо окрылиться, восстановить крылья. Именно это и делает любовь: когда человек начинает любить, его душа как бы вспоминает занебесную красоту, занебесную сущность жизни, и это окрыляет ее. Любовь, по Платону, дает человеку исступление, и это исступление — мостик между смертным и бессмертным миром. Таинства любви ведут человека к высшим таинствам жизни, к ее сущности, они дают душе вспомнить отблески великой божественной истины, в которой она жила. Поэтому любовь у Платона — лестница, которая ведет к смыслу жизни, к бессмертию. Это гигантски важная часть человеческого существа, одно из самых главных проявлений человеческой природы. Любовь превращает человека в часть мирового целого, связывает его с землей и небом, с основами всей жизни. Она делает человека больше, чем он есть — поднимает его над самим собой, ставит между смертными и бессмертными… В мифологическом, карнавальном наряде здесь выступает самая державная, самая стратегическая роль любви — и самое неясное ее свойство: ее загадочная сила, которая прорывает тленные путы будней, вздымает человека над бренным миром и делает его как бы надчеловеком, как бы полубогом…Из недр души.
Рождение любви — вереница громадных и незримых перемен в человеке. В нем совершаются таинственные, неясные нам внутренние сдвиги, мы видим только их результаты, а какие они, как текут — не знаем. Тургенев в повести «Ася» сделал важное психологическое открытие о том, как рождается любовь. Встретив Асю, герой повести ничего не почувствовал к ней, кроме обычного любопытства. Но вечером он вернулся к себе в странном состоянии — полный «беспредметных и бесконечных ожиданий». «Я чувствовал себя счастливым… — говорит он. — Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чем не думал…» Он еще ничего не знает о том, что с ним, а его подсознание уже знает об этом — знает и говорит об этом на своем языке — языке смутных чувств, непонятных томлений. Это первые крадущиеся шаги влюбленности — воздушные, невидимые, неосязаемые. Это не стрела Амура, которая одним ударом врывается в сердце, а медленные струйки ощущений, которые незаметно втекают в душу — и бередят, тревожат ее своей непонятностью. На другой день Ася не понравилась герою. Вечером — опять без причин — он вдруг почувствовал острую и ноющую тоску, мертвенную тяжесть в сердце. Начинается бунт подсознания — первый ответ души на вкрадывающуюся в нее любовь. Подсознание как бы выходит из повиновения, роль его во внутренней жизни человека круто, скачком вырастает. Оно выдвигается на авансцену психологии, начинает играть первую скрипку в многоголосой музыке наших ощущений. Подсознание делается деспотом души, правит ею, вселяя в нее непонятные метания чувств — маятник от счастья к горю, от радости к тоске… Спустя еще немного в нем возникают новые ощущения — куда более пронзительные и поэтому ясные. «Во мне зажглась жажда счастья… — понял герой. — Счастья, счастья до пресыщения — вот чего хотел я, вот о чем томился…» Это уже переход влюбленности из подсознания в сознание, первый ее шаг из тайных глубин души в явные для взгляда пределы. Завладев подсознанием, влюбленность завоевывает оттуда все новые пространства в душе. Сила ее стала такой, что она уже осознается, делается внятной для разумения. Тысячелетиями люди думали, что любовь входит в человека мгновенно, как вспышка молнии. Потом стали понимать, что с первого взгляда начинается не любовь, а влюбленность, и только после она может стать — или не стать — любовью. Рождение любви — не мгновенный удар, а постепенная перестройка всей внутренней жизни человека, переход ее — звено за звеном — в новое состояние. Новое для человека ощущение, входя в ряд его привычных чувств, изменяет их одно за другим, просвечивает сквозь них, — как капли краски, падая в воду, сначала неуловимо, а потом все ярче меняют ее цвет.Великая роль подсознания.
«Что такое подсознание, что известно о его структуре? И как вы понимаете душу?» (ДК завода «Салют», ноябрь, 1981). Подсознание — это как бы огромный внутренний космос, в котором таятся многие пружины наших чувств и поступков. Подсознательные ощущения отличаются от сознательных прежде всего своей силой. Это тихие ощущения, они слабо мерцают, незаметно светятся в нас, и поэтому мы не чувствуем, как они текут в глубинах души, как они возникают и гаснут. Таких ощущений большинство: мы осознаем, чувствуем едва ли миллионную долю всего, что происходит в нас и вокруг[4]. Среди таких бессознательных ощущений — тьма ежесекундных сигналов от нашего тела: мы ощущаем эти сигналы, только когда они делаются ненормальными, причиняют нам боль, неудобство. Вся автоматика нашего организма, все будничные пружины психики работают в бессознательном режиме. Подсознание — мудрое устройство человеческой психики и, пожалуй, одна из самых главных опор живой жизни вообще. Если бы от сигналов, текущих в мозг, осознавались не тысячные доли процента, а хотя бы один процент, живые существа были бы обречены на смерть: они должны были бы только слушать свои ощущения, только переживать их, как это бывает с тяжело больными людьми, или с душевно ненормальными, или с теми, чье подсознание отравлено горем, тоской… Именно благодаря подсознанию мы не находимся в плену у своих ощущений, именно благодаря этой освободительной роли подсознания достигло таких огромных высот человеческое сознание. Многие думают, что подсознание — это только инстинкты, телесные ощущения, автоматические регуляторы организма. Но подсознание — не биологический придаток сознания, а глубинная зона психики, в которой, наверно, есть самые разные слои — и биологические, и психологические, и умственные. Все наши ощущения — зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные, осязательные — бывают и осознанными, и неосознанными. Все наши чувства — любовь и ненависть, дружба и презрение, симпатия и антипатия — несут в себе осознаваемые и неосознаваемые слои. И наши мысли, перед тем, как осознаться, проходят, очевидно, какой-то путь в подсознании. Особенно касается это интуитивных мыслей, мыслей-озарений, которые вдруг непонятно как высвечиваются в мозгу. Впрочем, в последнее время этот слой психики начинают именовать надсознанием, сверхсознанием — но об этом чуть дальше. Что касается слова «душа», то психологи, пожалуй, напрасно отказались от него. Слово «психика» произошло от древнегреческого слова «душа», психэ, и в сегодняшнем обиходе под душой понимают или эмоциональный срез психики — психику без логического рассудка, рационального слоя, или всю психику, но как бы с отодвинутым на задний план рассудком, который заслоняется чувствами. Говоря упрощенно, под душой здесь понимают как бы детскую, исходную психику, психику, в которой правят чувства и образное мышление, а логическое мышление подчинено им. В таком вот смысле слово «душа» и применяется в этой книге.«Ты — это я».
Любовь — не просто влечение к другому человеку: это и понимание его, понимание всей душой, всеми недрами ума и сердца. Французы недаром, наверное, говорят: быть любимым — значит быть понятым. Пожалуй, именно поэтому так часто поражаются влюбленные, особенно девушки: как глубоко он понимает меня, как точно угадывает самые смутные мои желания, как он схватывает с полуслова то, что я хочу сказать. Такая сверхинтуиция, которую рождает любовь, такое со-чувствование с чувствами другого человека — один из высших взлетов любви, и оно дает невиданные психологические состояния — блаженство полнейшей человеческой близости, иллюзию почти полного физического срастания двух душ. Гармония «я» и «не я», которая бывает в настоящей любви, тяга к полному слиянию любящих — одна из самых древних загадок любви. О ней тысячи лет писали поэты и философы; еще Платон говорил, что влюбленный одержим «стремлением слиться и сплавиться с возлюбленным в единое существо». Но, пожалуй, ярче других это странное психологическое состояние понял Лев Толстой. …Константин Левин из «Анны Карениной» пережил после свадьбы поразительное — и, видимо, не придуманное — ощущение. (Толстой вообще вложил в своего героя много собственных чувств, и не случайно, пожалуй, фамилия героя происходит от имени автора). Как-то Левин опоздал домой, и перенервничавшая Кити встретила его горькими упреками. Он оскорбился на нее, хотел сказать ей гневные слова, «но в ту же секунду почувствовал, что… он сам нечаянно ударил себя». «Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он». «Она была он сам». Это физическое ощущение своей слитности с другим человеком — ощущение совершенно фантастическое. Все мы знаем, что в обычном состоянии человек просто не может ощущать чувства другого человека, переживать их. И только во взлетах сильной любви бывает странный психологический мираж, когда разные «я» как бы сливаются друг с другом, — как будто токи любви смыкают между собой две разомкнутые души, как будто между нервами любящих перекидываются невидимые мостики, и ощущения одного перетекают в другого, становятся общими — как голод и жажда у сиамских близнецов… Обычная забота о себе как бы меняет вдруг место жительства и переходит в другого человека. Его интересы, его заботы делаются вдруг твоими. Это чуть ли не буквальное «переселение душ» — как будто часть твоей души перебралась в тело другого человека, и ты теперь чувствуешь его чувства так же, как свои. Тут как бы происходит прыжок через известные нам биологические законы, они явно и вопиюще нарушаются. Все мы, наверно, знаем, что наши ощущения замкнуты своим телом, и человек просто не может чувствовать чужие ощущения. И если он все же чувствует их, то, наверно, не «физически», нервами, а «психологически» — то ли воображением, то ли каким-то шестым чувством — еще не ясной нам, таинственной способностью мозга. Может быть, психологические ощущения менее жестко привязаны к телу, чем физические, и силой любви они могут как бы улавливаться «на расстоянии», как улавливаются гипнотические внушения и телепатемы? Но откуда берется такая телепатия чувств[5], и какие токи текут в это время в душах и нервах любящих, неясно: психологам и физиологам еще предстоит разгадать эту загадку, открыть ее биопсихическую природу. Кстати, помочь здесь могут и исследования детской психологии. У маленьких детей невероятно сильно развито со-чувствие чувствам близкого человека. Малыши почти так же остро переживают горести и радости своих близких, как и те сами. У них есть как бы особый класс чувств — «чувства-отклики», «зеркальные чувства», и они звучат как эхо чувств, которые испытывают их родные. Возможно, разгадав биопсихическую природу этих чувств, психологи получат ключ к важным психологическим загадкам любви. Так это или нет, но любовь необыкновенно утончает, обогащает всю жизнь нашего духа и тела, рождает в людях глубокое проницание в психологические недра друг друга.Психоэнергетика и любовь.
Полуотгадка новой загадкой.
Впрочем, двойственность любви проявляется и здесь. Бывает больное сращение душ, которое терзает людей, несет им не добро, а зло. «Когда я жаловалась знакомым, что чувствую настроения мужа даже на расстоянии, они смеялись надо мной… Дела у нас шли плохо, и я решила с ним порвать навсегда, но не знала самого главного, что забрал он мое сердце, вот ведь как бывает! Я совершенно не властна над собой и не могу быть хозяйкой своему настроению. У него нелегкий характер, его можно сравнить со злой стихией. Если уж в ненастроении, то может злиться месяц. Он не любит ту женщину, с которой живет, и это способствует частому обострению его стихии, И это все передается на меня. Сколько бы раз я его ни встречала, вижу — у нас одинаковое настроение. Если он в злой стихии, и я такая, если он спокоен, спокойна и я… А сейчас он в Норильске, а я все равно живу его чувствами и настроениями. Как порвать это, как разъединить наши души? Очень больно так жить. Вы верно писали: так крепко соединяются сердца, именно что почти физически. Я бы согласилась даже на операцию, только бы жить собственными настроениями!» (Р. С., медсестра, г. Миасс, Челябинская область, январь, 1977). В чем причина этого больного сращения душ, в чем его психологические механизмы — загадка. Правда, в последнее время появилась как бы полуотгадка этой загадки: «полу» — потому что одна загадка объясняется здесь другой, и гораздо более загадочной. «Вы сказали, что соединение двух нервных систем невозможно. А как же гипотеза биополя? Ведь экстрасенсы могут без слов чувствовать состояние другого человека. Нет ли здесь какого-то энергетического соединения двух нервных систем?» (Обнинск, Калужская область, ДК физико-энергетического института, май, 1982). «Какова естественная основа у интуиции влюбленных? Может, у них есть, как у дельфинов, какие-нибудь сигналы, которые соединяют их на определенной волне? Изучают ли это в науке?» (Московская область, Протвино — город физиков, клуб «Современница», март, 1980). «Ваше мнение об энергетических взаимодействиях любви? Одну из основ бытия составляет энергия. Психические процессы есть по сути энергетические, и если вы признаете «энергизм» любви, то в пору говорить о разных видах энергии, в том числе духовной». (ДК медиков, декабрь, 1978)[6]. Гипотеза о биоэнергии человека — вернее, о биопсихологической энергии — очень заманчива, и у нее, очевидно, есть своя почва. Конечно, многое в разговорах о ней туманно, предположительно, и здесь нужна удвоенная настороженность против всего недостоверного, кажущегося. Впрочем, кроме вещей шатких и туманных, тут есть и вещи почти очевидные, объяснимые. Как выяснили физиологи, клетки живого организма как бы маленькие биоэлектростанции, они вырабатывают особую энергию, и, возможно, именно эта энергия служит основой жизни. Эту энергию измеряют аппаратурой; так, скажем, давно делают с биотоками мозга и сердца: их улавливают на электроэнцефалографе и кардиографе и узнают по ним о здоровье человека. Всемирно известен и «эффект Кирлиан» — энергетическое свечение растений, которое открыли советские исследователи, муж и жена Кирлиан. Светящийся ореол есть не только вокруг листьев, но и вокруг животных, людей, и его запечатлевает в токах высокой частоты особая аппаратура[7]. В 60-е годы появилась гипотеза (ее выдвинул киевский инженер Ярослав Береговой), что энергетическая база есть и у обычных психологических и мыслительных процессов[8].У всего, что происходит в живом существе, есть, видимо, свое энергетическое измерение, и наши ощущения, чувства, мысли, возможно, имеют материальную основу — состоят из энергетических излучений. То, что сейчас так неточно называют биополем, есть, как утверждают специалисты, у каждого человека, у каждого живого существа. Поле это простирается в стороны от нашего тела на несколько дециметров, и у него будто бы есть три разных слоя из трех разных энергий: телесной энергии, энергии чувств и энергии мысли[9]. Есть люди, чье поле намного сильнее обычного; они способны ощущать чужие поля, и их именуют экстрасенсами — «сверхчувствователями». «Сверх» — потому что еще не открыто, какие нервные механизмы ведают биоэнергией, принимают и передают ее. «Сверхчувственный», «сверхчувствователь» — названия, по-моему, тоже неточные; биопсихическая энергия не сверхчувствуется, а именно чувствуется, ее ощущают люди, регистрируют приборы. Пожалуй, вернее было бы называть этих людей так, как их называли чуть раньше — сензитивами, то есть «чувствователями». В 70—80-е годы ленинградские и московские физики изучали физическую природу энергии сензитивов. Ученые Ленинградского института точной механики и оптики (возглавлял их ректор института профессор Г. Н. Дульнев) исследовали так называемый телекинез — передвижение предметов «мыслью», «взглядом», то есть биопсихической энергией. Опыты подтвердили, что известная Н. С. Кулагина на расстоянии отклоняет своей энергией чашу весов (даже сквозь стеклянную преграду), рассеивает лазерное излучение, испускает магнитные импульсы. Позднее Н. С. Кулагину изучали московские физики во главе с академиком Ю. Б. Кобзаревым. Они установили, кроме того, что в ее энергии есть и акустические — звуковые — сигналы. В 80-е годы в московском ИРЭ (Институте радиотехники и электроники) была открыта лаборатория физических полей человека и животных; ее работой руководят физики академик Гуляев и доктор наук Годик. Лаборатория изучала энергию и обычных людей, и сензитивов, в том числе известной Джуны — Евгении Ювашевны Давиташвили. Выяснилось, что все они — и обычные люди, и сензитивы — излучают импульсы разных энергий: инфракрасные, радиотепловые, оптические, электромагнитные, акустические… Биофизики из ИРЭ считают, что биополя не существует, а есть «физические поля биологических объектов»; решительно отклоняя термин, они решительно признают явление. По их мнению, то, что называют энергией биополя, состоит из нескольких физических энергий. Ю. В. Гуляев считает, что человек похож здесь на Вселенную. «Вокруг людей, как и вокруг нашей планеты, — говорит он, — есть своя атмосфера и магнитосфеpa, где бушуют потоки излучений, не ощущаемых нашими органами чувств. А чуткие «глаза» и «уши» приборов могут теперь зафиксировать эту… вполне материальную субстанцию». Э. Э. Годик добавляет, что созданные в ИРЭ высокочувствительные приборы позволили убедиться: «Вокруг человека и животных существует сложная картина излучений и полей». В нее входят электрические и магнитные поля, радиотепловое, инфракрасное и химическое излучение, оптические и звуковые волны. Вице-президент АН СССР В. А. Котельников сказал об этом: «С помощью современной радиоэлектронной аппаратуры проведено исследование физических полей, возникающих вокруг человека… Оказалось, что эти поля несут ценную информацию о функционировании физиологических систем организма… После серьезного подключения науки вместо чудес появляется новое научное знание, которое несет реальную практическую пользу». Изучая «поля жизни», вступая на их целину, биофизики идут пока по самым простым полям, физиологическим, и только-только бросают взгляд на психологические поля куда более сложные. При этом исследуют «поля жизни» лишь физики, а официальная психология, физиология, медицина отмахиваются от них. «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» — такой, увы, донаучный подход к живым полям еще недавно царил в научных институтах всех этих человековедческих наук. До сих пор наука изучала два измерения человека: телесное, «вещественное», и бестелесное, психическое (мысли, чувства, память). Но как именно одно из них переходит в другое, какая материальная природа у наших чувств, мыслей — этим наука почти не занималась. Можно предположить, что психоэнергетика (точнее, биопсихоэнергетика) — это и есть недостающее звено между нашей физиологией и психологией. Здесь, может быть, таятся неизвестные пружины наших чувств, важные механизмы мыслей. Если это так, тут могут лежать ключи к новым америкам нашего внутреннего мира, ко всей человеческой психологии и физиологии. Конечно, пока все это только предположения, но в том, что касается любви, чувств, они выглядят правдоподобно. Здесь, кстати, будет говориться только об одной грани психоэнергетики — о тех загадочных психологических способностях, которые пробуждает в людях любовь. Остальные ее грани — то есть главное в ней, — остаются в стороне, в них, очевидно, должны разбираться физиологи, биофизики, медики… Каждый из нас, наверно, ощущал на себе — спиной, затылком — тяжелый, давящий взгляд, каждый чувствовал, как его захлестывают волны чужой радости или разъедают едкие токи чужого раздражения. Наверно, есть какая-то энергия, которая передается взглядом и дает почувствовать на себе его силу. Возможно, и у наших чувств есть волновая энергия и мы ощущаем ее какими-то неизвестными нам нервными механизмами, какими-то таящимися в подсознании приемниками энергии. При разных чувствах в организме протекают, очевидно, разные процессы — биофизические и биохимические, и они дают разные излучения. Есть, возможно, свои, особые волны у радости, грусти, презрения, ликования, тоски, гнева, страха, удивления, тревоги… Может быть, и разные характеры излучают разную энергию: сильный, волевой источает волны спокойствия, уверенности; возбудимый испускает токи нервозности, сердитый — режущие токи злости, добрый — покоящие волны душевной мягкости. Придет время, психологи расшифруют эти излучения, и это поможет уменьшить нашу беспомощность перед многими своими чувствами…Сензитивы любви.
В сильной любви каждый из нас, пусть ненадолго, может как бы стать сензитивом. Любовь — мощный усилитель человеческой энергии, и она очень обостряет — хотя бы на время, хотя бы к одному человеку — дремлющую в нас способность улавливать волны чужой души. Это уже не гипотеза, а твердые факты и надежные наблюдения, их много и в живой жизни, и в книгах олюбви. Вот, пожалуй, самое разительное из таких наблюдений — вспышка «ясновидения» у Константина Левина и Кити. «Когда встали из-за стола, Левину хотелось идти за Кити в гостиную; но он боялся, не будет ли ей это неприятно… Он остался в кружке мужчин, принимая участие в общем разговоре, и, не глядя на Кити, чувствовал ее движения, ее взгляды и то место, на котором она была в гостиной»[10]. Он чувствовал все это из другой комнаты! Он как бы видел ее внутренними глазами своей души. Он разговаривал о вещах, которые всегда казались ему необыкновенно важны, но которые вдруг потеряли для него всякую важность. «Он знал теперь то, что одно важно. И это одно было сначала там, в гостиной, а потом стало подвигаться и остановилось у двери. Он, не оборачиваясь, почувствовал устремленный на себя взгляд и улыбку и не мог не обернуться. Она стояла в дверях сЩербацким исмотрела на него». Толстой поразительно чутко передает смутность, скоторой Левин ощущал Кити в соседней комнате: Левин как бы чувствовал, что там не она, не живая Кити, а что-то «одно» — что-то туманное, среднего рода, — как бы облачко, сгусток чего-то самого важного для него. Экстрасенсы сказали бы, что он ощущал ее «биополе», чувствовал энергетическое облачко, из которого оно состоит. И он видел на своем внутреннем экране, как это «одно» «стало подвигаться», а подойдя к двери и став видимым, оно вдруг сгустилось, и он почувствовал — еще не видя — не просто какое-то нечто, а ее «устремленный на себя взгляд и улыбку». И заговорив, они понимают друг друга не через слова, а через прямое — «телепатическое» — улавливание мыслей друг друга, через непосредственное ощущение чужих ощущений. «Она сморщила лоб, стараясь понять. Но только что он начал объяснять, она уже поняла… Левин радостно улыбнулся: так ему поразителен был этот переход от запутанного многословного спора сПесцовым и братом к этому лаконичному и ясному, без слов почти, сообщению самых сложных мыслей». Напряжение счастья и страх потерять это счастье достигли у них предела, и на этом пределе у них начинается апогей «телепатии». «— Вот, — сказал он и написал начальные буквы: к, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, н, и, т? Буквы эти значили: «Когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда, или тогда?» Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу;но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова. Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать… — Я поняла, — сказала она покраснев. — Какое это слово? — сказал он, указывая на н, которым обозначалось слово никогда. — Это слово значит никогда, — сказала она, — но это неправда[11]! Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: т, я, н, м, и, о… Он вдруг просиял: он понял. Это значило: «Тогда я не могла иначе ответить». Он взглянул на нее вопросительно, робко. — А т… А теперь? — спросил он. — Ну, так вот прочтите. Я скажу то, что бы желала. Очень бы желала! — Она написала начальные буквы: ч, в, м, з, и, п, ч, б. Это значило: «Чтобы вы могли забыть и простить, что было». Он схватил мел напряженными, дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего: «Мне нечего забывать и прощать, я не переставал любить вас». Она взглянула на него с остановившеюся улыбкой. — Я поняла, — шепотом сказала она. Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла и, не спрашивая его: так ли? взяла мел и тотчас же ответила. Он долго не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастья… Но в прелестных сияющих счастьем глазах ее он понял все, что ему нужно было знать. И он написал три буквы. Но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и написала ответ: да». Эта сцена — великое предвосхищение будущих открытий, и она больше века поражала своей загадочностью и ставила в тупик несколько поколений читающих. И только сейчас мы начинаем понимать, как стало возможно это невозможное, почти колдовское проницание людей друг в друга.Как это было в жизни.
Впрочем, может быть, это только фантазия, художественный вымысел? Но вот разговор Толстого с юной Соней Берс, его будущей женой — разговор, который был на самом деле[12]. Однажды — у них еще не было объяснения, было только тяготение друг к другу — Толстой написал ей мелком на карточном столе: «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.». Можно ли отгадать, какие слова таятся за вереницей этих букв? В обычном состоянии, пожалуй, невозможно, но в особом… Софью Берс озарило: «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья», — прочла я. Сердце мое забилось так сильно, в висках что-то застучало, лицо горело — я была вне времени, вне сознания всего земного: мне казалось, что я все могла, все понимала, обнимала все необъятное в эту минуту». Что такое эти вспышки ясновидения, это странное ощущение всемогущества, всепонимания, выхода из времени, из всех земных пут? Видимо, это загадочное состояние разбудили в ней и первые вспышки любви, и тайное предощущение будущих поворотов, и смутное понимание, что с ней происходит что-то сверх-значительное… «— Ну, еще, — сказал Лев Николаевич и начал писать: «В в. с. с. л. в. н. м. и в. с. Л. З. м. в. с в. с. Т.» «В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру, Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой», — быстро и без запинки читала я по начальным буквам. …Наше возбужденное состояние было настолько более повышенное, чем обычное состояние душ человеческих, что ничто уже не удивляло нас». Сильная любовь как бы рождает в психике человека новые приемники, которые улавливают скрытые излучения чужой психики. У любящих появляется «внутривидение», «дальночувствие», начинают идти чередой — но у одних часто, у других редко — мгновенные озарения, наития, подсознательные прозрения в близкой душе. Об этих таинственных силах психики много думал Гёте. Он был убежден: «Есть такие состояния, когда щупальца нашей души протягиваются за ее телесные границы… Каждому из нас присущи электрические и магнетические силы, которые наподобие настоящего магнита что-то притягивают или отталкивают… …Эта магнетическая сила очень велика и воздействует даже на расстоянии. В юности нередко бывало, что на одинокой прогулке меня вдруг охватывало влечение к любимой девушке, я долго думал о ней, и потом оказывалось, что она и вправду встречалась мне. «Мне вдруг стало так тревожно в моей светелке, — говорила она, — что я ничего не могла с собой поделать и поспешила тебе навстречу». И Гёте рассказывает про случай, когда он вернулся после отлучки, но из-за придворных обязанностей три дня не мог навестить свою возлюбленную. Наконец он вырвался к ней, но, подойдя к ее двери, услышал чужие голоса и повернул назад. «Мрачный и снедаемый страстью, я кружил по городу, наверно, с час, с тоской думая о возлюбленной и стараясь почаще проходить мимо ее дома». Идя мимо в очередной раз, он вдруг заметил, что в ее окне нет света, и кинулся искать ее. Сначала он ходил по освещенным улицам, но вдруг его потянуло в маленькую и темную боковую уличку. Он пошел почти на ощупь и спустя сто шагов вдруг увидел идущую навстречу женщину: это была она… — Почему вы не приходили? — спросила она. — Я сегодня случайно узнала, что вы уже три дня как воротились, и весь день проплакала: думала, вы совсем меня забыли. А час назад такая тоска на меня напала, такая тревога… (Как раз в это время он ушел от ее двери, «мрачный и снедаемый страстью»). Ко мне пришли подруги, и мне казалось, что они сидят целую вечность. Наконец, они ушли, я невольно схватила шляпу и пелерину, меня влекло на воздух, в темноту… И все время я думала о вас, надеялась вас встретить». «Я не обманулся, — говорит Гёте, — веря в незримое воздействие таинственных сил». Об этих таинственных силах, в том числе и тех, которые будила в нем любовь, рассказывает и Марк Твен в своих статьях о телепатии, о них говорят и другие писатели — Шарлотта Бронте, Тургенев, Бунин, Куприн, Джек Лондон, Стефан Цвейг и т. д. По-моему, дважды в жизни человек бывает сензитивом. Сначала — когда он рождается, в первые месяцы и первые годы жизни: младенец прямо, телепатически ощущает чувства матери, он прямо заражается ее настроениями, настроениями других близких. До рождения он рос в поле материнской энергии, и оно управляло им: он смеялся, когда смеялась мать, плакал, когда она плакала — это установили физиологи. И рождаясь, младенец долго еще живет как бы спаянный с энергетическим полем матери, сверхчувствительный к ней. Потом эти врожденные способности пропадают, возможно, от неверного воспитания, но, может быть, и от других причин. Второй раз вспыхивают экстраспособности — и тоже ненадолго — в сильной любви. В большинстве случаев они быстро гаснут, но иногда сохраняются и могут жить долго. «Нам с мужем за пятьдесят, и мы часто говорим с ним о чем-нибудь вместе и одинаковыми словами. Говорим и смеемся такому совпадению. Бывает и по-другому: я скажу то, что он думает, а он угадает, о чем я думаю. Со мной это бывает часто, почти каждый день, и это замечают наши родные. Как-то младшая внучка, Ира, ей 12 лет, влетела в комнату, а муж в это время что-то рассказывал. Ее распирало от желания выложить свою новость, и она вмешалась: — Дедушка, дай сказать, бабушка и так угадает твои мысли. Началось это у пас недавно, года три назад, когда в газетах стали писать об экстрасенсах. До этого не бывало, или, может быть, мы не обращали на это внимания. А когда стали обращать, это стало развиваться» (Людмила Федоровна Голенкина, Малеевка, Рузский район, Московская область, январь, 1983). При счастливой жизни или при хороших отношениях муж и жена могут и угадывать мысли друг друга и даже видеть иногда одинаковые сны; родство их душ проявляется и поддерживается унисоном «полей», однаковыми всплесками ощущений, мыслей. Будущая психология чувств, наверно, по-настоящему займется всем этим, вникнет в причины, которые рождают и убивают «сверхчувственные» способности…Глазами старика, ребенка, взрослого.
Психоэнергетика вызвала к себе три подхода. Во-первых, отвергающий, как бы старческий (о нем уже говорилось): этого не может быть, потому что не может быть никогда. Во-вторых, взахлеб принимающий, детский: биополе — ключ ко всем дверям! панацея от всех бед! разгадка всех тайн! И, наконец, принимающе-отвергающий, взрослый: да, факты говорят, что психоэнергия существует; но в чем ее материальная природа, что она может и что не может — все это надо еще искать. Нужны разветвленные, системные исследования, а для них — рабочий союз многих наук: биологии, физиологии, психологии, биофизики, биохимии, физики, медицины, кибернетики, философии. Только такие исследования смогут отделить зерно от шелухи, правду — от мифов, «чудеса» — от шарлатанства и знахарства. Это, видимо, главный — научный — подход к психоэнергетике, и за ним лежит будущее. Но настоящее пока за первыми подходами — за модничающим всеприятием и ретроградным неприятием. Наука еще не начала по-настоящему исследовать этот колоссальный материк загадок, она ведет лишь робкую разведку на его берегах. А чем дольше она не будет давать нам правду о психоэнергетике, тем больше будет плодиться о ней сказок и легенд, тем легче будут впадать люди в ненаучные объяснения… До последнего времени в естественных науках — в их подходе к новым открытиям — часто действовала «бритва Оккама», «принцип бережливости», который еще в XIV веке ввел английский философ Оккам. «Сущности не должны быть умножаемы сверх необходимости», — гласил этот принцип. Для построения любой теории он исключительно важен, т. к. не допускает лишних звеньев, как бы исходит из правила «максимум смысла через минимум звеньев». Но в отношении к новому этот принцип часто принимал на деле другой вид: «Нельзя множить без надобности новые сущности». Это значило, что для новых открытий надо было сначала искать старые объяснения, ставить новые явления в ряд известных — и только если они туда не входили, у них появлялось право считаться новыми. Бритва Оккама — в том, что касается нового, — защищает науку от неосновательности и самообмана, она не дает принимать за новое новую разновидность известного, и в этом ее громадная роль. Но в своем практическом виде этот принцип, по-моему, психологически односторонен, он больше стоит на недоверии к новому, чем на доверии к нему. Он как бы настроен на то, что новое — это чаще всего переодетое старое, и первое, что от него требуется, — снять подозрение в переодетости, доказать, что оно не присвоило чужой костюм. Конечно, «проверяющее недоверие» абсолютно необходимо для науки, но, видимо, только на втором этапе постижения нового. На первом этапе куда нужнее, наверно, доверие к новому, причем усиленное доверие, жажда увидеть в нем желанную жар-птицу. Это и есть основа истинно творческого духа, и именно ей человечество обязано всеми своими открытиями. Пожалуй, особенно важен такой подход сейчас, во времена научных революций, когда наводнение открытий захлестывает многие науки. Еще никогда в истории густота открытий не была такой, как сегодня, и это в корне меняет сам философский подход к новому. Частую в науке «новобоязнь» («неофобия») начинает теснить «новоприязнь» («неофилию»). Возникла даже особая наука о новом — инноватика (ее, кстати, лучше бы назвать просто «новатика», без модного иностранничанья). Пожалуй, к новому особенно нужен сейчас двуединый подход. Во-первых, «гостеприимство» — доверие к нему, приятие; во-вторых, — но только во-вторых! — усиленная проверка нового на новизну, бритва Оккама. Отношением к новому, очевидно, должен бы править уравновешенный принцип: «Надо множить новые сущности, но нельзя делать это без надобности»… Из недр научно-технической революции рождаются сейчас — почти как новые матрешки — научно-биологическая и научно-психологическая революция (их считают, впрочем, и новыми ступенями НТР). Они, видимо, вызовут переворот во всех наших знаниях, в культуре, в устоях цивилизации. Научно-психологическая революция откроет неизвестные нам тайны психики, и сегодняшние проблески психоэнергетики — наверно, лишь первые ласточки этой революции, которые залетели к нам из будущего. К био- и психоэнергетике стоит относиться в ключе исторической ответственности: они могут круто поднять могущество человека, а этот подъем может стать и спасительным, и губительным. Ядерной энергией владеют государства, экстрасенсорной — причем тайно — могут владеть и социальные группы, и люди, и все будет зависеть от того, во зло или в добро они будут направлять эту энергию… Вражду к биоэнергетике можно, пожалуй, питать лишь с позиций вульгарного, «вещественного» материализма: для него «материя» — это только то, что состоит из вещества. А ведь материя — это и вещество, и энергия. Кстати, по расчетам физиков, прежде всего советских, масса Вселенной — то есть «материя» — больше, чем на девять десятых состоит из энергии и меньше, чем на одну десятую — из плотного вещества. А что, если и тайны мира раз в десять больше заложены в энергии, чем в веществе? Тогда энергетический подход принесет с собой неслыханный взрыв открытий, и каким он будет, предвидеть попросту невозможно… Психоэнергетика поможет, видимо, понять и кое-какие старые загадки любви, прежде всего ее телепатию, — странное состояние, когда кажется, что две нервные системы срослись, и ты своими нервами чувствуешь, что происходит в нервах любимого человека. Поля влюбленных как бы сливаются — об этом говорят те сензитивы, которые могут видеть поле человека: таких, правда, мало, и поэтому то, что они видят, пока, наверно, не стоит выводить из разряда гипотез. По их словам, у влюбленных поле гораздо больше, чем у обычного человека, и когда они стоят рядом, их поля соединяются в одно. (У людей несовместимых поля не соединяются.) Возможно, это слияние полей и есть то, что десятки веков называют слиянием душ. Возможно, именно через это касание полей чувства одного человека как бы перетекают в другого, и он может чувствовать чужие чувства, как Левин и Кити… Впрочем, что такое это слияние полей, мы не знаем. Одно неизвестное объясняется здесь через другое, и в нем к тому же не меньшее сгущение загадок. Правда, сгущение менее бестелесно, более доступно для понимания и поэтому стоит ближе к разгадке.Еще о вечном.
Эффект присутствия.
Возможно, подсвечивание любви психоэнергетикой поможет хоть чуточку приподнять завесу и над другими странными ощущениями любви. Одно из таких ощущений — как бы эффект присутствия; его открыл Бунин в «Митиной любви», шедевре любовной литературы, «Ромео и Джульетте» двадцатого века. Любовь резко переменила все отношение Мити к людям, к вещам, к миру, и в нем все больше утверждалось странное чувство. Ему казалось, что весь мир плывет, как в зыбком мареве, вещи теряют свой четкий очерк, и в каждой как будто появляется своя душа, живет еще что-то сверх нее самой. Это что-то, эта душа, которая в них живет и одухотворяет все в них, — его любовь к Кате. Она присутствует в каждом листе, в каждом крике птицы, в каждом комке земли. Тысячи нитей как бы свились между ним и миром, и все напоминает ему о Кате, на всем колеблется отблеск его любви к ней. Что такое этот эффект присутствия? Почему он есть во всякой сильной любви? Любовь внедряется во все самые потаенные уголки души, ее ощущения всегда есть в человеке, они пропитывают собой все его чувствования, все подсознание — это и создает эффект присутствия. И поэтому любовь — не просто особое чувство среди других чувств. Это еще и особая настроенность всех других чувств человека, особое состояние всего организма: как бы негаснущее вдохновение всех чувств, как бы скрытый экстаз всей души человека… Может быть, у любви как чувства есть особая энергия. Это не биологическая половая энергия, которая есть у каждого человека. Это, видимо, психобиологическая энергия — сплав чисто биологической, половой энергии и какой-то «икс»-энергии — чисто психологической, эмоциональной энергии любовного тяготения. Вспомним: в разделенной любви совершенно по-особому работает весь организм человека, вся его нервная и гормональная система, все чувства, инстинкты, воля. Возможно, эта согласная, «любовная» работа всех систем организма и порождается особой энергией любви. А может быть, и наоборот: именно сплав разных энергий — половой, нервной, духовной — и создает эту особую энергию любви. В биологии есть термин синергия (по-гречески «со-силы», «со-энергия»). Когда несколько мышц работают вместе, их соединенная мощь равна не сумме этих сил, а их произведению. Силы, которые действуют соединенно, не складываются, а помножаются друг на друга, и возникает со-энергия — энергия в квадрате, в кубе. Закон синергии — один из главных, пожалуй, мировых законов, может быть, даже центральный закон всякой жизни, — от жизни клетки до жизни мозга: наверно, никакая жизнь не была бы возможна без союза многих жизненных сил — биофизических, биохимических, био- и психоэнергетических… Возможно, этот коренной закон космоса служит и каким-то коренным, неясным для нас законом «надземно-земного» чувства — любви. Возможно, именно его сверхэнергия (синергия) и дает любящим их странные психоэнергетические способности, и они в каждом переливе жизни видят отсветы своей любви.Мировая величина.
И именно потому, что все в мире какими-то непонятными нитями связано с любимым человеком, значение этого человека невероятно вырастает. «Весь мир разделен для меня на две половины, — говорит Андрей Болконский, который любит Наташу, — одна — она, и там всё счастье, надежда, свет; другая половина — всё, где ее нет, там всё уныние и темнота». Любимый человек делается для того, кто любит, мировой величиной. В любящем рождаются странные внутренние весы, на которых одинаково весят один человек — и весь земной шар, одно существо — и все человечество. Он один равен миллиардам людей, один занимает в душе столько места, сколько остальные миллиарды. Откуда берутся такие загадочные ощущения, почему любимый затмевает для любящего всех людей? Пожалуй, ответить на это можно только приблизительно, сравнением. Когда человеку смертельно хочется есть, другие его ощущения тускнеют, чувство голода заслоняет собой весь мир — и пронизывает все другие чувства. Любовь — тоже голод почеловеку, чувство невероятной психологической необходимости в нем. Это, может быть, самый острый душевный голод, и чем он сильнее, тем больше места в душе занимает любимый человек. Это, конечно, оптический обман чувств, и тут лежит одно из самых коренных, самых обманных — и в то же время самых истинных — противоречий любви. Любимый человек и в самом деле равен для любящего всему человечеству: только он один на земле может насытить самый глубокий голод любящего. Он для него как бы абсолютная ценность — ни с чем не сравнимая, важнее всех важных, главнее всех главных. Но для других людей — «объективно» — он такой же, как все, ничем не лучше других. В этом странном чувстве есть что-то похожее на отношение младенца к матери. Мать для младенца — тоже мировая величина, уникальное существо во Вселенной. Она насыщает все его запросы, она для него податель жизни, полпред человечества, пестующая сила Вселенной. Все его радости, все избавления от горестей дарует ему она, поэтому мать для младенца и равна всему человечеству… Психологические линзы, которые в миллионы раз увеличивают размер любимого человека, вырастают еще в душе младенца. Фантастические, обманные пружины взрослой любви рождаются в людях как самое точное, самое зеркальное отражение материнской роли для малыша. Эти сказочные и подсознательные пружины входят во взрослую любовь как перенос беспомощного младенческого обожествления матери на любимого человека. В каждой нашей любви горит отблеск самой первой, самой сильной, самой коренной любви человека — любви к матери, которая делает его человеком… И раз это так, то детская любовь к родителям — не только детская любовь, но и еще что-то сверх нее — как бы репетиция, как бы подготовка взрослой любви. У психологии чувств есть, видимо, закон: всякое раннее чувство — это и породитель более позднего, создание струн для него. Поэтому детская любовь к родителям — это и выращивание будущей взрослой любви, закладка ее глубинных фундаментов. И можно, пожалуй, сказать: какой была у человека детская любовь к родителям, такой во многом будет и взрослая любовь. Во взрослой любви, как и в младенческой, любимый человек делается мировой величиной по той же причине: только он один во Вселенной создает уникальнейшую вещь, которую не способен создать никто, кроме него, — счастье. Он один способен дать любящему — пусть ненадолго — маленькую личную утопию, маленький рай на земле. Именно поэтому он занимает в его жизни непомерное место — как бог для верующих, как мать для младенца, как звезда для своей планеты. Гегель, видимо, недаром называл любовь религией сердца, а в древней Индии недаром считали, что любимый становится для любящего божеством. Под маской метафоры здесь таится глубокая психологическая истина — одна из главных загадок любви.Несчастная любовь.
Сильная любовь — как бы культ любимого человека. Все, что он делает, думает, говорит, резко вырастает под увеличительным стеклом любви. Но именно потому, что любовь может дать огромное счастье, неразделенная любовь дает огромное горе. «Можно ли преодолеть любовь? Как пережить ее и забыть? Как быть, когда любимый человек для тебя все, а он ушел, ушел к другой? И нет ничего: ни радости в доме, ни уюта, ни понимания друзей. Только тяжесть с утра до ночи, и надрывно болит сердце, а любовь даже и не слабеет. Меня ничто не интересует, я никого вокруг не замечаю, в душе какая-то вязкая тоска, и все засасывает, засасывает, не отпускает…» (Неля Д., Ставрополь, июнь, 1980). Как грустно сказал современный юморист, чем неразделеннее любовь, тем ее больше. Несчастная любовь — это больная любовь, и она действует на нас как настоящая болезнь. Горе, тоска, гнетущее настроение — это не бестелесный туман, застилающий душу. В минуты горя происходит настоящее, буквальное отравление организма, и душевная боль, которую испытывает человек, — это и настоящая физическая боль нервов. Многие, наверно, слышали выражение «адреналиновая тоска»: в моменты горя в кровь человека выбрасываются резко возросшие потоки адреналина, они, видимо, дают и усиливают гнетущую и совершенно физическую тяжесть, от которой «ломит душу», «рвет сердце». Каждая клетка организма утяжеляется, тело набухает гнетом тяготения; так бывает в болезни, когда резко ослаблена выработка здоровой жизненной энергии — энергии антитяготения, взлета, которая делает нас легкими, полувоздушными… Энергетика тоски — род больной энергетики, и когда она царит в человеке, нехватка светлой, легкой энергии усиливается избытком темной, тяжелой энергии. В XI веке знаменитый Авиценна — Абу Али Ибн Сина — исцелял юношей, которые таяли от несчастной любви, теряли сон и аппетит. От недугов любви он лечил их любовью — от подобного лечил подобным. Стала легендой история, когда ни один врач не мог вылечить уже почти бездыханного принца, потому что никто не нашел причину его болезни. Ибн Сина догадался, что болезнь вызвана его робкой и безгласной любовью, настоял, чтобы родители принца посватались к возлюбленной, — и вернул юношу к жизни. Он умел распознать, кого любит упорствующий в молчании юноша. В «Каноне врачебной науки» (1020 г.) Ибн Сина писал: «Любовь — заболевание вроде наваждения, похожее на меланхолию… Определение предмета любви есть одно из средств лечения. Это делается так: называют много имен, повторяемых неоднократно, а руку держат на пульсе. Если пульс очень изменяется и становится как бы прерывистым, то, повторяя и проверяя это несколько раз, ты узнаешь имя возлюбленной. Затем таким же образом называют улицы, дома, ремесла, роды работы, родословия и города, сочетая каждое название с именем возлюбленной и следя за пульсом; если он изменяется при повторном упоминании какой-либо из этих примет, ты собираешь из них сведения о возлюбленной, о ее уборах и занятиях, и узнаешь, кто она… Если ты не находишь другого лечения, кроме сближения между ними, дозволенного верой и законом, — осуществи его» (Цит. по книге: Гагарин Ю., Лебедев В. Психология и космос. 3-е изд. М., 1976.) В ФРГ произошел анекдотический случай, который обошел всю печать мира. Молодой служащий, получив «нет» в ответ на признание в любви, буквально заболел от душевных страданий. Заболел так, как болели от несчастной любви в «Тысячи и одной ночи», в арабских и персидских преданиях и поэмах, в индийской и европейской рыцарской литературе средних веков. Несколько дней он чах, таял, не мог есть, пить, ходить — и хозяин уволил его за прогул. Молодой человек подал в суд, суд назначил экспертизу, и экспертиза решила: любовное страдание — вид нервного шока, болезнь, которая требует лечения, как и все нервные расстройства. Суд постановил считать причину прогула уважительной, и молодой человек был восстановлен на работе. Умирающая любовь может агонизировать долго, и если ее не лечить — радостями, отвлечениями, новыми увлечениями, — она может сделаться хронической и мучить человека долгие годы. В нас как бы умирает раздробленный кусок души, и как тело, у которого отрезало руку, так и душа, у которой отрезало любовь, жестоко страдает от увечья. Что происходит в это время в нашей психике, как именно рушится, распадаясь на осколки, главный из воздушных замков нашей души? Мы видим только отдаленное эхо глубинных и очень многоэтажных сдвигов, которые совершаются в наших недрах, а их больную суть, их вывихнутое живое строение мы не знаем. Наверно, придет время, когда психологи будут относиться к несчастной любви как к «любовному неврозу»; они станут изучать запутанную мозаику гибнущих ощущений, больные слияния нервных токов — то, что составляет агонию любви. Тогда-то (патология открывает скрытое в норме) могут раскрыться и кое-какие загадки самой любви — чувства, сотканного из загадок. «Я полюбила женатого человека, полюбила по-настоящему и впервые. Мне 21 год, ему 32. Для него это просто мимолетное увлечение, и вообще он дон-жуан по своей натуре. Любовь к нему делает меня глубоко несчастной. Через полгода он уедет навсегда, и тогда у меня не будет никакого выбора. А что делать сейчас? Мы живем в общежитии в соседних комнатах, и я каждый день его вижу. Может быть, призвать на помощь всю свою волю?» Видно, что писала это зрячая, рассудительная девушка, хотя рядом со зрячестью в ней живет слепота. Она видит его изъяны, понимает безнадежность своего чувства, но все-таки надеется на чудо, и в этом двоении, в этой власти иллюзий — одна из сутей любви. В ней воюют враждебные лагеря — разум, который видит изъяны любимого, и сердце, которое не хочет ничего видеть и рвется к нему… Совсем как у Шекспира: Мои глаза в тебя не влюблены, Они твои пороки видят ясно. А сердце ни одной твоей вины Не видит и с глазами не согласно. Двойное чувство девушки — это скорее всего не любовь, а влюбленность, причем больная, разорванная, из тяготений и отталкиваний. В юности это, к сожалению, встречается очень часто, и такое чувство-ловушка, чувство-капкан портит жизнь многим людям. Как лучше вести себя в таких случаях? По-моему, лучше всего поскорее выбираться из капкана, потому что чем дольше ты из него не выберешься, тем больнее и тяжелее будет сделать это. Двоение чувства и разума часто ведет к несчастьям, а несчастная любовь может рождать черные, иногда непоправимые драмы.Смерть от любви.
«Ему было всего 18 лет. Он очень любил ее, все время ждал звонка и смотрел на нее с восхищением. Сначала дела у них шли хорошо, но прошлым летом она с ним порвала. Он мучился и страдал целый месяц, а потом отравился газом. Оставил записку: «Простите, мама и папа, что причиняю вам боль, но мою боль вынести нельзя. Я пробовал терпеть, но это выше моих сил. Я не могу жить без нее, не могу выносить это невыносимое мучение». В этот последний месяц он несколько раз перечитал Куприна «Гранатовый браслет» и Гёте «Страдания молодого Вертера». Глупый мальчик, зачем он так сделал? Ведь, потерпи он еще немного, и горе начало бы уменьшаться. И мы тоже чувствуем себя виноватыми, что не предвидели его поступок, не предусмотрели, до какого шага может довести сына отчаяние. Но не только мы виноваты. У нас вообще не учат детей и молодежь, как переносить личное горе, как стойко выдерживать несчастье. А как же можно не учить? Ведь от этого зависит жизнь или смерть… Мать. Отец. (Ленинград, май, 1980)». У погибшего мальчика, судя по письму, была психология интроверта (от латинского «интра» — внутрь — замкнутый на себе, обращенный внутрь себя): его душевная энергия больше шла в переживания, чем в действия (помните — «он все время ждал ее звонка»). На таких людей, когда они раздавлены горем, может остро повлиять отчаянный чужой пример, и родители не зря написали, что он несколько раз перечитал перед смертью «Гранатовый браслет» и «Страдания молодого Вертера». Через полвека после появления своего «Вертера» Гёте как-то сказал: «Я всего один раз прочитал эту книжку, после того как она вышла в свет, и поостерегся сделать это вторично. Она начинена взрывчаткой! Мне от нее становится жутко, и я боюсь снова впасть в то патологическое состояние, из которого она возникла»[13]. Вспомним и Куприна: его Желтков любит робко, безгласно, из тихого далека; это как бы возрождение рыцарской любви средних веков — смиренного восхищения, коленопреклоненного чувства, которое похоже на падение верующего ниц перед мадонной. Его любовь — большое чувство маленького человека, она вся состоит из обожания — снизу вверх — и самоотречения. У него нет никакой надежды на ответное чувство — так он несоизмерим с той, кого любит, так расколоты они всем укладом их жизни — маленький чиновник и аристократка. Безнадежная любовь вобрала в себя всю его жизнь, захватила все пространство его души, вытеснив оттуда все остальное. В ней сгустился весь смысл его жизни, а вся жизнь вне ее потеряла свой смысл. Это любовь-болезнь, чувство, которое можно назвать «мономания» — единственная и всепоглощающая страсть (от греч. «моно» — единственный и «мания» — болезненная страсть). И в предсмертном письме к ней он вспоминает, как обрушилось на него наводнение любви: «В первую секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека, прекраснее вас и нежнее. В вас как будто воплотилась вся красота земли…» Она для него мировая величина, никто под небесами не может сравниться с ней: она так же возвышается над всеми женщинами, как богиня возвышается над всеми людьми. Такое представление о любимом как об уникальном, наивысшем в мире существе и питает любовь-иллюзию, любовь-экстаз, предельно романтическую и мономаническую. Вся его жизнь — только в надежде видеть Ее, и когда у него отнимают эту надежду, его лишают единственного фундамента жизни. И смерть для него — спасение от жизни, которая хуже смерти, от пытки мучительного существования. У несчастной любви есть, видимо, психологический закон: сила ее горя равна глубине чувства, сила крушения равна высоте взлета. Но смерть любви — болезнь, которая проходит. Смерть от любви — лекарство, которое неизмеримо хуже болезни; надо ли рубить голову, чтобы снять с шеи ярмо? Есть масса тяжелых ошибок, которые можно исправить. И есть одна, которую исправить невозможно: смертная казнь над самим собой. Жертвы любви часто не знают одной легкой для понимания, но очень трудной для исполнения вещи. Взрыв боли можно усмирить таким же взрывом воли — или упрямым, марафонским терпением. Только первые муки гибнущей любви невыносимы: если перетерпеть, перестрадать их, они пройдут обязательно, с астрономической неизбежностью. Смерть любви — это смерть части души; но эта часть души возрождается, снова вырастает. У юных — знать это исключительно важно — такое заживление души идет куда скорее, чем у взрослых. Раны их зарастают быстрее и бесследнее — тут лежит для них еще одна надежда и еще одно смягчение беды. Но, пожалуй, самое главное, чего не знают юные смертники любви, состоит вот в чем. Будущее счастье для них более вероятно, чем для тех, у кого не было краха любви. И причина здесь именно в том, что у них есть опыт несчастья — великий душевный опыт, который дает душе безотчетное знание подводных камней любви, подсознательное умение обходить их. Это один из лучших учителей души, и поэтому на тех, кто прошел сквозь любовную катастрофу, как бы действует закон возмещения: шансы на будущее счастье у них возрастают.Чем одаряет нас несчастная любовь?
«Неверно, что у переживших крах возможность счастья увеличивается. Не надо золотить пилюлю: я думаю, они в таком же состоянии неопределенности, как и все, и у них все может быть — и счастье, и новое несчастье» (Новосибирский академгородок, ДК «Академия», июнь, 1980). Что ж, спор идет вокруг очень загадочной и очень двоякой вещи. Как именно влияет на душу несчастье, какие сплетения невидимых нитей приводит в ход — во всем этом куда меньше ясного и куда больше неясного. Верно, что у тех, кто пережил любовный крах, может быть и новый крах. Несчастье в любви — не гарантия от нового несчастья, и бывает даже, такие несчастья идут чередой… Так случается с человеком, который не умеет учиться счастью у несчастья. Но во многих из нас эти несчастья как бы включают подспудные двигатели психологического самосохранения. Как организм вырабатывает антитела против враждебных микробов, так и душа вырабатывает свои защитные «антитела». Обжегшись на одном типе людей — которые ей не по плечу — или на одном типе поведения — которое не ведет к цели, — душа начинает неосознанно опасаться этого типа людей или этого типа поведения. В подсознании бурно расшатываются любовные компасы, идеалы, ориентиры, сотрясаются и трещат невидимые устои поведения — идет безотчетный пересмотр всего, что привело к краху. Выходу из этой невидимой ломки очень мешает вспышка неполноценности, которая всегда разражается после любовного краха: она как бы впрыскивает в душу яды безысходности, парализует ее. «Я пережила несчастную любовь, и у меня в душе осталась пустота. Если я и увлекаюсь кем-то, то ненадолго. Мне кажется, что я уже просто не способна полюбить еще. А вы говорите, что у несчастных в любви больше шансов на счастье! Г., 19 лет» (Москва, ноябрь, 1984). Такие настроения как раз и рождает нам чувство неполноценности. От чего зависит здесь будущее счастье или несчастье? От того, кто победит в идущей внутри нас неосознаваемой схватке — энергия силы или бессилия. От того, сумеет ли наше сознание помочь этим полуслепым беззвучным землетрясениям, этому перекраиванию душевной подпочвы. Когда сознание умно помогает подсознанию, душа начинает яснее видеть, кто ей под стать и какое поведение лучше ведет к цели. Она как бы прицельнее ощущает, в кого можно влюбляться и какое поведение дает больше шансов на ответное чувство. Первые влюбления, как правило, идут вслепую, и чаще всего бывают безответными. Большинство из нас проходит в юности школу несчастной любви, и это, пожалуй, благодатная школа. Известные воспитатели Никитины учат детей падать раньше, чем ходить; так же, наверно, и в любви — чем раньше мы научимся падать, тем лучше будем и ходить. Может быть, это и злой парадокс, но для юных несчастная любовь — благо. Пожалуй, в юности стоило бы даже радоваться несчастной любви, потому что она — как корь или свинка: чем раньше ее перенесешь, тем глубже иммунитет, невосприимчивость; чем позже — тем она больнее и тем тяжелее осложнения от нее. Горе может стать путем к радости, несчастная любовь — трамплином к счастливой любви. Все зависит здесь от того, сумеем ли мы учиться у горя — учиться понимать себя и других, учиться победительному поведению, которое завоевывает ответное чувство…Культура горя.
У нас нет культуры одоления горя, перетерпливания несчастья, нет культуры выхода из трагических положений. Докультура здесь — как удвоитель горя, она резко усиливает и продляет его. Умение удерживать боль, способность переключать себя, перекрывать потоки горя потоками других чувств — это психологические ослабители боли, они помогают человеку выходить из кризиса быстрее и умудреннее. Древние греки умирали с улыбкой, улыбка поддерживала им дух, помогала и в момент смерти оставаться человеком — и этим облегчать себе смерть. Спартанцы недаром учили детей презирать боль — «я выше тебя, боль, мой дух сильнее». И сейчас еще улыбка, как защита от горя и способ уменьшить его, живет в Японии. Японцы мужественно улыбаются в горе, скрывают свое горе за улыбкой — и от этого в душе у них растут струнки стойкости, которые закаляют их, помогают легче переносить горе. И на Руси душевная стойкость всегда была основой народной культуры, но в наш век ее убивает изнеживающее кисейное воспитание. Видимо, главное в культуре горя — действовать, не быть щепкой в засасывающем омуте тоски: усиливать свои слабые места, лечить себя самопознанием, радостями, новыми впечатлениями или — клин клином — новыми увлечениями… Действия требует от нас само устройство человеческих чувств, сама односторонность их мозговых механизмов. У несчастного человека царит в мозгу доминанта тоски, двойная черная оптика. В каждом сигнале жизни, в каждом впечатлении, даже самом ярком, эта оптика резко преувеличивает темные стороны и резко уменьшает светлые. Черный дальтонизм чувств отравляет человека, вызывает у него упадок всех сил — депрессию. Но в мозгу есть и механизм защиты от взбесившейся доминанты, его нашли недавно нейрофизиологи из Ленинградского института экспериментальной медицины. Это как бы гаситель, переключатель эмоций, он противится диктатуре любой эмоции, разгулу любой доминанты: он создает вокруг нее зоны торможения и этим самым мешает ей втягивать в себя чужие ощущения, покорять соседние зоны мозга. Потому-то (парадокс эмоций) после бурного веселья наступает непонятная грусть, а смерть близкого может вызвать всплески нервного смеха — неловкого, стыдного, неожиданного. Такие парадоксы как раз и рождает переключатель эмоций — защита мозга от губительной односторонности. Но тяжелая тоска может и подавить этот переключатель, вывести его из строя, и чтобы помочь ему, нужны упорные усилия — часто через силу, на одной воле… Нейрофизиологи из Института высшей нервной деятельности и 1-го Московского мединститута установили: пассивное поведение продляет жизнь тягостных чувств; активное, деятельное запускает переключатель этих чувств. Исключительно важен здесь наш подход к своему горю, умение видеть его истинный размер. Когда-то прославилось отношение к горю римского полководца Павла-Эмилия. Он одержал победу над врагом, но у него погибли оба сына. Римляне верили тогда в закон расплаты, по которому каждое добро уравновешивается злом и за каждую победу приходится платить бедой. И Павел-Эмилий сказал народу на форуме: — Моя душа, полная мучительной тревоги и опасений за будущее Рима, была избавлена от страха в ту минуту, когда мой собственный дом погиб в ужасном крушении… Теперь я больше не боюсь великих опасностей и твердо верю, что ваше благополучие укреплено на долгое время». Вот парадокс сильной души, которая поняла свое горе как избавление от горя других людей. Человек меняет этим весь угол своего взгляда на горе. Он видит в нем не только зло для себя, но и благо для других — жертву, принесенную для общего спасения. Он выходит за пределы своего «я», смотрит на свое горе с вершины общих судеб — и оно облегчается чужим благополучием, которое завоевано ценой своего горя. Но какой урок может извлечь отсюда обычный человек, который к тому же не верит в закон расплаты? Пожалуй, прежде всего психологический: основа основ культуры горя — выходить из него лучше всего деятельно и не в одиночестве. Человек очень помогает своему горю, когда он сам помогает другим. Эта помощь другим дает ему потоки приятных чувств, положительных эмоций, и они лечат его душу, поднимают самоощущение, ослабляют вспышку неполноценности. Пожалуй, полезнее всего в горе — это помогать чужому горю: лечение чужого горя может быть лучшим лекарством для своего. Свое горе перестает быть главным центром сосредоточения, уравнивается в чем-то с чужим, и это уменьшает тягостные чувства. А помощь чужому горю рождает в подсознании целительные чувства, улучшает соотношение светлых и темных эмоций. Работает как бы психологический закон бумеранга, рикошет добра: чем больше ты даешь другому, тем больше это дает тебе самому — внутренне, душевно. Радость давать что-то другим — пожалуй, одна из самых глубоких радостей жизни, и когда человек создает радости для других, он почти автоматически получает от этого радостные ощущения для себя. Такое психологическое эхо — очень сильный рычаг, который позволяет управлять своим настроением через свое поведение. Помогают перебороть тоску и сильные физические нагрузки — от трудной работы, от спорта; и чем они изнурительнее, тем больше они отключают наш внутренний мир от горя, тем лучше помогают защитным переключателям чувств, механизмам эмоционального равновесия. Хорошо действует музыка — и классическая, которая облагораживает страдание, как бы придает ему эстетический смысл, и жизнерадостная, быстрая, вздымающая. Еще лучше, пожалуй, помогает танец, пляска, сильно может подействовать и лечение юмором, смехом. Целить себя потоками физических напряжений и душевных радостей — это, видимо, два обычных лекарства от горя. Впрочем, их опасно передозировать, потому что ретивое лечение может обеднить душу, помешает ей углублять себя. Есть немецкая пословица: из всякого свинства можно извлечь кусочек ветчины. В одежде из юмора здесь предстает перед нами один из главных способов уменьшать личные горести и умножать радости. Тут, пожалуй, и лежит центральный девиз культуры горя: делать несчастье ступенькой к счастью, превращать поражение в ступень к победе… Этот «парадокс горя» — один из высших устоев жизненной мудрости, и, наверно, один из глубочайших парадоксов всей человеческой культуры вообще. Он возник тысячелетия назад, в древних философиях Шумера, Китая, Индии, Греции, Рима. Мудрецы древности понимали, что любое горестное событие может углублять душу, расширять сознание, укреплять стойкость. И они учили людей находить в каждом несчастье — то есть в себе самих — орудия смягчения этого несчастья. Они видели, что горе отнимает, и хотели, чтобы оно давало. Они учили героическому стоицизму, который как бы обращает горе в свою противоположность. Это и значит, собственно, быть человеком, потому что способность ослаблять вред несчастья и усиливать его пользу — одна из главных человеческих способностей. Культура одоления горя должна бы прежде всего расти в семье, в ее ежедневных испытаниях, будничной боли, ушибах — телесных и душевных. К сожалению, сегодняшняя семья делает это из рук вон плохо. Царящий у нас лозунг счастливого детства, превращает детей в белоручек, изнеживает их, делает беззащитными перед горем и тяготами. И школа стоит здесь в стороне, и современное искусство плохо помогает здесь людям: ни в нашем, ни в мировом искусстве почти нет героев горя, стоиков несчастной любви, победителей своих поражений. Школа, семья, искусство ведут себя здесь отстранение от важнейших человеческих нужд, и такая отстраненность — знак их стратегической слабости в воспитании человеческих чувств, еще один режущий разлад нашей цивилизации с человеческой психологией.Неповторимое и повторимое в любви.
«Вы никогда не сможете дать совет, как любить. Каждый любит по-своему, и нельзя навязывать всем одну точку зрения, стричь всех под одну гребенку» (Калуга, Дворец культуры «Строитель», февраль, 1977). «У Михаила Анчарова («Прыгай, старик, прыгай») сказано: «Ученых все больше — любви все меньше. Любовь от изучения гибнет, это ее свойство. Потому что изучать можно повторяемое. А еще Шекспир сказал, что всякая любовь — исключение. В этом и есть ее правило». Что-то вы на это скажете?» (Обнинск, Центральная библиотека, март, 1982). «Все закономерности, которые можно выяснить, статистические, то есть не для одного человека, а для массы. Как же быть с человеком в единственном числе, ведь он может сильно отличаться от среднего человека?» (Протвино, Московская область, Клуб интересных встреч, 1976). Пожалуй, многое здесь сказано верно. Нельзя, конечно, дать совет, как любить, то есть как чувствовать. Любовь самовластна и ускользающе летуча, она не подчиняется никаким прямым влияниям на себя. Но есть любовь-чувство и любовь-отношение, и на любовь-чувство можно подействовать окольно — через любовь-отношение. Хорошее отношение к близкому человеку, чуткая внимательность к нему может и повлиять на его любовь: или усилить ее, или притормозить ее угасание. Стрижка под одну гребенку, конечно, враждебна любви; чувство это переполнено личным своеобразием, в нем масса непохожего у разных людей. Впрочем, согласны с этим далеко не все, и даже крупные мыслители бывали против такого подхода. Шопенгауэр, великий философ пессимизма, еще полтора века назад отвергал индивидуальность любви. Любовь для него была как бы маской на инстинкте продления рода; этот инстинкт, говорил он, гений рода, его дух-хранитель, он царит над людьми и порабощает их. И все, что кажется людям особым, личным в их чувстве — это обман природы, а на самом деле они — рабы инстинкта и живут в путах самообмана. В чувствах мужчины и женщины нет ничего личного, высшего, говорил Шопенгауэр, и в лад со своими взглядами он прожил жизнь холостяком. Сейчас разница между любовью и инстинктом рода гораздо понятнее, и многие из нас считают азбукой индивидуальность, личную непохожесть любви. Но в глубинах этой непохожести — прошу прощения за пропись — лежат похожие влечения, те общие знаменатели, которые и делают любовью такие разные у разных людей чувства. Что касается «закономерностей», которые движут любовью, то одни из них, наверно, правят большинством людей, другие — совсем немногими, причем на одних больше действуют одни закономерности, на других — другие… Среднего человека нет вообще, это надуманная условность, ложная схема. Есть типы людей, много человеческих типов, и люди, которые входят в один тип, при всем своем личном своеобразии имеют между собой важное сходство, относятся к одной группе — или психологической, или биологической, или социальной, или возрастной и т. п. У людей, которые относятся к одному такому типу, есть много похожего и в самом чувстве любви. У холериков, например, любовь-гейзер, бурная и «пульсирующая»: она живет вспышками, как исландские гейзеры, которые бьют прерывистой струей. У флегматиков — как бы любовь-озеро, ровная и спокойная, с умеренной теплотой чувств, со спрятанными, но сильными течениями. У интровертов, людей, обращенных в себя, любовь психологически усложненная, полная запутанных переливов; у экстравертов, обращенных вовне, чувства гораздо проще, любовь больше уходит в действия, чем в переживания… Есть разные виды любви, и в любви разных людей, которые относятся к одному психологическому типу, есть, видимо, и разные, и похожие вещи. По-моему, это очень поверхностно — говорить, что в любви нет повторяемого. Конечно, каждая любовь неповторима, но в ней всегда много повторимого. Больше того, всякая любовь — это неповторимое сочетание повторимых ощущений; повторимых — потому что все они принадлежат к любви, и почти каждое из них — но по-своему — могут испытывать и другие любящие[14]. Что касается того, что любовь гибнет от изучения, то это, увы, тоже сказано поверхностно. Любовь, к сожалению, почти не изучают: на всю планету сейчас найдется, пожалуй, всего лишь десяток людей, которых можно бы назвать «амурологами», «любоведами» — людьми, которые изучают любовь. Остальные изучают не любовь, а секс, семейные связи, супружеские отношения (об этом говорилось в главке «Что такое «амурология»). А раз так, не слишком ли велико могущество у этого десятка человек? Не становятся ли они — в наших глазах — волшебниками, каждый из которых убивают любовь чуть ли не у полумиллиарда людей? По-моему, не знание убивает любовь, а наоборот, незнание, невежество. Добрые знания помогают любви жить, продляют ее век. И любовь гибнет сегодня не от изучения, а (среди прочих причин) от неизучения, — от того, что мы плохо изучаем, от чего гибнет любовь и как продлить ее жизнь… Впрочем, изучать любовь можно по-разному — и созвучными любви методами, и враждебными. Понятийная логика, увы, превращает любовь в мертвый лабораторный препарат. С любовью происходит то же самое, что с литературой в школьных учебниках: ее постигают чуждыми ей методами, дробя ее живой организм на части и извлекая из него «содержание», лишенное «формы», то есть жизни. И синюю птицу любви — повторю это — можно только удушить в сетях понятийной логики. По-настоящему понять ее можно только целостным, не дробящим подходом к ней, только особым сплавом методов науки и искусства, многослойным и живым союзом самых разных методов. Увидеть истинный лик любви можно, пожалуй, только в особое, очень сложное зеркало, — зеркало, которое как бы состоит из множества маленьких зеркал и своей подвижной многогранностью способно уловить сложнейшую и подвижнейшую многогранность любви.Царство случайных необходимостей.
«Можно любить человека, которого не уважаешь? А если и презираешь человека, и тебя к нему тянет, то как называть это чувство?» (Новосибирск, Институт кооперативной торговли, декабрь, 1976). «А как же любят плохих: воров, убийц и т. д.? И долго, и прочно? Можно ли любить и за недостатки?» (Москва, Политехнический музей, июнь, 1979). Все мы, наверно, понимаем, что есть «нормальная» любовь (которая, впрочем, вся построена на «ненормальности», на том, что один человек дороже нашим чувствам, чем весь мир), а есть и «ненормальная», изломанная любовь, которая резко враждует с запретами разума. Впрочем, может быть, это тоже «норма», и, возможно, не менее частая — чувство-разлад, смесь влечения с отталкиванием, кентавр из противоположных чувств. Но откуда берется неповторимость любви, что служит ей основой? У Платона есть миф об этом. В незапамятные времена люди были совсем не такие, как сейчас. Их звали андрогины («женомужи»): женщина и мужчина были тогда слиты в одном существе, двуполом и двутелом. Андрогины были невероятно сильны, и Зевс, боясь, как бы они не посягнули на богов, повелел рассечь их надвое. «Когда тела были таким образом рассечены пополам, каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине, они обнимались, сплетались и, страстно желая срастись… ничего не хотели делать порознь». «Вот с каких давних пор свойственно людям любовное влечение друг к другу, которое, соединяя прежние половины, пытается сделать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу»[15]. Из этого знаменитого мифа пошло и выражение «моя половина», и мнение, что для каждого человека есть в мире только один избранник, который предназначен ему. Такое понимание любовного выбора царило в европейской морали почти до начала нашего века, а в обиходе оно живет и сейчас. (В странах полигамии — многоженства — взгляды на любовь другие: там есть и платоновский подход, есть и мнение, что у каждого человека может быть несколько «половин»). В XIX веке влюбление стали объяснять по-другому: влюбляются в человека, в котором больше других воплощен твой идеал (впервые эта мысль появилась еще в средние века). Пожалуй, это верно, если имеют в виду безотчетный идеал — больше для чувств, подсознания, чем для сознания. Такой подход позволяет понять многое в любовном влечении, но далеко не все. Он не объясняет, например, почему любят недобрых, лживых, глупых, вообще далеких от идеала… Тот же Платон говорил, что любовь — это тяга не ко всему человеку, а только к тому хорошему, что в нем есть. Мысль эта была частицей его глубокой и сложной теории любви, и в ней не было того привкуса упрощенности, который возникает, если ее вынуть из разветвленной цепи мыслей. Прямолинейные моралисты и в наш век уверены, что любовь — это влечение только к достоинствам человека. Но человек не разграфлен на черные и белые клеточки, и невозможно разделить его на части, от сих до сих достойные любви, а от сих до сих — недостойные. Все личные свойства людей двояки, в каждом есть свой свет и своя тень. Конечно, влюбляются в то, что поражает человеческое подсознание, влечет его, кажется ему достоинством. Но часто это именно кажется, а на деле достоинство может оборачиваться недостатком — сила оказывается грубой силой, острота ума — нетерпимостью к инакомыслию… Можно, пожалуй, сказать, что человек как бы тройствен: в нем есть то, чем мы восхищаемся, то, к чему безразличны, и то, что мы не можем терпеть. Говоря условно, в нем есть достоинства, несовершенства, изъяны. Поэтому, наверно, в любовь всегда входит не только влечение к светлым чертам человека, но и смирение с тусклыми и темными, — или их незамечание, или их безотчетное преуменьшение, приукрашивание… В одном из мифов о Купидоне недаром говорилось, что он стрелял, не целясь, с завязанными глазами. Повязка мешала ему увидеть, в кого попадет стрела, и любовь, которую он внушал, была слепой. Пожалуй, идея этого мифа — о том, что влюбляются в случайного человека — хоть и не очень истинна, но все-таки ближе к истине, чем платонистский взгляд о единственном в мире суженом. Единственность суженого, наверно, не так сужена; но и случайность в его выборе не так уж и широка. Она вырастает из закономерности, а эта закономерность состоит в том, что для каждого человека есть свой тип нравящихся. Не один человек на свете, а много — сотни, тысячи, а может быть, десятки тысяч… Одни свойства этого типа-идеала для души человека, его подсознания, могут быть ясны больше, другие меньше, и от этого сам идеал как бы оплывает, делается размытым, полуясным. Такая размытость и рождает, видимо, очень частую любовь-ошибку, тягу к человеку, который показался тебе близким к идеалу. Потом выяснилось, что с идеалом совпадает только часть его черточек, а остальные не совпадают, смутно противоречат, отталкивают. Но выбор подсознания уже сделан, чувство возникло, душа попала к нему в плен… Нашими безотчетными влечениями движет принцип — какая ветка, такое и дерево, какая часть, такое и целое. Часто нас поражает в человеке что-то одно — его лицо, или фигура, или улыбка, взгляд, юмор… Это лишь «часть» человека, а все другое в нем может быть и лучше, и гораздо хуже. Но нашим подспудным чувствам все в человеке кажется таким же, как эта его черта, которая поразила нас. Это детское простодушие служит, видимо, главной пружиной всех наших чувств-влечений. Наверно, чем неосознаннее внутренний идеал, чем меньше он наведен на резкость, тем шире и случайнее выбор — и тем больше шансы на ошибку. Это, пожалуй, почти всеобщий закон в юности, когда бессознательные эмоции резко перевешивают осознанные. Как у акселератов рост тела обгоняет рост внутренних органов, так и рост чувств у юных далеко обгоняет рост интуиции и разума. Этот разлад и рождает массовые и, видимо, неизбежные для всех нас чувства-ошибки, массовую и неизбежную несчастную любовь… Есть и такие люди, у которых почти совсем не развит неосознанный идеал. Душа у них слабо настроена не только на индивидуальность нравящегося, но и на сам его тип. Они могут менять свой тип нравящихся, переходить от одного к другому, у них шире веер выбора, больше уживчивость — но может быть и больше неуверенности, больше метаний. Чаще всего это бывает опять-таки у юных людей с неустоявшейся психологией, или у людей, слабо развитых психологически. Как же проявляется на деле психологическая закономерность влюбления? Пожалуй, влюбляются чаще всего в человека, которого твои чувства сочли близким твоему типу-идеалу — пусть даже смутному, блеклому, туманному. А случайность, которая правит внутри этой закономерности, состоит в том, что часто влюбляются в первого же встречного из этой группы людей. И пусть он будет лишь чем-то походить на полуясный идеал, пусть он отвечает ему лишь крупицами, но влюбление уже состоялось и душа уже попала в капканы чувства: это и есть парадокс влюбления, его «случайная необходимость». Завтра могут встретиться сразу десять людей, которые куда больше подходят подспудному идеалу человека, — но он попросту не заметит их. Его подсознание уже выключило поисковые радары, душа перешла из состояния ищущей в состояние нашедшей, и у нее как бы пропало боковое, веерное зрение, осталось только лобовое, прожекторное. Закономерная случайность уже произошла, и она теперь правит всей жизнью. Лотерейность выбора можно, пожалуй, исправить только одним: превратить случайность в необходимость, создать из малого сходства большое — или крах неминуем. Еще вчера любимый человек был одним из многих, в кого ты мог влюбиться. Сегодня он — единственный в мире, кто может насытить твою любовь, любовь, которая стала вдруг для тебя «потребностью потребностей» — самой властной и самой острой из твоих нужд. Все другие потребности падают перед ней на колени, оттираются на задворки. И так как насытить ее может только один человек, то и индивидуальность любви суживается до своего крайнего предела — исключительности.Душа любви: к другому, как к себе.
Минимум любви.
А теперь — самое сложное и неясное: в чем суть любви? каждый ли способен любить? и чем любовь отличается от своих родственников? «У меня какие-то странные отношения с парнем. Я его люблю и знаю, что он меня тоже любит, мы не можем друг без друга, но это любовь по очереди. Она бурно проявляется в тот момент, когда все может разрушиться. Сейчас я очень привязалась к нему, проявляю свою любовь, а он стал какой-то равнодушный. Но стоит мне предложить расстаться, как мы поменяемся местами. Мы просто изводим друг друга. Получается, как в сказке про журавля и цаплю. Как же быть? Выходит, не надо проявлять свою любовь?» (Куйбышев, политехнический институт, апрель, 1980). «Раскольников и Соня полюбили друг друга, познав страдания. Может быть, многим нашим современникам не хватает самопожертвования? Ведь единственные дети часто бывают подсознательно эгоистичны». (Дом культуры МГУ, февраль, 1982). «У нас был спор. Одни утверждали, что эгоист неспособен любить, другие говорили, что способен, просто его любовь будет эгоистической. Кто прав?» (г. Жуковский, авиационный техникум, декабрь, 1979). Чтобы понять все это, надо, наверно, понять, что такое минимум любви, с какого порога она начинается. В чем простейшее проявление любви? Когда мужчину и женщину влечет друг к другу? Но это может быть и телесное тяготение, и уважение, признательность, благодарность… Может быть, минимум любви в сплаве телесных и духовных влечений? Но любовь юношей — и еще чаще девушек — бывает и платонической, а в любви пожилых людей телесные ноты приглушены, а то и совсем беззвучны. Может быть, минимум любви — это желание делать другому приятное, заботиться о нем? Но оно есть и в дружеском чувстве, и в родственной любви, особенно старшего к младшему — отца и матери, дедушки и бабушки, тети и дяди… Вокруг любви скопилась тьма предрассудков и полуистин, и часто, к сожалению, они кажутся нам букварными истинами. Вот, например, мнения-соперники, в которые верят очень многие: любовь эгоистична — пожалуй, чаще так думают мужчины; любовь альтруистична — пожалуй, чаще так думают женщины. Большинство из тех, кто писал о любви — с древности и до наших дней, — были глубоко убеждены, что любовь пропитана альтруистическими чувствами. Но, по-моему, любовь так же далека от альтруизма, как она далека от эгоизма. «Как это так? Если любовь — не верх альтруизма, то какое же из чувств его в этом превосходит?» (Куйбышев, Дворец спорта, апрель, 1980). «Вы пишете, что любовь — враг эгоизма и альтруизма, что она стремится к равновесию двух сердец и не терпит ничьего перевеса. А как это может быть в самой жизни, в реальных отношениях его и ее? Ведь в каждом человеке есть перевес или эгоизма или альтруизма, и значит, такой же перевес есть в их чувствах и отношениях» (Павел С-й, Пятигорск, август, 1979). Хорошо, когда спор идет вокруг сложных изапутанных вещей — особенно если эта сложность появляется вдруг на месте привычных аксиом. Есть разные виды спорности: одна идет от бедности самой мысли, другая — от бедности в ее восприятии. Иногда спорность мысли говорит, что эта мысль устарела, иногда — что она нова, непривычна. Все это, видимо, и помогает прояснить споры, и поэтому чем больше их и чем они глубже, тем лучше для истины, а чем их меньше и чем они мельче — тем легче полуистине выдать себя за истину. Многие, кстати, думают, что альтруизм, самоотречение — наилучшая противоположность эгоизма. Но и альтруизм (от лат. «альтер» — другой) и эгоизм (от лат. «эго» — я) оба стоят на сваях неравенства; только эгоизм — это вознесение себя над другими и умаление других, а альтруизм — вознесение других над собой и умаление себя. Конечно, забота о других в ущерб себе может быть высшим видом человечности — особенно в опасности, или в уходе сильного за слабым, или когда человек отдает от своего избытка чужой нехватке (а тем более — когда отдает от своей нехватки)… Самоотказ благодатен, когда он уравнивает неравное, создает равновесие в колеблющихся отношениях с другими людьми. Но если самоотказ выходит за рамки равенства, то он ведет к самоумалению, делает человека кариатидой, которая держит на себе других людей. Речь идет не о самопожертвовании, высшем виде самоотказа: оно тоже бывает благодатным, но только в исключительных, драматических условиях; кстати, им движет не закон равенства с другим человеком, а закон предельного неравенства — закон самоуничтожения ради спасения другого. Пожалуй, наилучшая противоположность эгоизма — это равновесие своего и чужого «я», стремление не возносить себя над другими и других над собой, а относиться к другим как к себе самому. Это, наверно, первичная клеточка гуманизма, его психологическая основа, и она родственна любви…Чем отличается любовь от влюбленности.
«Но как отличить настоящую любовь от временного увлечения или тем более влечения?» (Новосибирск, НЭТИ, декабрь, 1976). Человеческая любовь по самой своей природе тянется к равновесию двух «я» — хотя бы примерному, колеблющемуся. Пожалуй, такая тяга — в сплаве с наслаждением чувств — это сама суть любви, сама ее психологическая материя. Основа всех видов человеческой любви, как бы глубинная ось ее чувств — это отношение к любимому человеку как к себе самому: такое состояние души, когда все в нем так же дорого твоему подсознанию, как ты сам. А чем отличается от любви влюбленность? К сожалению, об их глубинной разнице почти молчит психология, и лишь внешними касаниями говорит искусство. Пожалуй, в мировой литературе есть только один эпизод, в котором по-настоящему уловлена эта разница, хотя и тут она не осознана как разница влюбленности и любви. Это сцена из «Войны и мира», когда Андрей Болконский признается в любви Наташе Ростовой, получает ответное «да» — и в душе его вдруг разыгрывается мгновенный и загадочный переворот: влюбленность делается любовью. «Князь Андрей держал ее руку, смотрел ей в глаза и не находил в своей душе прежней любви к ней. В душе его вдруг повернулось что-то: не было прежней поэтической и таинственной прелести желания, а была жалость к ее женской и детской слабости, был страх перед ее преданностью и доверчивостью, тяжелое и вместе радостное сознание долга, навеки связавшего его с нею. Настоящее чувство, хотя и не было так светло и поэтично, как прежде, было серьезнее и сильнее». Влюбленность, которую питал к Наташе Ростовой князь Андрей, как бы состояла из одного только «психологического вещества», из «поэтической и таинственной прелести желания». И как почти всякое желание, эта влюбленность была я-центрическим чувством, чувством для себя. Пройдя сквозь мгновенное превращение, влюбленность стала другим чувством, гораздо более сложным — и двуцентричным, не только для себя, но и для нее. К чувствам для себя добавились чувства для нее, переживания за нее — жалость к ее слабости, страх перед ее преданностью и доверчивостью, тяжелое и радостное сознание долга, которое связало их новой связью… Безмятежность прежнего чувства затмилась, оно стало тревожнее, тяжелее и от этой своей тяжести ушло в самые глубины души. Много веков в нашем обиходе царит мнение, что любовь сильнее, а влюбленность слабее, что они отличаются друг от друга своим накалом. По-моему, это не так: дело не в силе, не в «количестве» чувства, а в его «качестве». Влюбленность может быть и более сильной, чем любовь, но она я-центрична, а то и эгоистична; именно поэтому она мельче проникает в душевные глубины человека, а от этого меньше меняет его и быстрее гаснет. Любовь, видимо, отличается от влюбленности прежде всего здесь. Неэгоизм и двуцентричность любви — это ее самая глубокая основа — и главный водораздел, который отделяет ее от влюбленности. Любовь — это как бы перенесение на другого своего эгоизма, включение другого в орбиту своего я-центризма. Это как бы удвоение своего «я», появление другого «я», с которым первое срастается, как сиамские близнецы. Поэтому, наверно, любовь и поражает человека глубже влюбленности, поэтому она и заполняет все закоулки его подсознания, все тайные уголки души. И поэтому она дольше живет в человеке и больше меняет его. Чужое «я» как бы входит в ощущения человека, и чужая боль делается такой же большой, как своя, а чужие радости — такими же радостными… Вырастает как бы «эгоистический альтруизм», совершенно особое чувство. Изъяны эгоизма и альтруизма (вознесение своего «я» над чужим и чужого над своим) как бы уменьшают, растворяют друг друга в этом сплаве. А их достоинства (сила заботы о себе и сила заботы о других) как бы помножаются, резко усиливают друг друга. Возникает дорожение другим человеком как собой, его интересами — как собственными. Можно, пожалуй, сказать, что любовь — это влюбленность, построенная на «эгоальтруизме». И минимум любви — это такое любовное влечение, в котором есть тяга к равновесию двух «я», глубинное дорожение другим, как собой. В разговоре Андрея Болконского с Наташей видно, как вдруг из простой влюбленности рождается такое глубинное тяготение, такой «минимум». Если же в самой плоти чувств нет тяги к равновесию двух «я», то это, наверно, не любовь, а какой-то ее более бедный родственник — привязанность, влечение, влюбленность, — или любовь, которая уже начала угасать. Потому что когда срастание двух «я» начинает уменьшаться, это уменьшается сама сердцевина любви, а не просто ее накал, спадает не только ее «количество», но и «качество». Потому что пылкое дорожение другим, как собой, подсознательное переживание каждого его шага, как своего — это и есть сама эмоциональная материя любви, сама ее плоть и суть. Такой подход к любви, по-моему, гораздо вернее, чем старый, привычный; он помогает увидеть глубинное своеобразие любви, не смешивает любовь с ее родственниками — и позволяет этим гораздо вернее понимать человека и его чувства.Эгоальтруизм.
Наука этика и обиходная мораль убеждены, что у человека есть только два внутренних двигателя — эгоизм и альтруизм. Но есть и третий такой двигатель — эгоальтруизм, тяга к равновесию своего и чужого «я». Почему мы не видим его? Возможно, потому, что ни в одном человеческом языке нет слова, которое обозначало бы такую тягу к равновесию своего и чужого «я». И как младенцы не замечают вещь, название которой они не знают, так и мы не замечаем, что порывы к равновесию движут нами не меньше, чем порывы эгоизма и альтруизма. Мы ведем себя, как мольеровский мещанин во дворянстве, который не знал, что говорит прозой, пока ему не сказали этого. Впрочем, еще наши далекие предки понимали, что отношение к другому, как к себе — один из главных идеалов человечества. Этот идеал был письменно запечатлен еще в VI–V веках до нашей эры в разных концах мира — в Индии и в Китае, в Иудее и в Греции. «Не делай другим того, что не хочешь для себя» — так учили Конфуций и Будда, Сократ и другие греческие мудрецы, так говорилось и в Ветхом завете. Потом этот принцип перешел в христианство, его проповедовал в Нагорной проповеди Иисус Христос: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Евангелие от Матфея, гл. 1, ст. 12). Но, видимо, древние философы и основатели религий не были первооткрывателями этого принципа. «К другому, как к себе» — это общечеловеческая норма личных отношений, и можно предположить, что она родилась на тысячелетия раньше, в золотом веке родовой коммуны. В отношениях сородичей, видимо, царила тогда душевность — она поражает и сейчас в тех племенах Индии и Южной Америки, где сохранились нравы матриархата[16]. Впрочем, тяга к равновесию своего и чужого «я» правит бытом многих племен, которые стоят сегодня на первобытной ступени. Почвой этого первобытного гуманизма было равенство и единство людей общины. Только такой дух мог помочь нашим предкам выстоять в борьбе со стихиями — а главное, стать людьми. Когда социальное равновесие ушло из жизни, забылся и этот принцип. Позднее о нем вспоминали, говорили, но как о чем-то внешнем для человека — идеале отношений, «золотом правиле морали». Как о внутренней пружине человеческой психологии, двигателе чувств и поступков о нем не говорил никто. Потому-то, видимо, ни в одном языке земли и не появилось название для этого принципа. Впрочем, этому можно и не очень удивляться. Термины «эгоизм» и «альтруизм» — тоже недавние, оба они возникли во Франции, причем альтруизм только в XIX веке — его ввел философ Огюст Конт, основатель социологии. Примерно тогда же стали искать название для чувства равновесия. В России, например, Чернышевский писал о «разумном эгоизме», а уже в наше время канадский физиолог Селье, основатель учения о стрессе, говорил об «альтруистическом эгоизме». Пожалуй, можно бы сказать, что эгоальтруизм — именно человеческая норма, главное свойство человеческой психологии, а эгоизм и альтруизм — как бы недорастание до этой нормы. Эгоизм и альтруизм одномерны, состоят из одного психологического вещества — предпочтения себя или предпочтения других. Эгоальтруизм устроен намного сложнее и — из очень многоликого сплетения двух таких веществ. Он растет, видимо, гораздо больше из человеческой психологии, чем из биологии; эгоизм и альтруизм больше растут из биологии, чем из психологии — из более простого, более «животного» уровня жизни. Возможно, эгоальтруизм — норма для психологической ступени жизни, а эгоизм и альтруизм — для биологической ступени. Слово «эгоальтруизм» — тяжеловесное, искусственное, но, как говорят одесситы, лучше плохая погода, чем никакой, и пока не родилось удачное слово, можно, пожалуй, применять это.Однобокость альтруизма.
Много веков говорят, что любовь вся состоит из альтруизма, отказа от себя. Великий Гегель писал об этом: «Истинная сущность любви состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом «я» и, однако, в этом же исчезновении и забвении впервые обрести самого себя»[17]. Отказаться от себя и тем самым найти себя — здесь опять проглядывает «двоичное» понимание человека, мысль, что у него есть только два двигателя — эгоизм и альтруизм. Но альтруизм «одноцентричен», как и эгоизм, только центр этот лежит не в себе, а в другом человеке. Альтруистическая любовь быстро делается почти таким же недугом души, как и безответная любовь. «Состав чувств» в ней сдвинутый, усеченный; человеку все время не хватает радостей от встречных забот, у него не насыщаются первородные нужды своего «я» в одобрении, поддержке, ласке. Это рождает невидимые струйки неполноценности, которые подтачивают душу, отравляют чувство. «Но как можно выступать против альтруизма — лучшего достояния людей? Человечество многие тысячелетия искало духовные законы, которые дали бы ему возможность подниматься вверх. Оно не раз убеждалось, что таким единственным законом является альтруизм. Наиболее ранний источник, который установил это, — «Бхагавадгита», потом законы Ману, Будды, Христа. Эти же мотивы полной самоотдачи звучат в словах и делах русских революционеров, и их суть выражена в словах поэта: Что ты спрятал, то пропало, Что ты отдал, то твое. Теперь цитирую вас: «Самоотречение… обесценивает людей, ведет к девальвации личности». А как же многие люди, которые отдали свое здоровье, а то и жизнь на служение людям, культуре и справедливости? Известен непреложный закон, что когда человек отдает все, то в душе, где, казалось бы, должна образоваться пустота, дающий обнаруживает умножение духовных сил… И вместе с этим приходит расширение сознания, что мы видим и в потрясающей работоспособности В. И. Ленина или, скажем, Н. К. Рериха, писавшего до 300 картин в год, и каких картин! Разве не прекрасны слова индийского философа Рамакришны, обращенные к ученикам: «Когда лотос распускается, пчелы прилетают, чтобы брать из него мед. Пусть же лотос души расцветает так же естественно!. Пусть пчелы расхищают твое сердце, но берегись сделать хоть одну пленницей души твоей!» А вы на белое говорите черное, а на черное белое. Как у вас рука поднялась на это? Саша В., 23 года, образование высшее, физтех» (Харьков, сентябрь, 1982). Дух этого письма, по-моему, глубоко человечен: он запечатлен в блестящем парадоксе Руставели — «что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то твое». Верна, мне кажется, и мысль, что чем больше человек отдает себя другим, тем больше умножаются его духовные силы. Но отдавать себя можно двояко — или как равный равному, то есть эгоальтруистически, или снизу вверх, через самоумаление — альтруистически. Пожалуй, со всем, что сказано в письме об альтруизме, можно согласиться, но при одном условии: если считать, что это сказано об эгоальтруизме. Скорее всего расхождения у нас не в позиции, не в сути дела, а в названиях, терминах.Самоотречение или самоограничение?
Не буду повторять то, что уже говорилось: да, в кризисных условиях самоотречение — это высший вид человечности, а те, кто отдавал свою жизнь на служение людям — лучшие люди земли. Больше того, самоотказ — это, видимо, вообще идеал поведения в любом кризисе, от семейного до военного: наверно, только поступаясь чем-то в себе, можно найти выход из кризиса, пройти его с наименьшими потерями — то есть сохранить себя. Но альтруизм — это стремление отдавать, не получая, только отдавать, и в обычных условиях он, видимо, создает в человеке скрытую, неосознаваемую ущербность. Кстати говоря, лотос Рамакришны не только отдает себя пчелам. Пчелы «взамен» опыляют его, дают ему продление жизни — самый дорогой дар, который только может быть на земле. Это не альтруизм — одно лишь отдавание, а эгоальтруизм — давание и получание вместе, равный обмен дарами… Говоря упрощенно, эгоист — только приемник даров, альтруист — только передатчик, а эгоальтруист — приемник и передатчик вместе… Интересно, что в древних индоевропейских языках одно и то же слово обозначало и «брать», и «отдавать». Понятие «передавать от одного другому» еще не разделилось на противоположные полюсы, и эти полюсы — брать и отдавать — были слиты в тогдашней синкретической психологии. Древние как бы считали, что, отдавая, тем самым получаешь, а получая — отдаешь. Они были настроены на равный обмен дарами. Они смутно верили, что получая что-то от другого, ты получаешь тем самым частицу его самого, которая как бы проникает в тебя. И если ты не отдашь взамен равную частицу себя, ты попадешь в опасную зависимость от другого — потеряешь крупицу своей свободы, судьбы, здоровья[18]. Такой «эгоальтруизм» пропитывал многие нравы древних, отпечатывался в их душевной жизни, обычаях, верованиях. У человека есть как бы струны «я» — струны самосохранения, заботы о себе, и струны «они» — струны сохранения рода, заботы о других. Если играть только на одних струнах, будет разрастаться, как флюс, одна сторона души и слабеть другая. Пожалуй, только дуэт этих струн рождает в нас «мы» — равновесие «я» и «они», только их двухголосие создает здоровую, нормальную психику. Я-центрические нужды человека двойственны по самой своей сути. Все биологические потребности — в еде, самозащите, продлении рода — я-центричны, но они нужны для выживания, служат главной естественной опорой жизни. Так же естественны и так же благодатны и психологические я-потребности, о которых тут говорилось, — потребности в одобрении своего «я», в заботе, поддержке, внимании. Насыщаясь, эти потребности дают человеку потоки радостных эмоций, заряжают его здоровой и сильной жизненной энергией. Они служат — это исключительно важно — фундаментом для высших потребностей человека, психологических и духовных. И чем лучше насыщаются наши добрые я-центрические нужды, тем больше жизненной энергии они несут нашим высшим потребностям. Здесь и лежит водораздел между светлым и темным ликом я-центрических нужд. Эти нужды хороши, видимо, настолько, насколько они помогают более высоким человеческим нуждам, эгоальтруистическим. Чем меньше они служат таким нуждам, чем больше стараются занять их место в душе человека, тем они вредоноснее для души. Но чем больше они питают собой эгоальтруистические нужды, тем благодатнее они для человека. У альтруиста угнетены, придавлены самые жизнелюбивые моторы души — моторы радости от самого себя — главные моторы молодости. Поэтому альтруист как бы живет по законам чужого возраста, заражается старческой нормой, когда первородные нужды своего «я» угасают. Он как бы выключает целый диапазон своих забот о себе и живет лишь одним из обычных для человека двух диапазонов — заботами о других. Альтруизм ампутирует этим чуть ли не половину человеческой личности. А становясь регулятором общества, он делает подозрительным, ненормальным все, что не построено на самоотречении. Самоотречение несет на себе печать неравенства, эксплуататорства, и, возможно, исторически оно и родилось как рабское чувство, чувство подавляемых людей; впрочем, у него есть и биологические источники — и материнский инстинкт самоотречения, и инстинкт сохранения рода, который существует у всех млекопитающих[19]. Когда самоотречение выступает главным двигателем человека и общества, оно уродует, обкрадывает их, питая собой неравенство и несправедливость, которые есть в жизни. Самоотречение, альтруизм рождены во время доличностного состояния человека, и человек в их системе — не человек, не личность, а всего лишь средство, инструмент для других людей. И если альтруизм издавна считают благом, то, видимо, только потому, что путают его с эгоальтруизмом. Чем они похожи между собой? В эгоальтруизме тоже есть самоограничение, и оно служит одной из его основ. Человек двойствен, и для гармонии с другими — это азбука — ему нужен постоянный отказ от чего-то в себе, часто дорогого душе. Эгоальтруист все время старается унять те свои порывы, которые несут зло ему и другим людям. Он отказывается от многих удобств и привычек, которые мешают его более человечным нуждам, не дают созреть более глубоким способностям души. Но в том, от чего он отказывается, видна решающая разница между ним и альтруизмом. Альтруизм отключает не только наши простейшие потребности, но и кое-какие ключевые, опорные — и прежде всего нашу естественную тягу к разносторонности, к развитию всех главных сторон тела и духа. Это как бы сила слабого, который не может справиться с обычной двойственностью человеческой натуры — не может поставить я-струны своей души на службу мы-струнам. Эгоальтруизм не отрекается от ключевых нужд человека и не суживает этим его душу, а углубляет и расширяет ее. Это естественное, здоровое, нормальное состояние человеческой души, состояние, которое как бы ведет человека к гармонии, ладу — и внутри себя, и с другими людьми. Такая неусеченная опора на все самое лучшее в душе, на ее живую и естественную многогранность, пожалуй, и создает самую добрую почву для любви. «Любовь должна быть сильной и жестокой во всем своем естестве. — Так написал в ответ на мою статью юный пограничник, полный романтической веры в смертельный накал этого чувства. — Любить может только сильный человек, готовый отдать за любимую жизнь, а при утрате любимой — покончить с жизнью, а не искать ей замену» (С. Кулаев, воинская часть, февраль, 1979). Бывает и такое чувство — чувство-самосожжение, чувство-фугас, готовое взорваться в душе и испепелить человека. Но если любовь «должна быть жестокой», может быть, это не любовь? Ведь любовь — это антижестокость по всей своей сути, а жестокой, наверно, может быть только мстительная, больная, вывихнутая любовь — любовь, которая стала ненавистью. «Не верю в разговоры о любви, если любовь к одному сочетается с жестокостью к другому. — Автор этого письма как будто специально написал его против предыдущего. — И подонки склонны к сильным чувствам, настолько сильным, что могут поступиться жизнью. Пусть это будет испепеляющее чувство, но это оборотень любви. Влечение мужчины и женщины только тогда любовь, если это любовь к человеку в этом человеке» (М. Резин, Свердловск, февраль, 1979). Вспомним то, что здесь говорилось: любовь делает любовью не накал ее чувств, а их суть, характер — дорожение другим как собой… Многие, наверно, согласятся, что человеколюбие — сердце любви, ее центральная основа, — и главное, видимо, что отличает ее от других влечений. Эти влечения могут быть жгучими, изнуряющими, но если в них нет человеколюбия, это еще не любовь, или уже не любовь, или вообще не любовь, а чувство другого ранга — влюбленность, привязанность, увлечение…Все ли способны на любовь?
Гельвеций, французский философ XVIII века, говорил: «Подобно лучу света, который состоит из целого пучка лучей, всякое чувство состоит из множества отдельных чувств»[20]. Из каких же чувств состоит радуга любви? Условно, приблизительно в них можно, пожалуй, увидеть два потока. Первый поток — как бы «оценочные» чувства: наслаждение и тоска, восторг и ревность, радужное приукрашивание любимого человека, и томительный голод души и тела, и пылкое вдохновение всех других твоих чувств, и бунтующее подсознание, которое хочет быть тираном души… Это чувства в основном «я-центрические», для себя — отклик души на то, как насыщаются (или не насыщаются) твои желания, на степень этого насыщения или ненасыщения. Другой поток — как бы «двуцентрические» чувства, для себя и для другого сразу: странное, почти физическое ощущение своей слитности с ним, и ясновидение души, которая как бы ощущает то, что делается в другой душе, и беспокойное желание делать все для любимого человека, пожертвовать собой, чтобы уберечь его… С этим потоком чувств сливаются и чувства из первого потока, окрашиваются в их цвет и тоже как бы выходят за пределы своего «я»… И все эти струйки любовных тяготений слиты между собой, все плавно и незаметно перетекают друг в друга, как цвета в радуге. Нет, пожалуй, ничего сложнее, чем запутанная вязь этих любовных чувств, нет ничего таинственнее, чем живые лабиринты их сплетений. Если пристально вглядеться в них, можно увидеть, какими именно чувствами любовь отличается от своих родственников. «Вы называете себя «амурологом», исследователем любви. Но как же вы можете говорить, что очень многие люди к любви неспособны? Ведь представляете, каким неполноценным себя чувствует человек, неспособный любить! Ведь мы со школы, с детства знаем, что любовь — самое светлое чувство, и вдруг — «я к нему неспособен»! Вы вот даже признаки неспособности называли — слишком большой эгоизм. Это как раз про меня. Не жестоко ли так сразу лишать человека надежды? Значит, я обречен?» (Дом культуры МГУ, декабрь, 1982). Думаю, что эгоист, пока он остается эгоистом, обречен. У его чувств «я-центрическая» направленность, и если он и испытывает «двуцентрические» чувства — те, о которых только что говорилось, то они звучат гораздо слабее «я-центрических», сами подчиняются им. Как все это происходит, какие именно психологические струны мешают любви? Подсознание эгоиста как бы ощущает себя лучше, выше других людей. Каждое переживание эгоиста строится на микронном самовозвышении и микронном умалении других, каждая эмоция слита из лучика самоукрашивания и лучика обесцвечивания других. Преувеличивая, можно сказать, что эгоизм — как бы микрокрупинка от мании величия. Такая оптика ощущений противоположна оптике любви. Любить — это как бы сверхценить другого, причем всеми глубинами души, а эмоции эгоиста сверхценят себя и могут сверхценить другого лишь ненадолго, нестойко. «Но все-таки, значит, могут? Значит, эгоист все-таки способен на любовь?» (Московский областной пединститут, март, 1986). Нет, он способен только на влюбленность. Влюбленность — это тоже ощущение другого как сверхценности, но оно захватывает только один поток наших чувств, и не самый глубокий. У человека есть как бы два потока оценочных ощущений. Во-первых, самоощущения — ощущения от себя, «я-образ», оценка своего «я» на внутренних весах; во-вторых, ощущения от других людей, их бессознательное оценивание. Причем самоощущения как бы служат фильтром, через который проходят ощущения от других, и они формуют эти ощущения на свой лад: самовозвышение умаляет других, самопринижение возвеличивает, а «равноуважение» возвышает обоих… Влюбленность как бы вживляет в душу эгоиста новую призму ощущений — подсознательную призму, которая возвышает других. Но она вступает во вражду с его главной призмой — подсознательным умалением других; в ощущениях эгоиста как бы сталкиваются две оптики, и в их войне чаще побеждает оптика-хозяин, а не оптика-гость. Здесь, может быть, и лежит разгадка трагической, колдовской любви «Темных аллей» позднего Бунина. Любовь в этих рассказах неотвратимо ведет людей к гибели. Все их чувства обращены на себя, замкнуты в себе, они не могут войти душой в другого и впустить его душу в свою. Они способны лишь коротко соприкоснуться, на миг втиснуться в чужую душевную жизнь — и снова глухая отгороженность, закрытое я-существование без мы-слияния. Любовь бьется изнутри об эти панцирные берега «я» и не может вырваться из них, проникнуть в чужие берега. Это и есть темные аллеи любви — аллеи, которые не дают соединиться двум душам и рождают трагическую безысходность: краткие миги счастья — и расплату за них, смерть. «Уже без остатка, как скорпион в свое гнездо, вошла любовь в юношу», — написал Бунин в рассказе «Братья». Он считал, что любовь — это коридор к смерти, и в этом ее вечная суть. И потому весь он — тоскливое недоумение от этой колдовской силы, горечь перед ее скорпионьими чарами.Талант любви: два измерения.
«А может, любовь — это все-таки талант, «дар божий»? И даром этим наделены не все люди, так же, как даром художника, изобретателя? И может, надо поменьше говорить о «вседоступности» любви в фильмах, книгах, шлягерах? Тогда бы и не было разочарований у современного человека» (Ленинград, ДК имени Кирова, клуб молодых супругов, февраль, 1976). Многие, наверно, понимают, что для любви нужен талант чувств, а он есть совсем не у каждого. Но что такое этот талант? Дается ли он только избранным или может быть доступен всем? Способность любить — это нормальная способность нормальной души — не сверхспособность, а именно средняя, общедоступная. Каждый здоровый человек рождается предрасположенным к этому нормальному чувству. Но чем старше люди, тем меньше среди них становится таких, кто может испытывать его. У многих не хватает глубины души, нужной, чтобы вместить это глубокое чувство: у кого из-за воспитания, у кого из-за жизненных условий, у кого из-за чрезмерности эгоизма. Впрочем, если влюбленность у таких людей сильная, она может и стать любовью. Но для этого ей надо внутренне перестроить человека, вырастить в его душе струны эгоальтруизма, которые только и могут излучать любовь. Это требует перелома в себе, долгой и изнурительной перезарядки многих душевных рефлексов, желаний, обыденных пружин чувства, воли… К сожалению, на такую «революцию души» способны немногие. «А стоит ли заботиться о людях, которые неспособны любить? Вы сокрушаетесь о них да еще хотите, чтобы вместе с вами сокрушалось искусство. Но естественный отбор выбраковывает таких людей, и правильно делает. Не можешь любить — не найдешь себе партнера, выгодного для биологической эволюции, не дашь потомства, очистишь общество от неполноценных людей. Неспособность любить — это биологический изъян, может быть даже наследственно закодированный, и для человечества очень опасно, когда он передается следующим поколениям» (Полина С-ва, преподаватель вуза, Саратов, июль, 1976). Многие, наверно, понимают, что это не так. Неспособность любить — изъян не биологический, а психологический, душевный. Талант любви — это талант души, и он, кстати, в принципе отличается от таланта художника, изобретателя, писателя, ученого. Главное в таланте любви — не редкостные и сложные способности ума, слуха, зрения, памяти — способности, из которых состоит художественный или научный талант. Главное в нем — именно душевность, сердечность, «человеколюбие» — способность дорожить другими, как собой. Это гораздо более доступный талант, и в идеале он, видимо, может быть у каждого нормального человека. «Как вас понять? Выходит, у кого такого таланта нет, кто неспособен любить — тот ненормальный? Не перегибаете ли вы палку и не слишком ли больно бьете по нам?» (Клуб завода «Дзержинец», декабрь, 1981). Согласен, больно. Но способность дорожить другими, как собой — это главная, по-моему, душевная способность человека, центральная человеческая норма. И она служит основой не только любви. Дружба тоже пропитана отношением к другому человеку, как к себе самому[21]. И родительская любовь, и детская любовь к родителям, и другие родственные чувства — все они растут из эгоальтруизма. И сама человечность, гуманность, вернее, ее психологическая сторона — это тоже понимание, что радость так же радостна другому, как твоя радость тебе, а боль так же больна, как твоя боль. Кстати говоря, о сути гуманизма именно так отзывался молодой Маркс. «…Чувства и наслаждения других людей стали моим собственным достоянием», — писал он[22]. Эгоальтруизм — сердцевина основных человеческих чувств, главная опора всей человечности вообще. И можно ли считать нормой то, что не дотягивает до этой нормы? Здесь не кто-то бьет человека со стороны: неспособность любить — это тот обратный конец палки, которым человек сам бьет себя. Много лет мы смотрели на себя диетическими глазами, жили в атмосфере парикмахерской осторожности — «вас не беспокоит?». В этой атмосфере стало привычкой резкое падение критериев, массовая девальвация норм. Низины начали казаться равнинами, упадок норм — нормой, и от этого катастрофического спада требований страдали все люди и все стороны их жизни — семья, работа, быт, воспитание, гражданские отношения, искусство… У таланта любви есть и другое измерение — яркость чувств, но оно во многом растет из первого. Конечно, яркость чувств больше всего зависит от темперамента, но сами чувства делаются во многом другими, когда их пропитывает эгоальтруизм. У того, кто влюблен, и у того, кто любит, чувства могут быть одинаково яркими, но их психологическая ткань будет во многом разной. Эгоальтруизм как бы создает в человеческой душе родники новых эмоций, и из них вытекают особые чувства — те двуцентрические чувства, о которых тут говорилось. От нашего темперамента больше зависят как бы «оценочные» ощущения — любовные радости и горести, сила их двойной оптики, их накал. Но эгоальтруизм, повторю это, окрашивает и их в свои тона, пропитывает их душевностью, и от этого они становятся глубже, психологически насыщеннее. Я-центристу такие ощущения, увы, недоступны. Вспомним «любовь по очереди» у «цапли и журавля» из записки. По строю своих чувств она очень похожа на несчастную любовь: в ней гораздо больше горестных чувств, чем радостных. Это как бы неразделенная любовь в маске разделенной: главное в ней — драматические вспышки неразделенных, безответных чувств, а между ними вкрадываются антракты спокойных, радостных чувств. Скорее всего это не любовь, а влюбленность, влечение двух я-центристов. В их чувстве много то ли детского духа противоречия, то ли подросткового отмахивания от родительской ласки, и в каждом из них, пожалуй, это чувство больше держится не на тяге к другому, а на боязни потерять его.Как к себе, так и к другим….
«Я часто ненавижу себя… Как же в этом случае относиться к близкому человеку?» И приписка мелким почерком: «Поэтому мой удел — одиночество». (Политехнический, июнь, 1979). Многие, наверно, понимают: «к другому, как к себе» не значит, что отношение должно быть зеркальным. Относиться к другому, как к себе, — значит понимать, ощущать, что его радости так же радостны ему, как твои тебе, а горести так же тягостны. Тогда и появится способность дорожить близкими, как собой — обычная норма личной жизни. Психологи выяснили, что чем человечнее, развитее «я» у человека, тем больше у него подсознательное уважение к себе и к другим людям, и тем глубже это уважение пропитывает все его чувства. У таких людей свежее ощущения, полноводнее чувства, у них чаще бывают состояния взлета, вдохновения, богаче интересы — и от всего этого глубже, насыщеннее все личные отношения[23]. Такие люди чаще бывают открытыми, им легко, естественно быть эгоальтруистами, такими же доброжелательными к другим, как и к себе. У людей невротических неосознанное самоуважение подтачивается их нервностью, и от этого растет душевная закрытость, замкнутость на себе: ее рождают частые вспышки раздражения, неудовольствия, обиды — вереницы нервных уколов, постоянные извержения тягостных чувств. Чем ниже самоуважение у человека, тем больше он сам страдает от этого и тем больше несет страданий другим. Он подсознательно относится к другим людям точно так же, как к себе, у него меньше доброжелательности к ним, меньше доверия, желания помочь. Всеми его впечатлениями — от себя, от других людей, от жизни — как бы правит двойная темная оптика. Она добавляет в каждое его впечатление кусочек тени, отнимает кусочек света, и потому все в жизни — и он сам, и другие люди — кажется такому человеку гораздо хуже, чем есть. Неуверенность в себе сковывает таких людей, делает их пассивными в личных отношениях. Они (особенно женщины) часто ведут себя не в ключе своего «я», а как зеркало чужого поведения. Если близкий человек внимателен к ним, добр, и они такие же; если он озабочен, сдержан — то ли от усталости, то ли от неприятностей — они тут же принимают это на свой счет и отгораживаются защитной скорлупой. Психологи считают, что наше подсознательное отношение к себе, подспудная самооценка — это главный эмоциональный двигатель наших чувств и поступков. Ими правит сложнейшая сеть пружин — наши потребности, интересы, взгляды, жизненное положение. Действие всех этих пружин как бы сплетается в нашей самооценке, меняет ее, но и само окрашивается в ее цвета. Глубинная самооценка — как бы эмоциональное ядро человеческой души, сердцевина психики. Все наши переживания, все впечатления от жизни проходят сквозь нее, как лучи сквозь линзу; это как бы главная эмоциональная линза, сквозь которую человек видит себя и других. Для человека естественно быть довольным своими сильными сторонами и недовольным слабыми, и потому нормальная душевная самооценка — это всегда сплав довольства и недовольства собой. Чувство неполноценности резко ухудшает эту душевную самооценку и портит все чувства человека к другим людям. Пожалуй, только хорошо относясь к себе, можно хорошо относиться к другим, и только хорошо относясь к другим, можно хорошо относиться к себе. Поэтому людям, которыми движет двойная темная оптика, стоило бы относиться к близким лучше, чем к себе — и в своих поступках, и в чувствах. Но по-настоящему изменить свое отношение к близким они смогут, видимо, только, если перемагнитят, изменят свою оптику, сумеют сделать главными ее светлые слои. Это очень трудный, часто каторжный труд души, но это, пожалуй, единственный путь к спасению…Эвклидова и неэвклидова логика любви.
«А не летает ли любовь к родителям и друзьям любви к любимому человеку? Ведь эмоциональная чувствительность человека не бесконечна и сила чувства к любимому уменьшается» (Новосибирский академгородок, ДК «Академия», апрель, 1978). Эти мысли рождены, наверно, и обычной житейской логикой, и логикой формальной, арифметической. По такой логике у человека есть свой запас чувств, и когда он делится на разных людей, то каждому и достается меньше. Но любовь — если это любовь — не подчиняется здесь ни житейской, ни арифметической логике — никакой линейной логике вообще. В пылкие времена своей любви любящие часто поражаются: еще вчера я любил ее на пределе, но почему-то сегодня люблю еще сильнее, а завтра еще сильнее… Как можно влить в сосуд больше, чем он вмещает? Простейший здравый смысл говорит, что это невозможно… Но любовью правит неэвклидова логика, как бы логика наоборот, логика парадокса, и она вся состоит из неожиданностей, из ходов, которые обратны очевидным. Как можно любить больше предела? Парадокс здесь в том, что чем сильнее человек любит, тем больше вырабатывается в нем энергия любви — то есть тем выше поднимается ее предел: сегодня он выше, чем вчера, завтра выше, чем сегодня. Но, пожалуй, такая сверхлогика правит только счастливой любовь, которая отодвигает свой предел, поднимает его. Как только любовь замирает, она, видимо, начинает умирать — из счастливой постепенно делается обычной, потом обыденной, будничной и начинает тускнеть, перемежать огоньки с угольками, пеплом, золой… Говоря точнее, у любви есть как бы три ступени, три возраста: нарастание — подъем ее предела, устойчивость — жизнь у предела, и угасание, спад. Длина этих возрастов может, видимо, быть самой разной. Чем дольше нарастание любви — ее детство и юность, — тем дольше бывает и ее второй возраст — зрелость, и тем позже она начинает стареть, входить в свой третий, предсмертный возраст. Чем быстрее кончается юность любви, тем короче и ее взрослость и тем быстротечнее ее старение и умирание… Это, пожалуй, главная пружина долгой или короткой жизни любви. Видимо, в разных возрастах любовью управляют и разные законы: растущей, счастливой любовью — «надземные», неэвклидовы законы парадокса; угасающей — законы житейской логики; устойчивой — смесь тех и других законов, причем с постепенным ослаблением «надземных» и усилением земных. По-разному в этих возрастах действуют друг на друга и разные виды любви — супружеская любовь и, скажем, любовь к родственникам, друзьям. Речь идет именно о любви; влюбленность, видимо, почти всегда соперничает с другими чувствами, уменьшает их или сама уменьшается ими. Известно, что, когда у молодоженов появляются дети, их тяга друг к другу часто слабеет — ею как бы начинает править именно арифметическая логика: каждый отдает теперь чувства не одному, а двоим, и потому каждому достается «половина» прошлого чувства. Но, может быть, это не любовь? Счастливые супруги в один голос утверждают: любовь к детям не ослабила, а усилила нашу любовь. Мы увидели друг друга с новой, родительской стороны, открыли друг в друге новые достоинства, и они углубили наше влечение. Есть, видимо, психологический закон: одна любовь обогащает, а не обедняет другую, и разные виды любви — не соперники, а союзники. Их энергии родственны друг другу, и они как бы подпитывают, усиливают друг друга своими зарядами. Впрочем, поначалу, в своем дебюте, любовь, как и влюбленность, ослабляет другие чувства, захватывает чужие участки души. Как река весной, она выходит из берегов, и ее половодье отбирает много энергии у других чувств. Потом, когда половодье кончается, любовь начинает отдавать другим чувствам ту энергию, которую она у них забрала, и даже с лихвой. Она как бы встраивает в них новые октавы, и от этого их звучание делается глубже, переливнее. К сожалению, так бывает нечасто, но, пожалуй, не потому, что у запаса чувств есть предел. Вернее, такой предел есть у я-центрических чувств, и этим они отличаются от любви. Любовь, повторю это, может «по закону реки» отодвигать свои пределы, и хотя это тоже бывает очень редко, но виноваты здесь, видимо, не законы любви, а враждебные им законы жизни, которые не дают им раскрыться, укорачивают жизнь любви…Музыка для скрипки и балалайки.
«У Моруа есть мысль: любовь зависит больше от самого любящего, чем от предмета любви. Какую роль играют внутренние источники любви?» (Встреча с работниками Интуриста, июнь, 1979). Андре Моруа, современный французский романист, писал, что «источник любви скорее в нас, нежели в любимом существе», и что после Стендаля эта мысль стала азбучной[24]. Но для Стендаля таким внутренним источником любви была человеческая фантазия, которая украшала любимое существо несуществующими достоинствами. По его мнению, порождала любовь именно фантазия, то, что я называю двойной оптикой. Любить могли как бы «романтики чувств» — те, у кого есть эта романтическая способность приукрашивать, и не могли «реалисты чувств». Способность любить выводилась из важной, но не главной стороны души. В середине нашего века Эрих Фромм, крупный американский философ, сделал тут важный шаг вперед. В книге «Искусство любить»[25] он выступил с глубокой и новой теорией любви. «Любовь, — говорил он, — это главным образом отдавание, а не получание». «Давание — это высочайшее проявление силы… Я ощущаю себя изобильным, тратящим, живым, счастливым. Отдавание более радостно, чем получание». Видимо, во многом он прав. Получает потребитель в человеке, отдает творец; причем не просто отдает, а отдает с радостью — только тогда это отдача-творчество. Отдавание без радости — подневольное или альтруистическое — это просто исполнение долга, повинность. Радостное отдавание — это душевное творчество,и именно этим оно и радостно. Тут лежит, видимо, психологический закон всякого творчества, и он отличает творчество от нетворчества. Пожалуй, творец в корне отличается здесь и от собственника. Главная потребность собственника я-центрична, ему надо, чтобы своими вещами владел только он. Главная потребность творца прямо противоположна: ему надо, чтобы его идею, книгу, машину признало как можно больше людей, чтобы она вошла в их жизнь, стала не только его, но и их собственной. Дело собственника — брать, творца — отдавать; в идеале собственник хотел бы, чтобы вся чужая собственность стала его, а творец — чтобы его «собственность» стала всеобщей. Впрочем, в словах Фромма есть и однобокость, когда он безоговорочно ставит получание ниже отдавания. Их естественная гармония от этого ускользает, двуединое стремление человека «создавать» и «потреблять» как бы рассекается пополам. А ведь вся диалектика, вся сложность жизненной гармонии как раз и состоит в каком-то равновесии давания и получания. На подсознательной тяге к такому равновесию, хотя бы примерному, маятниковому, построена вся человеческая природа. Здесь, видимо, действует тот же закон встречных потоков, который правит любым обменом веществ — от простейшего биологического до самого сложного душевного и духовного. В чем стержень фроммовской философии чувств? Любовь для Фромма — не просто чувство, это прежде всего способность любить, то есть отдавать другому силы своей души. «Это активная забота о жизни и росте того, что мы любим», это особое состояние души — человеколюбие и жизнелюбие: «Если я люблю человека, я люблю людей, люблю мир, люблю жизнь». Способность любить — это глубинное свойство активной и доброй души, часть ее всеобщей любви к миру, к жизни. Это не луна, которая отражает чужой свет, а солнце, которое светит само. Но люди не понимают этого, говорит Фромм, они считают, что любовь «вызывается объектом любви, а не способностью любить»[26]. Они как бы извлекают источник любви из себя и помещают его в другого — ищут нужный им «объект», а не растят в себе способность любить. Они ведут себя как человек, который хочет научиться рисовать, но не учится, а ждет подходящую натуру. Фромм, очевидно, прав: способность любить дается именно добрым состоянием души, активной настроенностью характера — тем, что названо здесь эгоальтруизмом. Если этого нет, никакой «объект» не разбудит в человеке любовь. Балалайка не создана для глубокой музыки, и какие бы скрипки ни возникали перед ней, она не сможет сравниться с ними. Пожалуй, только глубокая душа, и только в счастливой любви, способна породить океаническое чувство, как его называют, — чувство слияния с другим человеком, чувство проникновения в странный мир, в котором все земное выглядит преображенным, подсвеченным, окрашенным в «надземные» цвета.Океаническое чувство.
Возможно, тут, в этих взлетах счастливой любви, и проступает самая скрытая суть любви, ее глубокая и только сейчас начинающая проявляться всечеловеческая роль. Любовь — земное, но и словно бы надземное чувство, самое вселенское из земных чувств. Она как бы дает ощущениям человека невесомость от земных законов, от пут житейского тяготения. Эту странную силу любви с изумлением ощущают Роберт Джордан и Мария, герои хемингуэевского романа «По ком звонит колокол». Их трагическая любовь начинается на пороге гибели (они воюют против фашистов), и в одном из апогеев любви они испытывают поразительное чувство: «Время остановилось, и только они двое существовали в неподвижном времени, и земля под ними качнулась и поплыла». Время, которое остановилось, и земля, которая поплыла, — все здесь наоборот, и такой двойной парадокс ощущений бывает, наверно, только в очень сильной любви. И это двойное чувство — как бы отзвук странного «переворота ценностей», когда любовь делает вдруг людей и мир соразмерными, равными по масштабу. Чувство, что они двое парят в неподвижном времени, что они — частица всего, что есть в этом времени, — это, видимо, смутный прорыв в чувство «всечеловека», мировой величины, мгновенный, на несколько секунд, выход в странные, почти космические ощущения… Любовь дает им сильнейшую тягу к слиянию, к полному тождеству друг с другом. И Мария, эта простая сельская девочка, испытывает странные чувства и говорит Роберту: «Ты чувствуешь? Мое сердце — это твое сердце… Я — это ты, и ты — это я… Ведь правда, что мы с тобой — одно?» И это тоже одно из самых сильных озарений их любви. «Я — это ты», «я в тебе, а ты во мне» — это странное «андрогинное» чувство родилось, видимо, как эхо того душевного слияния, которое дает им любовь. Это чувство-иллюзия, чувство-мираж, которое, конечно, никогда не сбудется, но оно принадлежит, наверно, к тем обманам зрения, в которых есть кусочки прозрения. Что такое все эти неясные, какие-то «философские чувства» — чувства слияния друг с другом, с временем, с пространством? Возможно, Хемингуэй наткнулся на новый класс любовных чувств, которых мы до сих пор не замечали — самых первородных и потаенных, о чьем смысле мы сейчас можем только гадать. Впрочем, изредка эти странные чувства испытывали и до него. В XIX веке Жуковский любил безнадежной любовью Машу Протасову, и он писал ей: Тобою чувствую себя: В тебе природой наслаждаюсь. Возможно, это и есть океаническое чувство — чувство своего слияния с человеком или с миром, ощущение себя как частицы чего-то вселенски огромного — то ли времени, то ли пространства, — чувство океанической глубины и неразгаданности, в которое мы только сейчас начинаем заглядывать… Метерлинк, великий бельгийский поэт и драматург, автор «Синей птицы», как-то сказал: «Быть может, мы еще не знаем того, что выражается словом любить… Любить не значит только жалеть, только всецело собой жертвовать для счастья других, это нечто в тысячу раз более глубокое, чем могли бы выразить человеческие слова самые нежные, самые стремительные и сильные. Минутами кажется, что эта любовь — мимолетное, но до глубины пронизывающее нас воспоминание о великом первобытном единстве»[27].Любовь и «сверхсознание».
Мужчину и женщину притягивает, сближает, соединяет то, что они — мужчина и женщина; но, сближая, это и отдаляет их, ставит разделительные барьеры. Мужчина не может до конца понять женщину, женщина не может до конца понять мужчину; эти преграды лежат, видимо, в самой их глубинной природе. У них разное строение тончайших воспринимающих призм души: в женщине сильнее работают эмоциональные призмы, чем рациональные, в мужчине — сильнее рациональные, чем эмоциональные. Поэтому, наверно, и вся оптика ощущений у них разная, и они со сдвигом акцентов воспринимают одно и то же — женщины с перевесом эмоциональных слоев восприятия над рациональными, мужчины — с перевесом рациональных над эмоциональными. Все в жизни видится им одинаково и смещенно, в похожем и в разном свете, разном то в оттенках, то в главных тонах; и это смещенное зрение рождает у них частые вереницы непонимания. И только любовь — и то, пожалуй, лишь в моменты своего взлета — поднимает мужчину и женщину над разделительными барьерами и единит, сливает их до конца. Она как бы встраивает в них новые глаза — глаза озарения, наития, поднимает их воспринимающие аппараты выше их пределов — лечит изъяны человеческой природы, как говорил еще Платон. В сильной любви мужчина и женщина как бы обмениваются друг с другом сильными сторонами своих восприятий — яркой эмоциональностью и аналитичностью. В них как бы вливаются дополняющие друг друга достоинства мужского и женского восприятия и уменьшают друг друга их противоположные слабости — нехватка аналитичности у женщин и нехватка эмоциональности у мужчин. Любовь словно бы возносит людей над их природными потолками, ставит их — пусть на время — выше непреодолимых пределов. В Древнем Китае мужскую энергию называли ян, женскую — инь. Можно, пожалуй, предположить, что в инь относительно больше эмоциональных зарядов, чем рациональных, а в ян наоборот — больше рациональных; возможно, и сама энергия эмоций у них разная — в ян больше вихревого напора, подвижности, громче звучат боевые струны, а в инь сильнее струны мягкости, покоя, малоподвижности… И, обмениваясь потоками любви, мужчина и женщина как бы заряжают друг друга чужой энергией, восполняют односторонность своей энергии вкраплениями чужой, создают, хотя бы на время, как бы андрогинную энергию, энергию-сплав — инь-ян. Этот сплав освобождает их восприятия от «половой половинчатости», рождает новое, как бы надполовое восприятие, восприятие «всечеловека»… У него, видимо, есть особая интуиция — не обычная подсознательная, а куда более сильная, как бы «надсознательная», «сверхсознательная»[28]. Сверхсознание — это, наверное, плод глубинного союза между сознанием и подсознанием, дитя их слияния, парной работы. Это плод андрогинного союза обоих мозговых полушарий, образного и логического, плод их со-энергии, дитя их сдвоенного — и поэтому учетверенного по силе — проникновения в суть вещей. Сильная любовь как бы делает Я равным Ты; «Я — это ты, ты — это я, к другому как к себе» — все это не только метафора, но и парадокс, который бывает отчасти и на самом деле. Счастливая любовь ломает самые упрямые барьеры между людьми, она как бы воплощает в жизнь — пусть мимолетно — самые несбыточные утопии. Она на самом деле создает андрогинное «мы», но, конечно, психологическое, психоэнергетическое, не телесное. И в этом слиянии двух Я в одно Мы и состоит, видимо, скрытая вселенская сила любви. У людей, которые счастливы глубоким счастьем, вырабатывается как бы «сдвоенное я», как это было у Левина и Кити, Роберта Джордана и Марии. Такое удвоение себя другим «я» — самый, пожалуй, реальный мираж, который бывает в счастливой любви. В последнее время начинает проясняться, что сверхсознание — это, очевидно, высшая у людей творческая сила, основной инструмент открытий. Возможно, это главная сила в нас, которая первой прорывается в неведомое, в новые слои знаний. И способность любить — тоже, видимо, высшая человеческая способность: это именно творческая способность души, которая лежит у верхних пределов человека, на вершине его возможностей. Любить — это ведь значит ощущать другого как мировую величину, как олицетворение человеческого рода, и творить ему счастье, относиться к нему на пределе человечности — со сверхзаботой, сверхвниманием, сверхдобротой. Двойная оптика любви выступает здесь своей парадоксальной, неожиданной стороной. Когда наши чувства ощущают любимого как центр мира, то с житейских позиций это просто обман зрения. Как говорил язвительный Бернард Шоу, «любовь — это грубое преувеличение различия между одним человеком и всеми остальными»[29]. Но, может быть, когда мы ощущаем любимого как мировую величину, у этого ощущения есть и «наджитейский» смысл? Может быть, это как бы эмоциональный телескоп, и он в натуральную величину показывает то, что мы обычно не видим — неповторимость, единственность каждого человека, бесценное для него значение его собственной жизни? Возможно, это как бы зеркало его человеческой незаменимости, как бы эхо его жизненной неповторимости. Впрочем, не только его: видимо, это еще и эхо нашей собственной неповторимости. Видя в другом центр мира, мы бессознательно вкладываем в него и свое чувство единственности. Пожалуй, ощущение любимого мировой величиной — это и громкое эхо от тихого шепота — от неосознанного ощущения своей жизни как сверхценности, — абсолютной ценности. Это как бы психологическое эхо от биологической жажды жить, биологического наслаждения жизнью — первейшего, пожалуй, фундамента всякой жизни. Любимый на весах любящего делается как бы бесконечностью — бесконечной ценностью, его ощущают как частичку, искорку «абсолюта» — то есть частичку наивысшей ценности, которая остается наивысшей на любых весах. И возможно, любовь — единственное зеркало, в котором пусть странно, но видна эта настоящая цена человеческой жизни… Впрочем, это касается и других видов любви — родительской любви к детям и детской любви к родителям. Возможно, все эти чувства таят в себе прорыв в какие-то очень глубокие прозрения, к первоисточникам жизни, к ее коренному смыслу; возможно, этот смысл скрыт от наших обыденных ощущений и проблескивает только в моменты любви…Две сути любви и ее социальная роль.
Наверно, во всякой любви есть и явные, обыденные чувства, и тайные, смутные, загадочные ощущения. Любовь двояка везде и во всем, у нее всегда есть провалы и взлеты, и в ее обычной, будничной жизни есть, пожалуй, и надземные вершины, и подземельные пропасти. «Можно ли обуздать любовь? Подчинить ее Разуму, внутреннему голосу совести? Ведь тогда исчезнут многие преступления на земле… Могут ли это понять мужчины? Могут ли это понять женщины? Если да, то почему многие женщины втайне гордятся преступлениями, которые совершили влюбленные в них мужчины? И вообще совместимы ли Любовь и Разум? (Ленинград, центральный лекторий «Знания», август, 1980). Наверно, пока природа человека останется теперешней, наши чувства всегда будут двоякими — разумными и антиразумными. Чем слабее чувство, тем оно покорнее разуму, а чем сильнее, тем непокорнее, самостоятельнее, — это, видимо, закон нашей психологии. Любовь и разум живут в союзе друг с другом, только если любовь живет в союзе с миром. А когда любовь уязвлена, когда в нее закрадывается трещина, между любовью и разумом тоже возникает трещина. Наверно, и в самом идеальном будущем любовь и разум всегда будут в разладе, если любовь будет терпеть ущерб, опасаться за свою жизнь. Человеческие чувства — механизмы куда более древние, чем разум, они куда более укоренены в биологию. Не в пример разуму, ими куда меньше движут спокойные пружины и куда больше — бурные, взрывные пружины, которые коренятся и в светлых, и в темных зонах нашей души. Что касается преступлений, то в конце XIX века известный тогда французский юрист, исследователь судебной психологии, писал: «Любовь, которая играет такую важную роль в жизни и в литературе, занимает первое место также и в статистике преступлений и самоубийств… Мифологические стрелы Амура превратились в настоящие кинжалы и револьверы, которые в буквальном смысле слова пронзают сердца»[30]. И в наше время уязвленная любовь, пусть реже, но все-таки часто толкает людей на преступления. По данным МВД, четверть всех убийств происходит у нас на семейной почве: убивают друг друга муж, жена, родственники[31]. Впрочем, на преступления, наверно, куда чаще толкает не уязвленная любовь, а чувства более отчаянные и низкие. Если же это не самозащита, не взрыв отчаяния, а злобная месть, надо, чтобы в преступнике еще до этого погиб человек, а с ним и способность любить. Любовь, наоборот, в большинстве случаев оберегает людей от преступления. Но бывает, что любовь только что рождается в человеке, только начинает перерастать из влюбленности в любовь. Она еще не успела перестроить человека, и взрыв отчаяния может ввергнуть его в кризис, отдать его в плен диким, черным пружинам его души. И то же самое, наверно, может быть с человеком слабых устоев. Кризис отчаяния — агония гибнущей любви — может взломать в нем нестойкие засовы разума, подчинить его извержениям темных чувств. Любовь — в этом ее светлая суть — влечет человека вверх, а уязвленная любовь — в этом ее темная суть — может тянуть человека вниз. В уязвленной любви часто, видимо, сплетено высокое и низкое, светлое и темное, «над-человеческое» и «недо-человеческое». Любовь — не только взлет в такую свободу, которую человек никогда не ощущал, — в свободу седьмого неба, экстаза, свободу от земной обыденности. Это и рабство — плен у любимого человека, сверхзависимость каждого шага твоей жизни от каждого его шага. Это как бы рабство в свободе и свобода в рабстве — смешение как будто бы несмесимых крайностей. Как в плазме, четвертом состоянии вещества, все смешано, сорвано со своих орбит, так и в любви, как бы огненной плазме чувств, смешиваются, слипаются несовместимые полюсы. Любовь как бы окунает человека в первоосновы жизни, в ее первоистоки — в сплетение первичных полярных кирпичиков, из которых состоит жизнь. «Еще 20–30 лет назад любовь нередко подвергалась дискриминации в нашем общественном мнении. На нее мало обращала внимание литература, ее почти не замечали по-настоящему в драматургии, в кино, а если она и встречалась, то как своего рода эмоциональный гарнир, добавка к действию. Критики нередко обрушивались на произведения о любви, говоря, что это мелкая тема и надо писать о главном, а не о побочном в жизни. Поэт Борис Слуцкий писал тогда: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне». С тех пор положение изменилось, но в чем причина этих гонений на личные чувства?» (ФИАН — Физический институт Академии наук, 1978). Верно, положение сейчас изменилось, внимания к любви стало гораздо больше — и в искусстве, и в печати, но, к сожалению, внимание это часто бывает поверхностное, ручейковой глубины. В расцвете госсоциализма, в 30—80-х годах человек был всего лишь средством для достижения государственных целей. Тогда считалось, что все силы надо бросить в производство и общественные отношения, а остальное придет само. Подход к человеку был в тогдашней идеологии частичный, антигуманный — не как к человеку, личности, а как к безликому работнику, колесику и винтику социального механизма. Поэтому и считались в нем важными прежде всего деловые и общественные черты, а все личное — то есть огромное измерение всей его жизни и психологии — оттиралось к кулисам, оттеснялось на второй план. Сейчас этот расчеловеченный подход ушел с авансцены, но в нашем обиходе и сегодня царит представление, что любовь социально второстепенна, потому что она — личное, частное чувство. А ведь это личное чувство — сила планетарных размеров, один из самых мощных двигателей духовного прогресса земли. Любовь — и именно в своем домашнем халате — пробуждает в людях отношение к другому человеку как к себе самому. А такое отношение — вспомним — это опора всей человечности, строительный кирпичик гуманизма, первичная клеточка всей человеческой нравственности. Любовь как бы лепит в нас модель истинно человеческого отношения к другим людям. Она настраивает по камертонам человечности не просто сознание, не просто верхние слои личности, а самые глубокие, самые безотчетные пружинки наших чувств и поступков. В быту, в личной жизни она дает людям то, что в жизни общества дают высшие идеалы и высшие принципы общественного устройства, которые выстрадало человечество. Любовь — как бы полпред этих идеалов, их дитя и в то же время один из родителей: она и пропитывается ими, и сама рождает их, внедряет их в жизнь. И поэтому любовь — одно из самых глубоких проявлений человечности, высший, видимо, вид понимания человека человеком, высший вид помощи человека человеку. Сила этого чувства, возможно, только начинает вызревать в нынешнем человечестве; возможно, эту силу во весь размах ощутят на себе только наши далекие потомки. Но даже и сейчас, действуя лишь в малую часть своей силы, любовь стоит среди самых главных архимедовых рычагов, которые могут повернуть землю, вывести людской род из тьмы к свету. К сожалению, мы плохо понимаем стратегическую роль любви и наносим этим мамаев ущерб и любви, и себе, и всему ходу прогресса… А теперь вспомним вопросы девушки — самые первые в книге. — Считаете ли вы его чувство любовью? — По-моему, сказать, любовь это или влюбленность, пока нельзя. Чувство юноши живет только в его душе, оно еще не обнаружило себя в его будничном отношении к ней, не доказало, что оно такое. Можно предположить, что у этого чувства есть важные черты любви. Оно глубоко переворотило его — он избавился от чувства ничтожности, перестал считать себя рабом начальников и обстоятельств. Мало того, он начал чувствовать «страшную ответственность» за каждый свой поступок и за весь мир. Пожалуй, только любовь может так резко менять человека, так перепахивать все его глубины. Впрочем, мы еще не знаем о его чувстве самого главного — какое оно в его отношении к ней, стоит ли оно на я-центризме или на эгоальтруизме. Может быть, это все-таки влюбленность, и она просто круто подняла его самомнение, сделала его в своих глазах мировой величиной? Конечно, шансов на то, что это любовь, больше, но, чтобы точно понять, что это за чувство, надо увидеть, какой он в своем поведении, в отношении к близким. — Верно ли поступила она, если он ей не нравился и его любовь ей не льстила? — Она, по-моему, поступила честно, в ключе своего характера. Если женские струны ее души не потянулись к нему, возможно, что ее интуиция уловила, что он не ее пара. Но, может быть, она поторопилась? Может быть, ее интуиция не принимала его таким, какой он был до перелома, и приняла бы таким, какой он стал после перелома? Конечно, ответить на это может только она сама. — Что теперь делать ему? — Это зависит от того, какой он. Если у него есть настойчивость и деликатность, ему стоило бы принять ее дружбу. Возможно, ее интуиция повлеклась бы к его новому облику, и со временем дружба могла бы перерасти в любовь. Может быть, этого и не случилось бы, но, мне кажется, это лучший выход и для него, и для нее.Любовь и мир.
Упростительство.
«Как зависит любовь от общества, экономического уклада? В некоторых философско-этических работах, в частности в книгах Черткова «О любви» и Чекалина «Любовь и семья», проводится мысль, что формы любви разные в разных классах и общественно-экономических формациях. Вы же говорите, что это чувство не классовое, а общечеловеческое. Чем вы можете обосновать свою позицию?» (Новосибирск, высшая партшкола, ноябрь, 1978). До семидесятых годов у философов-этиков был в ходу как бы «надстроечный подход» к любви, и он громко звучал в книге доктора философии В. Черткова «О любви» (М., 1964). «В каждом обществе люди любят на свой манер», — убеждает автор, и основным приемом его книги было лобовое выведение форм любви из форм общества. «При капитализме, — говорил он, — любят так, как могут любить при капитализме, и в любви человека капиталистического общества так или иначе отражаются все изъяны этой формации». То есть любовь при капитализме — это не зеркало человека, причем лучшего в человеке, а зеркало формации, причем худшего в ней — «всех изъянов»! Чувство для В. Черткова — чуть ли не зеркальное отражение общественного уклада, и это совсем не его личный подход. Такой взгляд на отношения человека и общества, на суть человеческих чувств был ходовым, и В. Чекалин, автор книги «Любовь и семья» (М., 1964), смотрел на любовь сквозь те же призмы. Знаменитую рыцарскую любовь, одну из вершин человеческой любви, он считал одним из ее провалов. «Любовь рыцаря к даме, — писал он, — нельзя представлять как что-то идеальное и возвышенное» — она «была выражением одной лишь чувственности, которая внешне прикрывалась игрой ухаживаний». Так прямо и сказано об этой великой духовной любви, полной утонченного платонизма: «одна лишь чувственность», которая «прикрывается ухаживанием»… Кроме того, по мнению В. Чекалина, насаждая эту «внебрачную любовь», «рыцарство организовало внутриклассовый всеобщий адюльтер». А ведь общеизвестно, что рыцарская любовь была тяготением душ, а не тел. Идеал рыцарской любви не дозволял обладания дамой, и потому Тристан клал «меч целомудрия» между собой и Изольдой и мог спать рядом, не касаясь ее. Сквозь те же уличительные стекла В. Чекалин смотрел и на любовь буржуазных времен. «Буржуазия, — писал он, — до того загрязнила само понятие любви, что даже произнесение этого слова в «приличном» обществе было равнозначно сказанной непристойности». Это не оговорка. «Брак в мире собственности, — писал В. Чекалин, — носит антигуманистический характер, мужчина и женщина чаще всего подписывают брачный договор, не питая друг к другу даже чувства симпатии». Но брак — одно из самых добрых, самых защитных открытий человечества, и как бы ни портила его собственность, в нем всегда перевешивает человечная сторона: он защищает от произвола детей, материнство, в том числе и в самых собственнических классах. А чем «антигуманны» браки у людей из народа, то есть у большинства людей собственнических времен? Вульгарный социологизм — фельетонный парадокс — оказывается, социологически неграмотен: для него все браки при капитализме — и все любовные чувства — буржуазные, а при феодализме — феодальные. Как будто семейная культура трудовых классов не была антифеодальной и антибуржуазной и ее народные устои не сопротивлялись чистоганному эгоизму. На таком же уровне вульгарный социологизм говорит о человеческой психологии. В. Чертков, например, открыл, что есть «социалистические и капиталистические противоречия между разумом и чувством». И ревность тоже была для него капиталистической и социалистической. При капитализме, говорил он, причины ревности у мужчины были чисто имущественными, экономическими — «неверная жена может принести в семью чужих детей, и тогда все имущество семьи может перейти по наследству к чужим людям». Поэтому «проявлял он обычно эту ревность как собственник» — не как живой человек, а как экономическая единица. При социализме ревность, по В. Черткову, не экономическая, и поэтому передовая — в пей «всегда есть момент соревнования». Как же идет это соцсоревнование в соцверности? «Если моя любимая особенно пристально посмотрела на другого», то я как существо сознательное, не буду рвать страсть в клочья, а «прежде всего подумаю о том, что привлекательного она нашла в этом человеке»… Ревность и тут не боль любви, не чувство, а дело сознания, логики, отклик экономических и идеологических слоев человека. И в том же ключе упрощенчества В. Чертков писал о любви в нашей стране: «С рождением социализма родилась новая любовь. Ее отличают многие такие черты, каких никогда прежде не было». Какие же это черты? «Мы впервые освободили любовь от унижения, оскорблений… Мы объявили войну представлениям о любви как о тайном, позорном грехе! У нас на первом плане человек, личность!» Увы, на таком вот барабанном языке с нами разговаривают и дальше, и такой подход ведет к пародийным открытиям. Наша эпоха, говорил В. Чертков, открывает «безграничные возможности для счастливой взаимной любви». У нас в стране «только взаимная любовь ведет к браку, а в браке она не только не прекращается, а, наоборот, расцветает!» «В СССР заключается самое большое количество браков в год в расчете на тысячу человек населения… Значит, наибольшее число счастливых людей живет в первой в мире стране социализма!» Откуда эта фанфарная бухгалтерия счастья? Как можно ставить знак равенства между числом браков и счастливых браков? И из какого пальца взята уверенность, что у нас любовь в браке не стихает, «а, наоборот, расцветает»? Думая, что говорит о любви, В. Чертков говорил не о любви, а о взглядах, идеях, подменял чувства позицией, — причем позицией казенной лакировки, застойной, госсоциалистской: мы живем в лучшем из обществ, где максимум любви и счастья на винтик населения… Он отсекал от человека его психологию, его личность и превращал живого человека в манекен, фанерную схему. Это и есть вульгарно-социологическое понимание человека — представление о нем как о марионетке, которой движет кукольник-формация, причем формация розовая, без темных пятен. Для вульгарного социологизма чувства связаны с обществом примерно так же, как телега с лошадью, и в таком оглобельном ключе он и писал о любви…Метод постижения любви.
Любовь связана с миром тысячами нитей, часто они неожиданны, запутанны, и шифр их сплетений лишь с огромным трудом поддается разгадке. Впрочем, есть призмы, которые помогают увидеть, как именно любовь связана со своей социальной почвой. Первая такая призма — психологическая: любовь — как бы внутренняя тень человека, ее характер повторяет очертания его характера, и то, какая она, зависит от того, какой он. Вторая призма — социально-психологическая. Любовь — это и «тень» среды, в которой живет человек, и как жизнь ростка зависит от почвы, в которой он сидит, так и жизнь любви зависит от ее почвы, ее среды. Говоря условно, у любви есть как бы два измерения — внутреннее и внешнее (вскользь об этом уже говорилось). Внутреннее — это любовь-чувство, жизнь сердца, ощущения и переживания любви. Внешнее — это любовь-отношение, поведение любящих, их житейские связи, нравы и обычаи любви. Любовь-чувство — зеркало личности человека, его характера, темперамента, нервного склада. Со средой, с обществом она связана не прямо, а косвенно — только через личность человека. Любовь-отношение — отпечаток и личности, и среды, на нее прямо влияют общественные отношения, культура, мораль, семейные нравы. Любовь-чувство более общечеловечна, любовь-отношение более социальна. Любовь-чувство прямо зависит от человека — от его исторического типа, от склада его психологии и биологии. Корни любви как чувства лежат именно в психологии человека, а не в общественном укладе. От общества оно зависит опосредованно — через промежуточную ступень человека, личности. Любовь-отношение прямо зависит, во-первых, от среды, общества (в том числе от семейных установлений, любовной морали), а во-вторых, от исторического типа человека, от склада его психологии и биологии. Так сложно — под стать жизненной сложности — устроена та система призм, через которую можно разглядеть сложные связи любви и мира. Эта оптическая система позволяет увидеть без упрощений, как меняется любовь с ходом истории и что движет ее переменами; она дает почву — более или менее твердую — и для гипотез о будущем любви. Это, видимо, и есть по-настоящему диалектический подход: он бережно, деликатно охраняет своеобразие любви как особого чувства и особого социально-психологического явления. Это подход социальный и психологический вместе, а не узкосоциальный, как у вульгарного социологизма. Он связывает любовь с ее социальной почвой только через человека. Вульгарный социологизм пренебрегал личностью человека, он не видел активную роль его психологии, биологии, общечеловеческих чувств. Из цепочки «общество — личность — любовь» он выбрасывал ее центральное звено, личность, и прямо выводил любовь из социальных устоев. Этим он делал любовь из детища двух родителей — человека и среды — ребенком одной только среды, эдакой полусиротой, дочерью одного родителя. Поэтому он и обесцвечивал, обескровливал любовь, говорил о ней на чужом ей языке.Что такое общечеловеческое чувство.
«А что же такое любовь как общечеловеческое чувство? Она что, надклассовая? И чем она отличается от классовых чувств?» (Общежитие МГУ на проспекте Вернадского, ноябрь, 1979). Общечеловеческое чувство — это чувство, которое испытывают люди всех времен и всех классов. Оно, как, скажем, материнское чувство, может быть у каждого, кто принадлежит к человеческому роду. Его основа — эгоальтруизм — та же у раба и свободного, у принца и нищего, у крестьянина, рабочего, капиталиста, интеллигента. Значит ли это, что классовое положение человека — или его время — не влияет на его чувство? Конечно, нет: человек — это сплав общечеловеческих и социально-исторических свойств, и из этого сплава состоит вся его личность, душа, нравы. Есть, наверно, такие времена и такие социальные группы, которые более благоприятны для любви, а есть — менее благоприятны. Скажем, в собственнических слоях и при слабой культуре мог возникать особый психологический климат — в нем громче других звучали «владельческие чувства», чувства «получания», «потребления». Этот климат больше растил в людях я-центрические струны души, выдвигал на первое место «эмоции для себя» — и мешал этим вырастать более глубоким и сложным эмоциям. Но значит ли это, что человеку из такого слоя закрыт путь к любви? Совсем нет. Душу человека создает его социальная позиция, а не социальное положение. Социальная позиция — это образ жизни человека, то, что он делает, как живет, чем дышит. Именно образ жизни лепит наши чувства, взгляды, мораль — не пассивное классовое положение, а активная социальная роль. Для вульгарного социологизма люди — как бы наперстки на пальцах класса, их души заквашены на одних классовых дрожжах, пружины чувств отлиты из классового вещества. Но у социальных влияний на человека есть два русла: классовое положение человека — и его социальная позиция, повседневная жизненная роль. Социальная позиция может вырастать из социального положения и совпадать с ним. Но она может и идти наперекор ему: здесь, видимо, и лежит отгадка множества великих судеб — судеб ученых, писателей, революционеров — выходцев из высших слоев. Когда социальная позиция человека человечна, в душе его вырастают те глубокие и мягкие струны, на которых может разыгрываться и любовь. Возможно, в людях из «невыгодных» для любви слоев такие глубокие струны рождаются реже. Но они могут испытывать любовь, неповторимую по своей глубине, уникальную по яркости и сложности; об этом говорит вся любовная литература человечества, вся его тысячелетняя поэзия. Бывает и наоборот: люди из слоев, «дружественных» любви, часто ведут такую повседневную жизнь, которая не растит в них глубокие и добрые струны души, способность к любви. Если жизнь изматывает их, или не развивает им душу, если ими правят простейшие интересы, они и рождают в душе струны, на которых могут разыгрываться лишь простейшие чувства. В ходе истории от этого страдали миллиарды людей из трудовых слоев, и сегодня страдают сотни миллионов. Кроме того, жизнь, при которой забота о себе перевешивает заботу о других, вселяет в человека я-центрическое подсознание, неспособное к любви. И пусть он входит в самый несобственнический слой, но в его душу просочилось — и правит чувствами — как бы внутреннее, психологическое собственничество — я-центризм. Жизненная позиция и здесь оказывается сильнее, чем социальное положение, и она и сегодня обедняет души сотен миллионов людей… Корни любви как чувства лежат именно в личности человека, а не в устройстве формации, и выводить любовь из формации — все равно что искать корни дерева не в почве, а в земной коре. Конечно, ход истории меняет человека, а вместе с ним и его чувства — его «внутреннюю тень». Потому-то у людей разных эпох и народов огромная разница в психологии любви, в ее национальном и культурном облике. Но сквозь всю эту разницу как бы просвечивает одинаковая сердцевина их чувств, то, что и делает их любовью — дорожение другим как собой. Поэтому, видимо, любовь древнего грека и индуса, горожанина Возрождения и рыцаря средневековья, рабочего и капиталиста — все они были похожи и не похожи друг на друга. Похожи основой своей психологической ткани — эгоальтруизмом, и не похожи ее живым обликом, национальным и культурным. Каждый человек — как бы сплав общечеловека и человека своей эпохи, нации, класса. Поэтому и общечеловеческие чувства всегда выступают в костюмах своего времени, облекаются в плоть своей эпохи и нации. Силы времени, культуры, уклада как бы окрашивают их в свой цвет, но они всегда остаются при этом общечеловеческими, всеклассовыми, остаются исторической ступенью общечеловеческих чувств.К планетарному сознанию.
«Сейчас, когда началось возрождение марксизма, все чаще говорят (вслед за Лениным), что общечеловеческие ценности выше классовых. Мне кажется, здесь лежит магистральный путь, по которому должна идти перестройка всего нашего миропонимания и всего отношения к миру. Две с половиной тысячи лет назад Конфуций выдвинул великую гуманистическую идею — строить государственные отношения по образцу семейных. На мой взгляд, это и идеал, и норма, к которой надо стремиться, — норма гуманистического общества. Сегодня эта норма — главный ориентир для спасения человечества, и она должна лечь в основу не только государственных, но и межгосударственных отношений. Все народы мира — члены одной семьи, одного рода, и они могут спасти себя, только относясь друг к другу с родственной любовью. Поэтому надо воспитывать в людях семейные, общечеловеческие чувства как самые главные чувства людей. Надо учить нас, как применять основу этих чувств — добрую заботу о близких — не только к близким, но и к далеким, в этом, очевидно, и состоит коммунистический гуманизм». (Владимир Олегович Кирюр, психолог, Киев, май, 1987). В чем суть нового сознания, которое сейчас вызревает? Наверно, в том, что оно начинает делаться именно планетарным, общечеловеческим. Идет переход — тяжелый, болезненный — от национально-классового сознания к планетарному, «глобусному». Это важнейший шаг к новой цивилизации — общечеловеческому союзу всех людей. Планетарное сознание и станет, видимо, тогда главным, а его нынешние первые шаги — это, возможно, первые родовые толчки новой цивилизации. Конечно, переход к общечеловеческому сознанию — это не отказ от национально-классового подхода: пока жива нынешняя цивилизация, нужен и такой подход. Но это отказ от его суженности — обогащение его, расширение, сращивание с новым подходом. Основатели марксизма считали, что высшая цель коммунистической классовости — создать общество без классов, которое будет стоять на общечеловеческих основах. Поэтому переход к общечеловеческому миропониманию — это крупнейший шаг в возрождении марксизма. Сейчас все главные земные проблемы стали глобальными, общемировыми, и, только поняв, что все они завязаны в планетарные узлы, можно пытаться развязать их. Выходы из глобальных лабиринтов могут быть только глобальными — для всего мира; потому-то и мировоззрение в эпоху глобальных проблем должно стать глобальным. В сознание людей сейчас как бы вращивается новая призма, и она перестраивает все их духовное зрение. К призмам национальных и классовых интересов добавляется призма общечеловеческих интересов. Соединяя свои лучи с их лучами, окрашивая их в свой цвет, она меняет для нас всю картину мира. Новое сознание скачком расширяет в человеке чувство хозяина. «Мое» для него уже не только страна, класс, профессия; в «мое» входит теперь все человечество, и человек начинает ощущать себя как бы со-хозяином всего мира. Именно здесь — в резком расширении чувства со-хозяина — и лежит психологическая сердцевина нового сознания. Человеческое «я» необыкновенно раздвигает свои границы, начинает рождаться совершенно новый исторический тип человека — человек как мировая величина; уже не гомо локалис — человек местный, а гомо глобалис — человек всемирный. Пожалуй, только такой человек сможет стать спасителем человечества — потому что решить глобальные проблемы сможет только глобальный человек. Рождается новая точка отсчета, новая единица измерения: что дает каждое событие — или чем оно грозит — человечеству, земному шару, а не только стране, классу, нации? Конечно, это планетарное сознание делает на Земле лишь самые первые шаги. Людей, у которых оно есть, наверно, мало, куда меньше, чем тех, у кого чувство сохозяина замкнуто рамками дома, семьи. У таких людей сознание даже не национальное и не классовое, а как бы хуторское, и чем их больше, тем это опаснее для человечества. Уже говорилось, что спасти людской род от гибели — военной, экологической, нравственной — смогут только общечеловеческие усилия. Спасение сможет прийти, только если все человечество станет единым в своей спасательной работе — особенно экологической и нравственно-социальной. А для этого всем классам и нациям придется поставить свои общие интересы над разными, дружественные — над враждебными. Мне кажется, у нынешней цивилизации есть как бы два генеральных эпиграфа. Первый — о ее настоящем: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек» (А. Вознесенский). Второй — о ее будущем: «Или братские объятья, или братские могилы» (Б. Заходер). Другого пути, наверно, нет, и чем позже мы поймем это, тем больше будем похожи на брейгелевских слепцов, которые покорно бредут к пропасти. Социализм и капитализм, развитые и неразвитые страны, христианство и мусульманство, наука и религия — все они, чтобы спасти Землю, должны будут, видимо, заключить мир, найти те общечеловеческие интересы, которые их сближают, и перестроить всю цивилизацию под знаком этих интересов. Тогда, возможно, и начнут отмирать общественные уклады, которые построены на неравенстве и эгоизме. Они враждебны общечеловеческим интересам, ибо основой таких интересов может быть только дружеский союз «я» и «мы». Одним из главных двигателей всех этих переворотов — возможно, главным психологическим двигателем — станет любовь. И не только потому, что она вселяет в людей эгоальтруизм, человечность. Вспомним: любовь как бы вздымает человека над самим собой, делает его — пусть смутно, в ощущениях — мировой величиной, частью всемирного целого. Она вселяет в человека — пусть проблесками, вспышками — планетарное сознание, чувство, что он соразмерен миру. Как в том письме, на самой первой странице книги: «Он полюбил ее и стал смотреть на себя по-новому… Он стал чувствовать страшную ответственность за каждый свой поступок. Мир в кризисе, он странен и непонятен, и только он может что-то сделать с ним». Так чаще бывает с романтическими юношами и реже — с девушками. Возможно, такое пробуждение всеобщей ответственности, как бы чувства «всеобщего брата» — это именно мужское расширение «я», которое дает любовь. Возможно, женский вариант такого расширения более мягок — пробуждение в душе неосознанной заботливости, как бы чувства «всеобщей сестры», «всеобщей матери». Так это или нет, но любовь может показывать человеку его подлинную величину, его истинные — мировые — размеры. Правда, она делает это очень редко, но виновата в этом, наверно, не любовь, а жизнь, которая тесна ей, не дает раскрыть свои силы…Родовой и видовой человек.
«Вы писали в «Трех влечениях», что современный человек —«видовое», а не «родовое» существо, представитель не человеческого рода, а класса, профессии, нации. По-вашему, такому человеку недоступен расцвет любви, и он может настать, только когда «видовой» человек станет «родовым». Категорически несогласен. Современный человек вполне способен дорожить любовью, и если общество будет помогать в этом людям, то расцвет любви может наступить и в наши дни». (Преподаватель философии. Горький, клуб молодежного общения «Я и ты», май, 1987). «Видовой, родовой — зачем переусложнять, придумывать какие-то названия? Человек есть человек, пусть он белый или негр, древний римлянин или наш современник. Все одинаково млекопитающие, все относятся к роду гомо сапиенс, а лишние эпитеты только запутывают дело». (Политехнический, июнь, 1979). Верно, переусложнять так же плохо, как и переупрощать, но в подходе к человеку упрощений, пожалуй, куда больше, чем усложнений. Отступим чуточку назад, вспомним: человек — это пересечение всех мировых сил, которые правят жизнью, а любовь — зеркало человека. Значит, чтобы понять судьбы любви, надо понять суть человека и его мировые судьбы. В нынешнем запутанном мире путь к простоте ведет только через сложность — через распутывание этой сложности, через попытки понять, из каких простых волокон она сплетена. Это неверно, что все гениальное просто: просты, пожалуй лишь частицы гениального целого, а само это целое сверхсложно. Простота майского восхода, соловьиной трели, пушкинской строки — это лишь внешнее выражение их глубинной сверхсложной гениальности. А какая простота у «Махабхараты» и Библии, у творений Леонардо да Винчи и Толстого, Бетховена и Чайковского? То же, наверно, касается и любви человека. Если мы поймем разницу между видовым и родовым человеком, мы получим важный ключ к судьбам любви и к судьбам мира. Нам будет проще понять сложную и мучительную загадку — почему любви тяжело в нынешнем мире, и что надо, чтобы ей стало легче… «Родовой» человек — это и есть «общечеловек», гомо сапиенс, представитель всего человечества: негр и белый, древний римлянин и современник. От всех других живых существ, других родов жизни он отличается тем, что он — личность, индивидуальность, причем разносторонняя. Именно многосторонность отличает человека от животного, Фейербах, по-моему, точно говорил об этом: «Человек не есть отдельное существо, подобное животному, но существо универсальное, оно не является ограниченным, и… эта универсальность захватывает все его существо»[32]. Чем слабее в человеке личность, разносторонность и чем сильнее узость, безликость, тем дальше он, видимо, от родового состояния, тем меньше он человек. Ибо человек не вынес свою человеческую природу из животного царства, и она вырастает, зреет в нем с ходом истории. Да, теперешний человек «видовое», не родовое существо; человечество еще далеко не единый род, оно разделено на «виды» — нации, классы, группы, которые занимаются только физическим или только умственным трудом, только производством или только управлением. От этого в людях куда больше звучат «видовые», чем родовые струны — классовые, национальные, профессиональные… Пожалуй, главные свойства человека — именно как человека, родового существа — это его общечеловеческие, родовые свойства. Человек новой цивилизации и будет, видимо, таким родовым существом, общечеловеком. Социально-видовые деления родились вместе с разделением труда и собственности, с рождением классов. И наверно, так же исторически, как родились, они и умрут — когда умрут классы. Впрочем, угаснут, конечно, не все видовые деления, а только те, которые враждебны родовым, сужают человека, не дают ему стать разносторонним. Навсегда, конечно, останутся различия биопсихические, такие, как холерик — флегматик, очень надолго останутся различия национальные, еще дольше, может быть навсегда, — расовые; они не враждебны родовым свойствам людей, а служат их естественным воплощениям. Что такое эти общечеловеческие, родовые свойства? Наверно, не только любовь и гуманизм, не только тяга к творчеству, красоте, свободе. Это и стремление к полноте жизни — к многостороннему и цельному развитию своего «я», к многостороннему и глубокому союзу с другими людьми. Разносторонняя жизнь разума и чувств, разностороннее развитие способностей и насыщение потребностей, разностороннее и свободное общение между людьми — это, наверно, и есть главные родовые свойства человека, и они идут от самой его общественной природы. Маркс называл «самоцелью», то есть высшим идеалом человека, «целостность развития», «абсолютное выявление творческих дарований человека», жизнь, при которой «человек воспроизводит себя не в одном каком-нибудь определенном направлении, а производит себя во всей целостности…»[33]. Во времена классового разделения труда человек не может быть целостным и разносторонним. Такое разделение превращает людей во флюсообразных «видовых» существ, на всю жизнь приковывает их к одному занятию. «Вместе с разделением труда, — писал Энгельс, — делится на части и сам человек. Развитию одной какой-нибудь деятельности приносятся в жертву все прочие физические и духовные способности. Это калечение человека возрастает в той же мере, в какой растет и разделение труда»[34]. Сейчас такое калечение достигло предела. Специализация все больше сужается и все больше ведет людей к профессиональному идиотизму — делает их умными в одной области и идиотами в других. Ее дробящее, рассекающее влияние все больше проглядывает во всех действиях, мыслях, чувствах человека, во всем образе его жизни — в том числе и в любви. Пожалуй, главный ее вред в том, что она вычленяет в человеке один узкий сектор — профессиональные умения, и отсекает их от самого главного в человеке — от его души, нравственности — ядра его «я». Она растит профессиональные свойства человека в отрыве от его человеческих свойств, отчужденно от них, и тем самым разрушает человеческую личность. Современный труд чаще всего состоит из дробных, частичных операций: человек делает деталь машины, частицу расчетов, изо дня в день совершает все те же однообразные наборы действий. Для такого труда нужны в основном технические умения, типовые и обезличенные, он не вовлекает в себя личность человека, его душу. В самих технических основах современного труда заложено отчуждение личности. Потому-то и здесь, в этом устое индустриальной цивилизации, нужна коренная революция. Будет ли человек личностью или стандартным существом, будет ли он частичным или универсальным — это вопрос жизни и смерти для человечества. Мы живем сейчас в переломные времена, когда на арене истории начинают появляться как бы первые черновики этого будущего человека. Начинается переход — долгий, мучительный — от видового человека к родовому, — начинаются подступы к совершенно новой эре в жизни человечества. Возможно, и у любви будет другая судьба в этом новом мире. Родовому чувству тесно в видовом человеке, как тесно дыханию в узкой груди, стиснутой корсетом. Когда человек станет родовым, в нем, наверно, изменится вся эмоциональная жизнь, вся психологическая почва для чувств. Родовому чувству будет в нем уже не тесно, а просторно, и оно, пожалуй, впервые станет жить в нем свободно и не скованно…Путешествие в утопию.
У любви есть одно чрезвычайное свойство, которое отличает ее от влюбленности и других влечений. Модель этих влечений — я-центризм — легко, видимо, вписывается в рамки всех человеческих неравенств. А модель любви — тяга к равновесию с другими людьми — враждебна модели неравенства. Сама подспудная материя любви, сама ее тайная тяга к равновесию двух «я» бессознательно восстает против человеческих перегородок, барьеров, неравенства… Возможно, любовь — это как бы далекое эмоциональное предвосхищение той новой цивилизации, того великого социального равенства, которое может настать на земле, Таким бессознательным предвосхищением она, видимо, была всегда — с тех пор, как она появилась на свет. Как машина времени, она переносила людей в утопию, на смутные и мимолетно живущие островки будущих идеальных нравов, Возможно, что и великие социальные идеалы сами вырастали — пусть отчасти — из той человечнейшей модели отношений, на которой всегда стояла любовь. То же касается и других общечеловеческих чувств — семейных, дружеских: и они как бы вливают в людей эмоциональное вещество душевности, близости, заботы, будят в людях отношение к другому, как к себе самому[35]. Сама ткань родовых чувств человека, сама их подсознательная суть как бы влечется к гармонической жизни, жаждет ее. В самой нашей психологической природе заложено, видимо, нестихающее тяготение к идеалам: может быть, только идеальная жизнь и приходится впору самым глубоким, самым наивным устоям нашей психологии, может быть, только она дает им простор и свободу… И если верно, что научно-психологическая революция перекроит всю ткань жизни по законам человеческой природы, то новая цивилизация будет цивилизацией эгоальтруизма, а нынешние общечеловеческие чувства — дружеские, семейные — это как бы модель послезавтрашних человеческих отношений. Впрочем, любовь двояка и здесь. Это ведь тяга не только к равновесию, но и к «разновесию», неравновесию, особенно в свою пылкую утреннюю пору. Она возносит одного человека на вершину ценностей, а других оставляет далеко внизу, у подножия… Переступая через любое неравенство — национальное, социальное, — любовь сама насквозь пропитана эмоциональным неравенством. Как и остальные родовые чувства, она несет в себе и модель высшего равенства, и модель сверхнеравенства, сверхизбранничества. Наверно, это еще раз говорит о печальной диалектике жизни, о грустном союзе света и тени, на котором стоит мир. Впрочем, «неравенство сердца», которое несет любовь, — это естественное психологическое неравенство. На нем основано любое наше предпочтение, любое «нравится», «хочется». На таких предпочтениях держатся все наши чувства, вкусы, интересы, они-то и создают живую радугу жизни, всю ее майскую многоголосицу…Любовь афродиты книдской.
«Вы очень отвлеченно говорите о методе изучения любви, ее связи с обществом. Может быть, вы и правы, но это надо доказать конкретным анализом. А то получается бездоказательно и голословно». (Дворец культуры МГУ, январь, 1982). Сказано хорошо, и об очень частой опасности. Недаром, наверное, Мефистофель у Гёте славил голословно как спасательный круг для обмана. Как именно зависит любовь от типа человека и от уклада общества? Вот несколько примеров такой зависимости — они взяты из моих «Трех влечений». Вспомним любовь-чувство классической Греции, которая отпечаталась в гениальной Афродите Книдской. Это была любовь, уникальная по своей психологии, она никогда больше не повторялась в истории человечества. Во времена Праксителя она уже угасала, начинала сменяться новым историческим видом любви-чувства, и Афродита Книдская — чуть ли не единственное дошедшее до нас творение искусства, в котором запечатлена эта великая ступень человеческой любви. Афродита Книдская воплощает в себе знаменитый греческий идеал «калокагатии» («калос кай агатос» — прекрасный и хороший) — идеал просветленной гармонии тела и духа, слияние физической красоты и духовного совершенства. Правда, греки понимали эту гармонию совсем не так, как ее понимаем мы. Сама душа и само тело были для них не такими, как для обиходного сознания нового времени. Этому сознанию тело кажется чем-то неодухотворенным, чисто физическим, а психика — чем-то бестелесным, неосязаемым, и они так не похожи между собой, что их невозможно смешать, как невозможно смешать камень и тень от него, птицу и воздух. В обиходном сознании греков душа и тело не отделялись друг от друга с нынешней чужеродностью, и их гармония не была сочетанием каких-то отдельных, внешних друг другу сил. Слияние их было «синкретическим» — смутно нераздельным, гармония души и тела была полным их растворением друг в друге, и в этой смеси частицы души и тела были неразличимы друг от друга. «Телесно видимая душа и душевно живущее тело», — так говорил об этом крупнейший исследователь античности А. Лосев в своей работе «Греческая калокагатия и ее типы»[36]. И так же неразличимо — «синкретически» — сплавлены телесные и духовные влечения в любви доэллинской Греции. Частицы духовных и телесных тяготений смешиваются там между собой, превращаются друг в друга, существуют в смутной неразделенности; эта смесь видна в каждом движении чувств, в каждом переливе эмоций, она — как бы первичная клеточка этих эмоций. Тут лежит, пожалуй, важнейшее отличие любви-чувства древних от нынешних чувств. В чувствах нынешнего человека нет этой неразделимости, они давно уже внутренне кристаллизовались, духовные ощущения отслоились в них от телесных, да и друг от друга. Такой склад чувств рождался у греков особым типом тогдашнего доэллинского человека, зависел от совершенно особого уклада его жизни, особого состояния общества. Вся эта жизнь была тогда как бы синкретической, представляла собой полупервичную смесь, в которой только начинали кристаллизоваться будущие грани и формы. Тело почти не отделялось тогда от души, художественное сознание — от научного, науки, вернее, преднауки — друг от друга, личность — это особенно важно для нас — от общества. Как писал Маркс, «отдельный индивидуум еще столь же крепко привязан пуповиной к роду или общине, как отдельная пчела к пчелиному улью»[37]. Неразвитые человеческие отношения, простота труда, жизни — все это вело к тому, что потребности людей были малы и просты. Личность не противостояла тогда обществу, как что-то особое, она была его частью и не осознавала, что она — больше, чем просто часть. Впрочем, люди тогда еще не были настоящими личностями, индивидуальностями. Их индивидуальность была еще в зародыше, и почвой всего древнего синкретизма было такое состояние мира, когда люди только начали становиться личностями. И социальная структура общества была тогда как бы синкретической: классовое расслоение по-настоящему только начиналось, оно еще вызревало, набухало изнутри, и общие интересы классов были, возможно, не слабее их противоречий. Царило особое, полуаморфное социальное состояние, которое никогда больше в истории не повторялось, и оно породило особые общественные отношения, особую культуру, психологию — и особую любовь-чувство. Синкретическое состояние общества вызвало к жизни синкретического человека, а его психология вызвала к жизни синкретическую любовь. С первого взгляда любовь доэллинской Греции непсихологична, лишена душевных переживаний, живет одними телесными ощущениями. Это видно и в лирике героических и классических времен, и в классической трагедии. Поэтому многие мыслители прошлого, и среди них Гегель, называли ее просто телесным эросом, бездуховной «чувственной страстью», «изнурительным жаром крови». Но это не так. Духовность в чувствах того времени еще не самостоятельна, она еще не отделилась от своей матери — физических ощущений — и живет внутри них как зародыш, как предвестие чего-то будущего. Это и есть синкретизм чувств, неразличимое смешение в них телесности и духовности — главное свойство тогдашней любви. Оно-то как раз и делает чувства древних «страстями», «изнурительным жаром крови». Когда в каждом биении чувств сливаются душевные и физические порывы, сила их как бы помножается друг на друга и вырастает в бурю чувств. Как писала Сафо, которую Платон называл десятой музой Греции: Словно ветер, с горы на дубы налетающий, Эрос души потряс нас… Страстью я горю и безумствую… Сила этой страсти, сотрясающей человека, — сила телесной страсти, и выражается она как бы в телесных, не духовных ощущениях. Но поэтичность этих ощущений, их эстетическая настроенность — это и есть их духовность, — особая синкретическая духовность, которая живет в лоне телесности и насквозь пропитывает ее. И в классической трагедии греков, у Эсхила, Софокла, Еврипида, чувства героев — это титанические извержения души. Как будто обычные чувства взяты под увеличительное стекло и от этого резко выросли, стали чувствами-великанами, циклопическими клокотаниями души. Любовь, ненависть, радость, тоска — все они достигают в классической Греции накала страсти, и эта страсть швыряет человека как песчинку, владеет им как рабом. Накал эмоций, переходящих в страсти, — это, пожалуй, особое свойство именно синкретических чувств и еще одна важнейшая черта классической любви-чувства. Это такой же стержень древней любви, как и неразличимое смешение в ней телесных и духовных ощущений.Начало индивидуальной любви.
Проходит несколько веков, меняется социальный уклад жизни, строй человеческой психологии — и вся материя любви-чувства. Новый вид любви ярко отпечатывается в римской лирике I века до нашей эры — у Катулла, Тибулла, Проперция, Овидия, Горация, Вергилия. Вот как Проперций говорит о своей возлюбленной, гетере Кинфии: Но не фигура ее довела меня, Басс, до безумья; Большее есть, от чего сладко сходить мне с ума: Ум благородный ее, совершенство в искусствах, а также Грация неги живой, скрытая тканью одежд. Его любовь — уже не единое, а двуединое влечение, и телесное и духовное сразу: это тяга к ее грации, красоте тела — и к ее уму, ее совершенству в искусствах. Калокагатия уже перестает быть неразделимым сплавом, она как бы образует внутри себя сгустки, начинает члениться на «доли». Любовь тут — сложное чувство, единый поток расслоился на разные струи, и разница этих струй уже ярко осознается. Единство души и тела теряет свою цельность, их смешение сменяется как бы их сложением. Меняются и те слои души, которые одухотворяют тело: теперь в этом одухотворении участвуют не только этические свойства, как раньше, к ним все больше прибавляются и эстетические свойства — красота, изящество, грация. С ходом времени роль этических свойств все больше спадает, красота как бы оттесняет их назад, и центр тяжести идеалов переходит с этических свойств человека на эстетические. Из любви-чувства исчезает калокагатия — сплав хорошего с прекрасным. Для новой психологии важнее делается тяга к красивому в человеке, чем к хорошему, и это звено какого-то кризиса в любви — одно из первых, неясных предвестий этого кризиса. Так развертывается в те времена путь потерь и приобретений в человеческих чувствах, так расширение и усложнение любви идет рядом с ее сужением. Это совершенно новое чувство, уже не синкретическое, а как бы слоистое, расчлененное изнутри. И рождение этого чувства — звено в цепи тех огромных психологических и социальных переворотов, которые происходят во времена эллинизма, в IV–I веках до н. э. Рабский труд в эту эпоху делается фундаментом общества и начинает взламывать его изнутри, на авансцену жизни выходят очень сложные товарно-денежные связи; все это резко меняет и отношения людей, и — через передаточные звенья — их мораль, психологию, всю систему жизненных ценностей. Сходит со сцены старая социальная смутность, старая непроявленность полюсов и противоречий. Все резче очерчивается противостояние сословий, все острее делается обособленность рабов и свободных, богатых и бедных. Общество все больше дробится на слои и ячейки, растет соревновательность людей, их борьба. Центробежные силы, разрывающие общество, все заметнее нарастают. Внутренний разлад пронизывает жизнь во всех измерениях, старый монолит дробится, его раскалывают миллионы трещин, и глыба делается внутри мозаикой. Древний синкретизм жизни сходит со сцены. Личность обособляется от общества, начинает все больше осознавать свои отдельные, частные интересы. Частная жизнь личности делается суверенной, противопоставленной всему остальному, и это противостояние резко усложняет всю любовь. Она теперь как бы выдвигается вперед, попадает под увеличительное стекло — и становится куда более многослойной и разветвленной. Именно в это время и появляется ощущение исключительности любви, ее несравнимости с другими чувствами. Поэты то и дело говорят, что любовь — центр их жизни, самое главное в ней, что она сильнее всего на свете — сильнее уз крови, сильнее даже инстинкта жизни. Любимый человек как бы отделяется от других, и все в нем начинает казаться особенным, неповторимым. Это было совершенно новое ощущение любви, его не могло рождать синкретическое — доличностное — чувство. Такое ощущение может испытывать только человек-личность, и появление его означает, что родилась любовь личности — в корне новый исторический вид любви. Не стоит, видимо, думать, что такой была вся любовь тех времен. Речь идет только о вершинах любви, причем любви, пропущенной сквозь сердце художника и поэтому опоэтизированной, утонченной. В жизни было, наверно, куда больше простой любви, и более тяжелой, и тусклой. Но в этих вершинах любви — как и во всяких вершинах — яснее видны те перемены, которые делают эллинскую любовь совершенно новым видом любви.Рыцарская любовь.
«Известно, что многое в женском отношении к любви отличается от мужского. Влияют ли на эту разницу отличия в социальных ролях женщины, и как это было, в частности, в рыцарской любви?» (Встреча с сотрудниками Министерства тяжелого машиностроения, февраль, 1986). Вспомним: способность или неспособность любить зависит от того, каким душевным струнам человека помогает его жизненная роль, социальная позиция. У женщин, например, их жизненная роль может во многом не совпадать с социальным положением. Материнство (особенно) и роль жены, домохозяйки больше, чем в мужчинах, рождают в женских душах общечеловеческие струнки — струнки доброты, заботливости, внимания к близким… Женщины из привилегированных слоев меньше мужчин причастны к тем эксплуататорским занятиям, которые рождают в душе я-центризм. Кроме того, их главные житейские нужды насыщены, нравы смягчены, зашлифованы образованием, а это — по закону возвышения потребностей — может переключать силы души на более глубокие потребности, открывать дорогу к более сложным чувствам. Поэтому положение женщин из привилегированных слоев «благоприятнее» для любви, чем у мужчин, — и благоприятнее, чем у женщин из низших слоев, которые придавлены нуждой и эксплуатацией. Способность любить — как бы равнодействие многих сил души, направленных в разные стороны, сплетение союзников, врагов, нейтралов… Социальное положение может действовать здесь однолинейно — когда, скажем, оно помогает, или, наоборот, мешает вызревать в душе струнам человеколюбия; а может действовать и двояко — когда одни его стороны враждебны любви, а другие, как у женщин из привилегированных слоев, благоприятны для нее. А женщины привилегированных слоев действуют, в свою очередь, на мужчин: и косвенно — через воспитание, и прямо — создавая атмосферу тяготения к любви. Так психологические влияния, которые стоят за любовь, могут пересиливать социальные влияния, которые идут против нее. Эта запутанная вязь влияний и породила, видимо, рыцарскую любовь средневековья — один из самых ярких видов человеческой любви. Она появилась на свет в Провансе, на юге нынешней Франции, и ее главные идеалы вошли в сердцевину земной культуры, стали одной из ее основ. Это был настоящий культ любви, в основном духовной, платонической — тут она отличалась от античной любви. В этом культе был свой бог — Амур, свои богини — прекрасные дамы, свои служители — трубадуры, свои поклонники — рыцари. Любовь стала в Провансе служением прекрасной даме, поклонением ей. Дама сердца была для рыцаря неземным созданием, а если и земным, то земной мадонной, воплощением божества. Любовь рыцаря была коленопреклоненным чувством, идеально-возвышенным и утонченно-придворным. Конечно, возвышенная рыцарская любовь совсем не была массовой, и рядом с ней, как все знают, жили и феодальные нравы, вроде права первой ночи, и обычные земные отношения, и все они были как бы основой той пирамиды, на вершину которой была вознесена рыцарская любовь. Но то новое, что возникло тогда в человеческой любви, шло через ступень рыцарского обожания. В сословной системе средневековья человек был как бы не человеком, не личностью прежде всего, а функцией, ролью, представителем сословия: рыцарем, духовным лицом, вилланом, ремесленником. Такой же функцией человека — не человеком, не личностью — была для сословных нравов и женщина. Девушка была прежде всего будущей супругой; женщина — прежде всего хозяйкой дома, или матерью наследника, или рабочей силой. Роль человека как бы стояла на первом месте, личность — на втором. И только в любви женщина была тогда человеком, только в любви рыцарь относился к ней как к Женщине, к личности. Поэтому трубадуры, которые воспевали любовь-преклонение, восставали тем самым против мертвящей власти сословных обычаев. Их гимны любви были страстной мечтой об идеальных и человечных отношениях между людьми. Рыцарская любовь была любовью-утопией, любовью-мечтой, и она была как бы протестом чувства против цепей, в которые тогдашние нравы заковали человека. Обожествляя женщину, на ее образ накладывали тем самым представление именно о высших человеческих свойствах — красоте, прелести, доброте, грации, уме. Когда-то вознесенные в небеса, эти представления стали теперь возвращаться на землю, меняя самосознание человека, обогащая его в своих глазах. В рыцарской любви женщина начинает измеряться мерами самых высоких идеалов, которые к тому времени создало человечество. Впрочем, в женщине почиталось тогда не все человеческое, а только то, что было ближе к божественному — ее духовная красота, часто отделенная от ее земной, телесной красоты. Рыцарскую любовь делали здесь половинной, платонически однобокой тогдашние церковные взгляды. Но до этого обожествлялись, то есть наделялись высшими человеческими ценностями, только земные боги — духовные и светские иерархи. Теперь обожествляется — то есть очеловечивается — женщина, именно как женщина, как человек. Религиозно-иерархическое обожествление женщины передавало в формах своего времени новое, только что рождающееся и именно человеческое отношение к ней. Это обожествление было мостиком на пути к гуманизму, который начал вызревать в конце средних веков и появился на свет в эпоху Возрождения. Так любовь людей из привилегированного слоя рождала в жизни островки человечнейших отношений, прокладывала путь высшим идеалам человечности.Двоякие перемены в нынешней психологии.
Два русла влияний.
В наше время во всех пластах земной жизни идут перевороты — идут с болью, с кровью. В последнюю треть века во многих странах разразился невиданный в истории кризис всех сторон личной жизни — взрыв разводов и одиночества, спад рождений, подъем воспитательных тягот. «Что-то неладное творится сейчас с любовью. В книгах, особенно в старых, возвышенные чувства, да еще какие — огонь, пламя! А в жизни — так, огонек от спички, погорит год или два и погаснет. В одной книге я прочитала: жизнь без любви — мертвая жизнь, люди без любви — живые трупы. У меня много замужних подруг, у которых быстро прошла любовь и которые живут мертвой жизнью. Неужели ничем нельзя помочь нам?» (Марина Ш., Горький, июнь, 1977). «Во время моей молодости, до войны, и любили-то не так, девушки были неприступней, имели свою гордость. Пока ребята добьются от нас симпатии, столько души затратят, что она вся распылается — не погасишь. Сейчас всё на скоростях — на танцы два раза сбегали — да в загс. Сердце не успевает об сердце разогреться, душа к душе привязаться. А только сошлись — в раздоры: чей верх, кто свое «я» выше поставит. А от раздора до развода — как от танцулек до загса. Сошлись на скоростях, без особой радости, разошлись на скоростях, без особого горя. От таких скоростей чувству вырасти некогда, потому и любовь обмелела». (Анна Степановна С., Лукояново, Горьковская область, октябрь, 1975). «Не связан ли упадок чувств с социализмом, с коллективным образом жизни? Живем в обществе с большими массами людей общаемся, меньше чувств уделяем одному человеку». (Московский инженерно-физический институт, октябрь, 1986). Что происходит сейчас с любовью? Как меняется она в наш век крутых перемен? Нынешние социальные влияния на личную жизнь идут как бы по двум руслам. Первое русло — влияние базовых принципов, на которых стоит общество; второе — влияние нового уклада будней, который создается нынешними переворотами в человечестве: угасанием патриархата, рождением новой семьи, ростом городов (урбанизацией), научно-технической революцией и сидячей цивилизацией. Базовые принципы коллективистского общества благоприятны для любви. Умирание собственничества, угасание женского неравенства, рождение нового гуманизма, углубление духовной культуры — все это делает почву для любви более плодородной. Коллективистские принципы тяготеют к человечным отношениям между людьми, в идеале, в пределе — к уважению чужих интересов, как собственных, отношению к другим людям, как к себе самому. У них есть тут родство с психологической основой любви и семьи, и это родство благоприятствует личной жизни. Впрочем, как все мы, наверно, понимаем, на деле эти принципы влияют ровно настолько, насколько они правят будничной жизнью; их практическое влияние равно глубине их укорененности в будни. А тут, как известно, и в 30—40-е годы, и в последние десятилетия царили режущие противоречия: пружины социалистических принципов перемежались с чужеродными пружинами, не социалистическими и антисоциалистическими — бюрократической авторитарностью, антидемократизмом, рвачеством начальствующих и подчиненных, нравственным соглашательством и перерождением… «Мы привыкли за истекшие годы… к тому, что вообще не отвечает принципам социализма», — говорил М. С. Горбачев. — «Провозглашение демократических принципов на словах и авторитарность на деле, трибунные заклинания о народовластии, но волюнтаризм и субъективизм на практике, говорильня о демократических институтах и реальное попрание норм социалистического образа жизни… — все это… укоренилось в жизни общества. Расплата за такие методы… — …отчуждение человека труда от общественной собственности и управления»[38]. Казарменный, государственный социализм был негуманен, он строился на отчуждении человека от власти и собственности, от права быть сохозяином своего труда, быта, гражданской жизни — то есть от права быть человеком, а не винтиком социальной машины. А это гасило в людях лучшие силы души, рикошетом калечило личные чувства и семейную жизнь. Сейчас здесь начались крутые перевороты, но нужны долгие годы, чтобы избавить от враждебных пружин наши души и наши будни.Откуда «семьебоязнь»?
В 30-е годы Зощенко писал о бедах семьи: «То, знаете ли, обман наблюдается, то ссора и завируха, то муж вашей любовницы круглый дурак, то жена у вас попадается такая, что, как говорится, унеси ты мое горе…» Завидуем, говорил он, тем будущим, вполне перевоспитанным людям, которые станут жить через 50 лет. «Вот уж эти, черт возьми, возьмут свое. Вот они не будут разбазаривать свое время на разную чепуху — на всякие крики, скандалы…» Что же через 50 лет? «Мы поженились, и то, о чем я никогда не задумывалась, все проблемы, заботы — всё вдруг встало передо мной в увеличенном размере. Мы живем с мамой, сестрой и ее 5-летней дочкой в двухкомнатной квартире. Жить буквально негде, а скоро будет еще теснее — мы с Русланом ждем ребенка… Но главное — наши отношения. Мы стали чаще и чаще ругаться, а значит, и не понимать друг друга. Так, вроде все по мелочам, оба отстаиваем свое самолюбие, но ведь боль, обида-то остается… Я не понимаю, почему так! Ведь мы же любим друг друга! Что-то не то, не то, а что — я не знаю… Я и в себе-то не могу разобраться, я сама, конечно, во многом не права, но как все это исправить? Что у нас будет, что нас ждет?» (Елена Б., Кострома, 1984). «У жены уже давно нервы наружу, и чуть что не по ней — скандал. Домой идешь через силу, это вот и толкает многих на выпивку» (Загорск, электромеханический завод, февраль, 1988). «Почему женщина несет двойную нагрузку — на работе и дома? Не задумывались ли вы, что после 14-часовой работы никакие курсы о половой жизни не помогут?» (Новосибирск, июнь, 1980). И вот уже на встрече в библиотечном техникуме девушки говорят: — Не хотим замуж, боимся, будет, как у родителей… А неделю спустя юноша с болью говорит на свадьбе сестры: — Боюсь жениться, не хочу, как родители. А еще через день на беседе с семиклассниками — записка-крик: «Не хочу жениться!!!» — и три восклицательных знака… Откуда такая «семьебоязнь»? И почему в семье бушуют сейчас кризисы, какие и не снились в зощенковские времена? Каждый год у нас женятся 2,7–2,8 миллионов пар, и каждый год разводится 940–950 тысяч пар. Во вторую половину века страну поразил неслыханный «взрыв разводов»: на 92 миллиона свадеб, сыгранных в эти годы, выпал 21 миллион разводов[39]. Развелось больше 40 миллионов человек — целая страна разведенных. У нас, кстати, думают, что разводы — главная беда семьи; но часто это совсем не беда, а избавление от беды — от враждебности, неприязни, обмана, которые отравляют домашнюю жизнь. До недавних пор у нас каждый год рушилось из-за пьянства 300–400 тысяч семей. Два-три года назад пьянство вызывало в некоторых городах половину разводов: 3/10 разводов — пьянство мужа, еще 2/10 — плод эмансипации — пьянство жены. Развод здесь — хирургическая операция, которая отсекает больное, чтобы спасти остальное. Право на развод — это право на исправление ошибки в выборе спутника жизни, право на новый поиск личного счастья. Это одно из главных демократических прав человека, одно из основных массовых завоеваний эпохи. Разводы, видимо, будут всегда, даже в самом идеальном обществе, только, наверно, их размах будет не такой эпидемический. Многие, видимо, понимают, что развод двояк, что он и спасает людей, и несет им тяжелые душевные раны. Но что тяжелее ранит душу — горе разрыва или горе от жизни вместе? Все мы, конечно, знаем, что бывает и то, и другое. Есть два вида разводов: эгоистические, недобрые, с заботой больше о себе; и вынужденные, выстраданные, защитные, которые рвут цепь несчастья и облегчают людям жизнь. Беда, видимо, не в разводах самих по себе, а в их причинах — в том зле, которое разобщает людей, делает их несчастными друг с другом. Лучше станут люди — лучше станет жизнь — меньше будет и раздоров[40]. Но самое главное в другом. Те 930–950 тысяч пар, которые расходятся каждый год, — это меньше полутора процентов супружеских пар страны (всего их около 60 миллионов). А по самым осторожным, самым перестраховочным подсчетам у нас раз в 10–15 больше несчастных, неудачных браков — 10–15 миллионов пар. (Точная цифра их неизвестна — здесь лежит крупный изъян социальных исследований.) Значит, распадается лишь одна из 10–15 несчастных пар, а остальные — то есть 10–15 миллионов — закостенели в своем несчастье, тянут горькую лямку супружества. Эта беда, наверно, вдесятеро страшнее разводов. А есть еще полубеда — полуудачные-полунеудачные браки: их в разных местах от трети по половины всех браков, то есть 20–30 миллионов. А «взрыв одиночества»? Холостяков и незамужних («узников свободы», как их называют) у нас невиданно много: 20 миллионов до 40 лет и столько же старше; каждый четвертый-пятый взрослый одинок… А материнские семьи — семьи без мужчин, в которых женщина одна, надрываясь, растит детей? Их тоже много, как никогда — 8–9 миллионов, каждая седьмая-восьмая семья… «Кого же больше — благополучных или неблагополучных семей? У нас, судя по знакомым (цех, друзья, соседи) благополучных гораздо меньше. А как по стране?» (Куйбышев, ДК авиазавода, апрель, 1980). Судить об этом можно лишь примерно, так как исследования велись тут урывками. В нормальных семьях — там, где у жены и мужа, у детей и родителей хорошие отношения, — живет сейчас примерно треть взрослых — около 60 миллионов. (Причем возможно, что большинство таких семей — молодые, те, в которых отношения еще не успели испортиться). Две трети — 120 миллионов — живут или в полуудачных, или в неудачных, или в неполных семьях, или совсем без семьи. Две трети не добираются до обычной, естественной нормы домашней жизни, и это просто-таки кричит о провалах сегодняшней семейной культуры, об изъянах в ее главных устоях. В такие же океаны бедствий попала семья почти во всех развитых странах мира. Взрыв разводов и одиночества, лавины семейных несчастий и недобрых нравов — все это поразило, как землетрясение, индустриально-городскую цивилизацию. Еще никогда в истории человечества не было такого глубокого и острого семейного кризиса…Смена устоев.
«Традиционная семья — пожизненный союз мужа и жены — разрушается во всем мире. Может быть, семья вообще начала умирать, и это естественно и неизбежно? Разве счастье возможно только в семье?» (Красноярск, пединститут, октябрь, 1982). В личной жизни идут сейчас разительные перевороты — отголоски громадных сдвигов истории. Сегодняшние семейные кризисы рождены и небывалыми противоречиями жизни, и тем, что мы из рук вон плохо разрешали их. Много лет здесь процветали мелкокалиберные полуслова, поверхностные псевдоисследования, робкие поиски болезней и лекарств от них. И чтобы наладить положение, надо увидеть все корни кризисов, найти все выходы из них. Первый такой корень — общее положение человека в социальной жизни. Уже говорилось, что почти 60 лет, с конца двадцатых и до середины восьмидесятых годов, у нас царило отчуждение человека от власти и собственности, от управления своей жизнью. Человек в авторитарно-бюрократической системе был бесправен, система подавляла в нем личность, самостоятельность, душевность. Она растила массовое потворство антинравственному и эгоистическому поведению — в труде и быту, в гражданской и личной жизни. Все это искривляло души у десятков миллионов людей, рождало в них едкое чувство неполноценности, вспышки эгоизма, болезненные вывихи потребностей. Резко повлияла на семью гигантская революция во всех отношениях мужчины и женщины, во всех их жизненных ролях — экономических и домашних, социальных и сексуальных. Она в корне переменила их стратегическое положение в обществе и в семье. На смену социально-экономической зависимости женщин от мужчин (которая, кстати, связывала их прочнейшими нитями несвободы) идут куда более сложные отношения обоюдной свободы и независимости. Умирает патриархат («главенство отцов»), рождается биархат (главенство обоих полов) — совершенно новый вид общества, новый уклад всех женско-мужских отношений. Возможно, биархатная революция — это один из главных мостиков к будущей цивилизации единого и равного человечества. Но шаги к этой цивилизации, которые тут делаются, мы делаем неумело, плохо. Мужчины и женщины выбиты из привычной для них тысячелетней колеи, они выстрадывают совершенно новые отношения, ищут себя в новых ролях — причем вслепую, на ощупь, потому что им слабо помогает общество, наука. И еще один переворот рождает в личной жизни тяжелые кризисы. Умирает ли семья? По-моему, умирает один вид семьи, который царил в нашей жизни десятки веков, — умирает со всей своей великой культурой, нравами, всем укладом домашних отношений. На смену ему идет новый вид человеческой семьи, новый уклад семейных отношений. Старая семья была сначала экономической, а потом душевной ячейкой, муж и жена были нужны друг другу сначала как помощники в устройстве быта и выращивании детей, и только потом — как люди. Психологические отношения подчинялись в этой семье материальным. Сейчас они все заметнее выходят на первое место. Идет переход от семьи — материально-психологической ячейки к семье — психологически-материальному союзу. Семейные устои как бы рокируются — душевные устои постепенно перенимают главенство у материальных. Старая семья больше насыщала базовые нужды людей — житейские, половые, эмоциональные. Нынешнему человеку нужно, чтобы семья насыщала и более высокие его запросы — психологические, нравственные, умственные. У семьи появляется новая обязанность, которой не было никогда в истории, — обязанность насыщать и наши базовые, и наши высшие душевные запросы. А чем сложнее потребность, тем труднее ее насытить. Это невероятно повышает наши внутренние требования друг к другу, ставит миллионы людей в небывало трудное положение. Старую семью больше скрепляли внешние узы — экономические, социальные, религиозные. Сейчас рядом с ними все больше встают внутренние узы, гораздо более хрупкие — чувства людей, их сознание, совместимость, родительский долг. Старые устои семьи слабеют, новые набирают силу с опозданием, и это междуцарствие устоев резко усиливает нестойкость семьи… И еще один сдвиг круто меняет семейную жизнь — перемены в положении пожилых людей, которые уже не могут работать. В старые времена стариков содержала семья, теперь — через пенсию — содержит общество, и пожилые получили финансовую независимость от семьи. Но у этого прогрессивного шага были — обычный парадокс истории — и явно теневые последствия; их не увидели, и это нанесло огромный ущерб детскому воспитанию. Раньше дети были для родителей будущими кормильцами, единственным обеспечением в старости. Воспитанием в семье правила жесткая обратная связь: не вырастишь в детях трудолюбие и заботливость — умрешь сам. Воспитание трудолюбия и заботливости было для родителей вопросом жизни и смерти, и потому такое воспитание было несущим устоем трудовой семьи. Кроме того, семья была производственной ячейкой, и сама ее трудовая атмосфера лепила детей по своему образу и подобию. И вся народная нравственность — трудовая, заботливая — строила в детях заботливую и трудовую душу. Сейчас семья стала потребительской ячейкой; из-под трудового воспитания в семье выбита главная —экономическая — база. Оно перестало быть для родителей основой их личного будущего, вопросом жизни и смерти. Семейным воспитанием правит сейчас куда менее жесткая обратная связь, уже не экономическая, а духовная — уровень родительской сознательности, воспитательной культуры. Старая обратная связь порвалась, новая, более утлая, только начинает рождаться, а зияние между ними наука и общество проглядели. Этот громадный и неосознанный исторический переход и стал одним из корней нынешних семейно-воспитательных кризисов. В семье пересекаются все мировые силы, которые правят жизнью, в ней фокусируются все социальные землетрясения, все сдвиги социальной почвы. Но наука и общество не сумели увидеть, как влияют на семью нынешние гигантские исторические сдвиги, как отзываются на ней неизбежные противоречия прогресса. Они не создали систему социальных пружин, которые по-настоящему помогали бы личной жизни, облегчали перемены в семье. Социальная помощь семье (просветительная, жилищная, денежно-материальная, организационная) мала и бессильна. У нас нет стратегии борьбы с семейными болезнями, и потому эти болезни не стихают, а нарастают.Архимедов рычаг.
«Почему общество так мало помогает семье? Почему так плохо обстоят дела с жильем, продуктами, детскими садами, и при этом зарплата маленькая, и нужных вещей не купишь. На словах — главная ячейка общества, а в жизни — забытая ячейка» (Чернобыльская АЭС, вахтовый поселок Зеленый мыс, май, 1988). Да, у нас вопиюще недооценивается социальная роль семьи. Мы не понимаем, что семья — один из самых сильных двигателей или тормозов прогресса. Это уникальная опора общества, и она дает ему то, что просто не могут дать другие опоры. У семьи четыре великие социальные роли. Во-первых, это главная демографическая ячейка общества, единственный поставщик тех людей, из которых общество состоит. Во-вторых, семья — главная ячейка, в которой мы восстанавливаем истраченные на работе силы, — важнейшая опора всей экономики. В-третьих, семья — главная воспитательная ячейка общества: именно в семье, в первые годы жизни, вырастает сердцевина человека, и от того, хорошо или плохо это делается, зависит, каким именно гражданином и работником он станет — хорошим или плохим. И, наконец, семья — уникальная психологическая ячейка. Чувства, на которых она стоит, рождают в нашей душе способность дорожить близкими как собой, их интересами — как собственными. А дорожение другими как собой — это основа человечности. Поэтому семья может быть мощным источником гуманизма. Повторю еще раз то, что уже говорилось (правда, говорилось это о любви). В быту, в личной жизни семья может давать людям то, что в обществе дают высшие идеалы и высшие принципы жизненного устройства, созданные человечеством. Семья — естественный союзник этих идеалов, один из их главных внедрителей в жизнь. Потому-то весь ход прогресса зависит от семьи не меньше, а то и больше, чем от производства, науки, международных отношений, взятых вместе. Но общество тратит на «счастье в личной жизни» в десятки раз меньше сил и средств, чем на «успехи в труде». Оно резко ослабляет этим и семью, и — рикошетом — все свои другие области без исключения. Как получается такой рикошет? Семья и воспитание (дошкольное, школьное) — это как бы «духовно-воспитательное производство». Оно создает человека как центральную фигуру всех областей общества — главного двигателя труда, главного строителя общественных отношений, главного творца быта, семьи. Здесь как бы выделывается ключ ключей — ключ ко всем ключевым областям жизни. Потому-то семья и воспитание должны бы стать одним из главных центров всех практических забот общества — не менее важным, чем любая другая область жизни. Забот не на словах, в теории, а на деле, в практике: чтобы на помощь семье, личной жизни шло бы не меньше сил, чем на общественную жизнь. Но для этого нужна новая стратегия социальной помощи семье. Частичная помощь неспособна избавить семью от недугов. Лишь действуя одновременно — системно — на все болезни семьи, можно смягчить их. Нужна, видимо, всесторонняя, универсальная помощь семье, во всех областях ее жизни: жилищная, денежная, хозяйственная, воспитательная, просветительная, культурная, организационная… И помощь эта должна быть во много раз больше, чем сегодня: без этого, по-моему, семью не удастся поднять из ее провала. Перестройка семейной стратегии должна, наверно, быть такой же революционной, как и перестройка экономической и политической стратегии.«Взрыв перемен» и обеднение чувств.
А как именно теперешние социальные перевороты влияют на наши чувства? И как влияют на них другие глобальные сдвиги — НТР, урбанизация, сидячая цивилизация? Сдвиги эти — шаги гигантского перелома в земной цивилизации, и они несут с собой разительные перевороты, в корне меняют весь уклад будней. Первая перемена в этом укладе — как бы взрыв перемен. Ритм жизни все убыстряется, круто растет число перемен в единицу времени: в году сейчас столько сдвигов, сколько раньше вмещалось в десять, двадцать лет. Этот взрыв перемен несет с собой потоки новизны, которые и обогащают людей, и резко повышают их нервные нагрузки. Человеческая психика попадает в тиски таких перегрузок, каких у нее никогда не было. И чтобы уберечь себя от распада, наша психика начинает экономить нервные силы. Она отпускает теперь меньше этих сил в каждое ощущение, в каждое переживание. В каждую нервную реакцию идет теперь меньше нервной энергии, в подсознании человека возникает новый психологический механизм — ослабитель, глушитель эмоций. Он входит в число главных механизмов психики, все больше правит ее работой. Он спасает психику от разбалансирования, но человеческие чувства от этого слабеют, делаются менее сердечными, эмоциональными, более головными, рациональными, чем раньше. Такое обеднение чувств — первая резко невыгодная для нас перемена в современной психологии. Это плата за приспособление наших нервов к нынешнему сверхритму жизни, и если этот ритм будет и дальше убыстряться, чувства, очевидно, станут беднеть еще больше. Недавно эстонские социологи опросили студентов Тартуского университета, что для них главное в семейной жизни. На первом месте оказалось уважение друг к другу, потом жилье, понимание, доверие, дети, и только на шестом месте шла любовь. И это у студентов, у которых чувства всегда стояли на вершине пирамиды… Рассудочных людей становится все больше, и человек-рационал, видимо, делается одним из главных человеческих типов. А такой человек хуже приспособлен к семейной жизни: его привязанность к близким людям слабее, все его чувства — любовные, дружеские, родительские, родственные — резко теряют в глубине и долготе. Это несет в личную жизнь новые, небывалые беды, и мы, наверно, только начинаем осознавать весь их размах…По закону чужого возраста.
«Мне 26 лет, с детства интересовался отношениями людей и их психологией, старался запоминать все советы ученых и писателей. И началось. Психологические наставления знатоков оправдывались на все сто процентов, особенно когда речь шла о девушках. Но как только я в общих чертах узнавал их характер, привычки, то быстро охладевал, и мы расставались. Не подумайте, что они были чем-то плохие, наоборот, каждая по-своему хороша. Весь фокус в том, что мое отношение к ним стало, как к хорошим фильмам — вспоминать приятно, но смотреть снова не тянет. Докатился до того, что даже в интимные отношения не хотелось вступать. Надеялся найти равноценное общение с женщинами старше себя — напрасные старания: та же история. Искал аналогичные примеры в литературе: нечто похожее было с Талейраном, но его хоть Бонапарт заставил жениться. А меня кто? Получается, что знания человеческой натуры оказывают медвежью услугу. Чувствую себя ненормальным, однако врачи сказали «здоров». Может, я ищу то, чего нет?» (Ленинград, июнь, 1980). Кто перед нами? Жертва психологических знаний? Человек, который знает так много, что мгновенно схватывает скучную изнанку женских прелестей и ухищрений любви? Если это обычное влияние знаний, тогда такой человек — удар набата, тяжелая угроза, которую несет нам новый век. Психологические знания в принципе двояки: и потому, что это знания о плюсах и минусах человека, и потому, что они уменьшают притяжение нашей загадочности, флёр непонятности. Что же будет с людьми, когда научно-психологическая революция сделает такие знания самыми главными, самыми массовыми? Не отнимут ли они у человека саму способность любить? Наверно, такой угрозы стоит опасаться — и предотвращать ее, смягчать всем укладом будней, всем воспитанием. Но можно ли победить ее? Пожалуй, можно, во всяком случае, стоит попытаться сделать это. Возможно, что главная опасность идет здесь не от знаний самих по себе. Знания (точнее, информационные, логические знания) как бы живут в особых слоях внутреннего мира — в слоях интеллекта, а не сердца. Они могут пересекаться с чувствами, подчинять себе их, но чаще они нейтральны к ним. Любим мы чувствами, а знаем умом, и когда человек любит, эмоциональное поле его чувств как бы оттесняет поле ума и правит любовью. Как говорил Ларошфуко: «Ум всегда в дураках у сердца». Знания, видимо, могут мешать только слабому чувству, у которого невелика двойная оптика. Но чемярче чувство, тем меньше правят человеком знания; здесь лежит, видимо, простейший закон человеческой психологии. Впрочем, в двух случаях знание всегда вредит сильному чувству, но только делаясь из обезличенного знания личным, из знания вообще — знанием об этом человеке. Так бывает в несчастной любви или в любви, которая наталкивается на изъяны любимого человека: знание становится тут чувством — знанием-болью, знанием-тоской, и, только став чувством, оно может мешать чувству… «А может быть, этот человек неспособен любить из-за нравственной ущербности, а не от лишних знаний?» (Л. Буева, Москва, 1988). Верно: способность или неспособность любить зависит не от количества знаний, а от качества души — от ее глубины или мелкости, я-центризма или двуцентризма. И все-таки автор недоуменного письма — удар набата, дуновение завтрашних бурь, хотя уже и сегодня они набирают шквальную силу. Это, видимо, рационал, как бы «человек без подсознания», у которого вместо ощущений — логика. У него почти нет к девушкам обычного, непосредственного влечения чувств, он относится к ним, как расшифровщик людей, «решатель кроссвордов», «познаватель». Но его рационализм и делает его душу «ущербной»: он как бы ампутирует из этой души ее «душу» — тяготение к другим людям — и не дает вырасти в ней эгоальтруизму. У таких людей чувства — это как бы мысли в эмоциональной упаковке, мысли, которые проникли внутрь чувств и подменили их эмоциональную плоть рациональной. Сознание как бы захватывает чужие земли, и из двух зон души — думающей и чувствующей — у человека остается почти одна только думающая. Обычно это бывает к старости, когда чувства у людей слабеют и душа делается рассудочной. Рассудочность, рационализм — как бы раннее постарение души, и человек-рационал живет по законам чужого возраста. (Возможно, кстати, что и поэтому автор записки охладел к интимным отношениям: психологическое постарение может вести и к сексуальному). Такое раннее постарение души, такая жизнь по законам чужого возраста захватывает сейчас все больше людей. Это, видимо, массовый вывих в психологии современного человека, и он больно действует на все стороны жизни.Второй враг.
Но это только первое звено той цепи, которая сковывает сегодня человеческие чувства. В ней есть и другие звенья, часто парадоксальные, и они накладываются на психологию людей с неожиданной стороны. «Тесный контакт, особенно с людьми, которые мне дороги, редко приносит с собой радость. Истинное наслаждение я нахожу только в таких контактах, где со мной говорят о самом волнующем меня, не обращаясь ко мне лично. За это люблю театры, лекции и экскурсии. Они помогают мне снять напряжение и вселяют ощущение добра и желание его делать. Мне 28 лет, я не замужем, родственники прочат мне страшное будущее. Но что тут страшного, и чем чревата моя жизнь?» (Ленинград, август, 1980). У этой молодой женщины странная необщительность. Личные связи, обычно самые радостные для людей, почти не дают ей радости — радость она получает только в безличном общении. В чем причина такого парадокса? Может быть, у нее очень ранимые нервы, и она быстро устает от близких? Психологи выяснили, что нервы человека стремятся к наилучшему для них уровню возбуждения — оптимуму такого возбуждения. Если нервы у человека возбудимы мало (например, у флегматика), ему надо больше возбуждающих влияний жизни. Если нервы очень возбудимы (например, у меланхолика, холерика и вообще у любого нервного человека), им надо меньше возбуждений — т. к. они быстрее устают. Личное общение втягивает в себя все душевные силы человека; оно насквозь конфликтно, состоит из постоянных противоречий, противомнений, противожеланий. В неличном общении (в театрах, на лекциях) не надо ничего решать, ничего отдавать — только получать впечатления, только переживать чужие судьбы — потреблять, а не создавать. На это тоже идет меньше душевных сил, и люди, которым таких сил не хватает, безотчетно выбирают себе более легкие пути — пути наименьшего сопротивления, как говорят в физике. Но экономия душевных сил — это бумеранг, который больно бьет по человеку: она не укрепляет душевные силы, а, наоборот, еще больше ослабляет. Снова действует парадокс живой энергетики, «правило наоборот»: отдавая, тем самым получаешь, т. к. упражняешь, усиливаешь струны души, а экономя силы, не тренируешь их — и этим уменьшаешь. Чем чревата такая жизнь, наверно, понятно: человеку, который плывет по течению, легче попасть на мель, чем дойти до цели. И если молодая женщина не переборет свою «необщительность», ей может грозить холодное одиночество. Необщительность, полуобщительность — новая массовая черта сегодняшней психологии, второй враг личной жизни. Ее рождает и ослабление чувств (то есть ослабление тяги к другим людям), и скрытое ощущение своей неполноценности, и боязнь, что к тебе плохо отнесутся, и невладение культурой общения. В аграрном обществе царило естественное, как бы детское искусство общения — его рождала открытость, распахнутость души. Это естественное искусство пропало в нынешней городской жизни, а новое искусство общения — «искусственное», основанное на умениях — не пришло ему на смену.Как иностранные слова вредят любви.
Необщительность зовут «некоммуникабельностью» на той русской латыни, из которой чуть ли не наполовину состоит нынешний язык науки. Иностранные слова ордами вторгаются сейчас в русский язык, они захватили — оккупировали — множество чужих земель, и это вторжение, пожалуй, одна из главных сторон нынешнего кризиса языка. Язык науки — а во многом и печати, радио, телевидения, — стал как бы метисом, помесью русско-иностранных слов. Иностранные слова двояко действуют на родной язык. Во-первых, они обогащают его — обогащают названиями, которых нет в родном языке («нервы», «поэт», «кризис»), и это главная причина, по которой язык притягивает к себе иностранные слова. Такое обогащение языков — важнейший закон их жизни, благодатная норма, и оно идет тем сильнее, чем сильнее межнациональные связи. Вполне возможно, что в будущем такие связи станут еще теснее, и языки будут смешиваться, «интернационализироваться» еще глубже. Но именно поэтому и нужно, чтобы обогащение языков не обедняло их духа, не рождало в людях и в языках психологические и эстетические изъяны. Бывает, что иностранные слова и обогащают и обедняют язык — обогащают своим смыслом, а обедняют звучанием — как, скажем, слова «психология», «экстрасенс», «синхрофазотрон»[41]. Когда таких слов мало, их чужеродность не очень отравляет дух языка, а смысловая польза от них больше, чем психологический и эстетический вред. Но когда таких слов много, дух чужеродности в языке резко нарастает, и родной язык начинает как бы отдаляться, отчуждаться от тебя. С началом НТР иностранные слова стали вторгаться к нам лавинами, причем чаще всего они или тяжеловесны, или некрасивы, чужеродны по звучанию. И самое главное — для многих из них, может быть для большинства, есть «эквиваленты» («равнозначцы», ровни) — русские слова с одинаковым смыслом[42]. Нынешняя публичная речь — как поле, полное сорняков: на каждый колос пшеницы приходится колос овсюга, и мы не восстаем против нашествия чужеземцев, не объявляем им освободительную войну. Сейчас в мире есть три подхода к иностранным словам. «Восточное гостеприимство» — как, скажем, в нашей академической психологии и философии, когда двери открыты почти каждому пришельцу. («Психологический журнал» и «Вопросы философии» можно понять только со словарем иностранных слов — такое там половодье латинизмов и англицизмов). «Железный занавес», или «граница на замке» — как в Исландии: ни одно иностранное слово не получает там въездной визы, все без исключения переводятся на исландский язык. Это, пожалуй, обратная крайность «восточному гостеприимству», и она похожа на наш славянофильский пуризм XIX века (пуризм — от лат. «пурус», чистый — «очистительство», движение за чистоту языка). Туристы выступали почти что против всяких иностранных слов, даже против тех, которые обогащали язык. Они, как язвили о них, вместо «франт в галошах идет по бульвару в театр» писали: «хорошилище идет по гульбищу на ристалище в мокроступах»… По-моему, самый разумный подход — «золотую середину» — пытается проводить французская Академия литературы и искусства. Раз в несколько лет она составляет списки чужеземных слов, которые не советует применять в официальном языке, на радио, телевидении, в школе[43]. Давным-давно, пожалуй, стоило бы создать стражу языка и у нас, и хорошо бы, наверно, чтобы тон в ней задавали глубокие и умные ревнители русского языка, а не поверхностные «русофилы». Наводнение слов-чужеземцев — беда прежде всего не для языка, а для человеческой психологии. Страшен, по-моему, именно психологический вред людям от ненужных иностранных слов; тут лежит, пожалуй, главный корень дела, но его-то не видит нынешний поверхностный пуризм, да и вообще всякий внепсихологический подход к языку. Публичный язык (особенно язык учебников, радио и телевидения) лепит по своему образу и подобию обыденную речь сотен миллионов людей, особенно ребят, молодежи. Его мертвенная сухость превращает в живой труп нашу обыденную речь, отнимает у нас радости и наслаждения от языка — от его сочности, точности, образности. В родном языке каждое слово — сплав смысла и образа, гибрид значения и чувства. Мы говорим «стол» — и в нас безотчетно вспыхивает чувство чего-то стоящего, в подсознании мелькает смутное эхо от каких-то родственных слов. Мы говорим «тьма», и звук слова будит в нас мгновенное ощущение чего-то тяжелого, холодного, может быть, неприязненного. Мы говорим «веский», и в нас радостно высвечивается отблеск от слова «вес»… Каждое слово проносится сквозь нашу душу как мгновенная комета, у которой есть ядро — смысл и есть хвост — переживание этого смысла, ощущение от него. Все мы знаем, что язык — орудие общения, но он не меньше — орудие ощущения. Мы воспринимаем язык двуедино: сознание улавливает смысл слова — ядро кометы, подсознание — «подсмысл», подтекст — хвост кометы. Каждое слово действует на нас видимо и невидимо, каждое, как камешек в воде, рождает круги в сознании и в подсознании, в мыслях и в чувствах. Это двуединое влияние — нормальный психологический механизм, и через него язык дает нам и знание жизни, и ощущение от нее. Жизнь, видимо, держится на наслаждении жизнью — это, пожалуй, ее самый простой и самый могучий корень. Все проявления жизни, все ее веточки растут из радостного ощущения жизни, и когда живительные потоки радости мелеют, это мелеет главная жизненная сила, которая поддерживает жизнь. Иностранное слово для нас — часто бесхвостая комета, одно только смысловое ядро без шлейфа чувств. Вернее, это касается большинства слов научной и публично-официальной речи. Среди иностранных слов, и научных, и бытовых, много приятных или красивых по звучанию, и на них как бы наброшена вуаль загадочности, романтическая дымка: планета, энергия, кратер… Такие слова тоже обогащают язык психологически, несут в себе светлый заряд ощущений. Но чаще всего научное или официальное слово (реконструкция, адаптация, тенденциозный) — это голое, мертвое слово, вокруг него не светится тот ореол ощущений, который окружает каждое родное слово и который рождается в раннем детстве. Такое иностранное слово действует на нас только своим смыслом, и у пего не сдвоенная, а половинная жизнь: оно для нас — только сухая информация, голое сообщение — без ощущения. И принимает его в нас одно только сознание, а в подсознании — на том месте, где должна была проблеснуть мгновенная радость узнавания, молниеносный хоровод намеков — в этой немой пустоте вспыхивает болезненное ощущение чужеродности, горечь обманутых ожиданий — горечь от того, что не сработал механизм языковой радости — исключительно важный, рожденный еще в младенчестве психологический механизм. Языковая радость — одна из центральных именно человеческих радостей, одна из главных душевных пружин, которые выращивают в человечке человека. И пред-людей, наверно, эта радость делала людьми не меньше, чем радость от труда. И тем катастрофичнее нынешнее вымирание языковой радости: ее нехватка, наверно, с той же силой расчеловечивает людей, с какой сама эта радость очеловечивает их…Кризис языка — кризис душ и чувств.
В том, что языки обмениваются друг с другом словами, есть, возможно, не только близкая польза, но и дальняя, послезавтрашняя закономерность. Может быть, именно через такой обмен и станет рождаться будущий всемирный язык — или, как ступень к нему, несколько мировых языков (славянский, романский, английский, арабский, индийский, китайский…). Впрочем, возможно, таким языком сделается какое-нибудь новое эсперанто — но богатое, полное души, чувств, оттенков. Возможно, что оно — через долгие вереницы столетий — станет как бы вторым языком всех людей Земли, а потом, может быть, и первым, единственным… Неизвестно, случится ли это, возникнет ли такой всемирный язык; но если случится, это будет, видимо, очень болезненный переворот во всей ткани человеческой культуры, во всей ее плоти и крови. Уменьшить эту болезненность сможет, наверно, только резко замедленный — «эволюционный» — ход языковых революций. Есть, пожалуй, предел, сверх которого перемены становятся болезненными для человека, тяготят нервы, души. Какой именно этот предел, неизвестно, ко для разных людей он разный: больше для детей, меньше для взрослых, больше для здоровых и сильных нервами, меньше для больных и ослабленных… Тут, видимо, лежит самая тяжелая психологическая проблема всей нынешней революционной эры: какой именно ритм перемен безвреден для человека (и значит, для общества) и чем вредит нынешний сверхритм. Увы, психология даже еще и не подступилась к этой тяжелейшей проблеме, а ведь от нее, пожалуй, зависит весь ход прогресса. Наверно, и в языковых переменах есть свой порог безопасности, и чем дальше мы за него заступаем, тем больнее это для наших чувств, нервов. Нынешние перемены, видимо, далеко переступили этот порог, они резко перенапрягают нашу психику, наводняют ее потоками тягостных ощущений. Половодье сухих иностранных слов — это только часть тех языковых перемен, которые иссушают нашу психику, делают ее рассудочной. Точно так же действует на нас и язык науки, и публично-официальная речь вообще — речь печати, радио, учебников, тьмы просветительных и научно-популярных статей. Их речевая сухомятка часто лишена чувств, полна онемелых, отсиженных слов, состоит из оборотов, длинных, как товарный поезд, — в них забываешь начало, дойдя до конца… И даже обычные живые слова, попадая в это безвоздушное пространство, заражаются его мертвенностью и выцветают, обескровливаются. Это как бы вырожденный язык, язык старческий — из одного логического смысла, почти без эмоций. Вспомним о мозговых полушариях: левое ведает отвлеченным, логическим мышлением, правое — образным, чувственным. Речь науки и публичная речь — это как бы «левополушарная речь», но отсеченная от правого полушария и потому гербарно засушенная. В этой речи и русские слова часто теряют радостную энергию жизни, костенеют, делаются тускло-тяжелыми. Научное и публично-официальное слово — это как бы иностранное слово для нашей психологии, для наших чувств. Это машинное, безэмоциональное слово, и оно рождает в нашем подсознании ту же рябь неприятных ощущений, какую рождают сухие иностранные слова. Хронические вереницы таких неприятных ощущений десятилетиями моросят на наш мозг, с утра до ночи атакуют его своими серыми дождями — и неслышно, с неожиданной стороны расшатывают людям нервы, подтачивают дух. Во времена НТР наука в сотни раз больше вторгается в атмосферу будней. И точно так же ее логическая сухость вторгается в повседневный язык, наводняет «словосферу» будней. Русский язык как бы начинает делаться для нас иностранным, отчуждается от наших душ и чувств. Пожалуй, наука сегодня так же отравляет язык — а через него и человеческие чувства, души, как отравляет природу нынешняя научно-техническая база человечества. Языковая атмосфера, в которой мы живем, пропитывает всю повседневность; школа, работа, собрания, радио, газеты, ТВ — с утра до вечера почти весь этот слой «звукосферы» засорен усеченной, засушенной эмоциональностью. Машинное, безэмоциональное отношение к слову все глубже пропитывает чувства людей, их психику. Сегодня, по-моему, это один из генеральных обеднителей наших душ. К сожалению, мы не видим этого, так как не видим психологическую роль языка — его вторую вселенскую роль. Мы понимаем язык плоско — только как орудие общения, передатчик информации, эдакую огромную азбуку Морзе. Мы не знаем, что язык — строитель человеческих душ, и такое отношение к нему — обычная часть всего нынешнего допсихологического отношения к миру. Современное наше сознание считает, что жизнью людей правят экономические, социальные и политические интересы, законы базиса и надстройки. А вот как правят нами законы человеческой природы, как они переплетаются с законами социально-экономическими, как делят власть с ними — все это современное сознание не видит. Во времена дорационалистического сознания (в древней Индии, Китае, Греции, в Европе средних веков и Возрождения, в Передней и Средней Азии) философия постоянно пыталась постичь, как природа человека правит его жизнью. Старались понять это (хотя и мифологически) и религиозные мыслители, и философы-идеалисты всех веков и народов. К сожалению, база нашего нынешнего миропонимания узка — она не вбирает в себя многие вершинные достижения мировой мысли. А ведь марксизм возник как переработка трех великих вершин европейской мысли — немецкой идеалистической философии, английской буржуазной политэкономии и французского утопического социализма. Увы, мы до сих пор не понимаем азбучную истину: наша философия может стать умнее других философий, только если она вберет в себя их ум — станет сплавом всех вершин человеческой мысли. Нынешнее сознание — это как бы перископ, в котором есть линзы экономического, социального и политического зрения, но нет — или почти нет — линз психологического зрения. Потому-то, ища законы жизни, мы видим только часть таких законов, постигаем жизнь вполглаза. И пока мы не встроим психологические линзы в перископ своего сознания, пока не сольем их лучи с социальными, мы будем видеть жизнь полуслепо. Как же действует на людей язык, строитель человеческой души? Каждое слово, которое входит в душу младенца, становится как бы микроячейкой его души, психологической клеточкой его психики. Слово (сгусток его смысла и чувства) — это как бы то самое психологическое вещество, из которого создается ткань человеческой души. Слово за словом язык вживляет в человека сгустки человеческого понимания жизни — все россыпи человеческих чувств, весь космос человеческих мыслей. Язык — один из главных родителей человеческой души; другой такой родитель — занятия человека, его образ жизни. Вместе, вдвоем эти скульпторы души рождают в ней мириады ее неуловимых бестелесных ячеек. И до самой могилы язык — вместе с образом жизни — настраивает и перестраивает нашу психику, лечит или калечит подсознание и сознание. Мы создаем язык, а язык создает нас по своему образу и подобию. С утра до ночи современный публичный язык облучает нас частицами своего духа — машинной безжизненностью, мертвым бездушием. Язык, орудие общения, все больше становится орудием расчеловечивания человека, все больше превращает его в рационала, машиноподобного биоробота. Потому-то кризис языка — это сегодня одно из главных проявлений всеобщего кризиса человечества, еще одна глобальная проблема, которая усиливает этот всеобщий кризис.«Взрыв контактов» и личность человека.
«Взрыв перемен», это дитя НТР, и психологическое влияние на нас науки (особенно через язык) — два новых рычага жизни, которые делают человека рационалом и обедняют его чувства. А как действует на людей «взрыв контактов», который принесла с собой нынешняя городская жизнь? Английские социологи подсчитали, что у среднего горожанина сейчас от пятисот до двух тысяч знакомых. Это могло бы расширять кругозор людей, углублять их общение друг с другом. Но «взрыв контактов» мельчит большинство таких контактов, лишает их глубины. А летучие — каждый день — контакты с тысячами людей — на улицах, в магазинах, на транспорте — резко перенапрягают нервы, усиливают потоки тягостных эмоций. Так же перегружает нервы и «взрыв информации», и городские шумы, и загрязненный воздух, и отрыв от природы. Американские медики установили, что городской шум крадет у людей здоровье, резко убыстряет старение и на десять лет сокращает человеческую жизнь. Японские ученые выяснили, что на природе, в лесу у человека на 60 процентов быстрее восстанавливаются силы, нервные и физические, растет выносливость, сосредоточенность. Значит, настолько же — больше чем наполовину — ухудшает всю работу нервов один только отрыв от природы, без других изъянов современного города. И в ответ на атаки города человеческая психика создает еще один щит обороны: мозг начинает вырабатывать наборы эмоциональных шаблонов, стандартов — одинаковых откликов на разных людей, разные сигналы жизни. Это тоже сберегает нам нервные силы, потому что на привычные отклики всегда идет меньше энергии. Видимо, у людей ошаблониваются сейчас многие стороны нервной жизни, и это спасает наши нервные силы от перерасхода. Но мы дорого платим за такое спасение: наши чувства обезличиваются, теряют в личном своеобразии. Такое обезличивание чувств — вторая (после обеднения и орассудочивания чувств) крупная перемена в психологии современного человека. В нынешнем половодье контактов мало глубоких контактов — сердечных, душевных, личных. Даже в семье близкие люди все меньше общаются друг с другом, и все больше — с телевизором, приемником, газетой, — как та театралка, которую и не тянет к близким. У горожан сейчас слишком много, во-первых, «массовых» контактов (со зрелищными и информационными рычагами общества), и, во-вторых, «ролевых» (в роли работника, покупателя, пассажира) — полуличных или совсем обезличенных. Города бурно растут сейчас, и если мы не остановим их рост, будут расти еще стремительнее. В конце прошлого века в городах нашей страны жило 15 процентов жителей, сейчас живет две трети, а к концу века будет, очевидно, жить три четверти. Особенно опасно растут города-гиганты, миллионеры: минусы городской жизни в них резко усилены — как бы пропорционально квадрату, а то и кубу населения. Обезличенные контакты резко вредят всем личным связям, подтачивают устои семьи, которая стоит как раз на таких связях — глубоких, сердечных, вовлекающих в себя всего человека. Избыток «массовых» связей как бы расшатывает семейные молекулы, дробит их на атомы, которые мало тяготеют друг к другу. Массовые, типовые контакты вовлекают в себя не всего человека, а только часть человека: в них действуют или внешние слои нашей психики, или какие-то ее «части» — любопытство, память, знания, интересы… Они почти не затрагивают глубины человеческой души, и это подмывает глубинную сердечность личных связей, делает их поверхностными, однообразными. Психологи выяснили, что разговоры у близких людей часто идут по колее внешних сведений, бытовых мелочей, текущих новостей. Для таких разговоров не нужны напряжения души, они не трогают глубин человека — и его живая личность, чувствующая и думающая, снова отодвигается назад.Сверхгород и массовая цивилизация.
А теперь вспомним записку о том, что коллективная жизнь вредит личной, потому что, общаясь с массами, мы оставляем меньше чувств близкому человеку. Пожалуй, вернее было бы сказать, что чувствам больше мешает не коллективная жизнь, а массовая. В XX веке появилось невиданное в истории массовое общество, цивилизация сверхмассовых контактов. Почти вся жизнь нынешних горожан проходит среди толп: на улицах и в магазинах, в транспорте и на работе, в местах увеселения и питания. И даже дома нас осаждают людские скопища — с экранов телевизора, со страниц газет… Мы ведем конвейерное существование в этих людских потоках — живем в них не как личности, а как безликие единицы — пассажир, покупатель, зритель, прохожий, производитель и потребитель благ. Конвейерная жизнь несет с собой массовое обезличивание людей, массовое усреднение их душ и чувств. И чем больше толп в нашей будничной жизни, тем чаще человек переживает «одиночество в толпе», и тем глубже это эгоизирует его. Нынешний город враждебен самым человечным коммунистическим идеалам — союзу человека и массы, гуманному развитию личности каждого человека и всех людей. Он создает уклад жизни, который разобщает людей и сдавливает их личность. Со времен капитализма города растут вокруг промышленности, и она скучивает вокруг себя гигантские массы людей, занимает под них огромные площади. Город существует прежде всего как вместилище производства, и жизнь горожан строится не вокруг их свободного развития и дружеского союза, а вокруг производства и потребления. Для современного города человек — прежде всего типовая фигура, участник производства и потребления, и только потом, в остатке — человек, личность. Городская жизнь отделяет человека от природы, отдаляет от других людей, от лучшего в себе — самого человеческого, глубокого, творческого. Возможно, в нашем городе не меньше крайностей капиталистического города — гигантомании, отравленного воздуха, концентрации толп… Скученность людских масс, отчуждение личности и отрыв от природы, подчинение жизни производству и потреблению, а не свободному духовному развитию и дружескому союзу людей — все эти принципы нынешней городской жизни лежат и в основе нашего города. Города-гиганты всей своей громадностью отравляют самоощущение человека, вселяют в него чувство своей ущемленности, муравьиной неполноценности. День и ночь городская архитектура заражает наше подсознание своей проникающей радиацией — излучениями казарменного однообразия и помпезного гигантизма. В этой архитектуре как бы запечатлелась двойная социальная психология недавнего прошлого — величие социальной машины и безличие ее винтиков. Мы бессознательно, не понимая, как мы саморазоблачаемся, овеществили в камне эту вывихнутую психологию, и она еще долго будет излучаться оттуда, долго будет настраивать по своим камертонам души наших потомков. Мы, кстати, не понимаем, каким архитектором человеческих душ служит архитектура, не понимаем, что мы строим дома, а они строят нашу психику. Здесь лежит еще одно проявление нашего допсихологического сознания, еще один колоссальный разлад цивилизации с человеческой психологией. У основателей марксизма были резкие взгляды на индустриальный город. «В лице крупных городов, — писал Энгельс, — цивилизация оставила нам такое наследие, избавиться от которого будет стоить много времени и усилий. Но они должны быть устранены — и будут устранены, хотя бы это был очень продолжительный процесс»[44]. И Ленин говорил в свое время, что социализм — это уничтожение «деревенской заброшенности, оторванности от мира» и «противоестественного скопления гигантских масс в больших городах»[45]. К сожалению, марксистское «градоборчество» было отвергнуто в 30-е годы и «противоестественные скопления гигантских масс» втянули в себя большинство народа. Индустриальный город — это по своей природе холодная и бездушная машина для житья и работы. Мы получили его в наследство от капитализма, и теперь надо срочно создавать совершенно новый, именно социалистический город — город-сад, город-лес, не машину для житья, а оазис для жизни. Индустриальный город стоит на глубоком разладе с психологией человека и его нравственностью, с естественными запросами его души и тела. Всем своим укладом — от обезличивания человека до его отрыва от природы — эта «вторая природа» враждебна и первой природе и природе человека. Чем больше город, тем он негуманнее, и чем больше городов, тем это больнее бьет природу и природу человека. Индустриальный город — это, по-моему, болезнь цивилизации, ее тупиковая ветвь, которая грозит погубить весь ствол. Еще недавно города были как бы простой опухолью на теле человечества, но теперь они переродились в раковую, и если мы не победим их, они победят нас… Новый город не будет, наверно, гигантом, и дома в нем, возможно, будут не выше деревьев — в рост с психологией человека. Он не будет, видимо, закован в бетон и асфальт, он гармонически сольется с природой, и это слияние даст громадные преимущества и здоровью людей, и их нравам, и чувствам. Мы, к сожалению, перестали понимать, что природа — великий скульптор человеческих чувств, творец наших душ и нравов. Она учит людей незаметным, как воздух, нравственным ценностям, которые и нужны нам, как воздух: быть естественными и открытыми друг другу, проще и безусловнее любить жизнь, всей душой ценить ее простые радости. Она помогает людям сохранять детство души, глубину светлых порывов. И как отъединение от природы грабит человеческую личность, отнимает у нее глубину чувств, так и соединение с природой поможет человеку вернуть себе эту естественную глубину.Что такое личность.
«А что такое личность? И разве может быть личность без глубоких чувств?» (Ленинград, центральный лекторий «Знания», июнь, 1982). У слова «личность» есть два значения. Первое — исходное, еще из прошлого века: личность — это человек со своим лицом, непохожий на остальных, то, что называют сейчас французским словом «индивидуальность». Второе значение появилось в нынешней социологии и философии. Индивидуальностью в ней стали называть психологическое своеобразие человека, склад его физических и психологических черт, который отличает его от других людей. А личность для социологии и философии — это как бы общественная индивидуальность, то есть психологическая неповторимость на социальной почве, своеобразие человека как участника общественной жизни, исполнителя социальных ролей[46]. Мне кажется, слово «личность» можно применять в обоих его смыслах сразу, оно хорошо обозначает всякое личное своеобразие человека — и психологическое, и социальное. (Тогда, кстати, и не нужно будет тяжеловесного слова «индивидуальность» — его полностью перекрывает слово «личность»). Личность — это свое лицо человека, психологическое и социальное, своя манера чувствовать, думать, говорить, действовать. Это особый у каждого человека сплав всех его главных черт — психологических, нравственных, умственных, деловых. Это особый склад человеческого характера и темперамента, мироощущения и мировоззрения, особый склад потребностей, интересов, взглядов, поведения[47]. Словом, личность — это как бы поперечный срез того своеобразия, которое пропитывает душу и разум человека, окрашивает в свой цвет все его дела, взгляды, психику. Это как бы дирижер его инстинктов и разума, рулевой души и поступков, как бы правительство внутри человека, которое правит всем его стилем жизни. А всякий ли человек — личность? Наверно, только тот, в котором личное своеобразие пересиливает серийность, стандартность, обезличенность. И всегда ли хорошо быть личностью? «Я студентка, недавно отпраздновавшая 19. Ваша книга «Три влечения» возбуждает много мыслей, но я придерживаюсь мнения, что похвалы для человека вредны, и напишу вам только свой упрек. У вас хорошая цель — помочь человеку освободить свою личность. Но разве вы не видите, что многие, развивая свою личность, превращаются в эгоистов? Как будто то плохое, что было в материальной сфере (копление для себя богатств), переносится в духовную сферу. Люди научились себя углублять, расширять, стали умными, образованными, любящими дискутировать, а любить и уважать не умеют. Не умеют стерпеть, принять человека таким, какой он есть, уважать права, ум, чувства другого. Всего этого очень не хватает мне, моим друзьям и многим знакомым. Может быть, потому и говорят, что любовь умерла и нет смысла коснеть около ее развалин. Любовь умерла?! Как же так? Почему же не умирает любовь матери к ребенку, любовь хороших друзей? Скажете, здесь что-то другое? Может быть. Но тогда любовь женщины и мужчины ставится на более низкое место? И тогда эта любовь должна учиться у материнской и дружеской любви, как жить?» (NN[48], Вильнюс, декабрь, 1976). По-моему, девушка из Вильнюса хорошо сказала о накоплении для себя богатств, котороесейчас переносится в духовную сферу. И, наверно, все мы понимаем, что личность — это еще не похвала для человека, все дело в том, какая это личность, чего она хочет, каковы ее цели…Слепота аварийных пружин.
Как мы выяснили, НТР и рост городов несут человеческой психологии больше вреда, чем пользы. А как влияет на нас сидячая цивилизация — еще один краеугольный камень сегодняшней жизни? Она обездвиживает людей, несет в их будни как бы «взрыв малоподвижности» («гиподинамии» — с греческого). У многих людей физические нагрузки составляют пятую, десятую, двадцатую часть нормы. Нехватка физических нагрузок сочетается с избытком нервных, и эти новые ножницы больно режут по здоровью человека, по его нервам. В развитых странах, где эти ножницы особенно остры, они, начиная с 20-х годов, в 24 раза увеличили число неврозов («ЛГ», 1986, 12 ноября.). По некоторым данным, неврозами страдает сейчас 85 процентов людей («Комсомольская правда», 1987, 29 марта). Известно, что физическая разрядка — лучший способ избавиться от нервной перегрузки. Недаром маленькие дети, капризничая, топают ногами и даже падают, так их организм сам разряжает злую энергию раздражений. Значит, нервные и физические нагрузки должны бы меняться в прямой пропорции — чем больше одних, тем больше должно быть и других. Но они меняются в обратной пропорции, вывернутым парадоксом — чем больше нервных, тем меньше физических. Это еще одна глобальная болезнь человечества, еще один тяжелый разлад нынешней цивилизации с человеческой природой. Его породило перекошенное социальное развитие — новое разделение труда между человеком и машиной, передача машинам множества мускульных нагрузок, которая ничем не была восполнена. Эта невосполненность в десятки раз снизила физические нагрузки людей, а стрессовая жизнь в десятки раз подняла нервные. Миллионы лет человеком правило равновесие физических и нервных нагрузок, и физические напряжения были одним из главных эволюционных устоев человеческой жизни. Обездвиженность, малоподвижность грозит самим основам нашего существования, бьет по самим корням людского эволюционного древа. Это как бы щадящий, диетический режим, норма для старого или больного человека. Но этот старческий режим захватил вдруг почти все возрасты, стал нормой для большинства зрелых людей, молодых, школьников… А жизнь в старческом ключе заражает нервы старческими чертами — болезненной ослабленностью, легкой уязвимостью. И это при том, что нервы у людей живут сейчас не в старческом, а в подростковом режиме — в режиме накала и вспышек, пиковых напряжений и перегрузок. И выходит, что жизнь современного человека как бы составлена из двух чужеродных половин: нервной жизни подростка и физической — старика или больного. Как влияет это противоестественное смешение на наши чувства, душу, нравственность? Когда человек страдает от нервных перегрузок, крупная доля его нервных сил идет на переживание этих перегрузок, на то, чтобы обезвредить их. Гораздо меньше нервных сил остается на заботу о других людях, на отношение к ним, «как к себе самому». От этого нынешний человек делается более я-центрическим, эгоизируется, и это еще одна — после обеднения и обезличивания чувств — крупная перемена во всей современной психологии. НТР, урбанизация и сидячая цивилизация создали сегодня стрессовое состояние будней (от англ. «стресс» — напряжение). Пожалуй, еще никогда в истории нервные перегрузки не были такими взвинчивающими, повседневная жизнь — такой изнервливающей. Может быть, только мировые войны создавали в тылу такую нервную атмосферу, которая пропитывает сейчас мирные будни. НТР, урбанизация и сидячая цивилизация породили совершенно новые виды социальных противоречий. Они действуют на людей исподтишка, с непривычной стороны — не через сознание, а через подсознание, безотчетную работу нервов. Эгоизируя подсознание людей, нервные перегрузки действуют на них так же, как раньше, по моему мнению, действовала частная собственность. Это как бы психологические заменители частной собственности, как бы ее пятая колонна в сегодняшней жизни. Они враждебны самым душевным, самым человечным идеалам людей, и их социальный вред тем разрушительнее, чем меньше мы осознаем его. Ослабление и обезличивание чувств, рост их я-центричности — это как бы биологическая защита человека, эволюционное оружие, которое охраняет нашу психику от распада. Но не слепое ли это оружие? Не злее ли оно того зла, от которого защищает? Не служит ли лекарством, которое хуже болезни? Кризисные перемены в наших чувствованиях породил механизм самосохранения — наши биологические регуляторы, которые таятся в подсознании, — и без участия воли, сознания. Здесь-то, пожалуй, и таится суть дела. Механизм самосохранения прост и я-центричен, и в этом его спасительная сила. Им движет принцип ближайшей пользы, сиюсекундного спасения, и он видит вперед только на один шаг. Этот механизм природы родился в животном мире, и он был главной защитой от вездесущей смерти — когда только молниеносный, только бездумный бросок спасал от чужих когтей. У человека этот автоматический механизм тоже спасителен, когда идет схватка не на жизнь, а на смерть. Но в обычной жизни принцип ближайшей пользы чаще всего оказывается принципом дальнейшего вреда. Когда видишь только на шаг вперед и не видишь последствий этого шага, тогда сегодняшний выигрыш дает завтрашний проигрыш, а тактическая победа ведет к стратегическому поражению. Это, видимо, общий закон жизни, который правит всеми ее сторонами — от здоровья человека до управления обществом. Подсознательная экономия нервных сил не увеличивает эти нервные силы, а ослабляет их, делает полубольными. Спасая нас из одних ям, она заводит в другие, еще более глубокие; это тупиковый путь, наклонная плоскость, которая ведет к закату человеческих сил.На кого действуют перегрузки.
«Говоря про ослабление чувств, вы пугаете, что чем крупнее город, тем заметнее слабеют чувства. А я всю жизнь москвич, мне сорок лет, но на чувства не жалуюсь: работают как новенькие, нисколько не износились. Думаю, что они слабые у физически слабых, и им надо укреплять себя спортом, бегом, здоровой жизнью. Только не зарядкой (от трансляции ее на ушах мозоли), а настоящими нагрузками. Тогда и чувства будут нормальные». (Политехнический, октябрь, 1979). На всех ли действуют нынешние нервные перегрузки? Говорить об этом можно только предположительно, потому что исследований тут почти нет. Пожалуй, перегрузки больше действуют на горожан, чем на сельских жителей, и больше всего на жителей больших городов: ритм жизни там лихорадочнее, душевный «смог» урбанизации гуще. По-разному, наверно, страдают от перегрузок чувства мужчин и женщин. В мужской психике рациональность сильнее, чем в женской, а эмоциональность занимает меньше места, и от этого мужские ощущения рационализируются легче, глубже. Зато женские чувства больше поддаются нервозности, засилью тягостных ощущений. Сильнее, видимо, действуют перегрузки и на тех, у кого слабее тип нервной системы: их нервы ранимее, и они вынуждены заслоняться от перегрузок бронею потолще. Но значит ли это, что чувства у них ослабли больше, чем у людей более сильного нервного склада? Если говорить точно, то у людей слабеют прежде всего короткие чувствования, эмоции, чувства-отклики на какие-то события — вспышки радости, гнева, страха, настороженности, удивления. Это как бы ориентировочные чувства, чувства-сторожа, сиюминутные, «событийные чувствования». Говоря совсем точно, слабеют нервные реакции, которые лежат в их основе[49]. Другое дело — чувства-состояния, чувства-отношения — любовь, дружба, уважение, ненависть, презрение, неприязнь… Это долгие, устойчивые чувства, и их глубина зависит от двух корней: и от силы нашей нервной энергии, и от нашей настроенности на эгоизм или эгоальтруизм. У человека с более слабым нервным складом эмоции — чувства-отклики — могут быть беднее, чем у человека сильного склада; но если он «двуцентрист», а тот я-центрист, то чувства-состояния, чувства-привязанности у слабого могут быть глубже, чем у сильного. (Впрочем, так как чувства-состояния хотя бы наполовину зависят от силы нервных реакций, то обеднение этих реакций всегда обедняет и чувства.) Но навсегда ли эти кризисные перемены в людях или только на время? Можно ли смягчить их, а если можно, то как? Изменить ритм жизни, уничтожить минусы урбанизации, оставить только плюсы? Или изменить человека, усилить его приспособительные механизмы? Чтобы обезвредить опасные стороны НТР, урбанизации и сидячей цивилизации, нужны, видимо, коренные перемены во всех главных областях жизни — от перестройки нынешнего города и нынешнего разделения труда до переворотов в детском воспитании, во всем укладе будней… Нужен переход к новой цивилизации — генеральное переустройство всей ткани современной жизни, всех нитей, из которых она состоит. Что касается человеческой психологии, то переменами в ней управляют сегодня аварийные двигатели подсознания. Когда на помощь им придет сознание, оно, видимо, отбросит тупиковую тактику ближайшей пользы и создаст стратегию настоящей пользы — близкой и далекой, сегодняшней и завтрашней. Нынешнее человековедение — еще один признак тяжелых социальных болезней — такой стратегии не создало. Оно не увидело опасных перемен в теперешнем человеке, не нашло защиты от них. Впрочем, самые чуткие отечественные социологи и психологи давно говорили о тревожных переменах в современном человеке. Но их тревогой, к сожалению, не заразилась — и не перевела ее в действие — официальная наука. Еще раз больно ударило по людям пренебрежение обществоведов к личной жизни, робкое приглядывание к новым проблемам, боязнь стратегических противоречий. Общественные науки как бы переняли здесь шкалу ценностей от вульгарного социологизма: они считали личную жизнь человека чем-то второстепенным, а его психологические пружины — подсобными. Но личная жизнь — один из главных пластов человеческой жизни, такой же генеральный двигатель и тормоз общества, как, скажем, производство. Сейчас, видимо, идет вселенский переход от одного исторического вида человека к другому — от человека материально-духовных потребностей, как бы «малоличностного», к человеку духовно-материальных потребностей, человеку-личности. Главными обыденными двигателями этого человека все больше, видимо, будут делаться его психологические пружины, личные, а не типовые — личные взгляды и настроения, индивидуальная мораль, здоровье, нервы. Эти личные пружины — тот последний рычаг, от которого на каждом личном участке жизни зависит ее успех или провал, ее тусклость или яркость. И пока человековедение не поймет этого, пока оно не поможет перестроить жизнь по законам человеческой природы, личные кризисы будут, видимо, нарастать…Эмоция — дочь двух соперников.
«Вы говорите, что современные чувства притупляются от нервных перегрузок. По-моему, причина этого притупления другая — избыток информации. У известного психофизиолога Симонова есть теория, по которой сила эмоций прямо пропорциональна потребности человека в чем-либо и обратно пропорциональна информации о том, достижима ли эта потребность. Это значит, что нынешний взрыв информации несет с собой необратимое притупление эмоций. Ведь чем больше у человека знаний, информации, тем больше он мыслит, а не чувствует. Следовательно, сегодняшняя рационализация людей — это результат информационного взрыва и роста образованности. Следовательно, всеобщее образование вызовет всеобщую рационализацию и отмирание эмоций, и человек будущего превратится в мыслящего робота, в ходячий мозг». (Общественный институт ювенологии, март, 1980). Теория эмоций П. В. Симонова — это, по-моему, очень крупный вклад в психологию чувств, хотя с ней и не соглашается кое-кто из психологов. У эмоции, говорит эта теория, как бы два родителя, причем это родители-соперники: один усиливает ее, другой ослабляет, один служит для нее мотором, другой — тормозом. Чем сильнее наша потребность в чем-нибудь, чем больше нам не хватает чего-то, тем сильнее и эмоция — желание, достичь этого чего-то, влечение к нему, тяга. Потребность — это главный родитель эмоции, родитель-мотор. Но чем больше мы знаем, как насытить эту потребность, тем меньше нашей энергии идет в эмоцию и больше — в действие или в мысль. И наоборот, чем меньше мы знаем, как насытить свою потребность, тем сильнее звучит в нас эмоция. Эмоция нужна человеку как усилитель его энергии: она пробуждает его скрытые силы, вводит в строй резервы. Но если достичь цели просто, то резервы не требуются, и эмоция может быть слабой. Информация о насыщении своей нужды — неосознанная или осознанная — второй родитель эмоции, родитель-тормоз. И накал эмоции, ее сила — это равнодействие обоих родителей, их силы[50]. В теории П. В. Симонова речь идет о чувствах-откликах, а не о чувствах-состояниях, о сиюминутных эмоциях, а не о долгоиграющих чувствах. (Если говорить точно, это теория не чувств, а именно эмоций, не психологическая теория чувств-состояний, а психофизиологическая теория чувств-откликов). И она, по-моему, хорошо объясняет важные механизмы нынешней рационализации людей. Вспомним: взрыв контактов у современных горожан — это в основном взрыв поверхностных, внешних контактов. Люди участвуют в них внешними, типовыми слоями души, ведут себя в них полуобезличенно, а то и совсем обезличенно. И в делах у нас — домашних, рабочих — много шаблона, информационной ясности. Будущие действия известны, расчислены, и это приглушает наши чувства-отклики, тренирует их на полголоса, шепот. В личной жизни — то есть в малолюдном, не массовом общении — противостоять такому приглушению чувств и проще, и сложнее. Чем моложе люди, тем больше в них нового, неизвестного друг для друга; в них царит «информационный голод» друг по другу — и в то же время сильна потребность друг в друге. Оба эти родителя эмоций обостряют, а не притупляют чувства. Но чем старше люди, чем однообразнее их жизнь, тем больше в ней информационной сытости и тем приглушеннее их чувства-отклики, тем стесаннее их ощущения-аккомпанементы. А вместе с чувствами-откликами слабеют и чувства-отношения — любовь, влюбленность, симпатия… Информационная теория эмоций раскрывает вечный механизм чувствований: она позволяет тем самым понять еще одну глубинную причину нынешнего обеднения чувств. Но она не вытесняет других объяснений, о других причинах, а дополняет их, встает в их строй.Вытеснит ли мысль эмоцию?
Вернемся еще раз к записке. Верно ли, что чем больше образованность, тем больше человек думает и меньше чувствует? И чем больше будет у людей знаний, тем больше будут угасать чувства? По-моему, это не так. Число мыслей не состоит в обратной пропорции с числом ощущений, чувств. По своей глубинной природе человек — существо больше чувствующее, чем размышляющее; он больше homo sensualis (человек чувствующий), чем homo rationalis (человек думающий). Эмоция — более властная, более автоматическая основа человеческой природы. Она глубже, чем мысль, укоренена в биопсихологии человека, в самых глубинных органических устоях его жизни. Да и у нашей мысли (кроме мысли механической, серийной) всегда есть эмоциональный шлейф: мысль чаще всего сопровождается эмоциями, вызывает их, рождается из них. Влияет друг на друга не количество эмоций и мыслей, а их качество. Чем тусклее мысль, тем тусклее и ее шлейф — эмоция, чем она ярче, глубже — тем глубже и колокольнее голос эмоций. И наоборот, только глубокие эмоции ведут к глубоким мыслям, а стертые эмоции рождают и стертые мысли. Кроме того, знания — то есть мыслительная, логическая информация, — это только часть того потока информации, в котором мы живем. Главная часть этого нестихающего потока — образная и чувственная информация — зрительные и слуховые впечатления, двигательные и осязательные сигналы… То есть большинство информации, которую получает (и, видимо, будет получать) человек, — это информация эмоциональная, а не рациональная. Поэтому вряд ли стоит опасаться, что всеобщая образованность приведет к отмиранию эмоций и человек будущего станет двуногим мозгом. Впрочем, нынешнее образование, сухо логическое, явно вредит нашим эмоциям. Оно, как уже говорилось, имеет дело в основном с левым полушарием мозга, грубо отсекает знания от эмоций и этим гасит эмоции, делает десятки миллионов людей рассудочными рационалами. Научно-психологическая революция, наверно, создаст в корне новое образование, которое будет отвечать природе человека: оно будет углублять его знания и его чувства, помогать, а не иссушать жизнь эмоций. Это, во всяком случае, одно из коренных стратегических требований к новому образованию, и на него, видимо, со временем будет опираться вся образовательная реформа.Полнокровнее и малокровнее.
«Непонятно, с ростом нервных перегрузок, урбанизации и т. д. чувства стали глубже или примитивнее? Неужели любовь «среднего человека» средних веков была сильней, чем у нашего современника?» (Московский институт электронной техники, Зеленоград, октябрь, 1980.) Пока шла речь только про обедняющие перемены в нынешней психологии. Но в ней есть и обогащающие перемены — их рождает социальный, научно-технический и культурный прогресс. Прогресс делается сейчас все сложнее, он как бы пропитывает соками сложности все больше клеток социального организма, все больше нитей обыденной жизни. Эти стратегические перемены исподволь, из глубины повышают требования к человеку, к его уму, нравственности, психологии. Человеческая психология медленно перестраивается во всех своих звеньях, от вершин до подножия, и вся ее ткань начинает делаться другой. Углубляет человека и известная всем сильная сторона НТР — рост образования, культуры, творческих слоев в поисковых видах труда. Так же действует и ощущение ценности своего «я», которое нарастает в людях (впрочем, нередко до чрезмерности), и тяга к самовыявлению, саморазвитию. Все эти пружины будней утончают и углубляют в человеке личность, у многих людей нарастает своеобразие в сознании и подсознании, в чувствах и интересах, в привычках и в поведении. Идет, говоря языком психологии, не только обезличивание, но и индивидуализация человека, появляется все больше людей-личностей, людей с усложненной и обогащенной психологией. Впрочем, и сама личность у многих, видимо, меняется — делается более рассудочной, рациональной, менее сердечной, эмоциональной. Возникают как бы «полу-личности» — люди, у которых развит ум, но приглушены, обезличены чувства. Борьба личностного и обезличенного пронизывает всего нынешнего человека: возможно, это главная борьба, которая идет в его психике. Все сильнее делается потребность человека развивать свое «я», но сильнее делаются и глушители личности. В современном человеке как бы нарастают оба эти полюса: быстро идет не только его индивидуализация, но и стандартизация многих слоев души. Развитие человека драматизируется, поляризуется — и это, возможно, общий закон XX века, закон обострения полюсов. Во многих зонах жизни видна эта поляризация, по многим линиям драматизируется — то есть революционизируется — мировое развитие. Эти двоякие перемены в человеческой психологии рождают и двоякие перемены в мире человеческих чувств. Любовь тоже как бы поляризуется, и перемены в ней, говоря упрощенно, идут по двум руслам. У одних людей она внутренне обогащается и усложняется, становится объемнее и полнокровнее (об этом — чуть позже). У других — это больше бросается в глаза, потому что лежит на поверхности, — она делается малокровнее, любовные отношения беднеют, упрощаются. «Я думаю, любовь сейчас немного израсходовала себя. Вы правильно отметили о скоростях нашего века. Мне надо успеть сходить с девчонкой в кино или в театр, отдохнуть после этого, побыть с ней в постели и не опоздать из увольнения. А если в институте я буду вздыхать о ней подобно средневековому рыцарю, то вылечу в первом же семестре. Далее. Когда-то был не матриархат, а то, что до него, когда любовь = секс. Постепенно, с развитием человека, развивался его ум, обогащались его чувства, ну а секс, несмотря на получаемое от него удовольствие, он выглядит довольно грубо. Поэтому возникла необходимость украсить половой акт, появилась любовь, которую возвели в культ. В общем, писать можно много, но у меня нет времени, надо учить китайский. Короче, я против вздохов, тем более, что большинство понимает: любовь = секс. (Курсант военного училища, Ленинград, 1976.) Так, как этот курсант, думают, наверно, многие. Такие люди обычно довольствуются более простыми и менее глубокими чувствами, они заменяют любовь влюбленностью, симпатией, влечением, просто сексом. Как влияет это на их психологию? Когда у человека больше действуют не очень глубокие струны души, они от этого разрастаются, занимают в душе все больше места. Более глубокие струны оттесняются, слабеют, и их место в душе захватывают эти более простые струны. Чем больше мы испытываем какие-то чувства, тем больше они лепят душу по своему образу и подобию; это, видимо, простейший закон психологии. По такой схеме, но, конечно, сложнее, без этой гравюрной резкости, и идет у людей обеднение чувств, душ, отношений.Психология современной любви.
«А как меняются чувства людей, у которых берет верх душевное обогащение?» (Центральный клуб МВД, январь, 1986.) Здесь очень много неясностей и загадок, и понять их, увы, опять-таки мало помогает нынешняя наука: психологи почти не изучают любовные чувства, а остальным семьеведам это просто не под силу, так как им мешает непсихологический подход. Поэтому (повторюсь) ключи к сегодняшним чувствам приходится искать и в прямом изучении жизни, и в тех психологических открытиях, которые делает искусство. В свое время Бальзак задался вопросом, кто больше дает человечеству — Прометей или Фауст. Прометей — это деятель, строитель, открыватель огня, то есть наука и техника; Фауст — созерцатель, мыслитель, искатель счастья и смысла жизни, то есть искусство, мораль, философия. Наш технический век уверен, что главная из этих фигур — Прометей: это он кормит и поит человечество, он дает ему почти волшебные житейские блага. А Фауст — только дополнение к нему, необязательное третье блюдо, и без него вполне можно прожить… Такой взгляд, наверно, естествен для человека материальных запросов, технократических ценностей. Но на нынешнем сломе времен рождается человек духовно-материальный, и он понимает, что Прометей и Фауст — как бы два крыла самолета, и без любого из них не взлететь. Каждый из них дает человечеству то, чего не может дать другой, и оба нужны ему одинаково (хотя Фауст, мудрец и мыслитель, все-таки, пожалуй, больше). Искусство, видимо, больше дает духовной культуре человечества, а наука —, материальной культуре. Искусство — главный, пожалуй, открыватель наших внутренних материков, и его открытия важны для человека не меньше, чем открытия науки. Сегодняшняя наука больше дает нам знания о внешнем мире, а искусство больше открывает человеку его самого. Оно все глубже проникает в тайны его душевного мира, в загадки человеческих отношений, и где нет таких открытий, нет и искусства, есть только подделывание под искусство. Какие же открытия в психологии чувств сделало искусство? Скажу о них бегло, так как подробно о них говорилось в «Трех влечениях». В XIV веке Петрарка открыл двойной лик любви, которая «целит и ранит», раздваивает человека на полярные чувства: Страшусь и жду; горю и леденею; От всех бегу — и все желанны мне. Он увидел двуречье любви, разглядел, что в нее входит восторг и тоска, радость и мука, надежда и печаль, и все они слагаются в особый сплав чувств, который правит душой. Это было огромное открытие во внутреннем мире человека — открытие внутреннего строения любви, ее запутанной сложности, которая меняет всю жизнь человека. Но Петрарка не разглядел еще струек, из которых состоит каждый этот поток, не увидел, как они переливаются, незаметно переходя друг в друга. В XX веке спектр любви стал исключительно сложным, и любящий взгляд теперь состоит из сложнейшей вязи эмоций. «В этом взгляде было опять что-то совершенно незнакомое Ромашову — какая-то ласкающая нежность, и пристальность, и беспокойство, а еще дальше, в загадочной глубине синих зрачков, таилось что-то странное, недоступное пониманию, говорящее на самом скрытом, темном языке души». Так видит глаза любимой юный Ромашов из купринского «Поединка», и тут как бы просвечивает вся многослойность теперешнего любовного влечения, вся его непростота. Чувства, из которых оно состоит, лежат в разных психологических измерениях, а в глубине под этими еще различимыми чувствами таится что-то странное, недоступное пониманию, говорящее на самом скрытом, темном языке души… Любовь — глубинная эманация души, она истекает из подсознания — большой и важной области человеческого существа, которая скрывает в себе много загадок. Оттуда начинаются глубокие сотрясения души, там таятся многие силы, которые диктуют чувствам человека, его душевным движениям. Многое в этих движениях не воспринималось, не осознавалось раньше. В XX веке забеспокоились, стали улавливать эти загадочные истечения. Приближаясь к сознанию человека, они вспыхивали, как вспыхивают метеоры в небе, и только в эти моменты их можно было заметить. Но какой путь они проделали до этого, из каких глубин вышли — оставалось тайной. У Петрарки эмоции любви отграничены друг от друга, они блистают как лезвия — восторг и тоска, радость и мука, наслаждение и печаль. Между ними нет никакого тумана, сплетения их ясны, переходы рельефны, зримы. Теперь любовь не просто состоит из нескольких чувств. Двуречье любви превратилось в дельту из многих потоков, и каждый из них разбит на мельчайшие струйки эмоций, настроений, душевных движений — мимолетных, неуловимых, переливающихся одно в другое, вспыхивающих и гаснущих, загорающихся в другом месте. Рождается микропсихология любви, диалектика души ветвится на хороводы все более летучих искорок, на мерцания все более безотчетных чувств. Искусство начинает следить за посекундной кардиограммой этих мимолетных движений души, за неуловимой вязью глубинных струек в их потоках. Люди начинают понимать, что вся гамма ощущений, из которых состоит любовь, необыкновенно ценна для них: она как бы стремится сделать из человека Человека, который в своих чувствах ушел от обыденных законов будней, освободился от них и живет по каким-то другим, высшим законам… Это было совершенно новое, рожденное XX веком представление о любви, и это было открытие нового — и очень сложного типа человеческой психологии. Наши чувства — это, пожалуй, самая глубокая и самая доступная многим из нас музыка души. И возможно, когда психологическая революция утончит и углубит человека, он научится вслушиваться в полутона и оттенки своих чувств, будет впитывать в себя все их переливы и сплетения. Если это произойдет, посекундная жизнь любви станет гораздо насыщеннее, и путь к этому завтра начался вчера… В начале XX века еще одно новое слово о любви сказал Маяковский: он открыл новый строй любовных ощущений, новый почерк человеческой любви. Трагическая любовь его, раненная и подавляемая, — это не чувствице «вроде танго»: она делает человека великаном, рождает в нем титанические порывы души. Если б был я маленький, как Великий океан, — на цыпочки б волн встал, приливом ласкался к луне бы. Где любимую найти мне, такую, как и я? Такая не уместилась бы в крохотное небо! Что такое этот гигантизм, этот вселенский космизм в любви? Маяковский выразил этим, овеществил одну из центральных идей эпохи. В новое время личность человека становится — в собственных глазах — огромной величиной, и это свое величие она хочет видеть и через любовь, хочет ощущать по громадным чувствам, которые сотрясают ее сердце. И, ощущая себя мировой величиной, человек начинает и другого человека видеть как мир — очень сложный и разветвленный, из множества звеньев, потоков, течений. Аннета Ривьер, «очарованная душа» Роллана, изнемогает от стремления отдать все лучшее в себе другому. Но ее разум и чувства бунтуют против этого смутного зова. Ее подсознание готово отречься от своего «я», сознание восстает против этого. Роллан считает эту борьбу истинным противоречием любви нового времени, любви человека, который осознал ценность своего «я» и не хочет умалять, подавлять свою личность. Аннета говорит своему жениху: «Вы входите в мою жизнь не только со своей любовью. Входите со своими близкими, друзьями, знакомыми, со своей родней, со своей карьерой, со своим будущим, ясным для вас, со своей партией и ее догматами, со своей семьей и ее традициями — с целым миром, который принадлежит вам, с целым миром, который и есть вы сами. А мне, которая тоже обладает своим миром, и которая тоже сама есть целый мир, вы говорите: «Бросай свой мир! Отшвырни его и входи в мой!» Я готова войти, Роже, но войти вся целиком. Принимаете ли вы меня всю целиком?» Современная любовь для Роллана — это сближение двух огромных и сложных человеческих миров. Они разные, эти миры, во множестве своих точек и граней, и от того, сблизятся ли эти точки, зависит судьба любви, ее жизнь или ее крушение. Любовь необыкновенно усложняет жизнь сердца. Она как бы дает человеку внутренние глаза, позволяет ему увидеть скрытые уголки своей души, ощутить такие оттенки чувств, о которых он до этого и не подозревал. Конечно, речь идет здесь о высших точках любви, о ее психологических вершинах, рядом с которыми много провалов и равнин обычной жизни. И в сочетании этих взлетов и провалов резко проявляется двоякость нынешнего психологического развития, — когда углубление личности идет рядом с ее обезличиванием, а утончение одних наших свойств достигается через притупление других. Вспомним о двух измерениях любви: «количественном» — ее силе, накале, и «качественном» — ее глубине, составе ее чувств. В «качественном» своем измерении любовь, видимо, идет вперед, делается сейчас сложнее, глубже пропитывается высшими человеческими идеалами. Что касается «количественного» ее измерения — ее силы, накала — тут, пожалуй, утрат больше, чем приобретений: изъяны сегодняшней жизни очень снижают этот накал. Отнимая энергию у психики человека, они отнимают столько же энергии у его любви — и этим ослабляют ее, делают ее век короче. И усложнение любви, разветвление ее на мельчайшие душевные трепеты идет рядом с падением ее безоглядности, цельности, ее непроизвольной силы. Утрата ее чувственного изобилия делается все более явной, еще раз проявляет себя нерасторжимость потерь и приобретений.Любовь личности.
«Вы упрекали философов, что они, говоря о новом в любви, отделываются общими словами и не говорят, какие же перемены конкретно происходят в самом чувстве. А сами вы можете сказать, что именно меняется в любовных чувствах, именно внутренне, в самом их содержании и строении?» (Библиотека имени Фурманова, май, 1986.) В Древней Индии так говорили о высшем виде человеческой любви: «Три источника имеют влечения человека — душу, разум и тело. Влечения душ порождают дружбу. Влечения ума порождают уважение. Влечения тела порождают желание. Соединение трех влечений порождает любовь». В этих метафорических словах — сквозь дымку наивного схематизма — ярко просвечивает облик той почти идеальной любви, которая захватывает всего человека, пропитывает собой всю его психику. Такая всепоглощающая любовь родилась тысячелетия назад, но встречалась она, видимо, нечасто: в мире царили другие, более простые виды любви. В идеале это, наверно, и есть любовь личности — глубинная тяга к полному слиянию с любимым человеком, предельное, на грани возможного, стремление, чтобы в вашей любви «рифмовалось» как можно больше сторон вашего существа. «А стоит ли смешивать три хорошие, но разные вещи: влечения души, ума и тела? Влечения ума и тела, мне кажется, не любовь. Понимание умом — рациональное осознание — нужно, по любовь — это эмоция, и только она одна. Влечение тела, секс == желание — огромная положительная сила, но она имеет отношения не к любви, а к семейному счастью. Мы как-то машинально смешиваем счастье в любви и семейное счастье, но это не синонимы». (В. Жельвис, МГУ, октябрь, 1985.) Конечно, влечения ума и тела сами по себе не любовь. Это просто «частичные» тяготения человека — умственное уважение или телесное желание, и они чаще всего живут самостоятельно, отдельно от любви. Но любовь — особое состояние всех чувств человека, всего его существа — особое состояние души, ума, тела. Она вбирает в себя все энергии человека, пропитывает собой все его силы и делает их течениями единого, цельного потока чувств. Так понимали любовь не только на Востоке. И европейские мыслители, когда еще не воцарилось механическое дробление человека на части, так же отзывались о любви. Вольтер — вспомним — говорил: любовь атакует в человеке сразу голову, сердце и тело. Еще раньше о том же писал Ларошфуко: «Трудно дать определение любви; о ней можно лишь сказать, что для души — это жажда властвовать, для ума — внутреннее сродство, а для тела — скрытое и утонченное желание обладать, после многих околичностей, тем, что любишь»[51]. Что происходит, когда любовь из одного только эмоционального влечения делается всесторонней тягой двух людей — тягой их душ, тел, разумов? Прежде всего, углубляются духовные слои любви, в нее — у психологически развитых людей — начинают внедряться отблески других человеческих чувств — дружбы, уважения, которые в доличностные времена — да и сейчас — живут чаще всего отдельно от любви. Но почему любовь меняется именно так? Может быть, оттого, что так меняется сегодня человеческая душа? Как-то одна деятельница американского женского движения сказала странные слова: «Нам, женщинам, нужно от мужчин прежде всего уважение, а не любовь». Тысячи лет женщинам нужна была именно мужская любовь, об уважении они и не думали, и эта рокировка ценностей — эхо разительных переворотов в женской психологии: женщина постепенно делается личностью, а уважение к себе — естественная потребность личности… Что касается дружеских эмоций, то уже говорилось, что самой психологии человека-личности — подспудно, подсознательно — хочется, чтобы у близкого человека было побольше близких ему самому качеств. На тяге к такой близости стоит обычно дружба, и в сегодняшнюю любовь начинают незаметно втекать эти новые, «дружеские» чувствования. Меняется наша психология — и вместе с ней, как ее тень, меняется и психологическая материя любви. К ее наслажденческим слоям, к голоду чувств по любимому человеку, к радужному его приукрашиванию, к сопереживанию с его переживаниями, к негаснущему вдохновению всех чувств — к этим вечным чувствам все больше притекают новые струйки эмоций: желание найти в любимом человеке отзвук как можно большему числу своих душевных струн, тяга к многомерному единению с ним, к слиянию не только душ, но и духа, не только чувств, но и идеалов, интересов… Эти новые лучи любовных тяготений — «зайчики», отблески в любви тех новых психологических потребностей, которые созревают в нынешнем человеке. В душевных приемниках развитого человека как бы вырастают новые диапазоны, и он может теперь принимать новые волны человеческой привлекательности. К старым волнам такой привлекательности, которые пробуждали в нас любовь, добавляется, видимо, сила ума и интуиции, близость идеалов, своеобразие взглядов и привычек, нешаблонность поступков, поведения… Но почему развитой личности не хватает «обычной» любви, почему она неосознанно тянется к «универсальному» чувству, как бы сдвоенному и строенному? Желание как можно полнее совпадать с близким человеком, пожалуй, обычно для человека-личности. Но это нормальное желание очень усиливают сейчас — и делают ненормальным, чрезмерным — изъяны современной жизни. Во времена сверхтемпов и сверхконтактов у многих из нас становится все меньше близких друзей, все больше полудрузей и беглых знакомых. Глубинные наши потребности в дружеской исповеди, в полной распахнутости души, в тесной близости мыслей, в срастании интересов — все это не насыщается в полуглубоких контактах. Заряд этих чувств скапливается в душе, томит и переполняет ее — и прожекторным потоком изливается на самого близкого человека. Родников, которые возбуждают любовь и от которых зависит вся ее жизнь и смерть, стало теперь гораздо больше. Любовные чувствования от этого очень разветвляются и усложняются, но от этого же и осложняются; тень, как всегда, идет рядом со светом. Любовь делается внутренне насыщеннее и теряет в своей цельности, бурности чувств. Чем усложненнее она, чем филиграннее ее чувства, тем они уязвимее и неустойчивее. Это, видимо, вечное противоречие любви, горький осадок на дне ее радостей. И это закон человеческих эмоций вообще: чем сложнее строение эмоции, чем она разветвленнее, тем больше падает ее сила, накал. Становясь богаче, любовь делается разборчивей: чтобы зажечь ее и поддерживать ее жизнь, теперь требуется куда более многозвенное, куда менее доступное сцепление условий. Внутри нее как бы вырастают новые препятствия: для «многозвенной» любви куда труднее найти нужного человека, чем для «однозвенной». Внутренняя нагрузка на близкого человека, подспудные наши требования к нему непосильно растут: мы как бы хотим от одного то, что раньше получали от нескольких. Ноша эта, пожалуй, по плечу лишь тем, кто сумеет понять ее сверхнагрузку, сумеет уберечь свою любовь от сверхтребований, которые могут сломать ей хребет.Кого больше?
«На всех ли современных людей действуют такие сложные перемены? У всех ли чувства меняются в эту сторону?» (Ветеринарная академия, февраль, 1986.) Пожалуй, не стоит даже и задавать такой вопрос. Любовь и шаблон противоположны, как музыка и скрежет. Любовь расковывает в людях своеобразие, углубляет их естественную неповторимость. Зеркало человека, она и человека делает своим зеркалом — личностью, а от этого и сама становится еще своеобразнее. Нет одинаковой для всех любви, одинакового чувства — есть много разных типов современной любви, а внутри них множество ее индивидуальных видов. Все они своеобразны, все неповторимы, но, видимо, во многих из них есть что-то общее, и общее это — сложность чувства, его многослойность. Впрочем, кроме «соединения трех влечений», сегодня, конечно, есть и более простые чувства: они живут и в юных душах, которые еще не успели усложниться, и в людях с простой и ясной душой, на которых меньше подействовали нынешние перегрузки, дробящие душевную цельность. Таких людей больше, видимо, в деревне и в небольших городах — там, где уклад жизни меньше затронут новыми веяниями. Их чувства, кстати, менее прихотливы, более стойки, и как раз из-за своей простоты, цельности. А самое главное, те усложняющиеся перемены, о которых тут говорилось, больше коснулись людей психологически углубленных. На людей, душевно не очень глубоких, больше влияет ослабление и обезличивание чувств. «А каких же людей сегодня больше, глубоких или мелких?» (Одинцово, Московская область, Дом офицеров, май, 1986.) Ответить на это можно только предположительно, так как исследований такого рода нет. Судя по жизненным наблюдениям, по тысячам писем и записок, которые мне приходят, людей психологически неглубоких гораздо больше, чем глубоких. Изъяны современной жизни мельчат их, тусклые слои, которые преобладают в нынешнем воспитании, образовании, массовой культуре будней, делают их тусклыми. Но и глубоких людей с годами становится больше, хотя ряды их растут медленно: идет как бы психологическая поляризация людей, и у каждого полюса — обмеления и углубления — постепенно скапливается все больше народа. Больше становится и ярких личностей, и тусклых безликостей, нужны, наверно, глубокие переломы во всей культуре, всем воспитании и образовании, чтобы душевно глубокие люди возобладали над неглубокими. Как пойдут дальше перемены в человеке, что будет брать верх — душевное обогащение или обеднение? Наверно, все будет зависеть от того, сумеем ли мы создать невероятно сложную систему будничных механизмов, которая усиливала бы достоинства нынешней жизни и обезвреживала ее изъяны. Эти новые механизмы жизненного устройства должны бы в корне пересоздать всю плоть будней, весь повседневный труд, быт, гражданскую жизнь, все воспитание, образование. Они должны так переделать весь обыденный ход жизни, чтобы ее повседневные пружины — а они-то и создают нас — больше углубляли, чем обедняли людей. Возможно, научно-психологическая революция создаст такую систему механизмов; возможно, это будет даже ее генеральной задачей. Но, чтобы это случилось, нужны гигантские социальные усилия, усилия и всего общества, и каждого человека. Потому что именно усилия каждого помогают обедняющим или углубляющим силам жизни, и от того, на какую чашу весов ложатся эти усилия, зависит на деле наша душевная глубина или неглубина…Новые основы супружества.
Какие браки удачнее?
«У нас был спор. Девочки говорили, что браки по расчету прочнее браков по любви. Я доказывала, что счастливой можно быть только по любви. Но они говорили, что читали об этом в газетах, и приводили примеры. Сестра моей подруги вышла замуж не любя, и они живут хорошо больше 10 лет. Другая девочка принесла «Неделю», там знатные женщины беседуют и спорят о семейной жизни. И одна женщина, ткачиха, Герой Труда и депутат, говорит о себе, я ее слова специально выписала: «Любовь — чтобы была сила какая-то огромная, чтобы голову потерять из-за этой любви, поцелуи, подарки разные — такого нет. И не было. Даже когда замуж выходила… Я понимала: женщина должна иметь семью. Поженились, дочки родились. Счастливо ли живем? Нормально живем, в мире и согласии. Все есть: квартира,дачный участок, машина. Дочки замужем, внуки. Зятья хорошие, нас уважают. Что еще нужно в личной жизни?» Артистка Гундарева ей отвечает: «Душа еще нужна. Чувство. Сила эмоции». Я с ней целиком согласна. Как это жить без чувств? Через месяц опротивеете друг другу, через год станете врагами. Моя мама говорит: где нет любви, будет ненависть. Только любовь может пересилить раздоры. А если любви нет, пусть хоть десять дач и машин, все равно будет несчастная жизнь». (Анюта Стогний, Ставрополь, лето, 1982.) Для человека с новой психологией по-новому встает старый вопрос — какая основа брака самая человечная, самая надежная? Двести лет лучшие умы человечества говорят — любовь; любовь, а не расчет, личные чувства, а не безликие опоры. После Великой французской революции такой подход стал все больше входить в жизнь, и он добавил к материальным и душевным опорам брака новую опору — психологическую, личностную. И это сразу же подняло брак — вернее, одну его сторону — на голову выше; и сразу же резко усложнило его, лишило прежнего равновесия. Новая опора была на ступень выше старых, и она как бы накренила, перекосила весь фундамент брака. Когда брак больше стоял на материальных, чем на духовных опорах, люди были больше нужны друг другу как союзники в устройстве быта, и меньше — как люди. Требования их друг к другу были гораздо проще, и душевная близость стояла на втором плане этих требований. Конечно, в патриархальной семье простых людей, особенно в сельской семье, тяга к душевности, к добрым человеческим отношениям часто пробивалась сквозь материальную почву. Души людей, их самые неуверенные глубины искали друг друга и тянулись друг к другу. Добрая душевность была одним из главных идеалов народной семейной культуры, любовь встречалась в семье во все времена и, возможно, в семье всех стран и сословий. Но она только встречалась, брак — вернее, его психологическое измерение — стоял не на любовных чувствах, а на более тихой душевной привязанности, да и главными домашними ролями были у людей роли материальные, вещественные — хозяина и хозяйки дома, матери и отца. Теперь к их старым домашним ролям добавилась еще одна, и громадная: роль возлюбленного и возлюбленной, людей сердечно и душевно близких. К «реалистическим» ролям прибавилась «романтическая» роль, а она в корне отличается от них, ею правят совершенно другие законы. Эта новая роль невероятно замутила и сместила прежнюю простоту домашних отношений. В фундаменты брака вошел внутренний разлад, и он делался тем сильней, чем больше эта новая роль стремилась стать главной, чем больше от семьи хотели уже не просто благополучия, прежнего, материального идеала семьи, а счастья — нового, психологического идеала. Идеал такой семьи сделался сдвоенным — благополучие плюс счастье, и достигать его стало во много раз труднее. Еще раз здесь проявился глубинный закон всего устройства жизни: чем выше набор потребностей, тем он сложнее и тем трудней добраться до его вершин. Конечно, любовь — самая теплая, самая жизнетворная основа брака, самый завидный его идеал. Но она, во-первых, бывает далеко не у всех, а во-вторых, часто проходит у тех, у кого бывает. И очень многие браки держатся или на бывшей любви, или — с самого начала — на других чувствах. Кроме того, в одиночку любовному влечению часто не под силу соединить два «я» в одно «мы», не под силу сплотить двух людей в «пару личностей». Социолог Н. Юркевич (Минск) выявил, что 70 процентов опрошенных им людей женились по любви, но только 46 процентов — меньше половины — любят своего супруга и сейчас[52]. Ленинградский социолог С. Голод опросил людей с 5—6-летним стажем супружества и выяснил, что 28 процентов из них скрепляет друг с другом привычка, 24 процента — общие взгляды и интересы, 22 процента — любовь к детям, 16,6 процента — физическая близость[53]. То есть половину этих людей соединяют не личные тяготения, а привычка и дети; и только четыре десятых скреплены личными тяготениями — близостью интересов и физическим влечением. «Прочел вашу статью[54], в которой вы утверждаете, что психологический фундамент брака — не любовь, а совместимость. Категорически против. Все лучшие поэты, философы, психологи согласны, что любовь — самая высокая из всех возможных основ брака. Что же, прикажете считать, что вся рота идет не в ногу со временем, а один вы шагаете в ногу? Но как раз время поддерживает признание любви самой лучшей основой брака. Непонятно, зачем вам понадобилось выступать против этого проверенного жизнью принципа? Подумали ли вы, что никакая «совместимость» (слово-то какое, язык обломаешь!) не сможет заместить любовь?! Я понимаю, когда пересаживают почки или сердце, тогда нужна «совместимость», биологическая, биохимическая или какая там еще. Но говорить «совместимость» о людях, которых связывает любовь, — значит заменять горячие душевные узы холодными и бездушными связями. «Совместить» можно шкаф и диван в комнате или два станка в цехе, а «совместить» двух людей — это вроде как заставить их работать по совместительству, вменить им что-то в долг и обязанность, короче говоря, из дела души и сердца превратить в работу, в дело расчета и сознания. На сколько процентов мы «совмещаемся», а на сколько не «совмещаемся», так, что ли? Любовь и так терпит тяжелый урон в жизни, и вы как будто хотите обосновать и оправдать это своими теориями. После книги «Три влечения», в которой вы выступали в защиту любви, это непростительно. Совершенно очевидно, что «совместимость» отнюдь не равная замена любви, и выдавать ее за такую замену — значит делать большой шаг назад». (Алексей Христофорович К., педагог-словесник, Ленинград, июль, 1974.) Всей душой я сочувствую настроению этого письма и со многими его эмоциями согласен. Верно, совместимость — не равная замена любви, но это и не отмена любви. Она может быть помощницей любви, может продлевать ее век, а может — когда чувств нет — быть как бы «и. о. любви», ее неравноценной, но все же заменой. Согласен, что и само слово «совместимость» — уродливое, наукообразное и скукообразное, но пока не придумано другое, приходится употреблять это. «Мысль о том, что совместимость — новая психологическая основа брака, многое объясняет и многое ставит на место; она естественно укладывается в понимание современного брака. Теперь понятно, почему люди, которые подходят друг к другу, то есть совместимы, живут хорошо и могут питать любовь долго, а люди, которые несовместимы, быстро утрачивают любовь. Впрочем, стихийное понятие о совместимости существовало, по-видимому, всегда или с давних пор. У многих народов оценивают жениха и невесту или мужа и жену: они — пара, или они — не пара. Писалось ли что-нибудь об этом в художественной литературе?» (Ольга Анатольевна Силакова, Саратов, август, 1974.) «Неделя» поместила беседу с психологом из МГУ, и он сказал, что совместимость — это миф, который не выдерживает никакой критики с точки зрения современной психологии. Он отверг мнение, что одни психологические свойства людей сочетаются удачно и делают брак устойчивым, а другие не сочетаются и расшатывают брак. Вот его слова — шлю вырезку: «Совместимости и несовместимости просто нет». «У любой женщины есть шанс создать чуть ли не с любым мужчиной счастливую семью». «Хорошо нам или плохо, зависит не от того, какими свойствами обладает партнер… это полная ерунда! А от того, какие отношения нам удалось с ним установить. А на это наши свойства и сочетания этих свойств не влияют. С любым человеком вы можете создать хорошие, близкие отношения, а можете не создать»[55]. Что вы думаете об этой позиции?» (Клуб «Известий», встреча с молодыми семьями, май, 1986.) Думаю, что в любой позиции, которая доказывает свою правоту, надо отыскивать зерно истины, чтобы обогащать свою правду крупицами чужих. Но автор беседы никак не доказывает правоту своих взглядов; он просто излагает их, и они поэтому остаются личным мнением, не делаются научной позицией. Знать, что такое мнение существует, стоит. А вот верно оно или нет, лучше, пожалуй, чтобы каждый решил сам: в следующих главах будет много пищи для размышлений об этом. В нашей научной литературе я нашел только одно замечание против совместимости. Психолог Л. Я. Гозман верно, по-моему, возразил тем, кто понимает совместимость «не как результат человеческих отношений», а как «автоматическое следствие» от сочетания «личностных свойств двух людей»[56]. Но тут отвергается не совместимость, а ее узкое понимание — когда ее считают плодом одних лишь человеческих свойств. На самом-то деле у совместимости два родителя: человеческие свойства, которые уживаются или не уживаются друг с другом, и поведение людей, их отношения друг с другом. Причем уживаются между собой не какие-то наши «черты» или «свойства», отдельные от характера и взятые сами по себе. Уживаются или не уживаются именно живые характеры, живые личности — запутанные сплавы таких свойств. Слово «совместимость» стало входить в психологический обиход в XIX веке. А уже в начале нашего столетия американец Амброз Бирс в своем знаменитом «Словаре сатаны» саркастически обыграл его: «Совместимость — это когда муж и жена оба хотят быть главой семьи». Но слово это стояло на задворках житейского языка, смысл его был свернут, как куколка в коконе, и оно начало становиться будничным только недавно. Совместимость стала одним из открытий новой биологии и физиологии — там и родился ее нынешний смысл. Тогда поняли: чтобы орган, который пересаживают из тела в тело, прижился, надо, чтобы у них было почти близнецовое родство. Психологическая совместимость не так строга, как биологическая, для нее достаточно, чтобы люди были и похожи и непохожи друг на друга — как похожи и непохожи березы разных пород, похожи и непохожи рифмующиеся слова. «А нельзя ли сказать, что совместимость — это любовь для бедных, своего рода искусственный, синтетический витамин, который заменяет природные витамины?» (Дом ученых, декабрь, 1979.) Конечно, сказать так можно — проверка юмором бывает и самой острой из проверок. Но думаю, что это неверно. Витамин (от латинского «вита» — жизнь) значит вещество жизни, жизнедатель. Совместимость — такой же естественный витамин, как и наши чувства, только это как бы поливитамин, сплав нескольких витаминов сразу. Чтобы брак получился удачным, нынешнему человеку нужно не одно стихийное чувство, которое налетает внезапно, как ветер с гор, и так же внезапно стихает; нужна полнота главных человеческих тяготений. Союз чувств и разума, интересов и поступков — вот четыре краеугольных камня хорошего брака, и они же — краеугольные камни совместимости. В одиночку, без союзников, любовное влечение не может, видимо, выдержать тех перегрузок, которые возникают, когда два человека соединяются воедино. Любовное влечение слишком своенравно, слишком нетерпеливо, чтобы быть кариатидой для этой тяжести. В помощь ему — в помощь, а не в замену! — нужны более стойкие, более крепкие опоры. Самой психологии нынешнего человека нужно, чтобы у близкого человека было побольше близких сторон, чтобы они психологически рифмовались друг с другом как можно полнее. Подсознательная тяга к такой близости все растет, и она тем больше, чем индивидуальнее делается человек. Возможно, это коренной психологический закон, который правит сейчас судьбой супружества. И поэтому не чувства — главная опора нынешнего брака, а многослойная совместимость жены и мужа (в которую входят и их чувства); совместимость их чувств (любви, влечения, приязни), совместимость темпераментов, характеров, совместимость интересов, идеалов, совместимость привычек, поведения. Пожалуй, именно от такой многослойной совместимости — душевной, духовной, моральной, сексуальной — и зависят сейчас судьбы брака: чем полнее она, тем легче мужу и жене друг с другом, чем меньше — тем хуже их жизнь. Причем совместимость рождается только тогда, когда у нее есть оба родителя: когда и внутренние основы людей подходят друг другу, и поведение скрепляет их. Если внутренние основы у людей чужды, никакие старания не помогут им ужиться друг с другом. Но если эти основы родственны, а отношения у людей пущены на самотек, то власть в этих отношениях могут захватить неуживающиеся свойства; так бывает, кстати, сплошь и рядом, у множества мужей и жен. Пожалуй, можно сказать, что совпадение внутренних основ — это лишь возможность для уживания. А вот станет ли оно явью, зависит именно от поведения людей, от их отношений. Впрочем, каждый родитель совместимости незаменим, и совместимость возникает (или выживает) только от союза обоих. У родителя-одиночки совместимость не рождается, а если один из ее родителей гибнет, гибнет и она. Это новый подход ко всей психологической культуре супружества, и он почти зеркально отвечает новой психологии современного человека. Понять это очень важно. Обычно перемены в нас опережают осознание этих перемен, и мы долго относимся к себе на поколение назад, не под стать своему новому облику. Если мы поймем себя нынешних, нам будет наверно, легче растить свои новые плюсы и умерять новые минусы. Нам будет легче друг с другом и с самими собой — с тем новым в нас, что ждет нового к себе отношения.Совместимость: контраст или сходство?
«Какие черты характера — одинаковые или противоположные — лучше пробуждают интуицию и укрепляют психологический контакт? Что думают об этом психологи?» (Политехнический музей, центральный лекторий «Знание», октябрь, 1979.) «Иногда про мужа с женой говорят: они такие разные, так хорошо дополняют друг друга, поэтому, наверно, и счастливы. А так ли? Не лучше ли, когда они во многом одинаковы?» (Электросталь, ДК электрозавода имени Горького, октябрь, 1981.) «У нее и у него абсолютно одинаковые характеры, темпераменты, взгляды и прочее, то есть редкая, почти абсолютная совместимость. Но почему-то она не любит его. Что делать ей? Нужно ли оставить его?» (ДК МГУ, декабрь, 1980.) Почти все это — вечные вопросы, но в сегодняшней одежде, и люди выстрадывали ответ на них с древнейших времен. Уже Гомер говорил в «Одиссее»: «Всегда подобного бог ведет к подобному». Испанский мавр Ибн Хазм, философ XV века, писал в любовном трактате «Ожерелье голубки»: «Сходное обычно призывает сходное, и подобное доверяется подобному». Поэтому, верил он, «согласие между подобными и влечение к похожему» рождает истинную любовь. Такое «родство душ» ведет к «слиянию душ», и этой любви «нет конца иначе как со смертью»[57]. И в наше время английская житейская мудрость говорит: «Не женись на девушке, если она не смеется над смешным тебе». У англичан очень сильна культура юмора, и они часто судят о человеке по тому, какое у него чувство юмора. Но в истории было много противников этой позиции, и, пожалуй, самым крайним из них был Шопенгауэр. Сходятся только противоположности, говорил он, тяготеют друг к другу только полюсы: это закон природы и главная опора человеческой близости. И в нашем веке многие думали так же. В двадцатые годы Теодор Ван де Вельде, немецкий сексолог, основатель научного полового просвещения, писал: «Статистика показывает, что… выбор супруга совершается под знаком контраста, дополнения (контрастные или дополнительные браки)». Чаще, утверждал он, женятся люди разных психологических типов, чем одного и того же. Чем ярче темперамент, тем больше он стремится к противоположному темпераменту, — вот закон брака. «Только реалистические натуры и люди с уравновешенными темпераментами заключают брак с тождественными им типами»[58]. В шестидесятые годы французские психологи Андрэ Ле Галл и Сюзанна Симон, авторы капитального труда «Характеры и супружеское счастье», отстаивали «закон дополнительности» в выборе пары. По всеобщему мнению, говорили они, два существа притягиваются своей непохожестью, их влечет то, чем они дополняют друг друга. Именно разница, как у кремня и огнива, рождает в людях искру любви. При этом, говорят они, разница, которая была до женитьбы причиной притяжения, становится потом причиной отталкивания. «Разнородность, которая высекла искру любви, высекает теперь взрыв конфликтов». «Надо опасаться, чтобы разность не выродилась в несовместимость»[59]. Так кто же прав — те, кто за сходство, или те, кто за разницу? «Закон природы — усреднение: природе нужен усредненный плод. Поэтому любовь, часто безответная, возникает у людей несовместимых». (Г. Н. Прохоров, г. Жуковский, Московская область, устный журнал ЦАГИ, декабрь, 1983.) «Я много думала, наблюдала жизнь, хотела понять, какими же должны быть муж и жена, чтобы им было хорошо вместе. Существует мнение, что противоположности притягиваются. Я думаю по-другому. Я считаю, что муж и жена должны быть похожи, чтобы понимать друг друга, сочувствовать друг другу, а не просто мириться друг с другом. Пусть оба плохие, пусть слишком средние или слишком крайние, но чтобы были похожими. Моя беда, что я поняла это слишком поздно. Я на себе испытала, что значит, когда муж и жена сильно отличаются друг от друга по интересам и по характеру. Человек всегда стремится к тому, что доставляет ему удовольствие, и избегает того, что ему неприятно. И потому люди разные будут стремиться каждый к чему-то своему… Люди похожие получают удовольствие от одного и того же, и в них все хорошее развивается лучше до своих пределов. Чем больше общего между людьми по природе, тем они лучше понимают друг друга и тем лучше будут условия для каждого». (Т. К. Хатюшина, Московская область, поселок Менделеево, август, 1975.) Сказано все это, по-моему, убедительно, хотя почти так же убедительно говорят и приверженцы разницы. И пожалуй, почти одинаково правы — но одинаково односторонни — обе стороны. Людей, по-моему, притягивает друг к другу и общее, и разное в них, и супружеская совместимость — всегда сплав похожего и полярного. Чуть ли не до последнего времени многих моралистов тянуло к всеобщим канонам, и они искали единую норму для всех людей. В XX веке все больше стал утверждаться типологический подход — не одинаковый для всех, а разный для разных людских типов. Но многие человековеды XX века с трудом перебарывали старую тягу к всеобщности, и типологический подход то и дело смешивался у них со всеобщими рецептами. Психологи нашего времени выяснили, что сходство дороже самим супругам, чем разница, и при хороших отношениях они бессознательно тянутся к такому сходству. Причем больше всего им хочется близости в основных своих интересах, в главных семейных занятиях. К этому ведут громадные социальные сдвиги нашего века, и, пожалуй, прежде всего сдвиг в жизненной роли женщины. До XIX века жизнью мужчин и женщин правили в корне разные пружины, об их психологической близости почти не было и речи, а царящая тогда тяга к разнице была «нормальной», «естественной» для тогдашней социальной почвы. Эту тягу рождало стратегическое положение мужчин и женщин в человечестве. Женщина была в основном хозяйкой дома, домашней работницей, мужчина — двигателем общества, и стержень их жизни был резко несходным. Вся атмосфера быта, все жизненные роли мужчин и женщин растили в них коренную разницу — разницу в интересах, чувствах, мыслях, во всем внутреннем облике. Не то сейчас. Стратегическое положение мужчин и женщин резко переменилось. Чем больше у мужчины и женщины похожих ролей, тем сильнее им хочется, чтобы в личной жизни у них было больше душевной близости, радостной схожести интересов. В патриархатной культуре мужчине и женщине больше нужна была разница, в биархатной — сходство. Подспудная тяга к этому сходству все глубже пропитывает наше подсознание, — и все чаще делается чрезмерной, иногда до забавности. Не так давно польские ученые сравнили, как выбирали друг друга супруги в двух разных поколениях — от 50 до 90 лет и от 20 до 50. В старшем поколении, как оказалось, царила тяга к разнице, в младшем — к сходству. И тяга эта была такой сильной, что блондинки со светлыми глазами чаще выходили замуж за светловолосых и светлоглазых, а брюнеты чаще женились на брюнетках, чем на блондинках… Впрочем, в мужчине и женщине всегда есть полярность пола — психологическая, биологическая, и каким бы ни было их духовное сходство, их всегда будет тянуть друг к другу их вечная противоположность. Потому-то совместимость — это всегда сплав похожего с непохожим, союз близкого и противоположного. А кроме того, есть и разные виды совместимости: в одних правит сходство, в других — дополняющие друг друга черты, в третьих — притяжение контрастов, в четвертых — смесь того и другого… Если у людей нет разницы, нет и любви, — как в той записке, в которой девушка писала про совершенно одинаковые характеры, темпераменты, взгляды и про то, что она почему-то не любит его. Тут еще раз проявила себя глубинная загадка любви, ее неуловимая непонятность, которая часто ставит нас в тупик. Казалось бы, встретились те самые близнецы-половинки, которые идеально подходят друг другу, но так редко находят друг друга. Тут они нашли себя, но не нашли в себе любви. Видимо, общее в них заглушило, пересилило мужское в нем и женское в ней. А раз нет влечения к противоположному, то не просыпается, молчит и сердце. Ведь любовь (или влюбленность) — это всегда тяга и к близкому тебе, и к недостающему, полярному. И у юноши с девушкой из записки — не любовная, а дружеская совместимость, дружеская близость. Надо ли ей оставлять его? Конечно, решать это могут только они сами, и то, что сейчас будет сказано, совсем не совет, а просто материал для размышлений. Дружеская близость может перейти в любовную, если заговорят молчащие в них магниты пола, психологические и физические. И тогда совместимость, близость их может стать на редкость полной. Но это может произойти, а может и не произойти. Из трех счастливых пар, о которых тут говорилось, две начинали свой путь именно с дружбы. Они дружили по два-три года, даже рассказывали друг другу о своих увлечениях, и только потом их дружба переросла в любовь. Дружеская близость дает любви дополнительные опоры, но любовь возникает из нее далеко не всегда, особенно у юных. Неравновесие души и тела, порывистость и неопытность чувств часто рождают в юных душах любовную тягу к несовместимому или мало совместимому человеку, и не рождают — к очень совместимому, повышенно близкому…В космосе и на земле. Совместимость и срабатываемость.
«Я прочитал вашу книжку «Трудность счастья (любовь и молодая семья)» и решил стать психологом семейных отношений. Я и раньше хотел учиться на психолога, но не знал, какую отрасль психологии выбрать. Теперь я вижу, что психология семейных отношений — очень интересная и сложная область, которая мне по душе. Последние годы я слежу за психологической стороной работы космонавтов. Я заметил, что их экипажи состоят из противоположных характеров: один обязательно флегматик, а второй сангвиник. Не должно ли это стать примером для семьи? Ведь чтобы муж и жена были интересны друг другу, в них должно быть то, чего нет в другом, и тогда это недостающее свойство заинтересовывает и притягивает». (Ахто Тамм, Таллинн, март, 1978.) Журналисты, которые пишут о космосе, давно заметили, что пары космонавтов подбираются по особому правилу. «Несхожесть характеров членов экипажа, — говорил, например, спецкор «Комсомолки» писатель Я. Голованов, — один из залогов успеха полета. Странно, но похожим людям труднее работать вместе… Наиболее распространен такой вариант: спокойный, неторопливый, рассудительный командир и быстрый, эмоциональный, подвижный инженер»1 («Комсомольская правда», 25 мая, 1975)[60]. Здесь, по-моему, не все точно, хотя главное верно. Да, темперамент у космонавтов разный. Один из них чаще бывает нетороплив и спокоен, другой щедр на чувства и скор в реакциях. Эти разные черты нервного склада хорошо дополняют друг друга. Но у них много и общего, похожего: все они волевые, упорные, все готовы к перенапряжениям, опасностям, неожиданным поворотам; у них похожие взгляды, интересы, похожие основы отношения к жизни. Именно этот сплав общего и разного позволяет им многие недели и месяцы переносить неземной избыток общения друг с другом. Модель космической совместимости помогает понять кое-что и в семейной совместимости, хотя полет земных пар куда более долог, будничен и поэтому куда более труден[61]. Не так давно психолог Н. Н. Обозов разграничил совместимость и «срабатываемость» (еще одно тяжеловесное, как поезд, слово, но у языковедов и тут хата с краю — они не предлагают ничего лучшего). Кстати, тем, кто тревожится (и справедливо), как бы совместимость не подменила душевные связи рассудочными, стоило бы вдуматься в это разграничение. У совместной работы и у совместной жизни, говорит Н. Н. Обозов, есть три измерения: продуктивность, то есть КПД такой работы или жизни вместе; напряженность, которая возникает в этой работе или жизни; и довольность, удовлетворение такой совместной работой или жизнью. Ученые из Ленинградского института комплексных социальных исследований поставили на особом приборе такой опыт. Нужно было провести через разные препятствия паровозик, управляя им одновременно с двух пультов. В опыте участвовали, во-первых, супружеские пары, во-вторых, пары, которые питают друг к другу антипатию, и, в-третьих, пары, которые безразличны друг к другу. Успешнее всего работали именно безразличные. Они быстрее всех приходили к цели, то есть у них была лучшая продуктивность; напряженности во время работы было мало, так как они не вкладывали в дело эмоций; общение было поверхностным, лаконичным, чисто деловым. У пар с антипатией продуктивность работы была гораздо меньше, а эмоциональная напряженность гораздо больше, причем напряженность неприязненных, тягостных эмоций; от всего этого, конечно, и удовлетворенность от сотрудничества была слабой. У супругов бег паровоза был еще медленнее, чем у антипатов: они обсуждали каждое свое действие, причем были эмоциональнее всех. Приборы, которые измеряли силу их эмоций, то и дело зашкаливали, показывали максимум. Но в отличие от антипатов эмоции у них были светлыми, поэтому и получилось, что супруги куда больше других пар были довольны общей работой. Это еще раз подтвердило, что для личных отношений самое главное — общение, обмен частичками души, а продуктивность, «производительность» дела стоит на втором месте. Тут и лежит главная разница между совместимостью и срабатываемостью. В деловых, рабочих отношениях на первом месте стоит именно продуктивность сотрудничества. Для срабатываемости, считает Н. Н. Обозов, нужна большая продуктивность, малая напряженность (то есть слабый расход нервов, эмоций) и только на третьем месте — удовлетворенность сотрудничеством. Для совместимости дороже всего удовлетворенность общением и накал светлых эмоций; а продуктивность, «производительность» общих дел дорога куда меньше, чем душевный настрой. В совместимости люди прежде всего нацелены друг на друга, в срабатываемости — на дело. Нынешняя все более сильная тяга к психологической совместимости прямо зависит от огромных перемен в теперешнем человеке. Человек прошлых веков был, повторю это, как бы материально-психологическим: на первом плане для него было дело, а душа, психология шла только потом. Теперешний человек постепенно делается психологически-материальным, и душа, психология начинает все больше сравниваться для него с делом и даже вставать выше него. Поэтому общение для мужа и жены — высшая цель, самоцель. Что бы они ни делали, им — при нормальных отношениях — нужны постоянные излучения добрых чувств, постоянная подзарядка друг друга светлой энергией этих чувств. Только такая подзарядка, только такой обмен доброй энергией подновляют их близость, подпитывают влечения, продляют жизнь чувствам. Совместимость, как видим, куда полнее и глубже вбирает в себя человека, чем срабатываемость. Только в замкнутых экспедиционных группах, где люди вместе работают и вместе живут, нужен сплав срабатываемости и совместимости: у моряков, геологов, полярников, подводников, космонавтов. Но и им совместимость нужна не такая глубинная — и значит, легче достигаемая, чем в семье…В чем ценность меланхолика?
«А если ты человек со слабым темпераментом, не веришь в свои силы, тем более что требования к женщине в браке очень велики? Думаю, что такой женщине не стоит создавать семью: право на продление рода имеют только женщины с сильным характером… А с кем совместимы меланхолики? Меня, конечно, привлекают сангвиники, но я чувствую себя неуместной рядом с ними». (Ленинград, центральный лекторий «Знание», июнь, 1981.) «Извините, что спрашиваю второй раз. (Записка пришла назавтра, на следующей встрече цикла.) Так насколько же совместимы меланхолик и сангвиник? Ведь их разъединяет очень многое. 1) Один — ярко выраженный экстраверт, настроен на других людей и общение. Другой интроверт, углублен в себя. Вряд ли сангвиника будет устраивать постоянная пассивность, слабая эмоциональность меланхолика. Это скажется на отношении к свободному времени — одному подай веселую компанию, другому — уединение. 2) Один жизнерадостен, другой уныл. 3) Разная степень чувства собственного достоинства. Мне кажется, не бывает меланхолика без чувства собственного достоинства. А как же самоуважение? Думаю, тут нередка даже зависть со стороны меланхолика. 4) От сангвиника постоянства и вообще-то не особенно жди, а тем более по отношению к апатичному, однообразному меланхолику, так как у сангвиника постоянная потребность в новизне впечатлений. Правда, на 90 процентов это всего лишь мои теории, и не знаю, верны ли они. Прочла когда-то в «Болгарской женщине»: «Иногда остаются одинокими люди, которые не умеют общаться. Они страдают малодушием и чувством неполноценности, что может оттолкнуть даже самого жизнерадостного человека». По-моему, это как раз о меланхолике и сангвинике». (Ленинград, «Знание», июнь, 1981.) Для большинства из нас человеческая психология — темный лес, и мы знаем о ней, как городские дети о лесе: чуть-чуть про опушку, а дальше — сказочные полуистины… В особом ходу у нас два психологических мифа: во-первых, что меланхолик — это слабый и неполноценный тип; во-вторых, что темперамент — это диктатор человека, и человек такой, какой у него темперамент. Но темперамент — это только часть нашей личности, только один из наших двигателей, а нами правит союз нескольких двигателей. И меланхолик — вовсе не слабый и не неполноценный темперамент. Вообще термины «сильный» и «слабый» темперамент, «сильный» и «слабый» нервный тип, по-моему, неточны. Они говорят вовсе не о силе нервной системы, а о ее выносливости, о том, способна она или нет на долгие напряжения. (Впрочем, об этом чуть позже.) А главное — они как бы признают одни темпераменты высшими, а другие низшими, как бы вводят в саму природу человека глубокое неравенство. Но каждый темперамент в чем-то сильнее, в чем-то слабее других, каждый имеет уникальные, неповторимые преимущества. Это простейшая, азбучная основа в понимании темперамента, но она, как и всякая простейшая основа, лежит в скрытой глубине, и поэтому увидеть ее нелегко. У меланхолика, например, обостренная чувствительность нервов, и он слышит такие шелесты жизни, какие просто недоступны другим людям. У него в психике есть как бы дополнительный диапазон, который принимает почти неосязаемые микрожурчания жизни. Он как бы ощущает «эмоциональные ультразвуки» жизни, как бы видит ее психологические «инфракрасные лучи», которых не видят другие. Кроме того, у человека со слабым темпераментом может быть и твердый характер, нормальная воля, а у человека с сильным темпераментом — безвольный, слабый характер. Мнение, что меланхолик — слабый темперамент, родилось в силовой культуре XX века, где главным было действие, терпение, воля, а ощущения, чувства, психология как бы стояли на задворках. Нынешние перемены в человеке круто поднимают роль тонких струн души, начинают уравнивать их с силовыми струнами. Рождается новая психологическая культура, и она меняет все наше отношение к темпераментам, весь строй психологических ценностей. Один из девизов этой культуры — у слабых есть такая сила, какой нет у сильных. Чувствительность нервов — новая сила нашей будничной психологии, и она ценна не меньше, чем стойкость и выносливость нервов. Повышенная тяга к полутонам и оттенкам, влечение к микропсихологии — крупное преимущество меланхоликов. Их ранимость, хрупкость — слабое место их нервов, — несет в себе и неоценимые достоинства. Меланхолики глубже других, обнаженнее знают, что такое боль, горе — и от этого больше тянутся к доброте, мягкости, они проникновеннее, оголенными нервами понимают других, больше склонны к эгоальтруизму (впрочем, еще больше — до самоумаления — к альтруизму). У женщины меланхолического темперамента может быть особая женственность: не слепящая и жгучая, как у сангвиничек и холеричек, а мягкая, притененная, полная уступчивой нежности. И в материнстве, в детском воспитании у меланхоликов есть свои преимущества (и, конечно, свои минусы). Они обостреннее, чувствительнее — незаживающей памятью нервов — помнят боли своего детства, и от этого причиняют своим детям меньше боли. Такие люди могут быть не только самыми мирными мужьями и женами, не только самыми мягкими воспитателями малышей. Среди меланхоликов много художественных натур, много великих артистов, музыкантов, поэтов-лириков. (Психологи говорят, что меланхоликами были Гоголь, Мюссе и Чайковский, что черты меланхолического темперамента были у Комиссаржевской, Достоевского, Чехова…) Для психологического прогресса человечества, для людской совести меланхолики дают очень много, может быть, даже больше других: это, возможно, самый чувствительный барометр человечества. Да, неприятные ощущения больнее отпечатываются в них, чем приятные. Их нервный склад больше предназначен для гармонии с миром, они как бы люди утопии, люди спокойной доброй жизни: в такой жизни расцветают их лучшие свойства и стушевываются худшие. И если наступит более благоприятное будущее, меланхолики будут давать для человечества гораздо больше, чем дают сейчас; может быть, они даже станут одними из законодателей гуманной человеческой психологии. Но расцвету их лучших свойств очень мешает чувство неполноценности. Как паутина, оно насквозь прорастает душу, пронизывает всю ее своими клейкими нитями. Из-за сниженной нервной выносливости меланхолики больше других склонны к такому чувству. Они часто видят себя сквозь двойную темную оптику, и от этого преувеличивают вред своих слабых мест, считают именно их виновниками своих бед, хотя у этих бед могут быть и другие виновники. «Лично у меня жизнь сложилась неважно, не находим общего языка с мужем, не понимаем друг друга, хотя живем 10-й год. Он относится по своему характеру к сангвиникам, я же считаю себя меланхоликом, и, очевидно, у нас несовместимость характеров. Я много читаю, анализирую, сравниваю, стараюсь найти общий язык, но это никак мне не удается. Конечно, сказывается образование, у него 5 классов всего, работает шофером, а у меня техникум, работаю бухгалтером. И еще он потерял доверие у меня, так как стал неверен, а раз потерял доверие, трудно наладить жизнь». (Тамара Игнатьевна К., Железноводск, октябрь, 1976.) Судя по письму, несовместимость родилась у мужа и жены не от несовместимости темпераментов. Можно предположить, что первая причина их расхождений — это несходство их душ, интересов, запросов, которое рождено их разным образованием. Низкое образование часто обрывает на полдороге нормальное возвышение души, мешает вживлению в нее человечных интересов, глубоких запросов. Вполне возможно, что ее тяга к чтению и раздумьям — это веточки от более развитой психики, более сложной души, и у нее просто не оказалось перекидных мостиков к душе менее развитой. А к этому несхождению добавилась и неверность мужа, которую жена не может простить — и тем самым отдаляет себя от мужа. Несходство темпераментов может не мешать — или не очень мешать — хорошим отношениям, если у людей есть душевная близость. Потому что состояние души гораздо сильнее движет совместимостью, чем темперамент. А темперамент меланхолика — чуть позже мы увидим это — может не только не мешать, а даже помогать ему уживаться с сангвиником. Но при одном условии — если меланхолик обуздает свое чувство неполноценности, не даст ему править собой. Впрочем, это касается и всех нас, потому что чувство неполноценности бывает у людей всех темпераментов.Омут неполноценности.
«Жена часто говорит, особенно в ссорах: не верю, что ты меня любишь, ты меня считаешь глупой. А я ее люблю, и не то что считать глупой, наоборот, часто хвалю за догадливость. Но когда она упирается в неумной позиции, говорю, что это неумно. Самое странное, что это именно она говорит о себе хуже, чем она есть, а я спорю с ней, говорю, что она лучше. У нее часто проявляется неверие в себя и самобичевание, а так как у нее колючий характер, она обращает его против себя и сама колет себя своими колючками. Ей не нравится, когда я не соглашаюсь с ней, особенно в воспитании. Наши дети уже школьники, а она ходит за ними как за маленькими. Я ей говорю, что, когда она не дает им делать домашние дела, она растит в них лень и эгоизм, а она обижается и говорит, что я ее считаю глупой. Недавно я узнал, что, если левшей переучивают на правую руку, у них появляется чувство неполноценности, и они заболевают неврозом, который не вылечивается. Моя жена — переученная левша. Значит ли это, что ее неверие в себя и в мое отношение непоправимо?» (Кирилл Щ., Владимир, апрель, 1981.) Как чувство неполноценности мешает хорошим отношениям? Кто заражен им, тот подсознательно не принимает себя, сомневается в себе и потому сомневается в чувстве к себе близких — как бы приписывает им свое отношение к себе. Червь неверия в себя — это всегда и червь неверия в хорошее отношение к себе. Раз я сам вижу в себе изъяны — значит, и другой их видит — эта подсознательная логика подтачивает мою веру в чувство другого, возводит над любовью дамоклов меч. Но судить о других по себе — детский подход. Это детям кажется, что все люди чувствуют одинаково, они не знают, что чувства протекают по-разному у людей разного темперамента, характера, возраста, пола. Увы, такой подход сплошь и рядом встречается у взрослых, особенно у женщин и у людей с подточенными нервами и чувством неполноценности. Чувство неполноценности рождает в таких людях боязнь потерять любовь к себе, вселяет в душу настороженность к близкому человеку. Это как бы больные струны, на которых играется мелодия чувств, и она выходит больной, полной злых дребезжаний, саднящих созвучий… Можно ли избавить от такой неполноценности левшу? В последние десятилетия мы все чаще сталкиваемся с выплесками огромных и непонятных сил, которые таятся в человеке. Йога — управление неуправляемыми силами организма — как бы ставит человека выше известных нам законов физиологии. Психоэнергетика — в опытах экстрасенсов — поражает людей своими невероятными возможностями. И на другом полюсе человека — полюсе простоты — вдруг появляются странные неожиданности, и мы видим, как простейшие спортивные нагрузки избавляют людей от сложнейших болезней. А новая культура закалки, питания, культура омолаживания, управления своим возрастом? Мы лишь смутно, примерно можем представить себе, каких вершин может достичь человек, когда он овладеет своими глубинами. Мы делаем сейчас лишь первые робкие шаги в глубины своего внутреннего космоса. Возможно, это лишь начало перелома во всем нашем понимании человеческой природы — начало постижения тех резервных сил, которые таятся в недрах нашей психики, мозга, тела. Возможно, научно-психологическая революция откроет до глубин эти скрытые силы, и наш потомок станет через несколько поколений на голову выше нас — мощью ума и духа, глубиной эмоций и могуществом психики. Впрочем, так это или нет, покажет время, но уже и сейчас ясно, что слабые места наших нервов и психики можно усиливать точно так же, как и слабые места тела. Это, видимо, касается и переученного левши, который вполне может если не избавиться от своих нервных червоточин, то хотя бы ослабить их, выйти из-под их власти. Но ему нужно для этого упорно менять свое подсознательное самоощущение — осознанно растить в себе ощущение своей полноценности, нормальности, которое будет сильнее чувства неполноценности.Сила слабых мест.
«Вы неверно оцениваете взгляды Павлова на сильный и слабый темперамент. Павлов был прав, так как он оценивал темпераменты по тому, как они приспосабливаются к жизни. Он считал, что приспособительные способности больше развиты у флегматика и сангвиника, поэтому они выносливее и легче переносят трудности. Холерик, по мнению Павлова, менее приспособлен, так как у него ослаблено торможение, а от этого выше уязвимость. И совсем низка приспособимость у меланхолика, типа с незащищенными нервами. У него пониженная выносливость нервной системы, и он становится от этого, как определил Павлов, более или менее инвалидным жизненным типом. Попробуйте скажите, что в этих мыслях неверно? Правота Павлова самоочевидна, ее на каждом шагу подтверждает жизнь, от которой страдают миллионы холериков и особенно меланхоликов. В его словах содержится суровая правда, закрывать на которую глаза могут только трусы. Типы ВНД (высшей нервной деятельности) неравноценны, среди них существуют лучшие и худшие, полноценные и неполноценные, так уж распорядилась природа, такова простейшая биологическая истина». (Павел Н-н, Дом аспиранта и стажера МГУ, декабрь, 1982.) Верно, на неравенство темпераментов лучше смотреть открытыми глазами. И хороню бы еще, чтобы их с боков не ограничивали шоры — шторы для глаз, которые отсекают боковое зрение и оставляют только лобовое. Конечно, Павлов прав — сангвинику и флегматику проще приспосабливаться к жизни, а холерику и меланхолику труднее. Тут на самом деле есть простейшаябиологическая истина, и прятаться от нее могут только трусы. Но следует ли из этого, что сангвиники и флегматики полноценны, а холерики и особенно меланхолики неполноценны? Павлов оценивал темпераменты в основном как нейрофизиолог и меньше как психолог — по их приспособительным способностям, по свойствам высшей нервной деятельности. Психологическую сторону дела он выводил не из исследований человека, а из жизненных наблюдений и здравого смысла. «Павлов вел экспериментальную работу только на собаках, — писал известный психолог Б. М. Теплов, — и высказывания его, относящиеся к человеку, делались чаще всего по аналогии»[62]. Для нейрофизиологии такой подход, может быть, и достаточен, но человек — существо не физиологическое, а «социально-психологически-физиологическое», и у человеческого темперамента не одно измерение, а три — нейрофизиологическое, психологическое, социальное. Потому и оценивать темпераменты — какой лучше, а какой хуже — можно, видимо, только по сплаву всех трех измерений: это простейшая, букварная логика… Если мы знаем, что нервы у меланхолика уязвимы как у маленьких детей, то, наверно, и наша бережность к нему должна быть как к детям. Если мы знаем, что холерик взрывчат и раним как подросток, то его и надо бы беречь и закалять как подростка: ведь у его нервов вся жизнь — сплошной переходный возраст. Но здесь же, в этих уязвимых местах, лежат и преимущества холериков и меланхоликов над сангвиниками и флегматиками. Повышенная чувствительность их нервов помогает им развивать творческие силы души, а это необыкновенно важно для человечества. И кроме того, чем чувствительнее нервы, тем меньше у них толстокожесть, невосприимчивость — флегматики и сангвиники тут слабее, чем холерики и меланхолики. Неполноценных темпераментов нет — такова психологическая истина; по-моему, психологи Б. М. Теплов и В. Д. Небылицын, последователи И. П. Павлова, были правы, говоря это. Б. М. Теплов не соглашался с тем, что одни типы нервной системы «хорошие», а другие «плохие». То, что Павлов называл «силой» нервной системы, Теплов точнее назвал «выносливостью к возбуждению». Он говорил, что слабую нервную систему нельзя считать «худшей» и вообще пора «отказаться от оценочного подхода» к нервной системе[63]. В. Д. Небылицын считал, что повышенная чувствительность — это именно биологическое преимущество: она позволяет раньше видеть опасность, быстрее создавать защитные рефлексы, навыки[64]. «Но и в наше время есть психологи, которые считают, что высокая чувствительность помогает в мире животных, но вредит человеку. Польский психолог Ян Стреляу, один из виднейших исследователей темперамента, говорит, что в наш век, когда машины и приборы необыкновенно усиливают наши органы чувств, повышенная чувствительность не нужна. Современный стиль жизни с его сильными, долгими и опасными раздражителями больше подходит для малочувствительных нервов». (Анатолий Жаков, Минск, июль, 1981.) Верно, нынешний стиль жизни проще для людей с не очень чувствительными нервами — для флегматиков и сангвиников. Но верно ли, что в век машин и приборов повышенная чувствительность не нужна людям? Это ведь подход к человеку как к придатку приборов, как к существу, которое везде и во всем пользуется такими приборами — «протезами чувств» — и потому меньше нуждается в собственной чувствительности. Приборы, кстати, помогают нам только во внешних чувствах — зрении, слухе, осязании… Для душевных, психологических чувств — основы всех человеческих отношений — никаких приборов нет, и никто не может соперничать тут с нашей чувствительностью. Впрочем, один такой прибор есть: это самый тонкий прибор человеческой психики — мозг, главный носитель нашего сознания и подсознания. Он устроен со сверхъестественной сложностью — состоит из миллиардов нервных клеток, из бессчетной тьмы их переплетений. Он правит всеми нашими личными отношениями, всем океаном душевной жизни, и на земле нет прибора, который работал бы даже в миллионную долю его чуткости. Высокая чувствительность, кстати, прямо нужна и для приспособления к жизни. Как змей и черепах спасает от землетрясений их сейсмическая сверхчуткость, так и высокая чувствительность помогает людям улавливать исчезающе малые предвестия будущих опасностей. Чуткость нервов — необыкновенно важная приспособительная черта, и она спасает там, где выносливость ничего не видит и не может быть поводырем человека.Домашнее счастье меланхолика.
А с кем лучше совмещаются меланхолики? Женщину, которая спрашивает об этом, недаром, наверно, тянет к сангвиникам; это ее подсознание влечется к тому, чего у нее нет и что — по закону дополнения — может украсить всю ее жизнь. Конечно, в союзе меланхолика и сангвиника есть и минусы (как и в любом союзе), — о части их верно говорится в записке. Правда, меланхолик в этой записке почему-то представлен почти одними недостатками (кроме разве что чувства собственного достоинства): он и «постоянно пассивен», и «уныл», и «слабо эмоционален», и «апатичен», и «однообразен»… Вернее было бы сказать, что у меланхолика особая эмоциональность: в ней меньше яркости, но больше полутонов. И он не постоянно пассивен, а просто более пассивен, чем другие темпераменты. А унылость, апатия, однообразие — это уж совсем не свойства меланхолического темперамента, а черты, рожденные чувством неполноценности или депрессией, нервной усталостью. Кроме того, эти черты-недостатки даны в отрыве от достоинств, и меланхолик выглядит от этого неузнаваемо ухудшенным. Образ, нарисованный в записке, — это лишь несчастная, неудачная разновидность меланхолика, которая состоит почти из одних минусов темперамента и характера без его плюсов[65]. Когда мы думаем, как совмещаются разные темпераменты, стоит, наверно, помнить о двух вещах. Во-первых, сопоставлять надо не плюсы одного темперамента с минусами другого и не минусы с минусами: сопоставлять, примерять друг к другу надо живой, цельный сплав всех свойств, всех плюсов и минусов каждого темперамента. Второе — и главное: совмещаются друг с другом не темпераменты, часть личности, а цельные личности с их темпераментами и характерами, взглядами и моралью, с их привычками, потребностями, поведением… Поведение, отношения играют тут исключительную роль. Недостатки темперамента можно ослаблять волей и сознанием, их можно уравновешивать близостью душ, интересов, привычек. А между тем нет ничего удивительного в том, что женщина-меланхолик может жить в хороших отношениях с сангвиником. В конце семидесятых годов «Неделя» напечатала мою анкету о психологической совместимости «Какие мы с семье?». Автор одного из ответов, женщина, подчеркнула в анкете такие свои психологические черты: тонко чувствует, склонна сосредоточиваться на своих переживаниях, легко расстраивается, не очень общительна, тяготеет к рассуждениям больше, чем к действиям, тревожна, не стремится к лидерству. Все это — проявления меланхолического темперамента и характера. Ей 35 лет, у нее среднее образование и 15 лет рабочего стажа. Замужем она 12 лет, их ребенку — одиннадцать. Ее муж — смесь сангвиника с холериком, то есть темперамент менее уживчивый, чем чистый сангвиник, и более трудный для меланхолика. Тройной вопросник (такой же, как у счастливых)[66] более или менее точно рисует внутренние пружины их отношений. На вопрос о нитях, которые их связывают, она отвечает: 1. Забота, внимание близкого человека. 2. Эмоциональное влечение. 3. Физическое влечение. 4. Общие интересы, занятия. 5. Общие взгляды. С такой расстановкой совпадает и ее ответ на третью часть вопросника — что больше всего привлекает ее в муже. На первые места она ставит его любовь к ней (1), уважение к ее интересам, взглядам (2), его заботу и внимание (3), его ум (4), душевные качества (5). Как видим, лестница ее влечений строится по женскому (а еще точнее, по-женски-детскому) типу. Ее любовь — это прежде всего любовь к его любви; дороже всего ей не его личные качества (они идут только на 4–5 месте), а прежде всего его отношение к ней — любовь, уважение, забота. Конечно, это отношение растет и из его личных качеств, и она дорожит и ими. Но для ранимого меланхолика особенно важно отношение к нему, и чем теплее к нему относятся, тем горячее его душевный отклик. Проверочный вопросник («что больше всего мешает вашим чувствам и отношениям») ярко показывает эту пылкость ее благодарных чувств. Им мешают только житейские тяготы (перегрузки, рабочие неприятности, квартирные беды) и не мешают (или почти не мешают) его личные свойства. Она ставит прочерк («этого нет») около всех возможных недостатков близкого человека и недостатков в его отношении к ней. Если они и есть, то, по ее ощущениям, они невелики и не вредят ее чувствам. Впрочем, кое о каких его недостатках можно догадываться. Скажем, из всего, что привлекает ее в нем, она поставила на последнее место его способность уступать ей, ставить в нужных случаях ее интересы выше своих. Он, очевидно, умеет уступать ей (в проверочном вопроснике около «неумение уступать вам» стоит прочерк), но, видимо, делает это не очень часто. И если эта малая уступчивость не ранит меланхолика, не мешает ему, значит, такое «недостаточно развитое достоинство» мужа перекрывается другими его достоинствами. Все мы, конечно, понимаем, что не бывает людей без недостатков, и муж из анкеты, в чьем характере есть сангво-холерические ухабы, тоже несет в себе свой «минимум минусов». Но, возможно, это именно минимум, он перекрывается его достоинствами и не очень ранит ее обостренную чувствительность. И потому естественно звучит ее конечный вывод из анкеты. Из трех вариантов ответа — «Удачен ли ваш брак? Или полуудачен-полунеудачен? Или совсем неудачен?» — она выбирает «удачен», и на вопрос: «В чем, по-вашему, причина такой судьбы?» — пишет: «Любовь, уважение, забота». Возможно, если бы вдобавок к этим ответам был еще один: «Счастлив ли ваш брак», она выбрала бы именно его. Многим ли меланхоликам так везет в семье? Наверно, немногим, но это вина не их темперамента, а соединенная вина ритма и стиля жизни, психологической неграмотности их спутников, а также всех их слабых сторон — и в характере, и в темпераменте, и во взглядах, привычках морали, в манере поведения, отношении к себе, к близким… Жизнь дается меланхоликам труднее, чем другим, и тем нужнее им держать в узде свои недостатки, растить свою редкостную душевность и не давать волю ранимости.Что такое темперамент?
К другому, как мать к ребенку, к себе — как отец….
«А по-моему, все эти распихивания людей по полочкам ведут только к капризам и к переусложнению простых истин. Ах, я холерик, не могу сдерживаться, пощадите меня. Ах, я меланхолик, не кантовать, а то рассыплюсь. А надо просто относиться к любимому, как мать к ребенку, а к себе — как отец. У одного поэта сказано: добро должно быть с кулаками. Допускаю, что к себе, а еще точнее, к своим недостаткам — да. Но к другим (кроме, конечно, бандитов)? Какое же это добро — это бокс. Если относиться к любимым с доброй любовью, а к себе относиться с требовательной, тогда незачем растасовывать людей по кучкам. Все просто и ясно — надо быть человеком, а не холериком или флегматиком». (Виктор Лободин, Омск, февраль, 1979.) По-моему, это блестяще сказано: относиться к близкому, как мать к ребенку, а к себе — как отец. Пожалуй, это ключевые слова для всей психологической культуры любви, главный устой в культуре личных отношений. Как мать — значит, всей душой радоваться достоинствам близкого человека: они растут от такой радости и уменьшают обратные им недостатки. Как отец — значит, не прощать себе недостатки, вытеснять их противоположными достоинствами: вспыльчивость — сдержанностью, лень — волей, цепляние к мелочам — великодушием… Но сегодня многими из нас правит обратное правило. К себе мы относимся, как мать к ребенку — прощаем свои слабые места, зато к близкому взыскательны, как строгий отец. Это поведение от «я», и оно гасит любовь, подтачивает совместимость. «К близкому, как мать, к себе — как отец» — поведение от «мы», и оно продляет любовь, углубляет совместимость. «Надо быть человеком, а не холериком»? Верно, а еще вернее — сначала человеком, а потом холериком. Ведь когда хочешь быть человеком и знаешь, что ты холерик, это как раз и помогает стать сначала человеком, а потом холериком. Из всех знаний самое полезное для нас, самое главное в мире — это, пожалуй, знание о самих себе. Чем меньше мы знаем о себе, тем труднее нам быть человеком, чем больше — тем больше мы можем помогать себе быть человеком. «Мы с мужем живем уже почти год, и он часто сердится по пустякам. Я думала, что он меня больше не любит, и очень переживала. Но потом узнала, что он холерик по темпераменту, не может сдерживаться, и мне сразу стало легче. Главное, что он меня любит, а врожденные недостатки можно стерпеть». (Валя Миханькова, Ярцево, Смоленская область, март, 1980.) С ходом научно-психологической революции знания о человеке будут, видимо, все больше становиться центром, солнцем всей нашей системы знаний, и это принесет людям большую практическую помощь. Повседневную житейскую помощь: в этом суть истинного, гуманного знания о человеке — человекознания. Кстати, разговор о психологических знаниях, который тут пойдет, для многих может оказаться трудным. Мы не привыкли разбираться в психологии — больше всего потому, что ее уже давно отменили в школе. Но сложности психологических знаний проще многих школьных премудростей, и, не одолев их, мы не получим компас для плавания в жизненном море. А главное — эти знания помогут нам понять, чем именно нынешнее поведение губит наши чувства, в чем его самоубийственный разлад с законами человеческих чувств. А холерики, кстати, поймут, почему именно им стоило бы сдерживаться и не стоило бы убивать своими вспышками симпатию к себе…Нервный склад и склад характера.
«Почему «холерик» — какое он имеет отношение к холере? И почему меланхолик — что он холит?» (Разговор со старшеклассниками, май, 1987.) Все темпераменты (холерик, меланхолик, сангвиник, флегматик) получили свои названия от греческих слов: холерик от холе — желчь, меланхолик от мелайна холе — черная желчь, сангвиник от сангвис — кровь, флегматик от флегма — лимфа. Древние считали, что кровь, лимфа и обе желчи — главные соки людей, и от них зависит все их здоровье и все своеобразие психики[67]. Такое разведочное понимание темпераментов родилось еще в античности и прожило тысячелетия — до XX века. Только в наше время психологи пришли к выводу, что темпераменты зависят не от «соков», а от энергетики организма, от того, как он накапливает и расходует нервную и гормональную энергию. «А что такое темперамент? Это черта нервов или характера? «Темпераментный» говорят про энергичного человека, горячего в поведении и в чувствах. А у остальных что, нет темперамента?» (Техникум легкой промышленности, Москва, Колобовский пер., март, 1981.) Увы, человеческая психология — самая неясная для нас, самая дремучая область знаний. Наши знания про свою душу обратно пропорциональны знаниям про свое тело, и в душевной анатомии мы разбираемся в тысячу раз хуже, чем в телесной. Можно ли представить себе взрослого человека, который не знает, где у него мозг и сердце и как они правят организмом? Или человека, который не знает о миллионах наших микросердец — капиллярах, о железах внутренней секреции, о позвоночнике? А ведь именно на таком уровне мы знаем, то есть не знаем, свою психологию… Поэтому на следующих страницах будет много психологического ликбеза — ликвидации самой главной у нас — психологической — безграмотности. При этом я не стану излагать научные подходы, так как они часто запутанны и малопонятны. Я буду брать лучшее из этих подходов, сплавлять его между собой, добавлять свои мнения — создавать новый подход. Наверно, и в нем окажутся свои слабые места, свои изъяны — это, увы, неизбежно в любом сложном поиске… Наш темперамент, говорят психологи, рождают две наши системы организма — нервная и гормональная. Темперамент — психологическое проявление этих систем, психологическое выражение их особого склада. Все мы знаем, что нервы у людей бывают взрывные или спокойные, быстрые или медленные в своих реакциях, с несильными или сильными откликами. А гормональная система может давать много или мало гормонов, больше одних и меньше других, а их выбросы она возмещает медленно или быстро… Потому и темперамент бывает спокойный или взрывной, с громкими или тихими голосами эмоций, с быстрыми или медленными ходами мыслей и чувств. Темперамент — это разный у разных людей стиль чувствований, стиль мыслительных и волевых порывов: это сила или слабость ощущений и мыслей, их скорость, это чувствительность и выносливость волевых движений, это уравновешенность или неуравновешенность эмоций, их управляемость, полууправляемость, неуправляемость… Словом, это как бы почерк наших эмоциональных, волевых, мыслительных процессов, как бы особая манера их протекания. Пожалуй, именно в XX веке психологи сделали тут больше всего: появилось много теорий темперамента и характера, возникла так называемая дифференциальная (различительная) психология — учение о разных видах характера, темперамента, личности. Впрочем, это лишь начало настоящего углубления в человека, и несделанного тут гораздо больше, чем сделанного. Особенно касается это подхода к характеру — здесь царит неясность, примерность. Характер — это самые устойчивые психические черты личности, говорит один психолог. Это основные и ярко выраженные индивидуальные психологические черты человека, говорит другой. Это главные внутренние свойства личности, которые составляют ее каркас, говорит третий[68].Почти везде о характере говорится именно так — отвлеченно, приблизительно, расплывчато. Психология характера как бы проходит стадию первичной туманности, в которой только начинают сгущаться звезды. Одно из таких сгущений — разница между темпераментом и характером. Темперамент, говорят психологи, — это лишь одно измерение характера, один его слой; это стиль, почерк психических процессов, а не их содержание, направленность. А характер — это именно внутренние свойства человека, их направленность. Из чего состоит характер, что входит в него, кроме темперамента? Прежде всего это отношение к другим людям, «общенческие» черты человека: доброта или недоброта, эгоистичность или неэгоистичность, открытость или замкнутость. Это отношение к себе, самооценка: личные запросы и притязания, отношение к своей внешности, душевному облику, поведению. Это волевые черты — хребет характера: твердость, смелость, упорство или их антиподы. Это черты умственного склада — его принципиальность или непринципиальность, глубина и острота мышления, его активность или пассивность. Это черты чувств — и нравственно-психологических (в том числе чувства долга, совести), и эстетических (в том числе чувства юмора, вкуса): глубина или поверхностность этих чувств, стойкость или нестойкость, простота или сложность… Примерно так (но с моей облегчающей расшифровкой) писал о строении характера известный психолог Б. Г. Ананьев. Такой подход проясняет внутреннее устройство характера, показывает его «составные части». Но он не отграничивает характер от личности и потому оставляет неясным, чем они отличаются друг от друга. Если уж мы говорим, что совместимость характеров и личностей — основа семьи, то как же не знать о них хотя бы самое нужное, самое главное? Пожалуй, разница между характером и личностью такая же, как между нервной системой человека и всем его организмом. Характер — главное измерение личности. В личность, кроме темперамента и характера, входят и способности человека, и его интересы, опыт, взгляды на жизнь. Личность — как бы особое лицо человека, как бы поперечный срез всего того своеобразия, которое пропитывает его душу и разум, темперамент и характер, мораль и поведение. Это как бы дирижер всех его инстинктов и мыслей, рулевой всех чувств и поступков. Конечно, совмещаются между собой не «части» личности — темпераменты людей или их характеры, — совмещаются или не совмещаются всегда цельные личности. Но эти «части» — характеры и темпераменты, их союз или разлад — выступают важнейшими рычагами такого совмещения или несовмещения двух людей.Прожиточный минимум подробностей.
«Читал в «Авроре» главы из вашей книги. Ликбез о психологических типах и темпераментах важен, хотя в нем слишком много подробностей: они очень усложняют текст и затрудняют чтение. Голова быстро отказывает, журнал хочется отложить в сторону. Было бы легче, если бы вы дали совет: найди, где говорится про тебя, и включай свой умственный насос. А про других можно просто перелистывать, читать с пятого на десятое». (Киев, Дом учителя, городской клуб «Соционика», май, 1988.) По-моему, здесь точно замечен опасный подводный камень книги и хорошо сказано, как его обойти. Стоило бы только добавить: найди и про своего близкого человека, и про детей, если они есть, а в дружбе — и про друзей. Про остальных можно читать по диагонали. И еще совет: трудные куски лучше одолевать маленькими порциями — по странице, две, три. Трудный текст перенапрягает левое полушарие, и голове нужно хотя бы несколько минут отдыха. Причем лучше всего отдых, который включает правое полушарие — музыка, зрительные впечатления, смех, юмор, физические нагрузки. Энергия левого полушария от этого восстанавливается гораздо быстрее. Есть и еще один путь — его недавно открыли психологи. Трудный текст (это касается любых книг) легче понимается под тихую музыку, но обязательно мелодичную и еле слышную, не отвлекающую. Такая музыка включает правое полушарие, его энергия подпитывает левое, и это очень поднимает усваивающую силу мозга. «А зачем нам избыток подробностей? Может быть, специалистам он и нужен, а обычным людям он ни к чему». (Иваново, Дворец текстильщиков, городской университет женщин, март, 1988.) Верно, психологические подробности сегодня многим неинтересны, стоят на задворках их ценностей. Но, по-моему, такие подробности не балласт, который мешает полету, а наоборот: это как бы газ, который поднимает воздушный шар и дает ему полетную силу. «Не согласна, что психологические подробности не нужны обычным людям. (Эта записка пришла сразу после предыдущей.) Мы каждый день путаемся в таких подробностях дома и на работе, а особенно с детьми и с мужьями. Их надо знать, это облегчает жизнь». (Иваново, городской университет женщин, март, 1988.) Людей, которые по-настоящему тянутся к психологическим знаниям, сейчас, наверно, немного. Но с годами, пожалуй, их будет становиться все больше: мы начнем понимать, что такие знания — ключ к хорошим отношениям, к продлению чувств. И с ходом научно-психологической революции (а то и просто когда в школе введут психологию) то, что сейчас кажется избытком, будет казаться нехваткой, прожиточным минимумом.Экстраверт, интроверт, биверт.
«В последние годы много говорили об экстравертах — открытых людях и интровертах — закрытых. Кто лучше для семейной жизни? Отличаются ли у них чувства, одинаково или по-разному они любят? И как идет семейная жизнь, если один экстраверт, а другой интроверт?» (Мытищи, комбинат «Химволокно», июнь, 1987.) Слово «экстраверт» образовано из латинского «экстра» — наружу, вне, и «верт» — повернутый, обращенный. Это человек, у которого ощущения, интересы, эмоции как бы фокусируются наружу — больше на других людях, чем на себе, и больше на внешнем мире, чем на внутреннем. Наверно, будет понятнее, если мы станем называть его «внецентрист». Интроверт (от латинского «интро» — внутрь) — «внутри-центрист», человек, у которого ощущения, эмоции, интересы больше сфокусированы на себе, чем на других людях, и больше направлены на свою внутреннюю жизнь, чем на внешнюю. Такое деление людей открыл в 20-е годы нашего века крупный швейцарский психиатр Карл Юнг. По-моему, есть еще и третий вид людей — как бы двуцентрист, сплав экстраверта и интроверта — человек, который одинаково направлен наружу и внутрь, сфокусирован и на себе, и на других. Его можно бы назвать биверт (от латинского «би» — два) — человек-двуцентрист, с двоякой фокусировкой[69]. Убедиться в том, что человек-биверт существует, просто — такие люди попадаются на каждом шагу; может быть, это даже центральный человеческий тип, более массовый, чем экстраверт и интроверт. Впрочем, это только предположение, и чтобы понять, верно ли оно, нужны широкие исследования. (Чуть дальше дан маленький тест, который позволяет за несколько минут увидеть, хотя бы примерно — кто ты.) Какие же они, эти три человеческих типа? Как они ведут себя, как устроены их чувствования? Само собой разумеется, у каждого из них есть свои плюсы и минусы, сильная и слабая стороны. Экстраверт («вне-центрист») общителен, он легко, но неглубоко сходится с людьми. Он быстрее приспосабливается к новым условиям, но не очень вдается в их суть, он энергичен, интересуется всем вокруг, но больше внешними слоями этого всего. Главная часть его переживаний вызвана не своей душевной жизнью, а внешней жизнью — другими людьми, событиями, происшествиями… «Верно ли, что экстраверт, из-за того, что он обращен к другим людям, больше расположен к альтруизму? А интроверт, сосредоточенный на себе, — больше к эгоизму?» (Реутово, Московская область, ДК завода «Мир», апрель, 1987.) Это похоже на правду, но, пожалуй, только похоже. Да, сознание экстраверта больше вовлечено во внешнюю жизнь, больше направлено на других людей, чем на себя. Такая вовлеченность часто бывает чрезмерной, и она ущемляет этим глубинные личные нужды человека. Поэтому, как думал Юнг, подсознанием экстраверта правит противоположный принцип — сверхвнимание к себе: у экстраверта как бы подсознание от интроверта. Подсознанием, считал он, руководит принцип компенсации, восполнения, и оно всегда стремится возместить однобокость сознания, уравновесить ее обратным креном. И потому чем больше сознание человека отворачивается от личных устремлений, тем больше подсознание поворачивается к ним. Этот парадокс психики — очень важный принцип, которым наше «я» защищает себя от однобокости. Интроверт («внутри-центрист») общителен гораздо меньше, а то и совсем не общителен. Он медленнее и хуже приспосабливается к условиям жизни, к окружению, но зато может больше менять их, больше приспосабливать к себе. Сильные «внутри-центристы» часто замкнуты, обособлены, и их переживания куда больше рождены внутренней жизнью, чем внешней. Их подсознанием тоже правит парадокс равновесия, своего рода психологический принцип дополнительности. Чем больше сознание «внутри-центриста» замыкается на себе, уходит от внешнего мира, тем больше его подсознание обращается наружу: у интроверта как бы подсознание от экстраверта…[70] И если даже интроверт больше экстраверта тяготеет к эгоизму, а экстраверт — к альтруизму, то, пожалуй, совсем немного. Ведь эгоизм и альтруизм — это не просто нервно-психические, а нравственные двигатели, иони гораздо больше создаются воспитанием и жизненной позицией, чем свойствами наших нервов и психики. Двуцентристы-биверты соединяют в себе черты вне-центристов и внутри-центристов, но, видимо, сглаженно, приглушенно. Они общительны, но не так, как экстраверты. Они энергичны в поступках, умеют и приспосабливаться к условиям и менять их. Но приспосабливаются они шероховатее экстравертов, без их слияния с обстановкой, растворения в ней. И меняют условия без лобового упрямства интровертов, без их мертвой хватки. Переживания бивертов направлены и в себя, инаружу, но, возможно, они не достигают в них такого самоотвлечения, как экстраверты, и такого самопогружения, как интроверты… Зато и однобокость экстравертов и интровертов тоже приглушена в них, и преобладает тяга к уравновешенному подходу к жизни. «1. От чего зависит такая направленность человека — она врожденная или приобретенная? 2. В последнее время становится все больше необщительных людей. Значит, все больше интровертов и все меньше экстравертов?» (г. Горький, клуб молодежного общения «Я и ты», май, 1987.) Психологи установили, что направленность «вне-центристов» и «внутри-центристов» врожденна, зависит от их нервного склада[71]. Эту направленность, как они думают, создает перевес в человеке нервного возбуждения или торможения[72]. (Мне кажется, психологи здесь полуправы — такая направленность не только врожденна, а и приобретается, но об этом потом.) У экстравертов (вне-центристов) возбуждение слабее, чем торможение, поэтому им все время нужны новые впечатления, которые возбуждают нервы. Их психика как бы голодает по таким впечатлениям, и, чтобы держать наилучший уровень возбуждения, им нужна новая и новая эмоциональная пища. Наша нервная система сама стремится к такому наилучшему уровню возбуждения — оптимуму (от латинского «лучший»). Мало возбудимой, мало чувствительной нервной системе нужно много внешних впечатлений, только тогда она здорова и работает нормально. Но, если нервная система чувствительна, ей вредит избыток впечатлений, и она может выйти из строя. У внутри-центриста как раз такие чувствительные нервы, возбуждение у него сильнее торможения. Интроверт принимает вереницы мелких сигналов от себя и извне, которых экстраверт просто не ощущает. Чувствительность нервов у интроверта повышенная, у него есть как бы добавочный диапазон микроволн, которого нет у экстраверта. Через этот диапазон обильные потоки микровпечатлений заполоняют его психику — и обращают его внутрь, в себя; это как бы биологическая сосредоточенность на себе, биологическая погруженность в себя. И вне-центризм экстраверта тоже растет из биологической почвы, стоит на биологической опоре — на постоянной нехватке впечатлений, нестихающем голоде по ним. У биверта (двуцентриста) нервная система уравновешенна, и сила ее возбуждения и торможения более или менее одинакова. Биверт открыт микроволнам жизни больше, чем экстраверт, но меньше, чем интроверт. Его нервам нужно впечатлений больше, чем интроверту (внутри-центристу), но меньше, чем экстраверту (вне-центристу). Нервы у биверта (двуцентриста) чувствительны и выносливы, поэтому он погружается в себя глубже, чем вне-центрист, но, пожалуй, мельче, чем внутри-центрист. И погружаясь в себя, он не замыкается собой; его ощущения направлены на других людей больше, чем у интроверта, и проникают в них глубже, чем у экстраверта. У каждого из этих людей — у экстраверта, интроверта, биверта — вся ткань чувств соткана из особых ощущений, похожих и непохожих друг на друга. Потому и чувства у них в чем-то похожие, а в чем-то разные, и протекают они и похоже, и неодинаково.Какие они в семье?
Как эти психологические типы ведут себя в семье? Вернее, к какому поведению они предрасположены, к чему их больше влечет их особый психологический склад? Интроверт (внутри-центрист) усидчивее остальных: он быстрее их устает от обилия впечатлений и потому больше тяготеет к оседлому обиходу, привычным занятиям, к общению в тесном кругу. У экстраверта (вне-центриста) жажда впечатлений повышена, и его гораздо сильнее влечет к кочевому обиходу; ему больше других нужны гулянья, компании, вылазки в гости — массовое общение, разнообразная жизнь. В биверте (двуцентристе) оседлость и кочевость уравновешены, и он может быть и домоседом и странником, хотя, наверно, более умеренным, чем интроверт и экстраверт. Тесный круг не приедается ему дольше, чем экстраверту, а в компанию его влечет сильнее, чем интроверта. Интроверт, видимо, «домашнее» остальных по самому устройству своих нервов. Но домашнее — не значит «семейнее», потому что полуобщительность делает его полуодиночкой в поведении, отношении к близким. Пожалуй, биверт «семейнее», у него нет той полузакрытости, той полуспрятанности души, которая полуотделяет интроверта от близких. Экстраверт, видимо, уступает им обоим в домашности, но это совсем не значит, что он плохой семьянин. Речь ведь идет сейчас только об одной «части» характера — о нервно-эмоциональном складе человека, а какой он семьянин, зависит не от одной такой части, а от их сплава — от всего характера человека, от всей его личности. И экстраверт, если он не эгоист, может быть гораздо лучшим семьянином, чем эгоист-интроверт или эгоист-биверт. Какой ты как семьянин, зависит от равнодействия всех сторон личности, всех достоинств и недостатков каждой такой стороны. Недостатки нервного склада можно уравновесить достоинствами других сторон человека. И, наоборот, любые достоинства темперамента или характера могут быть подавлены недостатками нашего поведения, отношения к близким. Что касается экстраверта, то в его нервно-психологическом устройстве есть и крупные преимущества над бивертом и интровертом. Его нервы не так впечатлительны, и потому они попросту не замечают многое из того, что задевает остальных. Мелочи семейного обихода, шероховатости будней меньше ранят его, меньше включают в нем раздорные чувства. Поэтому экстраверт может быть гораздо незлобивее и покладистее интроверта и биверта: он отходчивее их, быстрее прощает обиды, легче мирится после ссоры — он миролюбивее их как семьянин. Впрочем, у сниженной чувствительности его нервов есть и оборотная сторона. Не ощущая мелких уколов жизни, он не ощущает и их вреда и может неосознанно наносить такие уколы близким. И покладистость экстраверта может становиться покладистостью к своим недостаткам. Нервы экстраверта могут по-детски переключаться с одного ощущения на другое; он как бы сохраняет продленное детство чувств — их подвижную легкость, незастревающее перепархивание ощущений. Но чувства его от этого менее стойки, могут быстрее выветриваться. У интроверта чувства гнездятся глубже, вживляются в душу прочнее. Любовь может жить в нем дольше, и его подсознание больше дорожит ею, часто стремится возвести ее в культ. Многие великие поэты, которые воспевали любовь как высшую ценность жизни, были интровертами… Но нервы у интроверта ранимее, чем у других; от этого он испытывает гораздо больше тягостных ощущений, и злые, раздорные чувства глубже входят в него, больше правят его поведением. Кроме того, из-за своей полуоткрытости он меньше, чем остальные, отдает близким свою любовь, больше замыкает ее в себе. Экстраверт — больше человек действия, чем переживания, интроверт — больше переживания, чем действия. Чувства живут у экстраверта как бы ближе к поверхности, в верхних слоях души, и от этого ему легче отдавать их. И проявления чувств у него радужнее, праздничнее, он щедро расточает их, но быстрее исчерпывает. Интроверт проявляет свои чувства скупее. Чувства запрятаны в нем глубже, и им труднее пробиваться наружу из скрытых слоев души. Потому и любовь у интроверта не такая праздничная, не такая сверкающая, и она гораздо больше живет у него под спудом, внутри, чем в поведении, снаружи. В биверте как бы сливаются чувства интроверта и экстраверта; причем достоинства этих чувств как бы складываются, усиливают друг друга, а их недостатки — так как они противоположны — взаимно уменьшают, ослабляют друг друга. (Повышенная чувствительность, соединяясь с пониженной, создает нормальную чувствительность. Излишнее замыкание в себе и излишнее отключение от себя тоже уравновешивают друг друга.) Биверт, двуцентрист — человек и действия, и переживания вместе. Он может ощущать любовь глубоко, как интроверт, и отдавать ее ярко, как экстраверт, — хотя, пожалуй, умереннее их, не так глубоко, как один, и не так ярко, как другой. Он отходчивее и уживчивее интроверта, и так как нервы у него выносливее, его меньше ранят мелочи обихода. Но его нервы чувствительнее, чем у экстраверта, его подсознание понимает, как могут уязвлять мелкие уколы жизни, и потому он расточает их бережнее. Чувства у двуцентриста тоже залегают глубоко и дольше не проходят. Но и тягостные ощущения вспыхивают в нем часто, хотя и реже, чем у интроверта. Зато длятся они протяженнее, потому что в более выносливых нервах ощущения проигрываются дольше. Потому-то неприятные эмоции возникают у биверта чаще, чем у экстраверта, и жалят его болезненнее, чем интроверта. Недостатки двуцентриста как семьянина заложены в тех же самых его свойствах, что и достоинства. Его эмоции устойчивее и требовательнее, чем у экстраверта, и потому он менее миролюбив. А так как нервы у него выносливее, чем у интроверта, он может быть выносливее его и в раздорах. Вообще сила его нервного склада может усиливать и его достоинства, и его недостатки. Двуцентрист может быть гораздо тверже остальных в недобрых чувствах и враждебных отношениях. Силовые струны его души могут делать его и очень мирным, и очень воинственным: все зависит от того, какая музыка разыгрывается на этих струнах — музыка лада или разлада. «Газеты пишут, что сегодняшние мужья и жены мало разговаривают друг с другом, причем это наблюдается в разных странах. Может быть, причина в том, что становится все больше интровертов, которые зацикливаются на себе и больше разговаривают с собой, чем с другими? И не интроверты ли составляют сословие родителей, которым не до детей?» (г. Горький, клуб молодежного общения «Я и ты», май, 1987.) Раньше уже встречался похожий вопрос: необщительных людей сейчас все больше, значит ли это, что интровертов стало больше? Пожалуй, это и так, и не так. Необщительность и интроверсия (внутри-центризм) — разные вещи. Интроверсия — это внутреннее измерение характера, сфокусированность и уклад его эмоций. А необщительность — внешнее, поведенческое измерение характера. Ее может рождать и интроверсия, и другие причины — болезнь, усталость, сосредоточенность человека на чем-то очень важном… Впрочем, интроверсия бывает не только врожденная, а и нажитая, приобретенная. Ее вызывает и долгий упадок духа, и хроническая болезнь, и затяжные нервные перегрузки: все они расшатывают нервы людей, взвинчивают их возбудимость, обращают их подсознание внутрь себя… Биверт или экстраверт, который страдает неврозом, становится настоящим интровертом, внутри-центристом: его нервы делаются ранимыми, их чувствительность резко растет, возбуждение становится сильнее торможения. Психиатры знают, как разлад нервов делает людей более замкнутыми, болезненно сосредоточивает их на себе. Но интроверсия — это не эгоизм, и в сословие родителей, которым не до детей, входят не интроверты, а эгоисты. Вспомним еще раз — наши нервно-психологические пружины и пружины моральные лежат в разных измерениях. Экстраверты и биверты могут быть и альтруистами, и заядлыми эгоистами, а интроверт, как и любой другой человек, может быть и эгоистом и неэгоистом… А можно ли семейную неразговорчивость объяснить одним только ростом интровертов? Сегодня меньше говорят друг с другом и биверты, и экстраверты, и это вызвано глубокими переменами во всем семейном обиходе. Семейная жизнь стала во многом другой, когда в дом пришел новый член семьи, часто ее новый глава — телевизор. Это великое детище НТР ведет себя как враг и разрушитель семейного общения: он рвет ниточки общения между мужем и женой, детьми и родителями и стягивает все эти ниточки к себе. Говорит только телевизор, остальные молчат и слушают его, а не друг друга. Кроме того, в нынешнем семейном обиходе становится все меньше общих занятий и все больше обособленных — отдельных у жены, мужа, детей. И даже отдельные комнаты — мечта каждой семьи — тоже уменьшают домашнее общение, делают семейные разговоры более редкими и короткими. Впрочем, и телевизор, и выросшая обособленность меняют и обиход, и человеческую психологию. Они как бы вселяют во многих из нас кусочки души интроверта — вовсю «интровертят» нами (прошу прощения за каламбур)… Чем больше телевизор ведет себя как экстраверт, тем больше мы вынуждены вести себя как интроверты. Семейная жизнь все больше становится от этого полунемой, молчаливой, души людей все меньше встречаются друг с другом в разговорах. Это новое бедствие, с которым стоило бы усиленно воевать… А как уживаются между собой экстраверт и интроверт? Им непросто друг с другом, потому что у них много несходящихся влечений и один часто тяготеет к тому, что тяготит другого. Одному больше нужно спокойствие, другому беспокойство, одному — компания, другому — одиночество вдвоем, одному — много впечатлений, другому — мало… Такие несхождения обязательно будут рождать разлады, недовольство друг другом. Но любишь смородину — терпи и оскомину, — это, наверно, закон законов всякой любви, всякой семейной жизни, да и всех человеческих отношений вообще. К тому же (вспомним еще раз), интроверсия или экстраверсия — это не основа, не сердцевина человеческой личности, и какие мы в семье, куда больше зависит от нашей доброты или недоброты, заботливости или незаботливости, теплоты или холодности. Именно от состояния души зависит, создадут ли себе муж и жена — через поиски, уступки, самоограничение — такую жизнь, которая будет больше сближать их, чем разделять…«Дробные» и «волнистые» души.
«Психолог Владимир Леви говорит в книге «Я и мы», что среди людей много шизоидов и циклоидов. Правда ли, что это люди немного сдвинутые и с ними очень трудно в семье?» (Киев, городской молодежный клуб «Эврика», апрель, 1988.) Шизоиды и циклоиды, с точки зрения психиатров, люди не «сдвинутые», они стоят у границ нормы — так, кстати, и пишет о них В. Леви. Это акцентуированные личности: у них чересчур заострена, акцентирована какая-то черта характера, а это очень затрудняет жизнь с ними. К сожалению, мы не знаем, сколько всего шизоидов и циклоидов среди людей: может быть, их процентов по 10–15, может быть, больше или меньше, — исследований на этот счет не велось. Термины «циклоид» и «шизоид» ввел в обиход немецкий психиатр Эрнест Кречмер. В 20-е годы нашего века онподелил людей на циклотимиков, шизотимиков и иксотимиков, выяснил, что у каждого из них разный склад душевной жизни. Циклоиды и шизоиды — это как бы усиленные, заостренные циклотимики и шизотимики, и их гораздо меньше, чем самих циклотимиков и шизотимиков. Циклотимик (от греч. «киклос» — круг и «тимос» — душа, дух) — это «волнистая душа», и настроения у него меняются волнообразно, от взлета к упадку. Шизотимик (от греч. «шизо» — дроблю, раскалываю) — «дробная душа», и он больше тяготеет к внутреннему противоречию, расщеплению, чем к единству. Циклотимики чаще бывают несложными натурами, шизотимики — сложными. И сексуальность у них разная — это установил Т. Ван де Вельде. У циклотимиков, «волнистых», она живет как бы приливами и отливами, но меняется медленно, размеренно. У шизотимиков резкость колебаний больше, их качели сильнее — и в душевной и в телесной жизни. Самые крайние из них могут, как челнок, переходить от чрезмерности в наслаждениях до полного равнодушия. Иксотимик (от греческого «иксос» — тягучий, вязкий) — это обычно спокойный, сдержанный, маловпечатлительный человек. У него как бы «вязкая душа», он негибок, с трудом приспосабливается к обстановке, к людям и поэтому часто педантичен, повышенно пристрастен к порядку, к мелочам быта и отношений. Почему-то этому человеческому типу не повезло, хотя он тоже встречается часто: о циклотимиках и шизотимиках психологи и психиатры писали довольно много, а об иксотимиках — почти ничего[73]. Характер циклотимика («волнистого») совпадает с характером экстраверта, а шизотимика («дробного») — с характером интроверта[74]. Циклотимик, как и экстраверт, во время подъемов общителен до распахнутости, весел и оживлен, полон жизнелюбия, простодушия, безмятежности. В это время он легко применяется к обстановке, приспосабливается к людям. Он отзывчив, душевен, у него теплый и добросердечный характер, мягкое чувство юмора. У него детски наивный эгоизм, простодушный, тянущийся к радостям секунды, и он искренне не понимает, какой вред он несет себе и другим. В его внутреннем мире всю авансцену захватывает живая жизнь, ее манящая плоть, а убеждения, принципы, совесть часто подневольны ей. Это совсем не человек системы, плана, последовательности. Он деятелен, а то и суетлив, скор на поступки и медлен на мысль о них. Одна из его главных черт — импульсивность — мгновенный переход от желания к действию, без промежуточной ступени обдумывания. Во время спада у него спадают жизненные силы, снижается нервная энергия, его оживление слабнет, он тускнеет, делается серьезнее, сдержаннее. Приливы и отливы у него разные по длине — от нескольких дней до двух недель. В общем, у циклотимика, «волнистого», дух бодрый, деятельный, и он тесно связан со средой, обстановкой. Он как бы сливается с жизнью, тянется к гармонии с ней; немецкий психиатр Блерер даже назвал его синтонный — созвучный, однотонный со средой. Он мало погружен в себя, и это не дает ему углублять свои ощущения, настроения, мысли: они катятся легко, без остановки, как волны, и часто исчезают так же бесследно. И взгляды у него более текучие и менее стойкие, они легче меняются и развиваются. Шизотимик («дробный») меньше направлен на мир вокруг, его ощущения бывают нередко «дистонными» с ним — разнотонными, диссонансными. С виду он холоден, но на деле холоден бывает только один из двух. У него есть поверхность и глубина, и чаще всего они не совпадают. Как говорил Кречмер, «дробная душа» часто похожа на римские виллы, у которых фасад прост, окна закрыты от солнца ставнями, а в полусумраке комнат развертывается драматическая жизнь. «Дробный» тонко чувствует, у его нервов врожденно сильная чувствительность. Он может быть энергичен, может тяготеть к чудачествам, к жизненному идеализму, к повышенной эстетичности вкусов и настроений. Он более я-центричен, чем циклотимик, больше погружен в себя, чаще всего он интроверт, хотя бывает и биверт. У этого вида людей на одном полюсе стоит спартанская строгость, стоическая выносливость, неподкупная справедливость. На другом — фанатизм и доктринерство, холодная расчетливость и жесткость. Шизотимик-интроверт не очень общителен, и бывает даже очень необщителен; он неровен в настроениях — склонен к постоянному двоению, маятнику эмоций. Он раздражительнее циклотимика, труднее приспосабливается к обстановке, к людям. Он нередко упрям, склонен и к стойкости, и к окаменелости взглядов, с трудом меняет их. Шизотимики, «дробные души», бывают возбудимые и невозбудимые. Невозбудимые чаще холодны по самой ткани своих ощущений, они держат мир в отдалении, иногда враждебны к нему, отстраненно относятся к людям вокруг. Возбудимые могут скрывать за сдержанностью напряженную внутреннюю жизнь, полную бурных переживаний. Оба этих человеческих вида нормальны, и у обоих бывают метания, спазмы настроений, духа. Они тянутся к хорошим отношениям всей своей ранимой душой, но не зная себя, часто налетают на свои шипы сами и колют ими близких… «Дробные души» тяготеют к дружбе один на один. Внутри этого двойственного союза царит горячий культ личности, ко всем за его пределами — отчужденная сдержанность. В любви они, особенно мужчины, часто ищут абсолют — Девушку, Женщину, а ту, кого любят, резко возвеличивают в своем сознании. В чувствах они тяготеют к верности и последовательности, в мыслях и поступках — к системе, продуманности, следованию принципам. Как видим, все эти свойства «волнистых» и «дробных» душ — свойства и темперамента и характера сразу: темперамент как бы помогает им вживляться в характер, создает благодатную почву для их прорастания. Но с темпераментом люди рождаются, а характер рождает им жизнь. Именно от их жизни, от их воспитания и самовоспитания зависит, какие черты темперамента будут больше врастать в характер — светлые или темные, добрые или злые. И в их личных отношениях, в семье, очень многое зависит от того, как «волнистые», «дробные» и «вязкие» управляют своим характером, каким его сторонам — добрым или недобрым — больше помогают проявляться. У Кречмера есть еще одна человеческая типология. Немцы вообще очень склонны к классификациям, и, пожалуй, больше всего классификаций родилось именно на немецкой земле. В книге «Строение тела и характер» (1921) Кречмер доказывал, что у людей разного телесного строения разные и характеры[75]. Он делил людей на 4 телесных типа: пикники, астеники, атлеты, диспластики. Пикник (от греч. — «плотный») — человек небольшого или среднего роста, коренастый, с широким лицом, короткой шеей, круглой грудной клеткой. Часто уже в 30–35 лет у него есть брюшко. У астеника (от греч. «ослабленный») длинная фигура, высокий рост, узкая грудная клетка, небольшой живот. Нос у него острый, углы подбородка неотчетливые. Атлет (греч. «борец») росл, силен, у него крепко развитые кости, пропорциональное тело, сильные мускулы. К диспластикам (от греч. «невылепленный», «несформованный») относятся люди с ненормальным ростом и фигурой: карлики, великаны, сверхтучные, сверхтощие… У каждого вида тела, утверждал Кречмер, есть свой вид нервного склада, своя душевная жизнь и свои болезни. Нервная жизнь пикников циклична, состоит из подъемов и спадов, и настроения у них меняются, хотя и плавно, от бурного веселья до мрачности, от непоседливости до тягучей лени; это, видимо, явные циклотимики, «волнистые души». Астеники и атлеты сдержанны, тяготеют к душевным противоречиям, лишены цельности. Чаще всего они принадлежат к «дробным душам», шизотимикам. У диспластиков и нервная система «плохо сформована», и у них чаще и острее, чем у других, бывают нервные и эмоциональные отклонения. По строению человеческого тела можно видеть основы нервного и душевного строения — к такому заманчивому выводу пришла немецкая психиатрия первой трети нашего века. Но вывод этот, как считают современные психологи, подтвердился лишь отчасти. Есть люди, у которых строение нервов совпадает со строением тела, но у большинства, видимо, таких совпадений нет. Темперамент — вспомним — это прежде всего дитя двух родителей, двух систем человека — нервной и гормональной. Он прямо зависит от них, служит как бы надстройкой над ними. Возможно, и строение тела тоже как-то связано с гормональным и нервным складом человека, возможно, строение тела — это как бы их внешнее, телесное дитя, в то время как темперамент — дитя внутреннее, душевное. Но это лишь предположение, и если даже оно подтвердится, то и тогда строение тела будет говорить о человеческом темпераменте лишь косвенно, приблизительно. Пока же, как считают специалисты, общие знаменатели у темперамента и тела невелики, и, если прямо выводить нервный склад из телесного, гораздо легче промахнуться, чем попасть в цель[76].Нервные типы Павлова.
«А почему у нас не пишут о теории типов нервной системы, выдвинутой Павловым? Во всяком случае, я ничего о ней не встречал, хотя уже несколько лет интересуюсь этой проблемой, слежу за газетами и журналами. По-моему, она исключительно важна для семейной жизни. Жениху и невесте, а тем более мужу и жене обязательно надо знать, к какому типу они принадлежат. Может быть, классификация Павлова устарела? Но тогда надо разрабатывать новую, а современные психологи, судя по молчанию в печати, этим не занимаются. И выходит, что старой классификации узнать нельзя, потому что доступных работ о ней нет, а новая неизвестно, существует ли. Где же узнавать о себе?» (Политехнический музей, октябрь, 1979.) Верно, психологи уже давно молчат о павловской классификации. В начале 60-х годов они поняли, что она бедна, но новую не создали. Известный психолог В. Д. Небылицын писал в 1962 году, что опорных свойств темперамента, а значит, и самих темпераментов гораздо больше, чем это казалось И. П. Павлову. Поэтому, говорил он, надо искать эти свойства, а не строить классификацию темпераментов, так как для нее еще не хватает строительных материалов. С тех пор прошло больше четверти века, но академическая психология все еще собирает строительные материалы и никак не начнет строить из них здание. И. П. Павлов — один из самых крупных физиологов нового времени, великий ученый XX века, и он сделал большой шаг в познании нервных типов человека. Разница темпераментов, говорил он, зависит от того, как протекают главные нервные процессы — возбуждение и торможение. Каждый из них может быть сильным или слабым, уравновешенным или неуравновешенным, подвижным или малоподвижным, инертным — от слова «инерция». Это и есть, по Павлову, три измерения нервной системы, три кита, на которых стоит темперамент. Сила возбуждения зависит от выносливости, работоспособности нервной клетки. У одних людей клетки способны на долгое и ровное возбуждение, у других — на сильные, но короткие вспышки, у третьих — на частые, но более слабые возбуждения, то короткие, то долгие… Судя по данным биоэнергетики, это зависит, во-первых, от того, как велики запасы нервной энергии в клетке (то есть от «энергоемкости клетки»), и, во-вторых, от того, как клетка разряжает и восстанавливает свою энергию — быстро или медленно, часто или редко, с напором или без напора. Разная по характеру энергетика, видимо, и рождает разные виды нервной системы; выносливую, медленно разряжающуюся; быстро разряжающуюся, менее выносливую; малочувствительную, редко включающуюся — только в ответ на сильные сигналы; чувствительную, включающуюся часто и т. п. У торможения тоже есть своя сила и своя долгота действия. Оно может действовать и штурмом, и осадой, нарастать быстро или постепенно, иметь силу бульдожьей хватки или детских пальчиков… Что такое уравновешенность нервных процессов, наверно, понятно: это их сравнительная сила, одинаковая или разная, их сравнительная скорость и чувствительность. (Возбуждение может быть сильнее, или слабее торможения, или одинаково с ним по силе; одно может быть быстрее другого, или чувствительнее, или оба они одинаковы по быстроте и чувствительности.) А подвижность возбуждения и торможения — это скорость, с которой одно из них переходит в другое, быстрота, с которой они сменяют друг друга. Если эта скорость мала, тогда возбуждение или торможение малоподвижно, инертно, то есть обладает повышенной инерцией. Значит, у возбуждения и у торможения есть по нескольку разновидностей, и у их уравновешенности и подвижности тоже. Их разные сочетания и создают самые разные темпераменты — выносливые, полувыносливые и невыносливые, чувствительные, малочувствительные и нечувствительные, уравновешенные, малоуравновешенные и неравновесные, подвижные и малоподвижные, быстрые и медленные… Павлов говорил, что разные сочетания всех этих свойств могут дать 24 темперамента, но сам различал только 4: сангвиника, флегматика, холерика, меланхолика. Сангвиник — это выносливый[77], уравновешенный и подвижный тип нервной системы. Возбуждение и торможение у него быстры, подвижны, хорошо уравновешены. Сангвиник поэтому энергичен, бодр, легко приспосабливается к обстановке, к людям, не боится жизненных трудностей[78]. Флегматик — человек с выносливой и уравновешенной нервной системой, но возбуждение и торможение у него замедленны. Он спокоен, основателен, нетороплив; он приспосабливается к обстановке и к людям медленнее, труднее сангвиника; поэтому он не очень любит менять условия жизни, склонен к повышенному постоянству привычек, интересов. Из-за стойкости нервов он хорошо сопротивляется кризисам, трудным условиям[79]. У холерика нервная система не уравновешена: возбуждение у него бурное и подвижное, торможение ослабленное. Нервный склад у холерика как бы двоякий: сильный в возбуждении, маловыносливый в торможении. Он энергичен, деятелен, энергия у него бьет ключом; он быстр на решения, действия, ориентировку, он может быть очень находчивым и изобретательным. В то же время он вспыльчив, несдержан, ему часто не хватает самообладания. Приспосабливаться к обстановке, к людям — вернее, к их минусам — холерику труднее, так как эти минусы рождают в нем неудержимые вспышки раздражения. А эти вспышки отравляют жизнь и самому холерику, и его окружению[80]. У меланхолика очень чувствительная и поэтому маловыносливая нервная система. Сила его возбуждения и торможения ослаблена, подвижность тоже понижена. Поэтому меланхолик труднее приспосабливается к трудным условиям, труднее переносит и минусы близких людей. Но зато, как уже говорилось, его повышенная чувствительность делает его добрее, мягче, и он может быть самым мирным, самым преданным спутником жизни[81]. Кого больше среди людей, как они делятся по темпераментам? Точных сведений здесь нет, да, наверно, и не может быть, потому что само деление на четыре темперамента неточно. Все-таки приведу кое-какие цифры — для примерной ориентировки[82]. Судя по ним, больше всего людей принадлежит к холерикам — 35 процентов. На втором месте идут сангвиники — 30 процентов, на третьем меланхолики — 21 процент и меньше всего флегматиков — 14 процентов. Насколько верны эти цифры, неизвестно — психология почти не ведет здесь исследований. К тому же, как выяснили психологи, людей чистых темпераментов мало, чаще бывает, что в человеке слиты черты двух, трех, а то и четырех темпераментов. Поэтому нынешнее деление людей на группы приблизительно и условно. Вероятнее, что в каждой из таких групп больше всего людей смешанного темперамента, но в этой их смеси правит какой-то один темперамент.От четырех типов к множеству.
В наше время психологи (прежде всего Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын, В. С. Мерлин) углубили павловский подход к основам темперамента — опорным свойствам нервной системы. Они выяснили, что сила возбуждения и торможения — свойство двухполюсное, она состоит из чувствительности и из выносливости, работоспособности. Причем чем чувствительнее нервы, тем меньше их выносливость, а чем они выносливее, тем меньше у них чувствительность. Они установили, что подвижность возбуждения и торможения тоже двояка. Во-первых, это быстрота перехода от возбуждения к торможению и обратно, во-вторых, это скорость вспыхивания и потухания каждого из этих процессов. Они пришли к выводу, что у возбуждения и торможения есть еще одно основное свойство — динамичность, то есть скорость, с какой рождаются условные рефлексы, возбудительные и тормозные. И, наконец, они выяснили, что уравновешенность касается не только силы возбуждения и торможения; она точно так же относится и к их подвижности и динамичности (то есть, скорости рождения рефлексов). То есть у возбуждения и торможения может быть одинаковая или разная подвижность, одинаковая или разная динамичность[83]. Таким образом, современные психологи нашли новые краеугольные свойства высшей нервной деятельности, о которых не знал Павлов. А это значит, что простейших строительных кирпичиков темперамента уже не 6, как думал Павлов (сила — слабость, подвижность — неподвижность, уравновешенность — неуравновешенность), а минимум 16[84]. Значит, и комбинаций этих свойств может быть очень много, и число основных нервных типов вырастает во много раз… Современные психологи отказались от ветхозаветного деления людей на 4 типа, но новую систему темпераментов не создали. Они отвергли старые основы деления людей на типы, а новые основы не выковали. Психология занимается сегодня в основном свойствами нервного склада, а не типами людей — разными сочетаниями таких свойств. Психологи говорят, что сначала надо найти до конца все эти свойства, а потом уже искать их сочетания — типы людей. Они поглощены теоретическими вопросами и не создают то, чего ждет от них, жаждет живая жизнь — гибкую, полезную, доступную в обиходе систематику человеческих типов. А ведь чтобы создать такую систематику — Менделееву таблицу темпераментов — материала уже достаточно, пусть даже в этой таблице, как и у Менделеева, остаются белые пятна. Нужен только свой Менделеев — человек панорамного мышления, который сложит в цельную картину мозаику разбросанных частностей. Но такого человека в академической психологии, увы, нет. Впрочем, еще в 60-е годы такую систематику попытались создать психологи из Ворошиловградского мединститута, работники кафедры медицинской психологии и психиатрии (ими руководил доктор медицины Б. Я. Первомайский)[85]. Есть люди возбудимые, говорят они, у них сильнее возбуждение; есть тормозимые — у них сильнее торможение; а есть уравновешенные — то и другое у них одинаковой силы. Возбуждение и торможение могут быть сильными и слабыми. У них может быть и разная подвижность, то есть скорость рождения условных рефлексов, навыков. У подвижных рефлексы быстро создаются и быстро разрушаются. У малоподвижных (инертных) рефлексы создаются долго и долго сохраняются. У одних людей подвижно и возбуждение, и торможение. У других возбуждение подвижно, а торможение малоподвижно (инертно). У третьих малоподвижно возбуждение, зато подвижно торможение. У четвертых и возбуждение, и торможение малоподвижны. Все эти четыре комбинации нервных свойств могут быть и у возбудимого, и у тормозного, и у уравновешенного. Значит, есть уже 12 типов людей, которые отличаются типом нервного склада. А у каждого из них может быть сильное, выносливое или слабое, маловыносливое возбуждение и торможение. Значит, образуется уже 24 типа нервной системы. Но и это еще не все. Есть люди, у которых преобладает образное мышление. У них сильнее работает правое полушарие — оно ведает образным мышлением, внешними чувствами — зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием. Этих людей Павлов называл художниками. У других людей сильнее работает левое полушарие — оно ведает словесно-логическим мышлением, отвлеченным анализом. У них аналитическое мышление развито больше, чем образное и чем внешние чувства, чувства-радары. Это «мыслители», и у них не такое, как у «художников», восприятие жизни, другой стиль чувствований, другая нервная автоматика. Есть и люди смешанного типа, «равновесы»: у них оба полушария работают одинаково, и от этого образное и логическое мышление живут в союзе. Такие люди составляют в человечестве самую большую группу, и у них тоже особый характер чувствований — своя нервная автоматика, свой стиль психологии. И в каждом из этих трех типов (художник, мыслитель, «равновес») есть все 24 комбинации нервных свойств, о которых говорилось раньше. Значит, говорит Первомайский, существует 72 типа нервного склада. Как видим, все в этой классификации очень логично, и даже, пожалуй, чересчур логично. Она идет в общем-то от «теории», от формальной логики: не от того, какие типы людей есть в самой жизни, а от того, какие разновидности людей могут получиться от разных комбинаций разных нервных свойств. В ней, пожалуй, слишком много чисто арифметического перебора разных качеств, чисто механического их сложения. Отсюда и чрезмерная дробность в «менделеевой таблице» типов, и чересчур мелкие, мозаичные отличия типов друг от друга, иногда малозначащие. Наверно, создавая такую таблицу, стоило бы, во-первых, исходить и из жизни, и из теории, а во-вторых (хотя бы для личного употребления) избегать лишней дробности. Впрочем, для научных целей — психологических и медицинских — и такое дробное деление может быть, наверно, полезным. Но для обихода нужна более простая шкала темпераментов, более доступная для понимания и «психологического самообслуживания».Как нервный склад влияет на характер.
«Одни говорят, что характер человека больше зависит от наследственности, другие — от воспитания. Лично я думаю, что от наследственности идет больше, и поэтому многие смелые — холерики, упорные — флегматики, а среди осторожных много меланхоликов». (Из спора участников всесоюзной конференции «Личность — методы и результаты изучения». (Аксаково, Московская область, апрель, 1987.) Пожалуй, ворошиловградские исследования помогут разобраться в этом споре. Из них можно, видимо, взять для сегодняшнего обихода два практических вывода: во-первых, каких людей больше, а каких меньше; во-вторых, — как раз к спору — как личные свойства людей, их моральные и психологические черты зависят от их нервного склада. Сначала о том, кого сколько. Из тысячи школьников, которых обследовали психологи, 45 процентов оказались «двуполушарными», «равновесами» — сплавом художника и мыслителя[86]. На втором месте стоят художники — 32,5 процента, на третьем мыслители — 14,4 процента. То есть выходит, что мыслителей среди нас 1/7 часть, художников — почти треть, а художников-мыслителей — почти половина, примерно столько же, сколько первых двух вместе взятых. Нет ли тут какого-то равновесия «односторонних» и «разносторонних» типов, равновесия, которое зачем-то понадобилось природе? Наверно, когда-нибудь это выяснится. Предстоит выяснить и еще одну очень важную вещь: везде ли художники, мыслители и равновесные так соотносятся между собой? Очень важно узнать, к каким видам любовного чувства больше тяготеет художник, к каким «равновес», к каким мыслитель и что лучше для их отношений — похожая или непохожая манера чувствований… А как делятся обследованные на возбудимых, тормозимых, уравновешенных? Больше всего, как выяснилось, уравновешенных, то есть тех, у кого возбуждение и торможение примерно одинаковы по силе. Их около половины (47 процентов). На втором месте идут возбудимые — их чуть больше трети (34,4 процента). И 11,4 процента, то есть один человек из девяти, составляют тормозимые, люди, у которых выносливость нервной системы понижена[87]. У девяти десятых людей — сильная, выносливая нервная система, у одного из десяти — ослабленная, невыносливая; причем у женщин выносливых чуть больше, чем у мужчин. А есть ли прямая связь между нервным складом и чертами нашей психологии, характера? Ворошиловградцы установили, что жесткой связи тут нет, но есть предрасположенность: у одного нервного склада чаще встречаются одни черты, у другого — другие. Давно замечено, например, что у холериков чаще бывает повышенная смелость — ей помогают их взрывные эмоции. Энергия гнева и возмущения мгновенно вспыхивает в них, сразу же захватывает — по закону доминанты — всю душу и не оставляет щелочки для страха и опасения. При этом многие, наверно, понимают, что смелость — черта не врожденная, и среди холериков часто встречаются и осторожные, и трусливые. Но темперамент может помогать человеку быть более смелым, а может не помогать и даже мешать. Меланхолики, например, меньше предрасположены к безоглядной смелости поступка, и поэтому с первых шагов жизни в них надо бы усиленно растить эту смелость, усиленно опасаться, как бы не заложить в них семена робости и осторожности. У нашей психологии несколько родителей. Кроме врожденного нервного склада — и, пожалуй, сильнее, чем он, — ее лепят наши занятия, взгляды, личный стиль жизни, наша самооценка, отношение к себе… Но нервный темперамент создает тон, манеру всего нашего мироощущения, он больше благоприятствует тем или другим эмоциям; поэтому одни черты характера легче вырастают у одного человеческого типа, другие — у другого. Ворошиловградцы исследовали 1500 десятиклассников, причем их личные качества оценивали педагоги, а нервный тип — психологи. Педагогов просили оценить, как развита у ребят доброта, понимание, дружелюбие, вежливость, рассудительность, исполнительность, трудолюбие, чувство долга, коллективизм, такт, сдержанность, стыд, самокритичность, честность, справедливость, инициативность, энергичность… Оказалось, что у мыслителей (их, как мы помним, седьмая часть, 14,4 процента) ярче, чем у других, развиты черты, которые растут из понимания и доброты. Чем сильнее в человеке аналитическое мышление, тем больше он склонен к рассудительности, сдержанности, самодисциплине, тем больше тянется к справедливости и к скромности, тем он энергичнее и трудолюбивее[88]. Чем слабее у людей левое полушарие, тем слабее у них и рассудительность, но тем сильнее другие черты. У художников (их, как мы помним, 32,5 процента) ярче видны достоинства, которые растут из энергичности, активности. Они инициативнее, общительнее других, они вкладывают в свое дело больше страсти, у них гораздо сильнее работает интуиция. «Равновесы», двуполушарные (их 45 процентов) — это деятели-думатели, мыслители-художники, и они несут в себе плюсы и минусы художников и мыслителей, но, видимо, умеренные. Их нервные силы как бы устремляются не в одно русло, а в оба сразу — образное и логическое. Поэтому у них и нет того напора нервных сил, который идет у художников в образное восприятие и в энергию, а у мыслителей — в логическое мышление и в рассудительность. От этого их взлеты могут быть не такими высокими, но зато и провалы их не так глубоки; впрочем, союз двух полушарий может давать и такие творческие взлеты, на которые ни художник, ни мыслитель не способны. Что касается слабых сторон мыслителя и художника, то они противоположны (нехватка эмоциональности и нехватка мыслительности), и, соединяясь, они как бы ослабляют друг друга. Человек-равновес — это как бы сдвоенный, цельный человек, а мыслитель и художник — как бы его половинки. Сдвоенным людям часто нравится упорядочивать жизнь, организовывать других людей, им легче других удается руководство, управление. Но им часто не хватает деликатности, сдержанности, интуиции, и они могут ранить людей грубостью своего поведения. Все это, конечно же, проявляется и в личной жизни, в семье, и, может быть, в семье даже острее и обнаженнее, чем за ее пределами. У наших нервов есть еще одна важная черта, которая влияет на характер и поведение. Как выяснилось, у большинства людей и возбуждение, и торможение подвижны, то есть легко образуют свои привычки, навыки. Но примерно у трети людей торможение подвижно, а возбуждение малоподвижно; его автоматические привычки растут замедленно, но зато они более стойки и проявляются гораздо резче, рельефнее. К таким людям относятся флегматики и сангвофлегматики, люди смешанного склада. И очень интересно — у них острее, чем у других, проявляется склонность к лидерству, тяга быть ведущим, и опять-таки это очень заметно в личной жизни. Все эти фундаменты человеческой психики — одни из главных фундаментов и человеческой судьбы. От них во многом зависит и рост человеческих способностей, и многие стержни характера, и зигзаги домашней и рабочей судьбы — наши взлеты, провалы, потолки… Чем пассивнее и несамостоятельнее человек, тем больше правят им эти врожденные фундаменты, особенно их слабые стороны. Но чем он самостоятельнее и активнее, тем больше он властвует над устоями своей психики, тем лучше ослабляет их минусы и усиливает плюсы. Учитывает ли все это нынешняя воспитательная система? Увы, она как бы и не знает об этих судьбоносных фундаментах. В семье и в школе, в детсаду и в вузе царит психологическая докультура: всех стригут под одну гребенку — «художников», «мыслителей», «равновесов…» А ведь каждому из них нужны свои системы развития, которые как можно лучше растили бы лучшие стороны каждого и сдерживали худшие. Но таких систем нет, и потому большинство людей развивается искривленно. В них — по законам стихийного роста — усиленно растут именно слабые стороны психики и ослабленно — сильные. Потому-то и нужно сейчас — срочно, аврально — переводить всю педагогику на новые рельсы, вводить в ее устои законы развития наших чувств, ума, способностей, нравственности. Это, кстати, и делают сейчас первые разведчики научно-педагогической революции — Никитины, Амонашвили, Щетинин…Рабы и хозяева темперамента.
Ворошиловградцы нашли и другие очень интересные связи между нервным складом и складом характера. Они установили: хорошие свойства больше развиты у уравновешенных мыслителей (их 7,7 процента)[89]. Они трудолюбивы, исполнительны, у них хорошее чувство меры, сдержанность, такт. Зато они не так отзывчивы и не так общительны, как возбудимые мыслители (их 3,8 процента): те более склонны к сочувствию и отзывчивости, они общительнее, энергичнее, у них лучше самооценка — они лучше думают о себе. Трудолюбия у них меньше, исполнительности и сдержанности тоже, но зато они — генераторы идей, искатели нового. Возбудимый мыслитель часто тяготеет к лидерству — и в делах, и в личных отношениях. Тормозимый мыслитель (их 3,9 процента) — это хороший исполнитель и труженик, спокойный и самоуглубленный; он рассудительнее и сдержаннее, чем возбудимый, вежливее и справедливее его. В семейной жизни он более уживчив, менее конфликтен. Но у него меньше, чем у возбудимого, сочувствия, отзывчивости, меньше общительности, тяги к дружеской близости. Меньше у него и энергичности в делах и чувствах — именно потому, что он тормозимый, что его энергия быстро иссякает. Среди художников больше всего возбудимых (16,7 процента всех людей). Они безудержны в энергии и активности, у них сильная тяга к инициативе, выдумке, сильное стремление к лидерству. Чувство меры у них ослаблено, слабее и такт, долг, дисциплинированность, скромность, чуткость. Меньше у них и общности с другими людьми, возможно, потому, что у них громче сигналы от своего «я», и больше энергии забирает переживание этих сигналов. Эти я-сигналы как бы приглушают сигналы от других людей, делают их менее громкими; в этом, возможно, и состоит повышенная самопогруженность таких людей, вернее, нервная основа такой погруженности. Уравновешенный художник (их 13,2 процента) менее уравновешен, чем мыслитель. Он энергичен, очень активен, высоко ценит себя и похож этим на возбудимого мыслителя. У тормозимого художника (их 2,6 процента) много хороших свойств, которые растут из интуиции, доброты, понимания. Он добросовестнее, исполнительнее, терпеливее других, больше тяготеет к справедливости, порядку. Но он менее активен, инициативен, энергичен, легче попадает в плен к грубости, мстительности, злости. «У меня сын-студент и дочь-старшеклассница. Оба в отца: всегда можно все поручить, любят дело, аккуратные до мелочей. Учатся хорошо (правда, обоим трудно давалась математика), помогают по дому. Многие знакомые завидуют нам с мужем, по у сына и дочери есть, как я называю это, день и ночь. Классный руководитель говорит, что у них очень хорошие хорошие качества и очень плохие — плохие. Оба бывают такие злые, даже злобные, что я теряюсь. Когда рассердятся, просто готовы загрызть. И отец у них такой же. Я убедилась, что это, говоря по-старому, от бога, а по-современному — от генов. И ничего тут нельзя поделать, на роду написано быть такими». (В. Я. Угляй, Харьков, сентябрь, 1982.) Да, часто бывает, что люди растут пленниками своего темперамента, рабами нервного склада, особенно его изъянов. Но обязательности, обреченности здесь нет, есть лишь предрасположенность, а это половина обреченности. Как мы помним, нервный темперамент — только один корень многокорневой личности, и сбудется ли его предрасположенность, зависит от других корней человека — от его воспитания, отношения к себе, от его ума, воли, силы характера. От того, что возьмет верх в этом наборе пружин, и зависит, кем будет человек — командиром своего темперамента или солдатом. Тормозимый художник — странная смесь: его достоинства (добросовестность, понимание, тяга к порядку) как бы взяты от флегматика и сангвиника, а недостатки — (взрывная злобность, грубость) от холерика. Причем и достоинства и недостатки как бы поставлены под увеличительное стекло, и это создает резко двойственный характер. С такими людьми трудно в семье, и им стоило бы усиленно приглушать свои злые струны, а их близким — не играть на этих струнах, поменьше трогать их. Очень частый тип человека — «двуполушарный» мыслитель-художник; возбуждение и торможение у него уравновешены, подвижны, выносливы. По старому делению — это сангвиник. Он быстро приспосабливается к обстановке, хорошо переносит трудности, ему помогает в этом сила и подвижность нервов. Он тяготеет к разносторонней жизни — этому помогает его «сдвоенность», равновесие образных и мыслительных пружин души. Он одинаково пригоден к практической работе и к умственным занятиям, к искусству и к науке. Он не терпит однообразия и узости, с трудом переносит рутинную жизнь, но его тяга к новизне (в том числе к новизне впечатлений) может быть и чрезмерной. Таблицу ворошиловградцев открывает тип № 1 — мыслитель с выносливыми, сильными нервами; возбуждение и торможение у него уравновешены и подвижны. (По старому делению, он тоже подходит под сангвиника.) У него все согласовано и все подчинено мысли. Автоматика нервных процессов у него быстрая, рефлексы-привычки возникают легко, и ему легче быть гибким в мысли и в действии. Его нервные процессы уравновешены, соразмерны, и это помогает ему развивать свои способности, делает более высоким их потолок. Он быстро разбирается в людях, в обстановке, легко сходится с людьми, но легко и расстается: к этому его ведет нехватка эмоциональности, душевности и избыток рациональности, рассудочности. Он враг косности, «новолюб», во всем тяготеет к современному стилю жизни, но иногда делает это неразборчиво. Он может быть хорошим семьянином, хорошим другом, пока это не противоречит его целям. Но он пониженно эмоционален, и поэтому его привязанности могут быть неглубокими и нестойкими, а эгоистичность, наоборот, повышенной.Энергетика темпераментов.
«У меня жена привлекательная, веселая, за словом в карман не лезет. Мне очень приятно бывать с ней в гостях, она выделяется из всех, и все друзья завидуют. Но она вроде бы состоит из двух половинок от разных людей. В хороших условиях она хорошая, а в плохих быстро выходит из строя. Становится злая, язык как жало, просто как подменяют человека. Я долго думал и пришел к выводу, что ее сил хватает на хорошие условия. Ну и чтобы не поддаваться денежным недостачам, материальным трудностям. Но чуть что сверх этого, у нее уже сдают тормоза, и чем дальше, тем больше. У нас двое детей, мальчишки вошли в трудный возраст, и она почти каждый день срывается. Потом жалеет, хотя никогда не признает свою вину. Думает, что уронит себя, если признает, а на деле-то поднимет, а не уронит. Но что же дальше у нас будет? Ведь чем чаще у нее темные нервы играют, тем больше пропадает веселье, больше заедает усталость. Как узнать, поправимое это дело или непоправимое? (Юрий Степанович Л., Городец, Горьковская область, декабрь, 1981.) У каждого темперамента, как мы помним, есть свои сильные и слабые стороны. Нервность усиливает эти слабые стороны и резко меняет человека, даже подменяет его. А каждый срыв вселяет в него недовольство собой, уколы совести и еще больше расшатывает нервы. И часто случается, что не человек командует своим поведением, а его «темные нервы» — враг лучшего в нем и друг худшего. Если человек научится брать в руки свои «темные нервы», а его близкие будут поменьше нервировать его, дело можно поправить. Но помочь здесь могут только долгие усилия, которые как бы создают в человеке пружины сдерживания; это особенно важно тем, у кого ослаблено торможение. А такие усилия облегчаются, если ты знаешь плюсы и минусы своего темперамента, понимаешь, как они влияют на тебя. С древних пор люди искали, как связана какая-нибудь черта человеческой физиологии с какой-нибудь чертой психологии. Аристотель считал, что все толстые добродушны, а тощие — злы, большой рост, по его мнению, выдавал смелость, а проворство движений — искусность в любви. Как будто каждая черта физиологии, да еще взятая отдельно, рождает свою черту психологии, как будто на каждом стебле физической черты сидит свой листок душевной черты. Но свойства нашей физиологии не существуют отдельно друг от друга, они слиты между собой, как струи одного потока. И психологические наши свойства тоже не существуют один на один с физическими, да и друг с другом, они тоже сливаются между собой, как струи одного потока. В человеке все связано со всем, все соединено в невероятно сложную, невероятно многозвенную систему. Нынешняя наука о человеке видит в этой системе пять главных этажей, пять разных уровней, от которых зависит наш облик. Во-первых, это биохимические процессы — все виды обмена веществ, вся гормональная жизнь организма. Во-вторых, это строение тела, внутреннее и внешнее. В-третьих, это работа внутренних органов. В-четвертых, нервная деятельность. В-пятых, психика. И темперамент человека живет не на одном из этих этажей, он возникает на их стыке, рождается их равнодействием (причем, видимо, одни этажи больше влияют на него, а другие меньше). Такой вот системный подход к темпераменту разработали пермские психологи, которыми руководил доктор психологии В. С. Мерлин[90]. Из системного подхода к темпераменту вырос у психологов и энергетический подход. Работа организма, деятельность всех его этажей создает энергию — физическую, нервную, психологическую. Темперамент — это способ распределения энергии, манера ее траты. У разных людей энергия тратится по-разному — равномерно или неравномерно, бурными вихрями или тихими дуновениями; вспышки ее возникают часто или нечасто, по крупным или по мелким поводам, и восстанавливается она быстро, средне, замедленно… Предполагают, что запас энергии примерно одинаков у людей разных темпераментов: темпераменты отличаются не запасом энергии, а тем, как она вырабатывается и тратится. Раньше думали, например, что у «слабого» темперамента энергии меньше, потом выяснили, что это не так. Оказалось, что из-за своей чувствительности он просто тратит ее не переставая, мелкими дозами, и общая трата у него не меньше, чем у того, кто разряжается сильно, но редко. Есть, говоря упрощенно, три измерения энерготрат: возбудимость наших эмоций, чувств-откликов, — то есть частое или редкое их включение; сила этих эмоций, их накал иэнергия торможения эмоций. Темперамент — сплав всех этих трех измерений, их результирующая, плод их взаимосил. Скажем, если у тебя очень возбудимые эмоции и в то же время они пылкие, взрывные, ты холерик. Но тогда у тебя не хватает энергии на торможение этих эмоций — она вся уходит в их частые и сильные вспышки. Так возникает неуравновешенный темперамент. А есть люди, у которых повышены траты на торможение, вернее, на подтормаживание эмоций. Это подтормаживание идет постоянно, ичеловеку не хватает энергии на возбудимость и бурность чувств. Так получается флегматик. В разных условиях наш темперамент проявляет себя по-разному. В спокойной, привычной жизни он сглажен, мало правит нашим поведением. Он как бы выступает в роли пристяжной лошадки, движет нашими чувствами, не выдаваясь, прилаживается к кореннику — к привычной манере держать себя. Но как только обстановка обостряется, темперамент выходит из тени, стремится сам стать коренником, главным двигателем поведения. Темперамент говорит шепотом в средних условиях и кричит во весь голос в крайних. В хороших условиях громче звучат сильные стороны темперамента, в плохих — слабые. У человека есть два вида механизмов поведения — мирные ибоевые. В опасности, когда спасает лишь мгновенный рывок, срабатывают самые природные, самые экстренные пружины — автоматические пружины нервной системы. В долю мига, и без всяких раздумий, они выхватывают человека из-под удара или вздымают его на защиту. Но они видят только на один шаг вперед и потому часто бросают человека из одной ямы в другую, ввергают из одной опасности в худшую. В трудных, неприятных положениях темперамент может быть и спасительным и губительным, и палочкой-выручалочкой и ядром на ногах. Спасает он, когда нами движут его сильные, созидательные стороны — выносливость, решительность, интуиция. Губит, когда включаются слепые силы отталкивания, не созидающие, а разрушающие — раздражение, злость, упрямство… Когда верх берут сильные стороны темперамента, они как бы включают сильные стороныхарактера. Когда действуют слабые стороны темперамента, они будят слабые стороны характера. Психологи установили, что, когда работа нравится людям, темперамент больше помогает им, чем мешает — действуют его достоинства. А когда работа не нравится, темперамент мешает больше, чем помогает — берут верх его недостатки… Так же бывает и в семье. При хороших отношениях людьми правят лучшие стороны их темперамента, и темперамент помогает людям быть лучше и жить друг с другом лучше. Но чем хуже отношения, чем больше ссор и разладов, тем больше чувствами и поведением правят минусы темперамента. А чем чаще включаются минусы темперамента, тем больше они разрастаются и тем больше правят человеком. А так как минусы темперамента всегда включают минусы характера, то и минусы характера растут, крепнут, как мускулы от упражнений. А чем сильнее минусы характера, тем больше они растят минусы темперамента… Так возникает порочный круг несовместимости: чем чаще включаются наши недостатки, тем чаще вспыхивают разлады и недовольства. А чем чаще они вспыхивают, тем острее растут изъяны характера и темперамента. Начинается смертельный водоворот разладов, и он засасывает в себя миллионы симпатий, привязанностей, любовей…Кто ты? Маленький тест.
Психологи и медики работают с небольшим вопросником Г. Айзенка: он позволяет быстро — хотя и приблизительно — понять тип человека, контуры его темперамента и эмоциональных сторон характера. 7–8 минут — и ты получаешь примерное представление о себе. Вот этот вопросник — круг характеров Айзенка[91]. Две оси делят круг на четыре сектора. На вертикальной оси размещаются характеры от неустойчивого (с чертами меланхолическими и холерическими) до устойчивого (с чертами сангвиническими и флегматическими). На горизонтальной оси стоят характеры от интровертного, внутри-центрического (с меланхолическими и флегматическими чертами) до экстравертного, вне-центрического (с чертами холерическими и сангвиническими)[92].
Для каждого характера есть свой набор из 8 психологических черт — упрощенный, примерный.
Холерические, неустойчивые и экстравертные черты: обидчивый, неспокойный, агрессивный, возбудимый, поддающийся настроениям, порывистый, оптимистический, активный.
Сангвинические, устойчивые, экстравертные: общительный, открытый, разговорчивый, доступный, живой, беззаботный, любящий удобства, инициативный.
Флегматические, устойчивые, интровертные: спокойный, размеренный, надежный, целенаправленный, миролюбивый, вдумчивый, старательный, пассивный.
Меланхолические, неустойчивые, интровертные: спокойный, необщительный, сдержанный, пессимистический, трезвый, неподатливый, тревожный, раздражительный.
Вот как они располагаются по кругу.
Как именно узнать, какой ты? Надо найти, какие черты темперамента, разнесенные по секторам, есть у тебя, отметить их, скажем, крестиком и посмотреть, сколько таких черт и от какого темперамента присущи тебе.
Пример: у Светланы Р. оказалось 6 черточек из набора холерических свойств, 8 сангвинических и 1 флегматическая. Значит, по темпераменту она сангво-холерик с преобладанием сангвинических свойств. Кроме того, она экстравертна, и ее характер — сплав устойчивости с неустойчивостью. У другой испытуемой — Маргариты Р-вой — оказалось 6 холерических свойств, одна сангвиническая и 7 меланхолических. Значит, она холеро-меланхолик, биверт, и ее темперамент неустойчив, характер полон неровных, переменчивых черт.
Очень важно, что круг Айзенка не просто раскладывает людей по полочкам четырех темпераментов. Он позволяет видеть в одном и том же человеке черты разных темпераментов, а кроме того, он видит человека еще в двух других измерениях: устойчив или неустойчив его характер и куда он больше сфокусирован — в себя или наружу.
При желании все эти измерения характера можно даже промерить в баллах (хотя, конечно, такой промер, как и все чисто психологические промеры, будет приблизительным). Как это делается? В характер Маргариты Р-вой, как мы помним, входят: 7 из 8 меланхолических, неустойчивых и интровертных черточек; 6 из 8 холерических, неустойчивых и экстравертных; и 1 из 8 сангвинических, устойчивых и экстравертных.
Будем мерить характер по 8-балльной системе, так как в каждой группе у нас 8 черт. Получается, что ее характер чуть больше чем наполовину состоит из меланхолических свойств и чуть меньше чем наполовину — из холерических. То есть он на 4 с небольшим балла меланхоличен и чуть меньше, чем на 4, холеричен; наполовину (на 4 балла) интровертен и наполовину (тоже на 4) экстравертен, то есть полностью бивертен и на 7,5 балла из 8 — то есть почти предельно — неустойчив.
Уже говорилось, что деление на 4 темперамента резко упрощает человеческую сложность. Не случайно Светлана Р. и Маргарита Р-ва не укладываются в рамки одного такого темперамента, сплавляют в себе свойства разных темпераментов. Есть, конечно, и люди чистых темпераментов, но у большинства (если делить людей только на 4 темперамента) темперамент получается смешанным, состоящим из кусочков разных темпераментов.
Впрочем, по более верной классификации (о ней пойдет речь позже) люди смешанных темпераментов на самом деле относятся к одному из самостоятельных темпераментов — более точно найденных: например, сангво-холерик (Светлана Р.) оказывается человеком пылкого темперамента, а холеро-меланхолик (Маргарита Р-ва) — нервического.
А теперь, наверно, можно еще раз вспомнить психолога, который говорил, что психологические свойства людей не влияют на их отношения. Добрый ты или злой, вспыльчивый или сдержанный, внимательный к другим или нет, от всего этого твои отношения с близкими не зависят. В порядке ли твои нервы, волевой ты или безвольный, поверхностны или глубоки твои чувства — и это не влияет на твои отношения.
«Хорошо нам или плохо, зависит не от того, какими свойствами обладает партнер… это полная ерунда!», «У любой женщины есть шанс создать чуть ли не с любым мужчиной счастливую семью». «С любым человеком вы можете создать хорошие, близкие отношения, а можете не создать». Ну-ну…
Постскриптум. Для интересующихся поясню, что у такой позиции была своя почва: кое-какие психологические исследования показывали, что личные свойства людей и в самом деле не влияют на их личные отношения. Правда, вскоре выяснилось, что авторы этих исследований просто-напросто изучали не те свойства.
Они оставляли в стороне как раз те свойства людей, от которых зависит успех или неудача их отношений и их деятельности, а брали такие свойства, от которых зависит лишь способ деятельности. Это, увы, азбучный изъян в подходе, непростительный для профессионалов[93].
Какие же свойства людей помогают, а какие мешают теплым душевным отношениям? Чтобы понять это, психологи изучили много удачных и неудачных пар. Оказалось, что у большинства удачных супругов характеры в общем устойчивы, а сами они доверчивы и покладисты, общительны и искренни, тяготеют к согласию с другими людьми. Несчастливые супруги чаще неуравновешенны и непокладисты, замкнуты и настороженны, они тяготеют не к согласию с близкими, а к обособленности и навязыванию им своих взглядов[94].
На одном полюсе мирные струны характера и поведения — струны «мы», на другом — немирные, я-центрические струны; от них и зависит успех или неудача наших домашних отношений. Но значит ли это, что путь к домашнему ладу открыт только уравновешенным и закрыт неуравновешенным?
Пожалуй, вернее бы сказать, что одним этот путь легче, а другим гораздо труднее. Те, у кого в душе преобладают мирные струны, идут к семейному теплу проще, естественнее, непроизвольнее. А те, у кого сильнее струны разлада, могут достичь семейного тепла, только если победят в себе эти разладные струны, приучат их звучать редко и приглушенно.
Уравновешенные как бы плывут по течению своих характеров, неуравновешенным приходится плыть против течения. Все мы, наверно, понимаем, что борьба с самим собой — самая трудная на свете борьба, и неуравновешенные вынуждены тратить на нее множество сил души. Многим из них победа над собой не дается, зато те, кто достиг домашнего согласия, получают от него гораздо более глубокую — потому что рукотворную — радость…
Две оси делят круг на четыре сектора. На вертикальной оси размещаются характеры от неустойчивого (с чертами меланхолическими и холерическими) до устойчивого (с чертами сангвиническими и флегматическими). На горизонтальной оси стоят характеры от интровертного, внутри-центрического (с меланхолическими и флегматическими чертами) до экстравертного, вне-центрического (с чертами холерическими и сангвиническими)[92].
Для каждого характера есть свой набор из 8 психологических черт — упрощенный, примерный.
Холерические, неустойчивые и экстравертные черты: обидчивый, неспокойный, агрессивный, возбудимый, поддающийся настроениям, порывистый, оптимистический, активный.
Сангвинические, устойчивые, экстравертные: общительный, открытый, разговорчивый, доступный, живой, беззаботный, любящий удобства, инициативный.
Флегматические, устойчивые, интровертные: спокойный, размеренный, надежный, целенаправленный, миролюбивый, вдумчивый, старательный, пассивный.
Меланхолические, неустойчивые, интровертные: спокойный, необщительный, сдержанный, пессимистический, трезвый, неподатливый, тревожный, раздражительный.
Вот как они располагаются по кругу.
Как именно узнать, какой ты? Надо найти, какие черты темперамента, разнесенные по секторам, есть у тебя, отметить их, скажем, крестиком и посмотреть, сколько таких черт и от какого темперамента присущи тебе.
Пример: у Светланы Р. оказалось 6 черточек из набора холерических свойств, 8 сангвинических и 1 флегматическая. Значит, по темпераменту она сангво-холерик с преобладанием сангвинических свойств. Кроме того, она экстравертна, и ее характер — сплав устойчивости с неустойчивостью. У другой испытуемой — Маргариты Р-вой — оказалось 6 холерических свойств, одна сангвиническая и 7 меланхолических. Значит, она холеро-меланхолик, биверт, и ее темперамент неустойчив, характер полон неровных, переменчивых черт.
Очень важно, что круг Айзенка не просто раскладывает людей по полочкам четырех темпераментов. Он позволяет видеть в одном и том же человеке черты разных темпераментов, а кроме того, он видит человека еще в двух других измерениях: устойчив или неустойчив его характер и куда он больше сфокусирован — в себя или наружу.
При желании все эти измерения характера можно даже промерить в баллах (хотя, конечно, такой промер, как и все чисто психологические промеры, будет приблизительным). Как это делается? В характер Маргариты Р-вой, как мы помним, входят: 7 из 8 меланхолических, неустойчивых и интровертных черточек; 6 из 8 холерических, неустойчивых и экстравертных; и 1 из 8 сангвинических, устойчивых и экстравертных.
Будем мерить характер по 8-балльной системе, так как в каждой группе у нас 8 черт. Получается, что ее характер чуть больше чем наполовину состоит из меланхолических свойств и чуть меньше чем наполовину — из холерических. То есть он на 4 с небольшим балла меланхоличен и чуть меньше, чем на 4, холеричен; наполовину (на 4 балла) интровертен и наполовину (тоже на 4) экстравертен, то есть полностью бивертен и на 7,5 балла из 8 — то есть почти предельно — неустойчив.
Уже говорилось, что деление на 4 темперамента резко упрощает человеческую сложность. Не случайно Светлана Р. и Маргарита Р-ва не укладываются в рамки одного такого темперамента, сплавляют в себе свойства разных темпераментов. Есть, конечно, и люди чистых темпераментов, но у большинства (если делить людей только на 4 темперамента) темперамент получается смешанным, состоящим из кусочков разных темпераментов.
Впрочем, по более верной классификации (о ней пойдет речь позже) люди смешанных темпераментов на самом деле относятся к одному из самостоятельных темпераментов — более точно найденных: например, сангво-холерик (Светлана Р.) оказывается человеком пылкого темперамента, а холеро-меланхолик (Маргарита Р-ва) — нервического.
А теперь, наверно, можно еще раз вспомнить психолога, который говорил, что психологические свойства людей не влияют на их отношения. Добрый ты или злой, вспыльчивый или сдержанный, внимательный к другим или нет, от всего этого твои отношения с близкими не зависят. В порядке ли твои нервы, волевой ты или безвольный, поверхностны или глубоки твои чувства — и это не влияет на твои отношения.
«Хорошо нам или плохо, зависит не от того, какими свойствами обладает партнер… это полная ерунда!», «У любой женщины есть шанс создать чуть ли не с любым мужчиной счастливую семью». «С любым человеком вы можете создать хорошие, близкие отношения, а можете не создать». Ну-ну…
Постскриптум. Для интересующихся поясню, что у такой позиции была своя почва: кое-какие психологические исследования показывали, что личные свойства людей и в самом деле не влияют на их личные отношения. Правда, вскоре выяснилось, что авторы этих исследований просто-напросто изучали не те свойства.
Они оставляли в стороне как раз те свойства людей, от которых зависит успех или неудача их отношений и их деятельности, а брали такие свойства, от которых зависит лишь способ деятельности. Это, увы, азбучный изъян в подходе, непростительный для профессионалов[93].
Какие же свойства людей помогают, а какие мешают теплым душевным отношениям? Чтобы понять это, психологи изучили много удачных и неудачных пар. Оказалось, что у большинства удачных супругов характеры в общем устойчивы, а сами они доверчивы и покладисты, общительны и искренни, тяготеют к согласию с другими людьми. Несчастливые супруги чаще неуравновешенны и непокладисты, замкнуты и настороженны, они тяготеют не к согласию с близкими, а к обособленности и навязыванию им своих взглядов[94].
На одном полюсе мирные струны характера и поведения — струны «мы», на другом — немирные, я-центрические струны; от них и зависит успех или неудача наших домашних отношений. Но значит ли это, что путь к домашнему ладу открыт только уравновешенным и закрыт неуравновешенным?
Пожалуй, вернее бы сказать, что одним этот путь легче, а другим гораздо труднее. Те, у кого в душе преобладают мирные струны, идут к семейному теплу проще, естественнее, непроизвольнее. А те, у кого сильнее струны разлада, могут достичь семейного тепла, только если победят в себе эти разладные струны, приучат их звучать редко и приглушенно.
Уравновешенные как бы плывут по течению своих характеров, неуравновешенным приходится плыть против течения. Все мы, наверно, понимаем, что борьба с самим собой — самая трудная на свете борьба, и неуравновешенные вынуждены тратить на нее множество сил души. Многим из них победа над собой не дается, зато те, кто достиг домашнего согласия, получают от него гораздо более глубокую — потому что рукотворную — радость…
Восемь характеров.
Грани характера.
Круг Айзенка позволяет быстро увидеть контуры человека, каркас его темперамента, характера. Но он делит людей только на 4 темперамента, и это его уязвимое место. Чтобы узнать себя глубже, нужно более разветвленное деление на темпераменты и характеры. Такое деление уже давно появилось во французско-голландской «характерологии» (так она называет себя). У нее две основы: во-первых, шкала характеров, которая взята у голландских психологов Хейманса и Вирсмы; во-вторых, подробное исследование каждого характера, детальное описание их совместимости — вклад самих французов[95]. В начале века Хейманс и Вирсма изучили биографии 110 великих людей и исследовали характеры 5000 своих современников. Они выяснили, что у темперамента есть три первичные опоры: возбудимость человеческих ощущений — сильная, слабая, средняя; живость, активность этих ощущений — тоже сильная или слабая; и длительность ощущений, их быстротечность или долгота. (Как мы знаем, у темперамента есть и другие строительные кирпичики, но для бытовых нужд, для того, чтобы понять себя и своих близких, наверно, хватит и этого. К тому же, к этим трем главным измерениям здесь добавляются еще четыре подсобных, и это позволяет опознавать характеры более прицельно и тонко, без грубой упрощенности.)[96] Что такое возбудимость? Это чуткость наших нервов, как бы их слух, способность ощущать «сигналы жизни» — сильные, средние, слабые. Возбудимый откликается на такие шорохи жизни, которых просто не ощущает невозбудимый, его нервы гораздо чувствительнее, и он получает от жизни куда более полноводные потоки впечатлений. Но возбудимость может и обогащать, иослаблять человека: если она очень тонка, она перегружает его, грозит истощить ему нервы. Невозбудимые как бы отгорожены от микроволн жизни, они получают от жизни меньше впечатлений, но зато они независимее от нее, защищеннее. Название «невозбудимые» — условное, на самом деле это люди менее возбудимые, умеренно возбудимые. Активность ощущений — это живость, энергичность, с которой наши нервы откликаются на сигналы жизни. У одного человека они отвечают мощно, сильно, удругого — средне, у третьего — совсем слабо. Долгота или краткость ощущений, длительность нервной реакции — третья опора нервного склада, и она особенно важна в супружестве[97]. У одних людей нервный отклик краткий, энергия нервов разряжается быстро, и ощущения проходят тоже быстро. Такая мгновенность ощущений — свойство детских чувств, и поэтому она, как сказал один французский психолог, «истинный Источник Юности». Но этот источник рождает и короткое терпение, и обманные эмоции, и нестойкость чувств… Есть и люди с долгой нервной реакцией. Событие или впечатление рождает в их нервах долгое эхо, и отклик на события у них как бы удвоенный, он как бы проигрывается в их нервах еще и еще раз… У них все эмоции, все чувства-отклики «долгоиграющие» — грусть, негодование, гнев, раздражение, радость, любопытство… Долгочувствие — мать верности, постоянства, но и стойкой злобы, враждебности, стойкой тяги к обману. Как считают французы, долгота ощущений — самое таинственное измерение характера, самое удивляющее и беспокоящее… Три этих кита характера сочетаются по-разному и создают восемь главных человеческих типов, восемь видов характера[98]. 1. Возбудимый, не активный, кратко ощущающий (В — нА — К) получил название нервического. 2. Возбудимый — не активный — долго ощущающий (В — нА — Д) — это чувствительный. 3. Возбудимый — активный — краткий (В — А—К) — это холерик. 4. Возбудимый — активный — долгий (В — А—Д) — это пылкий. 5. Не возбудимый — активный — краткий (нВ — А—К) — это сангвиник[99]. 6. Не возбудимый — активный — долгий (нВ — А—Д) — флегматик. 7. Не возбудимый — не активный — краткий (нВ — нА — К) — это беспечный. 8. Не возбудимый — не активный — долгий (нВ — нА — Д) — это меланхолик. Как видим, в эту классификацию вошли все четыре старых типа — холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Но каждый из них как бы распочковался на два. Холерик (Возбудимый — Активный — Краткий) как бы получил себе в пару нервического (В — нА — К); сангвиник (нВ — А—К) — беспечного (нВ — нА — К); флегматик (нВ — А—Д) — пылкого (В — А—Д); меланхолик (нВ — нА — Д) — чувствительного (В — нА — Д). В этих парах каждый из них отличается от другого лишь одним свойством — то ли возбудимостью ощущений, то ли их активностью, то ли долготой. Старые типы сузились, и многие, кто привык считать себя сангвиником, меланхоликом, холериком, флегматиком, теперь переходят в другой тип. Скажем, по старому делению в меланхолики попадали и те, кто относится к чувствительным, а то и к нервическим; к сангвиникам относились и нынешние беспечные и пылкие, к холерикам — нервические и пылкие, к флегматикам — и нынешние меланхолики… Новое деление на типы стало гораздо более точным. А кроме того, у каждого из этих типов есть свои разновидности, они зависят от подсобных, дополнительных свойств человека. Таких свойств четыре: поле восприятий — то есть широта охвата у наших ощущений, большая или маленькая; воинственность или миролюбие эмоций; мягкость или жесткость ощущений; их насытимость или ненасытность. Поле восприятия похоже на поле зрения. А это поле бывает как бы широкоэкранное, когда взгляд охватывает пейзаж во всем его размахе, но без деталей, подробностей. И такая же широта поля бывает в психике; сквозь нее текут панорамные потоки впечатлений — сплошные потоки, не разделенные на струи и течения. Но поле восприятия бывает и прожекторным, узким. Оно охватывает меньше пространства, меньше вещей, но зато каждая такая вещь видна в нем ясно, в подробностях. У человека-панорамы образное мышление, наглядное и цельное, преобладает над логическим, дробным; в нем главенствует правое полушарие. Человек-перископ захватывает в каждое восприятие одну вещь или грань вещи, обособляет ее и собирает на ней все силы внимания. У него впечатления более узкие, но как бы «микроскопные», резко детальные. В союзе полушарий у него правит левое — от этого восприятие делается как бы аналитическим, дробным, и, проигрывая в широте, оно выигрывает в глубине. Панорамное восприятие, видимо, чаще бывает у художника (по Павлову), перископное — у мыслителя. Можно предположить, что у мыслителя-художника поле восприятия шире, чем у мыслителя, но уже, чем у художника; зато он видит это поле рельефнее художника, улавливает в нем много деталей, хотя, наверно, меньше, чем мыслитель. К сожалению, такого сдвоенного типа у французских психологов нет, и это явный пробел в их подходе. Воинственность или миролюбие ощущений, их тягу к преобладанию или к уступчивости французские психологи назвали отпечатком Марса или Венеры[100]. Марс тяготеет к соревнованию, соперничеству, борьбе, он всегда готов воевать, отстаивать свои позиции. Ему легче поэтому навязать молчание, чем убедить. Венера тяготеет к согласию, миру, уступчивости. Ее нетрудно убедить, она открыта чужим мыслям, может перенимать чужие позиции. (Очень много такой Венеры было в чеховской Душечке.) Марс любит командовать, Венера — действовать в лад. Марс резок, крут, ему неважно, как о нем думают другие. Венера примирительна, гибка, ей нужна симпатия, привязанность, одобрение. Марс любит риск, Венера — спокойствие. Она, кроме того, любит, чтобы ее утешали и жалели, а Марс этого не терпит. Он тяготеет к независимости, не любит подчиняться. Марс и Венера бывают и у мужчин, и у женщин, и каждый из них двояк, в каждом есть свои плюсы и минусы. Еще одно измерение характера — мягкость или жесткость ощущений. Это не оттенки характера или эмоций, а само их качество, как бы «материал», из которого они сделаны. Мягкий ищет в людях и в жизни теплые стороны, и мягкость — это окраска всей его манеры чувствования. Мягкие чаще всего невозбудимы или возбудимы ниже среднего; возбудимость ведет к взрывным ощущениям, а у мягких они умеренные, тихие. Они чаще встречаются среди сангвиников, флегматиков, меланхоликов, беспечных. Мягкий любит смягченные цвета, задумчивую музыку, спокойную и тихую атмосферу. Твердость, жесткость ощущений — это совсем не грубость или резкость в поведении: это черта не поведения, а. чувствований, нервных реакций. Эти чувствования как бы сделаны из твердого материала, они менее податливы, более крепки, чем у мягкого, у них больше силы, энергии. Твердые ощущения чаще бывают у возбудимых, и твердость нужна им, кроме всего прочего, и для того, чтобы сдерживать, тормозить вспышки своих возбуждений. Твердые чаще встречаются среди нервических, холериков, пылких, чувствительных. Голод ощущений, их насытимость или ненасытность — еще одно измерение характера, и оно показывает, много ли впечатлений нужно человеку, чтобы насытить свою эмоциональную жажду. «Ненасытный», «жадный» может быть и активным, и не активным, хотя чаще он активен. Ненасытность чаще, хотя и не обязательно, бывает у возбудимых. У ощущений насытимого нет такой голодности; сила их умереннее, и они насыщаются быстрее. Насытимые спокойнее, пассивнее ненасытных, у них меньше активность, тяга к переделке и улучшению близких, и их умеренность делает их уживчивее, хотя и тусклее. Кое-какие из этих измерений темперамента и характера перекликаются с нынешними — одни прямо, другие скрытно. Скажем, современные психологи считают, что возбудимость и активность нервов входят в число главных свойств нервного склада. А долгота ощущений, нервных реакций, видно, зависит от энергоемкости нервов. Возможно, краткочувствие бывает у тех, у кого нервная клетка быстро истощает свой запас энергии. К ним, видимо, относятся люди резкого, а то и бурного выброса энергии — холерики, сангвиники, а кроме того, очень чувствительные, очень возбудимые, у которых энергия расходуется беспрерывно — нервические; к ним относятся и беспечные — люди пассивного, тормозимого нервного склада. Долгочувствие бывает у тех, кто менее возбудим, расходует энергию редкими порциями, или у тех, кто тратит энергию не бурными всплесками, а ровным, непрерывно моросящим потоком. К ним относятся меланхолики, флегматики, чувствительные, пылкие. Голод, аппетит ощущений тоже, видимо, зависит от энергоемкости нервов. Возможно, этот аппетит больше у тех, кто вырабатывает много нервной энергии или не тратит ее по мелочам, — то есть у средне- или маловозбудимых, у людей с управляемой возбудимостью. Если это так, то ненасытные чаще встречаются среди чувствительных, пылких, флегматиков, сангвиников; среди них, конечно, есть и насытимые, но, пожалуй, ненасытных больше. Зато насытимые, с меньшим аппетитом нервов, наверно, чаще встречаются у возбудимых кратких, причем очень возбудимых, очень чувствительных — и у тех невозбудимых, у которых очень тормозимые нервы. Это холерик, нервический — и меланхолик, беспечный; среди них, конечно, есть и ненасытные, но их, очевидно, меньше.Несовместимые люди или несовместимые недостатки?
Итак, у нас есть 3 главных измерения характера и 4 подсобных. В их подборе, конечно, есть уязвимые места: очень важные опорные свойства нервов сюда не вошли (скажем, торможение, да и другие первичные черты нервной системы, открытые отечественными психологами); кое-какие дополнительные измерения почти дублируют друг друга (скажем, «Марс» и «Венера» — это почти близнец мягкости или твердости ощущений, вернее, перевод этой мягкости-твердости в область действия, поведения). Но и эта несовершенная «линейка характеров», это уязвимое мерило типов может хорошо помогать в обиходе. «У нас с мужем в общем хорошие отношения, но мы часто ссоримся, особенно из-за воспитания детей. Он хороший человек, но сложный и чересчур требовательный. Обо всем хочет иметь свое мнение, старается всех улучшить, и себя, и меня, и детей. В этом у нас бывают частые и очень болезненные расхождения. Он слишком жестко гнет свою линию, не жалеет себя и нас, чтобы нам, как он говорит, было лучше. Делает хуже, чтобы было лучше! И я вынуждена все время обороняться от него, отстаивать свой покой, детей. Стычки у нас все чаще, копится недовольство друг другом, меня меньше влечет к нему, его ко мне. Дошло до того, что я чувствую себя спокойной, только когда он на работе или в командировке. Когда он дома, мы всегда можем столкнуться, как кремень с огнивом. Он хороший человек, но не гибкий, я тоже неплохая, только усталая, нервы сдают. А если говорить честно, в последние годы оба становимся хуже, и мне кажется, что это мы сами ухудшаем друг друга. Может быть, у нас одинаковые недостатки? Он упорный, я упрямая, и получается — коса на камень. Все чаще думаю: а не это ли называется «не сошлись характерами?» И может быть, из-за этого нам суждено все больше портить себе жизнь и ухудшать друг друга? Два раза предлагала ему разойтись, а он возмущался. Я, говорит, тебя люблю и наши характеры сходятся, все дело в твоем упрямстве и неуступчивости. Возможно ли установить, сходятся или не сходятся наши характеры?» (Злата О., Ленинград, февраль, 1982.) Чтобы выяснить это, Злата О. и ее муж заполнили анкету французских психологов. Если следить за их ответами (они приведены на следующих страницах), можно увидеть, как из этих ответов шаг за шагом складывается рельеф их характеров. Два предварительных замечания. Анкета выясняет, как именно развиты в человеке эмоциональные устои его характера; она измеряет их по 10-балльной шкале, но на главные устои идет по 10 вопросов, на добавочные — по 5. Всего в анкете 50 вопросов, и на каждый — три варианта ответа: они выясняют, сильно, средне или слабо развита в вас каждая черта. Думая над ответом, сначала решайте, какой из трех вариантов выбрать, а потом — какой цифрой выразить свой ответ: той, что намечена в анкете, или другой. В анкете баллы поставлены приблизительно, но они более или менее верно позволяют уловить, как развиты ваши черты. Как расшифровывают анкету? Сначала надо ответить на все вопросы, а потом начинать подсчет. Делается это просто. Надо сложить между собой все цифры, которые мы поставили, отвечая на вопросы: их по 10 на каждую основную черту характера и по 5 на добавочную. Число, которое получится, надо разделить на 10 (для основных черт) или на 5 (для добавочных) — выйдет сила развития каждой черты, ее степень. Скажем, ваша возбудимость дает среднюю цифру 7 — это явно возбудимый характер. А активность у вас стоит на уровне 3 — получается не активный склад характера. Так все черты характера — в их цифровом выражении — складываются в своего рода «формулу характера». Она, конечно, приблизительна, потому что далеко не всегда мы можем точно ответить на вопросы анкеты. Среди них есть трудные, и люди, которые не привыкли к самоанализу, могут завышать какие-то свои свойства, занижать другие. А точность (хотя бы примерная) тут очень важна, потому и отвечать на вопросы надо бы, ничего не стараясь украсить или ухудшить. Речь идет не о наших достоинствах и недостатках, хотя формулировки некоторых вопросов могут ввести в заблуждение. Речь идет именно о чертах нервного склада и характера, которые проявляются в поведении; а эти черты могут быть в одних условиях достоинством, в другом — недостатком. Анкета. Какой у вас характер?
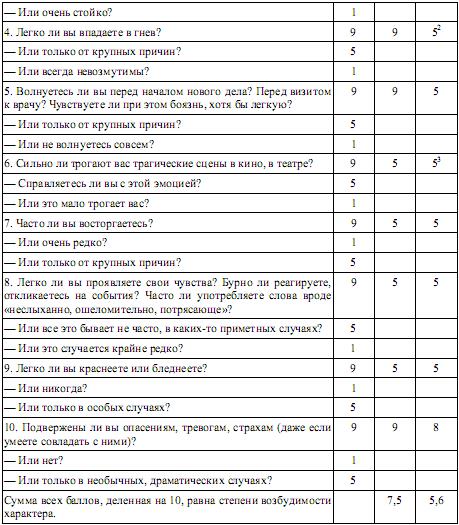 1) Жена выбрала цифру 9, а муж 7. Значит, на нее почти всегда неприятно действует неожиданный шум, вообще неожиданности. Муж волнуется реже, но выше среднего (среднее — 5 баллов).
2) Начинается заметная разница в их настроениях, ощущениях. Ее настроение очень изменчиво (9), и это заставляет заподозрить, что она из краткоощущающих. То, что она легко впадает в гнев и в волнение (и тут и там 9), подтверждает ее ответ на предыдущие вопросы. Муж волнуется гораздо меньше, его настроения куда устойчивее, и, наверно, он относится к долгоощущающим. Впрочем, немного погодя мы увидим, так ли это.
3) Начинается серия одинаковых ответов. Обычно более возбудимый должен и здесь давать более высокие цифры. Но вполне возможно, что жена приучила себя к сдержанности, создала себе привычные тормоза на кое-какие эмоции. А может быть, так проявляется защитное приглушение чувствований, которое так часто бывает у современного человека.
Оба они возбудимы, но у мужа возбудимость средняя, умеренная, а у жены — сильная, высокая.
II. Активность ощущений
1) Жена выбрала цифру 9, а муж 7. Значит, на нее почти всегда неприятно действует неожиданный шум, вообще неожиданности. Муж волнуется реже, но выше среднего (среднее — 5 баллов).
2) Начинается заметная разница в их настроениях, ощущениях. Ее настроение очень изменчиво (9), и это заставляет заподозрить, что она из краткоощущающих. То, что она легко впадает в гнев и в волнение (и тут и там 9), подтверждает ее ответ на предыдущие вопросы. Муж волнуется гораздо меньше, его настроения куда устойчивее, и, наверно, он относится к долгоощущающим. Впрочем, немного погодя мы увидим, так ли это.
3) Начинается серия одинаковых ответов. Обычно более возбудимый должен и здесь давать более высокие цифры. Но вполне возможно, что жена приучила себя к сдержанности, создала себе привычные тормоза на кое-какие эмоции. А может быть, так проявляется защитное приглушение чувствований, которое так часто бывает у современного человека.
Оба они возбудимы, но у мужа возбудимость средняя, умеренная, а у жены — сильная, высокая.
II. Активность ощущений

 1) Как видим, у жены среднее влечение к делам, к работе, у мужа — высокое. Это может зависеть и от активности их ощущений, а может, и от самой работы: мужу его работа может очень нравиться, жене — нет. Впрочем, в первой тройке вопросов только один касается профессий, а остальные измеряют просто аппетит к делу. То, что ответы на вопросы у каждого из них близки, позволяет предположить, что они верно говорят о степени своей активности.
2) Разница в их активности с этого вопроса начинает все больше нарастать. Активность промеряется здесь по самым разным — и самым типичным — положениям, и это дает верную ее картину.
Жена, таким образом, не активная по характеру — нА (3,6), муж — активен выше среднего — А (7) (но не сверхактивен, как можно бы понять из ее письма). Здесь у их эмоционального отношения к жизни, у их мироощущения есть заметная разница. Но эта разница двояка: она может быть и камнем преткновения, и соединительным мостиком; она может отдалять людей, но с такой же силой может и сближать их — по закону дополнения. Все зависит здесь от того, что правит их отношениями — тяга к ладу, сближению или к разладу, отдалению.
III. Длительность ощущений
1) Как видим, у жены среднее влечение к делам, к работе, у мужа — высокое. Это может зависеть и от активности их ощущений, а может, и от самой работы: мужу его работа может очень нравиться, жене — нет. Впрочем, в первой тройке вопросов только один касается профессий, а остальные измеряют просто аппетит к делу. То, что ответы на вопросы у каждого из них близки, позволяет предположить, что они верно говорят о степени своей активности.
2) Разница в их активности с этого вопроса начинает все больше нарастать. Активность промеряется здесь по самым разным — и самым типичным — положениям, и это дает верную ее картину.
Жена, таким образом, не активная по характеру — нА (3,6), муж — активен выше среднего — А (7) (но не сверхактивен, как можно бы понять из ее письма). Здесь у их эмоционального отношения к жизни, у их мироощущения есть заметная разница. Но эта разница двояка: она может быть и камнем преткновения, и соединительным мостиком; она может отдалять людей, но с такой же силой может и сближать их — по закону дополнения. Все зависит здесь от того, что правит их отношениями — тяга к ладу, сближению или к разладу, отдалению.
III. Длительность ощущений
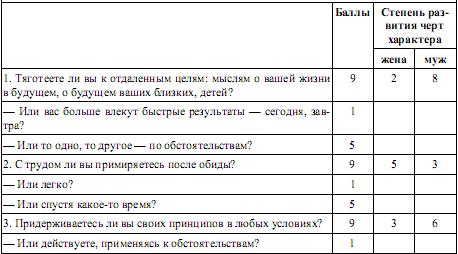
 1) Как видим, предположение, что у жены более короткие ощущения, а у мужа более долгие, сбывается.
2) Обратите внимание: муж чаще ставит свою цифру, которая отличается от типовой. Это может быть и чисто мужское стремление к точности, а может говорить и о том, что у него более узкое поле восприятий, чем у жены, и от этого более сильная тяга к аналитической точности (может быть, даже до педантизма).
Жена относится к людям кратких, быстрых ощущений, причем средних по краткости К (3,5); муж — к людям долгих ощущений, тоже средних Д (6,4). И эта разница в самом строении ощущений опять-таки может и обогащать их, дополнять, но может и ставить между ними барьеры непонимания.
IV. Широта поля восприятий
1) Как видим, предположение, что у жены более короткие ощущения, а у мужа более долгие, сбывается.
2) Обратите внимание: муж чаще ставит свою цифру, которая отличается от типовой. Это может быть и чисто мужское стремление к точности, а может говорить и о том, что у него более узкое поле восприятий, чем у жены, и от этого более сильная тяга к аналитической точности (может быть, даже до педантизма).
Жена относится к людям кратких, быстрых ощущений, причем средних по краткости К (3,5); муж — к людям долгих ощущений, тоже средних Д (6,4). И эта разница в самом строении ощущений опять-таки может и обогащать их, дополнять, но может и ставить между ними барьеры непонимания.
IV. Широта поля восприятий
 У жены поле восприятий широкое, среднее по широте Ш (6,5), у мужа — узкое, среднее по узости У (3,3). У жены перевес образного, чувственного подхода к жизни, у мужа — перевес логического, аналитического подхода. Эти подходы тоже могут дополнять друг друга и обогащать их как пару, а могут и вести к разногласиям, непониманию. Все зависит от того, кто больше правит их отношениями — Марс или Венера.
V. Марс (тяга к самоутверждению, соперничеству) или Венера (тяга к согласию)
У жены поле восприятий широкое, среднее по широте Ш (6,5), у мужа — узкое, среднее по узости У (3,3). У жены перевес образного, чувственного подхода к жизни, у мужа — перевес логического, аналитического подхода. Эти подходы тоже могут дополнять друг друга и обогащать их как пару, а могут и вести к разногласиям, непониманию. Все зависит от того, кто больше правит их отношениями — Марс или Венера.
V. Марс (тяга к самоутверждению, соперничеству) или Венера (тяга к согласию)
 И жена, и муж — Марсы, у обоих тяга к самоутверждению пересиливает тягу к согласию. Причем у мужа Марс средний (5,4), для мужчин в общем-то очень умеренный. У жены Марс высокий (7,6), слишком высокий для женщины.
Впрочем, в действии, на деле сила этих черт всегда меняется, всегда зависит от других черт характера. Активность ощущений у мужа должна увеличивать его Марс, неактивность у жены — должна ослаблять ее Марс. Влияют на Марс и все другие дополнительные свойства.
VI. Мягкость или твердость ощущений
И жена, и муж — Марсы, у обоих тяга к самоутверждению пересиливает тягу к согласию. Причем у мужа Марс средний (5,4), для мужчин в общем-то очень умеренный. У жены Марс высокий (7,6), слишком высокий для женщины.
Впрочем, в действии, на деле сила этих черт всегда меняется, всегда зависит от других черт характера. Активность ощущений у мужа должна увеличивать его Марс, неактивность у жены — должна ослаблять ее Марс. Влияют на Марс и все другие дополнительные свойства.
VI. Мягкость или твердость ощущений
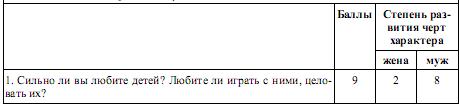
 У жены ощущения твердые, жестковатые, ее мироощущению не хватает мягкости, ее эмоциям недостает глубинной женственности, теплоты. Это усиливает ее Марс, побуждает его чаще вступать в действие. Видимо, недостаточная для женщины мягкость ощущений, повышенная их жесткость — это и есть одна из причин, по которой ее Марс так высок.
Твердость ощущений — это чаще мужское свойство, и, когда оно есть у женщины, ей стоит смягчать его, сдерживать сознательными усилиями. Но главное — развивать свои мягкие, ласковые, нежные ощущения — их обычно дает любовь, счастливое материнство, особенно юное, с маленькими детьми. Мягкость или жесткость ощущений отчасти врожденна, отчасти воспитываема, и ее можно, видимо, хотя бы отчасти менять.
У мужа эмоции мягки, причем мягкость их выше средней, почти высокая (7), и это причина того, почему его Марс невелик. Мягкость ощущений помогает уживчивости, и возможно, что сниженный Марс мужа создает меньше конфликтов, чем повышенный Марс жены.
Впрочем, речь идет сейчас не о поведении мужа, а только об одной черте его характера. Поведением движут и другие пружины, и, возможно, они делают его поведение более конфликтным, раздорным.
VII. Аппетит ощущений, их насытимость или ненасытность
У жены ощущения твердые, жестковатые, ее мироощущению не хватает мягкости, ее эмоциям недостает глубинной женственности, теплоты. Это усиливает ее Марс, побуждает его чаще вступать в действие. Видимо, недостаточная для женщины мягкость ощущений, повышенная их жесткость — это и есть одна из причин, по которой ее Марс так высок.
Твердость ощущений — это чаще мужское свойство, и, когда оно есть у женщины, ей стоит смягчать его, сдерживать сознательными усилиями. Но главное — развивать свои мягкие, ласковые, нежные ощущения — их обычно дает любовь, счастливое материнство, особенно юное, с маленькими детьми. Мягкость или жесткость ощущений отчасти врожденна, отчасти воспитываема, и ее можно, видимо, хотя бы отчасти менять.
У мужа эмоции мягки, причем мягкость их выше средней, почти высокая (7), и это причина того, почему его Марс невелик. Мягкость ощущений помогает уживчивости, и возможно, что сниженный Марс мужа создает меньше конфликтов, чем повышенный Марс жены.
Впрочем, речь идет сейчас не о поведении мужа, а только об одной черте его характера. Поведением движут и другие пружины, и, возможно, они делают его поведение более конфликтным, раздорным.
VII. Аппетит ощущений, их насытимость или ненасытность
 *) Выше 5 баллов — ненасытность, ниже — насытимость.
У мужа ненасытность ощущений гораздо выше средней, почти высокая (7,2), и это усиливает и плюсы, и минусы его характера. Сплав с повышенной активностью (7) может увеличивать его упорство, о котором писала жена, может делать из его настойчивости бульдожью хватку. Марс от этого очень усиливается, и это тоже «вклад в разлад».
У жены ощущения насыщаются легче, и это ослабляет, смягчает ее минусы, но и плюсы тоже. Видимо, быстрая насытимость как-то связана с краткочувствием. Возможно, ощущения коротки от того, что быстро насыщаются, но может быть, и наоборот: они быстро насыщаются потому, что коротки. Во всяком случае, ее Марс от этого проявляет себя меньше.
*) Выше 5 баллов — ненасытность, ниже — насытимость.
У мужа ненасытность ощущений гораздо выше средней, почти высокая (7,2), и это усиливает и плюсы, и минусы его характера. Сплав с повышенной активностью (7) может увеличивать его упорство, о котором писала жена, может делать из его настойчивости бульдожью хватку. Марс от этого очень усиливается, и это тоже «вклад в разлад».
У жены ощущения насыщаются легче, и это ослабляет, смягчает ее минусы, но и плюсы тоже. Видимо, быстрая насытимость как-то связана с краткочувствием. Возможно, ощущения коротки от того, что быстро насыщаются, но может быть, и наоборот: они быстро насыщаются потому, что коротки. Во всяком случае, ее Марс от этого проявляет себя меньше.
«Формула характера». Как влияют друг на друга его устои.
Чтобы собрать в картину все эти штрихи, их надо свести в «формулу характера». Ощущения у жены возбудимые, не активные, краткие: это нервический характер. У нее широкое поле восприятия, высокий Марс, ее ощущения жестки ибыстро насыщаются. (Ее формула: В 7,5 — нА 3,4 — К 3,4; широта поля 6,5; Марс 7,6; твердость ощущений 4; насытимость 3,4.) У мужа ощущения возбудимые, активные, долгие: это характер пылкий. У него узкое поле восприятия, невысокий Марс, ощущения мягкие и ненасытные. (Его формула: В 5,6 — А 7 — Д 6,5; узость поля 3,4; Марс 5,4; мягкость ощущений 7; ненасытность — 7,2.) Все устои характера живут у людей в сплаве между собой, все они усиливают или ослабляют друг друга, и их надо всегда соразмерять друг с другом. Сильно влияет на характер самая неясная из его черт — долгота или краткость ощущений. У нервического и у холерика ощущения краткие, и это резко усиливает их возбудимость. А долгота ощущений, наоборот, снижает возбудимость: поэтому у пылкого и у чувствительного — людей долгих ощущений — возбудимость понижена. Злата О. очень возбудима, и значит, очень чувствительна, уязвима. Ее ранимость, видимо, усиливают ее сдавшие нервы, о которых она говорит в письме: они как бы удваивают нормальную возбудимость, добавляют к ней еще и болезненную возбудимость. И наверно, в отношениях с ней близких (детей, мужа) нужна повышенная — лечебная — бережность. Но и ей надо бы заняться своими нервами: обычно они очень отравляют жизнь и самого человека, и его близких. (Практический совет: читая эти главы, многим из нас стоило бы примерить к себе рассказ о том, как влияют на характер слабые стороны нервического темперамента — его ранимость и раздражительность, короткое терпение и избыток тягостных эмоций. Все это не только врожденные дары «нервной природы», но и приобретенные дары расшатанных нервов. Нервность как бы встраивает во многих людей пружины чужого темперамента — делает большинство из нас отчасти нервическими. Ипотому понять слабые стороны нервического темперамента — значит понять и себя, понять те чуждые себе двигатели, которые вселяет в человека нервность.) У мужа — это обычно бывает у пылких — долгота ощущений уменьшает возбудимость, и от этого ему легче справляться со своими недостатками. Похоже влияет долгота и краткость ощущений и на людей невозбудимых[101]. Краткость ощущений добавляет возбудимости сангвинику и беспечному, делает их полувозбудимыми. А долгота ощущений убавляет возбудимость у флегматика и меланхолика, делает их еще менее возбудимыми. Активность, энергичность ощущений усиливает все активные, деятельные точки характера — долгочувствие, узость восприятий, Марс, твердость эмоций, их ненасытность. Неактивность, наоборот, смягчает их, уменьшает. Активность эмоций у мужа делает более опасным его Марс, сужает поле его восприятий, увеличивает долгочувствие и ненасытность его ощущений — то есть усиливает все нервные основы его упорства. Неактивность ощущений у жены снижает вред ее Марса, притупляет острые углы ее характера. Широта восприятий (а у нее они широкие) смягчает характер, снижает напряжение в нем. Узость восприятий, наоборот, заостряет склад характера, делает его более жестким: так, видимо, происходит у мужа. Примерно так же действуют на характеры Венера и Марс, мягкость и твердость ощущений, насытимость и ненасытность эмоций. Венера, мягкость и насытимость ощущений смягчают острые углы характера, делают умеренными его главные опоры. Ненасытность ощущений, их твердость, Марс напрягают конструкции характера, делают их жесткими, развивают в них острые углы. У жены, как мы помним, ощущения быстро насытимые, и это смягчает ее характер. Зато ее сильный Марс и твердые эмоции усиливают минусы ее характера, неуживчивость поведения. У него Марс в общем слаб (5,4), и, значит, в эмоциях и в поступках есть немало места для Венеры (4,6) — гораздо больше, чем у нее. Его Венере помогает и мягкость его ощущений, — она тоже смягчает его резкие струны. Но ненасытность его ощущений больше, видимо, помогает его Марсу, чем Венере, и это тоже заостряет грани его характера. В характере у каждого из них есть струны, которые звучат в согласии друг с другом, а есть — в несогласии, разнобое. У жены возбудимость, краткость и неактивность ощущений действуют в союзе с широким полем восприятия и с легкой насыщаемостью ее чувств. Они создают потоки мирных эмоций, яркую игру ощущений, рождают переливы радужных чувств. Но неактивность ее ощущений враждует с их возбудимостью: ощущение часто не выливается в действие, не находит себе выхода — и замыкается в себе, рождает множество «неотреагированных», не вышедших наружу эмоциональных вспышек. Такой разлад между возбудимостью ощущений и их неактивностью пронизывает само ядро характера, так как это разлад между главными измерениями характера. От него заметно страдают нервические и чувствительные, у которых этот разлад заложен в основы нервного устройства. У Златы О. в этот конфликт вклинивается ее Марс, которому помогает твердость ее ощущений: они усиливают ее воинственные эмоции, обостряют в ней борьбу двух лагерей. Ее характер, видимо, полон таких эмоциональных противоречий, и ей стоило бы всеми силами помогать своему «лагерю мира» (главному в ней) умиротворять, вводить в берега лагерь Марса, который выхлестнулся из русла. Характер мужа, видимо, менее противоречив. Его главные моторы (возбудимость, активность, долгочувствие) работают дружно, без разладов, и это рождает потоки жизнетворных, жизнерадостных чувств. Им способствует и мягкость его ощущений, и слабый Марс, который помогает им тем, что мало мешает и дает дорогу Венере. В том же ключе могут действовать и узкое поле ощущений, и их ненасытимость, но только когда их ведет Венера. Когда узость поля в союзе с ненасытностью ощущений попадает под знамя Марса, они вносят в характер разлад и противоборство. Активность ощущений тоже переходит тогда на их сторону, и быстро разрастаются струны враждебности, воинского напора, тарана. Возможно, так это и происходит в муже Златы О. Но его характер цельнее, и ему легче собрать его воедино, поставить под знамя согласия. Ее характер раздробленнее, в нем больше, чем у него, действуют силы разбегания, и ей труднее собрать себя, сладить между собой раздружившиеся струны души.Кто такие синтоны и дистоны.
Характер — это всегда равнодействие всех его устоев, их результирующая. Главное в нем — согласие или несогласие этих устоев между собой, их лад или разлад; от него зависит весь характер человека, все его отношение к жизни и к себе — эмоциональное приятие, полуприятие, неприятие. Сочетание «мирных» свойств несет в себе гармонию, сочетание «военных» — напряженность, разлады с собой, с другими людьми. Такие сочетания создают как бы тон, окраску, манеру, в которой наши эмоции относятся к жизни: тягу этих эмоций к жизни или отстраненность от нее, подспудный лад с ней или разлад. Психолог Роже Мукьелли предложил добавить к измерениям характера еще одно — «Юпитер-Сатурн», «открытость — замкнутость». (Юпитер — у греков Зевс — был очень открыт и общителен, а его отец Сатурн — у греков Крон, Хронос — замкнут.) Но, по мнению других психологов, открытость или закрытость — это не особое измерение характера, а его стержень, вывод из всех частных измерений. Это и есть эмоциональный тон характера, результирующая всех его черт. Психологи, как уже говорилось, называют этот тон «синтония» — «созвучие», или «дистония» — «разнозвучие» с жизнью. Юпитер, открытость — это синтония, эмоциональное согласие с собой и с миром, а Сатурн, замкнутость — дистония, разлады с собой и с жизнью[102]. Среди созвучных, синтонов, есть полные и неполные. У полных царит двойное согласие — с собой и с миром: черты их характера, во-первых, согласуются между собой, а во-вторых, они настроены на согласие с миром. Таких людей называют сверхсинтонами, сверхунисонными. Это чемпионы уживчивости, и совместимость с ними может быть самой полной, самой глубокой. Но, к сожалению, их мало, они встречаются редко. Гораздо больше среди нас просто синтонов, созвучных: у них гармония не двойная, а половинная — внешняя или внутренняя: она или преобладает внутри характера, или правит их эмоциональным отношением к жизни. Синтонами часто бывают сангвиники, а также беспечные (среди них, например, был знаменитый французский баснописец Лафонтен). Если их ощущения мягки и быстро насытимы, тогда их тяга к гармонии усиливается. Если они из Венер, да еще с широким полем восприятий, они становятся сверхсинтонами. Но если в них берет верх Марс и у них узкое поле восприятий, то их открытость, созвучность будет умеренной. Среди несозвучных дистонов (то есть среди интровертов, обращенных в себя) тоже есть двойные и обычные. У сверхдистонов двойной эмоциональный разлад: и внутри себя, и между собой и миром. У простых дистонов разлад или внутри себя, или между собой и миром. Несозвучие, необщительность усиливается, если у человека твердые и ненасытные ощущения. А если он, кроме того, еще и Марс с узким полем восприятия, то он может стать двойным дистоном. Но если он Венера (или Марс, но с широким полем), если у него мягкие ощущения, тогда его разлад с собой и со средой меньше, мягче. Таким образом, человека-Сатурна, «несозвучного», рождает разлад между возбудимостью и неактивностью ощущений, а также узкое поле восприятий, твердость эмоций, их ненасытность и воинственность. А человека-Юпитера, созвучного и общительного, рождает гармония возбудимости и активности ощущений, среднее или широкое поле ощущений, а также их мягкость, насытимость и уступчивость. Современный человек, как никогда, полон эмоциональных разладов — и с новыми условиями жизни, и с собой. Пожалуй, сегодня среди нас больше всего или дистонов, несозвучных, или людей-гибридов, сплавов созвучного и несозвучного. Такие люди и согласны, и разногласны с собой и с жизнью, два эти настроя перемешиваются в них и создают двоякое эмоциональное отношение к себе и к миру. Это как бы «синто-дистоны», «двутонные» и их ощущениями правят две полярные силы — то попеременно, то вместе. Среди младенцев, малышей, детей — большинство созвучных, но с каждой ступенькой возраста это большинство становится на ступень меньше. В подростках происходит как бы взрыв «разнозвучия», дистонии, в большинство из них вторгается разлад с собой и с жизнью. У одних этот разлад мельче, неопаснее, у других глубже, больнее, но повальная эпидемия «разнозвучия», дистонии — это детская болезнь характера, вернее, болезнь расставания с детством, душевного взросления. В юности кризис дистонного разлада может пройти, но струны дистонии остаются, видимо, в большинстве людей. В созвучных (синтонах, экстравертах) их меньше, и они звучат редко, в «синто-дистонах» (бивертах, двуцентристах) их больше, и они звучат часто, в дистонах (несозвучных, интровертах) очень часто. Главный породитель дистонии — это наши разлады с собой, и чем они больше, чем хуже человек относится к себе, тем хуже делается и его эмоциональное отношение к жизни, к окружающим. Чем больше во взрослом человеке самоуважения, тем светлее его ощущение жизни, его эмоциональное отношение к окружающим. Чем меньше в человеке самоуважения, тем темнее, ухудшительнее эмоциональные призмы, сквозь которые он видит и себя, и окружающих. Сегодня эти темные призмы есть, наверно, в большинстве людей: нынешняя повальная нервозность резко портит наше душевное самоощущение, вселяет в нас червоточину неполноценности — вживляет в душу пружины дистонии. Но вернемся еще раз к анкете. Черты дистона, судя по всему, есть и в жене, и в муже. В жене их больше, и они таятся не только в ее нервах, но и в самой сердцевине ее характера. Их рождает, как мы помним, неактивность ее эмоций: она не ладит с их возбудимостью, не дает изливаться наружу,выветриваться ее тягостным эмоциям. Разладам в ней помогает и ее Марс, и твердость ее ощущений. Воинственность этих ощущений обращается и против нее самой: она может резко, жестко осуждать себя, и это еще больше усиливает в ней биение струн разлада. Это касается, видимо, всех характеров — на всех нас похоже действует активность или неактивность ощущений, миролюбие или воинственность эмоций, согласие или несогласие струн характера. У мужа дистонные струны залегают не так глубоко. У пылких основные пружины характера сгармонированы лучше, чем у нервических. Активность ощущений позволяет им выводить наружу тягостные эмоции, избывать их. Правда, долгочувствие и узкое поле восприятий усиливают эти тягостные эмоции — тут и лежит главный источник его дистонии. А когда долгочувствием и узостью восприятий правит Марс, его внутренние разлады разрастаются и струны дистонии звенят громко. В таких случаях активность и ненасытность ощущений обращается у пылкого против себя и близких, и он становится очень опасным, очень неуживчивым. У мужа, видимо, этого пока не случилось. Он, судя по всему, «синто-дистон», «созвучно-разладный», причем с перевесом струн согласия. В его отношении к себе эти струны заметно преобладают — тут он куда больше синтон, чем дистон. Струны разлада громче звучат в его отношении к жизни, к другим людям, но и тут они не пересиливают струн согласия. Это видно по многим его ответам на анкету: и по тому, что гнев бывает у него только от крупных причин, и по тому, что он более или менее легко мирится с людьми после обиды, а главное — по тому, что он постоянен в дружбе, в симпатиях, доверчив к людям, любит детей, ласку. Судя по всему, дистония у мужа, его разладность — это часть его активного стремления улучшать жизнь, людей, себя. На струнах его дистонии чаще, видимо, разыгрывается созидательная, строительная музыка. Правда, судя по письму жены, он часто идет здесь напролом, «делает хуже, чтобы было лучше». Тогда его созидательные по своей цели поступки делаются разрушительными — они не улучшают близких, а ухудшают их, портят отношения, характеры. Муж не умеет находить добрые ключи к своим близким, а жесткие, силовые ключи (голос Марса, воинственности) тут же порождают в близких сопротивление, будят в них своих Марсов. Это, кстати, касается всех характеров: силовой напор почти всегда рождает в душе отпор, портит отношения — это ключевой закон сегодняшней семьи. У жены дистония выступает под знаменем неактивности, и от этого она, видимо, чаще бывает оборонительной, защитной, пассивной. Недаром Злата О. называет себя упрямой, а мужа упорным. Упрямство — это именно оборонительное упорство, твердость в разрушении чужих усилий, защита от них; а упорство — это твердость в создании чего-то своего, а не в разрушении чужого. Жене стоило бы, наверно, переводить свою дистонию на созидательные рельсы: тогда она перестанет быть разрушительной, то есть перестанет быть источником одних только тягостных, неприятных ощущений. Став инструментом «созидания», то есть улучшения себя, своих близких, своей жизни, ее дистония, «разнотонность», будет приносить больше приятных ощущений, чем неприятных, будет больше радовать душу, чем угнетать… Но для этого ей стоило бы отказаться от своего разрушительного упрямства или хотя бы умерить его. Тогда и мужу незачем будет пускать в ход силовые струны своего Марса, и ноты разлада в их отношениях будут звучать слабее, а ноты согласия — сильнее.Притяжение полюсов.
Многие, наверно, заметили, что сквозь отношения этой пары все время просвечивают общие законы личных отношений — законы, которые правят всеми темпераментами. Пожалуй, можно бы даже сказать, что в пылком и нервическом лучше всего видны эти общие законы. По-моему, пылкий — это самый мужской из всех темпераментов, а нервический — самый женский: они больше всего сгущают в себе черточки сегодняшних мужчин и женщин. В пылком темпераменте полнее, чем в других, таится модель мужского поведения — его сильных и слабых сторон. А в нервическом полнее всего проступает модель женского поведения, с его силой и слабостью. Потому-то из рассказа об этих темпераментах каждый из нас может извлечь прямую пользу и для себя. А как же быть с их характерами? Сходятся они или не сходятся? У нервического и пылкого часто вспыхивает мысль, что они несовместимо разные, и особенно часто эта мысль пугает нервических. И в самом деле, разница у них разительная: из трех главных устоев характера похож у них только один — возбудимость, а два других полярны: ощущения у нервического неактивны и кратки, а у пылкого активны и долги. Но и возбудимость у них разная — и по качеству, и по роли в характере: это как бы звенья от разных цепей, ветки от разных деревьев. У нервического возбудимость самовластна, и она распыляет себя по множеству поводов и случайностей. Она дает ему массу впечатлений, но она командует им, несет его в своих потоках. У пылкого возбудимость подчиняется долгочувствию. Долгочувствие держит возбудимость в руках, и она из дикой как бы становится полуручной. Чем выраженнее пылкость характера, тем менее заметна возбудимость. Многие пылкие (возбудимые — активные — долгочувствующие), по словам французских психологов, казались людям флегматиками (невозбудимыми — активными — долгочувствующими). Такими видели окружающие Наполеона, де Голля, Черчилля, Сталина. Их возбудимость была как бы под спудом, она прорывалась наружу только во вспышках гнева, да еще была видна в эмоциональности их языка, в крутой манере поведения. Значит, весь строй ощущений у нервических и у пылких резко не сходится. К чему ведет их эта глубинная разница? Не видят ли они все в жизни сквозь разные психологические призмы? Не вырастает ли эта разница в стену между ними? Не заставляет ли она их смотреть на одно и то же разными глазами — по-разному видеть все скопления мелочей, из которых состоит их жизнь? Психологи долго наблюдали, какие темпераменты соединяются чаще, какие реже, и выяснилось: нервические решительно предпочитают союз с полярными себе темпераментами — флегматиком и пылким. У мужчин-нервических в такой союз вступали две трети: треть выбирала женщин-флегматиков, треть пылких. Еще заметнее такое предпочтение у нервических женщин: две пятых вступили в союз с флегматиками, две пятых — с пылкими. Психологи считают, что здесь действует закон дополнительности, притяжение противоположных темпераментов. Нервические — люди кратких ощущений, и их тянет к людям долгих ощущений; а пылкие и флегматики как раз и относятся к ним. Нервические малоактивны в ощущениях, и их тянет к активным, больше всего к тем же флегматикам и пылким. Переменчивые ощущения бессознательно тянутся к стойким, малодеятельные — к деятельным: они как бы ищут в них защиту для себя, ищут плюсы, которыми обделены сами. Нервические — люди с повышенной детскостью ощущений, и они испытывают смутную, но глубокую жажду застраховать, обезопасить себя, и поэтому тяготеют к людям повышенно взрослых ощущений. А флегматики и пылкие, которым не хватает детской яркости ощущений, тянутся к этой яркости у нервических, влекутся к ней. Активность и долгота ощущений — это два главных устоя темперамента, по которым нервические ищут свою противоположность. Возбудимость для них, видимо, безразлична, так как они сами превосходят тут всех. Потому-то половина выбирает себе возбудимых (чаще всего пылких), а половина — невозбудимых (чаще всего флегматиков). Нервические и пылкие привлекают друг друга, как уже говорилось, противоположными достоинствами. Пылкому нравится юность чувств у нервических, их порывистые и радужные ощущения, тяга к фантазии; нравится им и частая у них (особенно у женщин) хрупкость, незащищенность или, наоборот, кошачьи коготки под этой незащищенностью. Мужчинам нравится женственная грация нервических, частая у них пикантность; нервический для них — разрядка, отдых, веселье. Эти черточки вызывают у пылких и любовные, и одновременно как бы родительские, покровительственные чувства. А что нравится в пылком нервическому? Прежде всего его горячие, но управляемые чувства, его энергичная активность, сильная тяга к выдумке, к расцвечиванию жизни яркими красками. Нервического изумляет в пылком долгота чувств, которая придает этим чувствам стойкую силу, вескую надежность. А удивление, как говорил еще Стендаль, — это половина того, что нужно для кристаллизации. Инстинктивно влечет нервических и прочность душевного строя у пылких, прочность, которая нужна им как защитная стена. Как видим, союз их темпераментов может держаться на сильных магнитных влечениях. Естественные биопсихологические фундаменты этого союза больше помогают ладу характеров, чем разладу. Но судьба такого союза зависит и от вторичных свойств их характеров, и от их жизненных принципов. Для судьбы их чувств, видимо, главную роль играют именно дополнительные, вторичные свойства характера, для их отношений — жизненные принципы. Влечение друг к другу рождает у пылкого и нервического основные свойства их темпераментов: они полярны и поэтому притягиваются друг к другу. Но жизнь или смерть их чувства больше зависит от их дополнительных свойств — и прежде всего от Марса или Венеры, твердости или мягкости ощущений. Это так и бросается в глаза в истории Златы О. и ее мужа — чуть подробнее об этом в главке «Под игом Марса».Вклад и разлад.
А где в союзе пылкого и нервического то самое тонко, которое рвется? Где лежит самое уязвимое место их близости? Не там ли, где у Златы О. и ее мужа? «Он старается всех улучшить; жестко гнет свою линию; я вынуждена все время обороняться от него, отстаивать свой покой; оба не уступаем, и получается у нас — коса на камень». Если это на самом деле так, то зачинатель разладов — он: он просит улучшений, а ей они не по душе; он предлагает, она отвергает, он настаивает на своем, она отстаивает себя. Возникает позиция не сотрудничества, а соперничества, не дружеской близости, а враждебного отдаления. Впрочем, чей вклад в разлад больше, сказать, видимо, трудно. Ясно, что равновесие в их отношениях нарушают его «рацпредложения». А если они хороши? Если они могут спасти детей, жену, семью от жизненных бед? Тогда, выходит, к разладам ведут не его выдумки, а ее враждебность к ним? Или то и другое вместе? Если это так, то у них странное — и незавидное — положение. Он ведет себя как создатель каких-то вещей, она — как браковщик, контролер ОТК, причем все, что он выпускает, она бракует. Он упорно не хочет сменить свою продукцию, она упрямо не хочет принимать ее, и оба не хотят сойти с этих тупиковых рельсов. Может быть, чья-то позиция лучше, полезнее? Судить об этом трудно, но кое-что предположить — по письму и по анкете — можно. Вспомним разницу между упорством — созидательной настойчивостью — и упрямством — настойчивостью разрушительной, со знаком минус. Здесь, видимо, правда лежит больше на стороне мужа. Другое дело — как он стоит за свою правоту. Пусть даже его цель верна, но способ, которым он ее добивается, неверен. Его цель остается чужой для чувств жены, ее чувства относятся к ней как к врагу, который лишает ее спокойствия, мешает жить. Выход тут, видимо, один — искать, стараться, чтобы цель мужа стала и ее целью. Только тогда масса энергии, которая идет у нее в оборонительное упрямство, переключится на улучшение детской жизни и ее отношений с мужем. На каждом шагу перед каждым из нас встает исключительно сложный вопрос — о средствах и цели, об их запутанной связи. Давно уже ясно, что цель совсем не оправдывает средства, потому что плохие средства убивают самую хорошую цель. Средства, наверно, должны быть по цели, в рост цели, потому что именно от них зависит высота цели. Как только самая человечная цель начинает внедряться нечеловечными средствами, она тут же вырождается, становится бесчеловечной. Поэтому самое главное в жизни, самое мучительное — не поиск целей, а поиск средств, поиск тех способов, которые могут не уронить высоту цели, а сохранить ее. Это касается всего в жизни — от самых крупных социальных вопросов до самых незаметных мелочей в личной жизни.Под игом Марса.
В чем самое слабое место нервического темперамента? Пожалуй, в том, что у него короткое нервное усилие, быстро устающие нервы. Долгое и ровное напряжение ему не по плечу, его выносливость ослаблена, сопротивляемость невелика. В борьбе с тяготами жизни нервические могут от этого сбиваться на линию наименьшего сопротивления, идти не там, где лучше, а там, где легче. Им может не хватать цельности характера, единства поступков, той последовательности, к которой больше всего стремится пылкий. Их могут не особенно беспокоить собственные противоречия, они не вдаются в них, мирятся с ними. Далекие цели часто еле маячат, брезжат для них сквозь туман времени, их психологией гораздо больше правят сегодняшние компасы. Они часто драматизируют жизнь, видят ее чернее, чем она есть: обычно так ощущают жизнь — и себя самих — нервические-дистоны. И близкие люди, и они сами кажутся им хуже, чем на самом деле. (Кстати, Злате О. стоило бы проверить, не слишком ли темной краской она рисует для себя мужа.) Нервические-синтоны (созвучные, унисонные), наоборот, склонны приукрашивать жизнь, себя, близких. Все вокруг — и они сами — кажется им лучше, ярче, радужнее, чем на самом деле. В личной жизни это, кстати, так же хорошо, как плохо в общественной. Розовое зрение нервических-синтонов родственно здесь радужной оптике любви. А минусы пылкого, какие они? О главном из них уже говорилось — бульдожья хватка, таранный напор на близких, лобовое проламывание сквозь запутанные дебри личных отношений. Пылкий часто стремится не развязывать узлы, а разрубать их, не обходить препятствия, а брать их штурмом или осадой. Его управляемая возбудимость может стать чересчур управляемой, слишком прирученной — он может с холодной пылкостью гнуть свою линию и не видеть, как это больно близким. Активность его нервов может еще больше усиливать бездушие его поступков. Желая сделать близким лучше, он делает им хуже и не замечает этого. Впрочем, активная целеустремленность пылкого становится изъяном только в одном случае: когда ею правит Марс. Да и защитное упрямство нервического вредит в семье только тогда, когда оно идет от Марса. Что происходит в таких случаях? Небольшая часть нашего существа, одно из побочных измерений характера, захватывает вдруг власть в душе и начинает править отношениями. И все главные стороны характера, и разум, и доброта, и любовь — все попадает под иго Марса, все покоряется его диктатуре. Марс, который совершает в душах военный переворот, калечит человеческие характеры. Он в корне меняет весь их тон, делает людей дистонами — хотя бы друг к другу. Эта дистонность — разлад, вражда — резко затрудняет уживание с близкими, создает климат враждебности, затаенной холодной войны. К этому сплошь и рядом ведет наше неумение видеть, какие пружины тобой движут, неумение понимать, каким провокатором раздоров может стать любая пружина характера, когда она встает над другими, выходит из согласованной работы с ними. Все это простейшие психологические знания, азбучные устои семейной культуры. К сожалению, большинства людей не знает их или не ведет себя в их ключе, и потому Марс повально часто правит отношениями жены и мужа, детей и родителей.Путь к ладу выстлан уступками….
Поправимы ли те беды, в которые вовлекла себя пара из нервической жены и пылкого мужа? Непоправимы, если они и дальше пойдут по тропе Марса. Поправимы, если их отношениями будет управлять Венера-согласие. Но для этого каждому из них придется пожертвовать хотя бы частью своей позиции. Мужу — перестать навязывать свои взгляды, жене — обуздать разрушительное упрямство, обоим — искать двуединый, но подходящий для каждого путь. «У нас с давних пор принято обрушиваться на компромиссы: даже само слово «компромисс» приобрело предосудительный смысл. А между тем компромисс — это рабочая модель гармонии, и всякое согласие, всякая гармония обязательно базируется на компромиссе». (Александр Александрович Лебедев, Москва, 1971.) По-моему, это сказано верно и веско, а для личных отношений вдвойне. Путь к семейному ладу выстлан уступками. Постоянные уступки друг другу, отказ от каких-то желаний, стремлений, привычек — это строительные кирпичики, из которых создается совместимость. У пылкого и у нервического, в общем, хорошо совмещаются достоинства их темпераментов и характеров. Несовместимы только их главные недостатки, главные минусы. Это вообще, видимо, один из коренных законов совместимости. Достоинства людей, хотя иногда с трудом, но уживаются друг с другом, дополняют, усиливают друг друга, создают совместимость. Недостатки (когда ими движет Марс) тоже усиливают друг друга, и это разрушает влечение людей друг к другу. Тут лежит основа основ личной жизни: совместимость у людей тем глубже, чем больше их отношениями правят их достоинства; а несовместимость тем острее, чем больше их отношениями командуют недостатки.
Что нужно пылкому, что — нервическому.
Как и в чем нервическому и пылкому стоило бы уступать друг другу, учитывать особенности своих темпераментов? Пылкий (как и флегматик) таит в себе воспитательную наклонность: ее рождает долгочувствие в союзе с активностью. Он часто любит улучшать, учить, помогать другим. (Люди такого склада наверно, больше других подходят к профессии воспитателя, руководителя, педагога.) Для пылкого хорошо, если супруг хоть немного будет жить по его советам, но, оставаясь собой, не подстраиваясь под него, не теряя свою натуру. Пылкому нужно, чтобы нервический, как и в юности, был веселым, разнообразным, полным яркой непосредственности. Для чувств пылкого надо, чтобы он мог уважать близкого человека: это главный для него фундамент добрых отношений. Пылкие (и другие долгочувствы — флегматики, меланхолики, чувствительные) больше других тяготеют к союзу души и тела, поэтому им больше нужна многозвенная любовь — «три влечения». Если спутник пылкого насыщает эти его естественные склонности, пылкий одаряет его горячей любовью, стойкой заботой, долгим вниманием[103]. Нервический более раним, и ему нужна от спутника повышенная чуткость, повышенное непричинение боли. (Так же ранимы и так же нуждаются в повышенной мягкости меланхолик, чувствительный, беспечный.) Нервическим, а больше всего женщинам, особенно нужна от близких нежность, внимательность, забота. Нежность для них — самое стойкое проявление любви, самая прочная основа хорошего настроения, счастливого самочувствия. Ощущениям нервического нежность нужна постоянно, непрерывно — это их главная пища, главный целитель, главная опора спокойствия. И чем больше у нервического разлад с собой или с другими, тем обильнее нужна ему целящая нежность. Судя по письму, пылкий муж давно уже не дает жене эту главную пищу для ее любви, главную целительницу ее нервов. Нервический (как и другие краткие — холерик, сангвиник, беспечный) острее других живет секундой; надежда на будущее для его ощущений куда воздушнее, нереальнее, чем для чувств долгих. И чтобы нервическому (и вообще кратким) было хорошо, для него надо делать хорошей эту, нынешнюю секунду. Не портить ее ради будущих хороших секунд, а украшать, улучшать, а если уж и портить, то как можно милосерднее и реже. Нервическим — самим основам их темперамента — нужно побольше хвалы и одобрений, поменьше хулы и замечаний. Иначе они тускнеют, теряют свою яркость, свои самые привлекательные черты. Конечно, их спутнику трудно вести себя так, особенно с дистоном (разладным), у которого характер особенно противоречив. Но это самое лучшее поведение с нервическим. Оно переполняет его глубинной благодарностью, вселяет в него готовность идти навстречу чужим желаниям, стремлениям, просьбам. Внушать что-нибудь нервическому лучше не в лоб, а обходно: не указывать прямо на его минусы или ошибки, а делать так, чтобы он сам находил для них нужное лекарство. То есть с нервическим лучше всего вести себя как с подростком — это дает самую большую отдачу. Кстати говоря, пылкие и флегматики естественнее других принимают такое поведение, потому что воспитательные склонности у них в крови. Сила их принципов обычно впечатляет нервического, и, если относиться к нему бережно, его будет тянуть к этим принципам, захочется сделать их своими. У пылкого обычно более стойкий характер, он меньше меняется от жизненных влияний. Нервический более податлив, и под ударами жизни в нем может быстрее нарастать усталость, быстрее тускнеют достоинства, нарастают недостатки. Но с возрастом он приобретает устойчивость, причем более стойкими делаются у него и сильные, и слабые стороны. Доброе отношение к нему — главная защита от плохих перемен, но нервический и сам, конечно, должен зарабатывать такое отношение, не убивать его. Очень важно, чтобы нервический старался сохранить свои лучшие черты, те, которые привлекли к нему супруга, и особенно живость, яркость, обаяние. А кому из двух — нервическому или пылкому — надо больше стараться? В союзе активного и неактивного характера удача супружества больше зависит от активного. И главный закон брака у нервических (особенно у дистонов) состоит, видимо, в том, что успех или провал брака меньше зависит от нервического и больше от его спутника. Впрочем, если дистон, разладный, не принимает мирную линию спутника, не идет на уступки, то именно он становится разрушителем хороших отношений. Пылкий больше, чем нервический, создает несущие опоры брака. Его последовательность и собранность помогает ему прокладывать нужное русло, находить нужный стиль, нужную атмосферу для домашних отношений. То есть стратегия супружества больше зависит от пылкого, чем от нервического, и нервический, видимо, должен принимать эту роль пылкого. Но оживить эту стратегию, сделать яркой, лишить однолинейности легче и проще нервическому. Надо только, чтобы пылкий не навязывал ему эту стратегию, а бережно вовлекал в нее, помогал создавать ее и проводить. На таких условиях их союз может быть глубоким и одинаково благодатным для обоих.Зеркало характера и зеркало личности.
«У вашей анкеты есть, так сказать, нюх, но ограниченный. Наши характеры вы в главных чертах уловили и недостатки наших отношений в общем сумели нащупать с приближенной верностью. Но вы не увидели многого или сделали неточные выводы. Скажем, я не навязываю жене свою линию, а просто высказываю свои предложения или замечания. Объясняю ей, как полезна детям самостоятельность (у нас девочка 12 лет и мальчик 10) и как она их портит, когда делает за них домашнюю работу. Она воспринимает это болезненно, но что я могу поделать? Ведь если соглашаться с ней, дети вырастут эгоистами и белоручками. Может быть, это надо делать дипломатичнее? Подумаю. Но дело даже не в этом. Анкета, как я уже говорил, определяет только контуры характеров и отношений. Она похожа на контурную карту: есть реки, города, горы, но без названий, без реального содержания. И у нас вы уловили только наши контуры без их реального наполнения, получили, пользуясь вашими словами, портрет характеров, но не портрет личности». (Георгий О., Ленинград, ноябрь, 1982.) О потолке анкеты, о ее ограниченных возможностях тут, пожалуй, сказано верно. Она и в самом деле дает только портрет характера (и даже его «половинки») и не дает портрета личности. Она не ухватывает содержание наших характеров и наших отношений, их личное своеобразие, неповторимость. Но тут лежит не только ее слабость, а и сила, — и сила больше, чем слабость. Анкета схватывает главные проявления каких-то общих черт человека — черт темперамента, характера, психики. Она делает это, не залезая в сложные дебри личности, в своеобразные, неповторимые отношения людей. Она и направлена не на частное, а на общее в людях, и именно в этом ее рентгеновская сила. Она ухватывает главные болевые точки человека, главные нервные узлы отношений. Она позволяет людям, как в зеркале, увидеть плюсы и минусы своих характеров, своих представлений о себе и друг о друге. Конечно, в ней есть приблизительность, есть неточности. Но она позволяет увидеть строение души человека, склад его психики, причем так, как этот склад выражается в действиях человека, в его поведении. Она обнаруживает, какой вы в отношениях с другими, улавливает «характер в действии», схватывает внешние проявления работы ваших внутренних двигателей. Анкета почти не трогает моральный склад человека, его взгляды, идеалы, то есть духовное ядро его личности, духовное содержание характера. Тем самым она проходит мимо важнейшего двигателя наших чувств, поступков, отношений. Не трогает она и ум человека — его склад, своеобразие, сильные и слабые стороны. И все-таки польза от нее может быть очень большой. Мы почти не знаем, как действуют психологические и нейрофизиологические пружины характера. Поэтому так важны для нашего обихода те знания о себе, какие мы получаем от психологических анкет и тестов. Они помогут устранить психологическую неграмотность, перестроить по законам психологии наши личные отношения — помогут поднять их со ступени психологической докультуры на ступень культуры. И введение таких анкет в личный обиход — как и психологическое просвещение вообще — это один из простейших начальных шагов научно-психологической революции. Но психологический и нейрофизиологический подход — лишь часть цельного, системного подхода к человеку. Такой цельный подход, такое всестороннее — во всех измерениях сразу — просвечивание человека могло бы выявлять не только тип характера, а и тип личности. И чтобы создать такое «зеркало личности», психологии придется, наверно, сделать два крупных шага по дороге синтеза. Во-первых, сплавить между собой все лучшее из всех классификаций характера. Ведь в каждом человеке есть или экстраверт, или интроверт, или биверт; в каждом есть мыслитель или художник, циклотимик или шизотимик, возбудимый, тормозимый или уравновешенный, синтон (созвучный), дистон (разнозвучный) и т. д. Во-вторых, к сплаву этих мерил человека придется добавить новые мерила, которые улавливают духовно-моральный и умственный облик человека. И конечно, все эти мерила должны не сочленяться механически, а сливаться органически; это и будет цельный подход — «зеркало личности», подход, который поможет каждому человеку увидеть, какой он есть и что ему нужно для совместимости… Путь синтеза все больше становится сейчас главным путем открытий в науках. Самая известная модель этого пути — поиски единой физической теории поля, которая объясняла бы все физические взаимодействия. И в психологии нужна, видимо, своя единая теория человеческих типов, теория-сплав, которая обнимала бы все человеческие взаимодействия, все типы людей.Какие есть виды любви?
«В страсти мир сфокусирован и кажется меньше…».
«Со мной часто спорит брат, слесарь контрольно-измерительных приборов. Он мог бы писать умные фантпроизведения, одно время даже хотел поступить на философский факультет. На что уж он сильный человек в критике людских мнений, но и он согласился со мной (правда, не сразу), что страсть приносит человеку один вред. Я, когда чувствовал эту страсть, был словно больной, у меня было разбито все тело и тянуло лежать[104]. Но переключился на любовь и перестал чувствовать разбитость. Выходит, или страсть — род болезни, или любовь действует как лекарство? У меня есть свои теории любви и страсти. Настоящая любовь, любовь-дружба, основывается на сходстве складов мышления. При этом черты лица супругов мало похожи[105]. Чистая страсть основывается именно на внешнем сходстве, а склад мышления совершенно разный. Страсть ускоряет движения и мысли человека, у него усиливается ассоциативная память, возникает новое чувство — наслаждение аналогиями, похожими чертами и ракурсами. Зато любовь-дружба переносит основную нагрузку на подсознание. Человек может задать себе правило «будь хладнокровен», и оно будет долго поддерживаться само. С любовью настоящий человек берет преграды более правильно, поэтому он гораздо быстрее становится сильным. Лучше не любить женщину, чем любить страстно. Страсть обостряет чувства, и человеку легче вроде бы иметь характер, но у него чувство опережает мысль и волю, и это мешает характеру. При страсти усиливается влияние других людей, эмоциональное и нервное, действует закон отражения чувств, что-то вроде телепатии. Поэтому (сужу по собственному опыту) если страсть приходит до затвердения характера, в юности, человек может подавляться чужой волей и жить, подчиняясь чужим мнениям. Страсть усиливает чувства человека, а любовь — сосредоточенность его мыслей. Любовь-дружба действует и на наши внешние чувства. Она усиливает вкусовые ощущения, обостряет слух, делает взгляд человека более параллельным, и от этого мир кажется больше[106]. А в страсти мир сфокусирован и кажется меньше, так как видно все, но в уменьшенном размере. Страсть — только для очень сильных, они могут с ней совладать, но и им она мешает. Одни от страсти делаются слишком злые, другие — слишком слабые, беззащитные. Кроме любви и страсти, есть еще любовь с примесью страсти — любовь-страсть. В ней перемешано хорошее от любви и плохое от страсти, и лучше всего — любовь-дружба без примеси страсти». (Андрей К-в, Свердловск, сентябрь, 1982.) Письмо это писал чуткий и думающий человек, который умеет всматриваться в сложные тайны человеческих чувств. Интересно, что он говорит языком Андрея Платонова — в его внешне корявой, словесно неуклюжей манере, но зато наполненной мыслями, как невод рыбой. Перед нами — один из коренных вопросов: какие есть виды любви, что они дают и что отнимают? И верно ли, что страсть только плоха, а любовь только светла? Древние греки различали четыре вида любви: эрос, филиа, агапэ, сторгэ. (К рассказу о них я буду добавлять и свои мысли, пояснения, сегодняшние повороты.) Эрос — это восторженная влюбленность, телесная и духовная страсть, бурная тяга к обладанию любимым человеком. Это страсть больше для себя, чем для другого, в ней много я-центризма. Если учитывать наши сегодняшние знания, это как бы страсть по мужскому типу, страсть в ключе пылкого юноши или молодого мужчины; она бывает и у женщин, но гораздо реже. Пожалуй, ярче всего она запечатлелась в любовной лирике Катулла. Филиа — любовь-дружба, более духовное и более спокойное чувство. По своему психологическому облику она стоит ближе всего к любви молодой девушки. У греков филиа соединяла не только возлюбленных, но и друзей, и именно она была возведена на высшую ступень в учении о любви Платона. Агапэ — альтруистическая, духовная любовь. Она полна жертвенности и самоотречения, построена на снисхождении и прощении. Это любовь не ради себя, как эрос, а ради другого. По своему облику она похожа на материнскую любовь, полную великодушия и самоотверженности. У греков, особенно во времена эллинизма, агапэ была не только любовным чувством, но и идеалом гуманной любви к ближнему, предвосхищением альтруистической христианской любви. (Апостол Павел, который в знаменитом послании к коринфянам восхвалял человеческую любовь, использовал именно греческое слово «агапэ». И другие мировые религии тоже называли альтруистическую любовь высшим из земных чувств человека.) Сторгэ — любовь-нежность, семейная любовь, полная мягкого внимания к любимому. Она росла из естественной привязанности к родным, напоминала родственные тяготения мягких юношей и девушек. «А почему у древних греков четыре вида любви? Нет ли в этом переклички с их четырьмя темпераментами, и не относится ли каждый вид любви к своему темпераменту?» (Ленинграду «Знание», август, 1980.) Греки не выводили свои виды любви из темпераментов и не связывали их между собой. Можно, пожалуй, предположить, что к любви-эросу больше тяготеет пылкий сангвиник или холерик, к филиа — спокойный флегматик, к сторгэ или к агапэ — нежный и чувствительный меланхолик. Но ведь мы согласились, что старое деление на темпераменты неточно, и лучше, наверно, искать связи любви и темперамента, пользуясь сегодняшним подходом. Странно, но со времен античности никто не пытался по-настоящему понять, какие же есть разновидности любви. Интересно сказал кое о каких из них Стендаль в своем очерке «О любви», Прудон, французский социолог и философ, в книге «Порнократия, или Женщины в настоящее время»; по крупицам писали об этом другие писатели и поэты. И только в наше время психологи стали выяснять, какие есть психологические виды любовных чувствований.Сторгэ, агапэ, эрос, маниа….
В 70-е годы канадский психолог и социолог Джон Алан Ли описал шесть главных видов любви; в их перечень вошли почти все греческие виды[107]. Любовь-сторгэ у него — как бы наследница греческой сторгэ и филиа; это любовь-дружба, любовь-понимание. Прудон говорил о ней, что это «любовь без лихорадки, без смятения и безрассудства, мирная и чарующая привязанность». Возникает она постепенно — не как «удар стрелы», а как медленное вызревание цветка, медленное прорастание корней в почву и уход их в глубину. Любящие такой любовью вслушиваются друг в друга, стараются идти друг другу навстречу. У них царит тесное общение, глубокая душевная близость, они подсознательно ищут везде и во всем пути наименьшей боли. Для них нет рутины, им нравится обычный ход домашних дел, и привычка не гасит их чувства. Они испытывают удовольствие, зная близкого, предвидя, как он отзовется на их поступки. У такой любви особая прочность, и она может перенести даже очень долгую разлуку, как перенесла ее знаменитая любовь Пенелопы к Одиссею, древний прообраз нынешней сторгэ. «Сторгиане» глубоко доверяют друг другу, они не боятся неверности, зная, что их внутренняя тяга друг к другу не угаснет от увлечения. Секс в такой любви ясен и прост, любящие считают его продолжением душевной близости, и он входит в их отношения не сразу, на поздних ступенях сближения. Любовь-сторгэ — чувство неэгоистическое, и в нем очень сильны слои дружеских привязанностей, «сотруднической» близости. И расставаясь, сторгиане не делаются врагами, а остаются добрыми приятелями. В этом описании любви хорошо переданы внешние проявления любви-дружбы, но не ее внутренний облик. Перед нами не любовь-чувство, а любовь-отношение, не своеобразие чувств, а своеобразие отношений любящих. И эта любовь-отношение дана в отрыве от характера человека, от его темперамента — как лучи в отрыве от звезды, которая их испускает. Подход к любви здесь частичный, только «отношенческий», в нем нет сплава любви-чувства с любовью-поведением[108]. Но и такой половинный подход может приносить пользу, пока не появится более полный подход. Любовь-сторгэ испытывают однолюбы и «долголюбы», и она способна приносить долгое счастье. У двух счастливых пар из тех, о которых тут говорилось, любовь во многом похожа на сторгэ, хотя кое в чем и отличается. Возможно, что чистые виды любви встречаются нечасто, и чаще любовь бывает смешанной: к основе от одного вида любви могут добавляться черточки от других видов. Второй вид любви — любовь-агапэ. Как и у греков, она сосредоточена на «ты», полна альтруизма и обожания любимого. Любящий такой любовью готов простить все, даже измену, готов отказаться от себя, если это даст счастье другому. Такая любовь-самоотречение сегодня редка. Из 112 канадцев и англичан, которых исследовал Д. Ли, только у 8 человек — то есть у 7 процентов — были ее признаки. Она чаще бывает женской, но она встречается и у мужчин. Такую любовь, тяжелую, трагическую, перенес Жуковский, но, пожалуй, самый яркий ее пример — любовь молодого Чернышевского, которая запечатлена в его юношеском «Дневнике моих отношений с тою, которая составляет сейчас мое счастье». Его любовь полна самоотречения — избыточного, чрезмерного, он готов пожертвовать ради нее своим чувством, не требуя никакой ответной жертвы. «Помните, — говорит он ей, — что вас я люблю так много, что ваше счастье предпочитаю даже своей любви»[109]. Эта великолепная формула схватывает саму суть любви-агапэ, но она передает и ее двойственность, неравновесие. Любовь-агапэ многим похожа на сторгэ: в ней громко звучат душевные и духовные созвучия, она полна выносливого терпения, негаснущей привязанности. Но ее чувства более горячи, чем сторгэ, они могут достигать почти религиозного пыла, и телесный огонь у агапэ может быть сильнее, чем у сторгэ. Душевностью своих чувств агапэ напоминает сторгэ, а силой, накалом больше похожа на эрос. Любовь-эрос — это пылкое чувство, которое долго и бурно горит в человеке. Люди, которые испытывают его, не очень влюбчивы и могут долго жить без любви; но, когда они влюбляются, любовь захватывает всю их душу и все тело. В любви-эросе очень сильна тяга к телесной красоте, и телесные тяготения стоят в ней на первом плане, особенно в ее начале. Но они глубоко пропитаны эстетическими красками — влечением к красоте формы, изяществу линии, к мужественной силе тела или его женственной округлости. Любовь-эрос — как бы дочь эллинской любви, в которой влечение к телу было до краев переполнено эстетической духовностью. Замечено, что у тяготеющих к любви-эросу часто бывало счастливое детство, или же они были детьми счастливых родителей. Может быть, оттого, что в детстве они купались в счастье, они и тянутся к нему каждым фибром своей души, каждой клеточкой тела. Любовь для них — культ, они чувствуют себя в ней на 10–15 лет моложе, и она действует на них целительно — не только омолаживает, но и оздоровляет, избавляет от половых сбоев. У любви-эроса пылкая двойная оптика, сильное магнитное притяжение. Эросиане ярко помнят день первой встречи, мгновение первого поцелуя, ощущение первой близости; любовь для них — праздник, потому и каждый ее миг полон радужной праздничности. Любовь-эрос чаще всего «моногамна», питающие ее не склонны или мало склонны к боковым влюбленностям; но она может повторяться у человека несколько раз, она бывает обычно не у однолюбов, а у «долголюбов». В такой любви очень обострена душевная зависимость от близкого человека. Любящий делает все для любимого — и от любви к нему и от боязни потерять его, особенно когда тот любит его другой любовью, не эросом. Он все время ищет, чем усладить близкого, дарит ему подарки, отыскивает новые блюда, придумывает новые развлечения… Он хочет все знать о любимом, хочет и ему раскрыть все о себе. Ему важны все мелочи быта, все подробности того, что с ней и с ним было — сегодня, вчера, давно. Ведь каждый миг их жизни — это миг культа, каждый вздох любимого — вздох мировой величины, и он бессознательно полон для них огромного смысла. Ими правит тяга к полному слиянию душ, к максимальному — до тождества — сплаву двух существований. Поэтому они хотят как можно больше походить друг на друга — вплоть до стиля и цвета одежды, до малейших привычек, интересов, занятий. Главная радость жизни для них — в любимом, поэтому они разлучаются редко, ненадолго. При разрыве они испытывают тяжелую, почти смертельную боль, и трагедия разрыва для них может быть страшнее смерти. Впрочем, люди, питающие эту любовь, обычно глубинные жизнелюбы, в их любви нет одержимости, и их жизнелюбие помогает им заживлять раны. По своему облику любовь-эрос — это как бы пылкая юношеская любовь. Она, видимо, чаще бывает у юных, чем у зрелых, а среди зрелых — чаще у людей горячих и долгих чувствований, с сильной душевностью, пылкой эмоциональностью. В одной из счастливых пар — в самой младшей — жена питает к мужу сплав эроса и сторгэ, а он к ней — сплавсторгэ и эроса, с перевесом сторгэ. Возможно, сначала онилюбили друг друга совсем по-разному, она — эросом, он — сторгэ, а потом каждый заразился чувством другого, перенял от него частицу его любви. Так часто бывает, когда любовь живет на прочной почве хороших отношений: к чистому виду любви как бы прививаются веточки от других чувств, и любовь делается смешанной. Следующий вид любви — маниа, любовь-одержимость (от греческого «мания» — болезненная страсть). Древние греки знали об этом чувстве, хотя оно и не входило в их классификацию. «Тейа маниа» — безумие от богов — так звали они эту любовь. Сафо и Платон увековечили ее симптомы — смятение и боль души, сердечный жар, потерю сна и аппетита. Но любовь-манию открыли человечеству арабы с их горячими чувствами и фанатическим сгущением всех сил души в узкий пучок. «Я из племени Бен Азра, полюбив, мы умираем» — так отпечаталась в поэзии эта фанатическая любовь. Испытав ее, любящий становился меджнуном — безумцем, и почти буквально — а то и буквально — терял рассудок. Тысячу лет назад, в конце первой эры, эта любовь вспыхнула как эпидемия, захлестнула всю арабскую поэзию, проникла в искусство Персии, Средней Азии, Грузии, трубадуров. Такую любовь питал позднее и гётевский Вертер, и купринский Желтков, и многие герои мрачной романтической поэзии. И в жизни такая любовь берет человека в плен, подчиняет его себе. Это очень неровное чувство, оно все время мечется между вспышками возбуждения и подавленности. Любящие таким чувством часто ревнивы и поэтому не выносят разлуки; при раздорах они могут сгоряча предложить близкому человеку расстаться, но тут же до дрожи пугаются этого. У таких людей обычно сниженная, в чем-то болезненная самооценка, ими часто правит ощущение неполноценности, скрытое или осознанное. Они повышенно тревожны, ранимы, и от этого у них бывают психологические срывы и сексуальные трудности. Их неуверенное в себе чувство может быть и воинственным, собственническим, им может править болезненный я-центризм. Неврастеничность иногда рождает в них изломанную любовь-ненависть, болезненное тяготение-отталкивание — лихорадку несовместимых чувств. Такое чувство, видимо, чаще встречается у неуравновешенных интровертов-дистонов, людей нервического или холерического темперамента, которые обращены всебя и полны внутреннего разлада. Оно часто бывает у юных с их избыточной неуверенностью в себе. Наверно, сейчас, когда люди становятся более нервными, такое нервное чувство чаще вкрапливается в их личные отношения. Маниа редко бывает счастливой; это пессимистическая, саморасшатывающая любовь, ее питают люди, у которых пригашена энергия светлых чувств. В выборке Дж. Ли почти все они, в отличие от эросиан, были недовольны жизнью, обделены жизнелюбием. Но темные слои мании можно ослабить, привив к ней веточки светлых чувств. Для этого надо ослабить одну из ее главных основ — болезненное чувство неполноценности. Надо поднять, усилить подспудное самоуважение человека, уверить ранимые слои его подсознания, что его любят по-настоящему. И, если удастся создать в его душе чувство защищенности, уверенного спокойствия, он ответит на это самой горячей, самой преданной любовью — любовью спасенного от беды. И еще один вид любви назван греческим словом — прагма (дело, практика). Это спокойное, благоразумное чувство. Если в любви-мании самодержавно царят чувства, которые подчиняют себе разум, то в прагме царит разум, а чувства покорны ему. Настоящий прагмик не может любить того, кто недостоин любви. Он до мелочей видит всю ценность или неценность человека. Любовь для него — столько же дело головы, сколько сердца, и он сознательно руководит своим чувством. Он хорошо относится к близкому: помогает ему раскрыть себя, делает добро, облегчает жизнь, остается преданным ему в испытаниях. Для прагмиков очень важен разумный расчет, причем не эгоистический, а трезво житейский. Они стараются все планировать и могут, скажем, отложить развод до того, как перейдут на другую работу, кончат учебу, вырастят ребенка… С тех же позиций пользы они мирятся и с половыми сложностями своей жизни. Скажем, если муж хороший добытчик, но плохой любовник, жена может решить, что главное он делает хорошо, а остальное не так уж и важно. А если жена прохладнее мужа относится к телесным радостям, он тоже мирится с этим, потому что она хорошая мать. Мне кажется, это не любовь, а более тихое чувство — привязанность, симпатия. Его испытывают или очень спокойные, или очень рационализованные люди, или те, у кого умеренная нервная энергия, небольшая пылкость чувств. У них сильное самоуправление чувствами как раз потому, что эти чувства ослаблены. Но прагма — совсем не низшее, а нормальное, естественное для человека чувство. Это как бы флегматизированная любовь, и она может быть очень прочным и долгим чувством. Прагмики могут жить в добрых отношениях, быть внимательными спутниками, хотя не яркими, как бы без душевной молодости, без юности чувств. Они любят зрелым устоявшимся чувством, они как бы начинают с последних возрастных ступеней любви, но зато могут стоять на них до конца жизни. Это чувство может быть и блеклым, и по-настоящему добрым, надежным — этим оно похоже на сторгэ. У привязанности-прагмы есть еще одно преимущество перед другими любовными чувствами: те со временем остывают, слабнут, а прагма, наоборот, может делаться теплее, душевнее — ею чаще правит закон реки, чем реки наоборот. Такое чувство встречается часто — и в старости, когда энергия чувств снижена, и в зрелые годы — в тех семьях, которые строятся на житейски-хозяйственных отношениях; и вообще у людей с рационализованной душой, а их сейчас становится все больше. В прошлом прагма была, пожалуй, самым частым супружеским чувством, и под ее знаком брак стоял десятки веков, особенно в патриархальной крестьянской семье, которой правили добрые нравы. Нынешняя прагма растет из главной психологической тяги современных людей — тяги к глубокой душевной совместимости, к похожим интересам, взглядам, обычаям. Девиз прагмы — как можно более полная совместимость, и на нем стоит вся теперешняя служба знакомств и брака. Следующий вид любви — лудус: Овидий в «Искусстве любить» называл его amor ludens (амор люденс) — любовь-игра. Человек здесь как бы играет в любовь, и его цель — выиграть, причем выиграть как можно больше, потратив как можно меньше сил. Лудиане хотят радужных и беззаботных отношений, легких как полет бабочки. Они влекутся к одним только радостным ощущениям, и их отпугивают более серьезные чувства. Крайние из них стремятся завести двух, а то и трех возлюбленных сразу. «Любовь к нескольким», книга-наставление XVII века, говорила об этом, что два возлюбленных лучше, чем один, а три надежнее, чем два. Они дают двойную гарантию успеха: во-первых, при любой осечке с одним его заменит другой, во-вторых, деля между ними симпатию, можно не бояться глубокого увлечения, излишней привязанности. Лудианин — человек кратких ощущений, он живет мгновением, редко заглядывают в будущее и почти никогда не вводит возлюбленного в свои далекие планы. У него нет ревности, нет владельческого отношения к возлюбленному; он не распахивает перед ним душу и не ждет от него такого распахивания. Часто он нетребователен или не очень требователен, а то и неразборчив. Внешность партнера ему важна меньше, чем собственная независимость. У него особенное отношение к телесным радостям. Они для него не высшая цель и не часть эмоциональных отношений. Это часть его игры, одно из ее русел, и он не вкладывает в них душу, легко относится к ним. Ему дороже удовольствие от самой игры, чем от промежуточных выигрышей, его больше влечет легкость игры, чем ее результаты. Поэтому он неярок и однообразен сексуально, редко старается углубить свое любовное искусство. И если партнер не испытывает с ним радости, он не стремится дать ему эту радость, а делает то, что легче ему самому — ищет себе другого. У него самодовольно высокая самооценка, он никогда не испытывает чувства неполноценности, даже когда явно неполноценен. Наоборот, такие люди часто полны чувства сверхполноценности. Те из них, которые встретились Дж. Ли, были самоуверенны и никогда не жалели о своем пути. По их словам, у них было среднее детство, ни счастливое, ни несчастное, а своей нынешней жизнью они довольны, потому что, кроме случайных срывов, в ней все хорошо… Конечно же, лудус — не любовь, а просто любовное поведение. Лудиане не могутлюбить, в их душах нет струн, на которых разыгрывается это чувство. В них царят струны простейших наслажденческих чувств, и они занимают там и свое законное место, и место более глубоких, более сложных чувств. Эти чувства я-центричны, они не дают душе углубить себя главными человеческими переживаниями, которые построены на сопереживании — радостью от чужой радости, печалью от чужой печали. Нынешние лудиане-игроки — это упрощенный сколок с аристократической французской любви XVIII века. Это была утонченная любовь-игра, полная хитроумия и риска, стремящаяся к изысканным наслаждениям души и тела. У нее были витиеватые каноны и правила, и они делали из нее изощренное искусство общения, превращали в состязание соперников, которые идут к одной цели, но хотят невозможного — и выиграть вместе, и обыграть друг друга. Такая любовь-игра ярко запечатлелась в мемуарах и в беллетристике XVIII века и, пожалуй, ярче всего в «Опасных связях» Шодерло де Лакло и в «Парижских картинах» Ретифа де ля Бретона. Типичным лудианином был и известный итальянец Казанова, человек-игрок, записками которого зачитывалась в XVIII–XIX веках образованная Европа. Теперешние игроки — это чаще всего бытовые донжуаны, которые, в духе нынешней массовой культуры, тяготеют к неизобретательной игре, построенной на лобовых ходах.Что с чем уживается?
«Работа о видах любви вызвала у меня вопрос, связанный с вашей старой статьей «Только ли любовь?». Вы тогда писали, что, по данным социолога Файнбурга, у тех, кто женился по любви и влечению, на 10 удачных браков приходится 10–11 неудачных, а у тех, кто женился по расчету, лишь 7 неудачных. Но те, кто женится по расчету, это единомышленники, которые питают друг к другу одинаковое чувство — прагму. А те, кто женится по любви, могут и не быть такими единомышленниками. По-моему, если встретятся между собой единомышленники по виду любви, то счастливых браков у них будет не меньше, чем у прагмиков». (Виктор О., новосибирский академгородок, август, 1980.) Классификация Джона Ли, очень полезная для нас, в общем, недалеко ушла от греческой: кроме трех старых видов любви (сторгэ, агапэ, эрос), в ней появилась еще любовь-маниа и два вида любовного отношения — привязанность-прагма и игра-лудус (хотя прагма — это как бы полулюбовь, любовь без пылкости). Как сочетаются между собой эти чувства? И что лучше: когда сходятся одинаковые или разные чувства? Человеческое подсознание настроено на закон зеркала, и ему чаще всего хочется, чтобы близкий человек любил нас точно так же, как мы любим его. Тяга к подобному правит нашей психологией, мы ждем от близкого таких же проявлений любви, как от себя, а если их нет, думаем, что нас не любят. Мы не понимаем, что не такая любовь — это тоже любовь, а не отсутствие любви, и ждать копию чувства так же наивно, как ждать южного ветра с запада. Наверно, среди любовных чувств есть совместимые, полусовместимые, несовместимые. Агапэ — самая уживчивая любовь, она, видимо, совмещается со всеми чувствами, так как она отказывается от себя и принимает чужие правила. Это любовь-отклик, любовь-эхо, и как раз ее и питала чеховская душечка. Лудус, игра, наоборот, самая неуживчивая связь; она не совмещается ни с чем, кроме другого лудуса, но и с ним лишь на время, пока игроки получают друг от друга больше, чем отнимают. Прагма, польза, пожалуй, лучше всего уживается с другой прагмой. Она несовместима со взбалмошной манией, враждебна разгульному лудусу. И пылкий эрос не очень близок ее расчисленной сдержанности. Она более или менее легко уживается с агапэ, может мирно сосуществовать со сторгэ, но лучше всего ей с себе подобными. Маниа лучше всего сочетается с агапэ; поведение агапэ успокаивает манию, она может даже перестать быть манией, но тогда ей грозит опасность стать чувством-тираном, чувством-деспотом. Маниа может совмещаться и со сторгэ, и с эросом, но им, особенно эросу, будет трудно с ней — их соединяет нестойкая почва полусовместимости. Сторгэ лучше всего сочетается со сторгэ, эрос — с эросом, но им может быть хорошо и друг с другом. Для наших чувств проще, когда встречаются одинаковые виды любви. Чувству всегда, видимо, легче с себе подобным: оно ощущает его как себя самого — и это дает людям добавочную силу интуиции, усиливает подсознательное понимание близкого человека, углубляет сопереживание с ним — эгоальтруистические слои чувств… Впрочем, если у такого союза разрастаются одинаковые минусы, они умножают друг друга и убивают чувство. Особенно часто это бывает, когда сталкиваются две мании или два лудуса — чувства, в которых шипов больше, чем лепестков. А кроме того, в жизни, видимо, чаще соединяются люди с разной манерой любви. Если у них хорошие отношения и гибкие, переимчивые характеры, то они как бы заражают друг друга своей манерой любви, обмениваются частичками этой манеры. В их любви-отношении появляются перекидные мостики, вкрапления одинаковой манеры любви, и это помогает их чувствам. Но если отношения у них не очень теплые или характеры не переимчивые, тогда общая манера любви не вырастает. Чувствам людей начинает грозить непонимание, отчуждение, разлад, и, если в них не появится хотя бы какой-то общий слой, они начнут ущербляться, гаснуть, истаивать… Судьба такого союза разных чувств во многом зависит от их активности или неактивности. По силе своей активности шесть наших чувств как бы разбиваются на три пары: активные чувства — эрос и лудус, полуактивные-полупассивные — маниа и прагма, малоактивные, пассивные — сторгэ и агапэ. Когда сходятся разные виды любви, то ходом их отношений чаще всего правит более активное чувство. Эрос и лудус более инициативны в отношениях, чем прагма и маниа, а прагма и маниа — чем агапэ и сторгэ. Если соединяются два одинаково активных чувства, то мелодию их отношений больше, видимо, ведет чувство более неблагополучное, более противоречивое. Союз эроса и лудуса больше зависит от лудуса, союз прагмы и мании — больше от мании, союз агапэ и сторгэ — больше от агапэ, так как в нем меньше внутреннего равновесия. Если более светлое и более цельное чувство (эрос, агапэ, сторгэ) вступает в союз с чувством более противоречивым (маниа, прагма) или более темным (лудус), то линия их судьбы больше зависит от более противоречивого и более темного чувства. Лудус здесь более «судьбоносен», чем маниа и прагма, а маниа и прагма — чем сторгэ, агапэ, эрос. Среди пружин, которые правят сочетаниями наших чувств, много невыгодных, опасных для чувств, а чем они сильнее, тем труднее им противостоять. Но ослаблять их можно, усиливая «противоположные достоинства», и чем опаснее пружины-враги чувств, тем решительнее надо помогать пружинам-друзьям — самым внимательным к близкому стрункам твоих чувств. Другого пути продлить чувства нет, и, если мы не сумеем сделать пружины-друзья более сильными, чем пружины-враги, любовь умрет обязательно и неизбежно.Ключ к видам любви.
К сожалению, все реестры любовных чувств — и древние, и новые — приблизительны, неполны. Видов любовного чувства, наверно, не четыре, не шесть, а больше; возможно, положение тут такое же, как и с темпераментами — тысячи лет думали, что их четыре, а потом поняли, что их много… Реестры любовных чувств составлялись в отрыве от реестра человеческих типов, и это, наверно, главная причина их неполноты и приблизительности. У классификаций любви нет психологической (то есть теоретической) базы; все они улавливают внешние проявления любви и не видят их внутренних корней, не пытаются узнать, от чего именно зависит тот или иной облик любовного чувства. Вспомним: любовь — внутренняя тень человека, эхо его темперамента и характера, зеркало его биологического, психологического и нравственного склада. Темперамент, характер, нравственность — все они создают ткань любовного чувства, его своеобразие. У флегматика не бывает романтического полыхания страсти, такого, как у пылкого или у холерика; но зато его любовь длительнее и надежнее. В любви сангвиника нет тонкости полутонов, как у меланхолика или чувствительного, но зато она жизнерадостнее, ярче… Есть люди, чувства которых быстро загораются и быстро гаснут; это те из холериков и нервических, которые не умеют углублять себя, идут на поводу у своих самых нестойких струн. Есть люди решительно зажигающиеся, сильно горящие и долго не гаснущие: это пылкие, иногда сангвиники; есть медленно загорающиеся, ровно и долго горящие — флегматики, чувствительные; есть зажигающиеся медленно, горящие пригашенно, но с повышенной чувствительностью, с переливами полутонов — это меланхолики. Есть люди, у которых сильнее звучат физические струны влечений и слабее — психологические. Их, очевидно, больше среди мужчин и женщин сильного полового темперамента (таких примерно 12–15 процентов всех людей), а также среди молодых мужчин и людей, не очень развитых душевно. Есть люди, у которых громче звучат психологические струны влечений и тише физические. Таких больше среди мужчин и женщин слабого или умеренного темперамента, которые глубоки душевно, да и вообще среди женщин. А как зависят любовные чувства от своеобразия человеческих ощущений, нервных реакций? Возможно, у «долгочувствов» (пылких, чувствительных, меланхоликов, флегматиков) любовь больше тяготеет к длительности, а у «краткочувствов» (холериков, сангвиников, нервических, беспечных) гаснет быстрее… Узкое поле ощущений, видимо, помогает любви быть более стойкой, а широкое уменьшает ее стойкость, но зато усиливает ее праздничность, радужную яркость… Ненасытность ощущений порождает пылкую, но неровную любовь, любовь-страсть; насытимость не дает чувству такого накала, но зато она делает любовь более ровной и спокойной… У интровертов, направленных в себя, и у бивертов, двуцентристов, чувству легче быть долгим, чем у экстравертов, внецентристов; зато у экстравертов чувство искрометнее и жизнелюбивее… У интровертов сильнее психологические слои любви, у экстравертов — физические, а у бивертов они уравновешены. Хотя, конечно, именно здесь очень многое зависит от духовного уровня, и у духовно развитого экстраверта психологические слои чувства могут быть сильнее, чем у тусклого интроверта. От того, какой у человека темперамент, зависит его предрасположенность к каким-то, хотя и разным, видам любви. Так, пылкий и чувствительный больше тяготеют к эросу и сторгэ, а если они интроверты, то и к мании. Флегматик и меланхолик влекутся к сторгэ и агапэ, нервический и холерик — к мании, иногда к эросу, лудусу… Крупную роль играет здесь половой темперамент: чем он сильнее, тем больше человек переживает я-центрические, наслажденческие влечения, чем слабее — тем больше он тянется к ощущениям равновесным, неэгоистическим. И конечно, склад любовных чувств прямо зависит от склада человеческой нравственности, от нашего я-центризма, альтруизма или эгоальтруизма. Одни люди больше влекутся к я-центрическим чувствам — лудусу, мании, другие к альтруистическим — агапэ, третьи к уравновешенным — сторгэ, эросу, прагме… Своеобразную музыку любовного чувства (именно чувства), его особый облик создает, видимо, квартет своеобразий: своеобразие наших темпераментов — психологического и полового, своеобразие характера, своеобразие нравственного склада. Вид любви, к которому влечется человек, возникает на их стыке, порождается их сплавом, равнодействием. Как именно это происходит, сколько есть видов любви — здесь лежит огромное поле работы для будущей психологии чувств. А по каким признакам можно различать виды любви? У любви, очевидно, есть какие-то главные опорные свойства, и вид любви зависит от того, какие они и как сочетаются в человеке. Таких опор, видимо, четыре, и классификацию любви стоило бы строить, основывая ее на эти опоры. Во-первых, это длительность любви, ее долгота или краткость, скорость ее загорания и затухания. Во-вторых, это сила, накал чувствований. В-третьих, это духовные и физические потоки чувства, их сравнительная сила и пропорция. В-четвертых, это внутренняя направленность чувства — его я-центризм, альтруизм или эгоальтруизм. Просвечивая любовь сквозь эти четыре призмы, и можно, видимо, уловить все ее виды, понять, какие они и чем отличаются друг от друга. Возможно, впрочем, что существуют и другие опорные свойства любви, — это выяснится, когда нынешние зародыши психологии любви выйдут из куколки. Это сложная и долгая работа, для нее будут нужны кропотливые исследования, а пока, наверно, придется использовать нынешнюю классификацию, но помня при этом, что она приблизительна и неточна.Романтическая любовь.
Почему мы так плохо знаем, что есть разные виды любви? Не потому ли, что европейское искусство, наш главный учитель любви, почти все свое внимание отдавало любви-эросу и любви-мании и почти не замечало других видов любви? Эрос и маниа — чувства-страсти, и их воспевала вся европейская лирика — от Архилоха, Сафо и Катулла до трубадуров, Данте и Петрарки, от Байрона и Пушкина до Маяковского и современных поэтов[110]… И европейская трагедия ужасала людей страстью — от Софокла и Еврипида до классицистов и Ибсена. И проза больше всего писала о чувствах-страстях — от «Дафниса и Хлои» Лонга и «Эфиопики» Гелиодора до рыцарских романов, от «Новой Элоизы» и «Исповеди» Руссо до «Вертера» Гёте, «Анны Карениной» Толстого, «Гранатового браслета» Куприна, «Митиной любви» Бунина, «Жана Кристофа» Роллана и многих современных писателей… Особую роль здесь сыграли романтики XVIII–XIX веков — немецкие, английские, французские. Они ввели в европейскую культуру любовь-экстаз, молитвенное и всесжигающее чувство, которое ввергает человека в пучины блаженства и топи отчаяния. Они возвели любовь в сан религиозного слияния двух людей, в таинство мистического откровения. Как писал об их понимании любви известный исследователь романтизма академик Жирмунский, «любовь открывает любящему бесконечную душу любимого. В любви сливается земное и небесное, чувственное одухотворено, духовное находит воплощение; любовь есть самая сладкая земная радость, она же — молитва и небесное поклонение»[111]. Романтики шли здесь за Платоном, за его идеей любви как мировой силы, целительницы человеческой природы, и в этом было их величие. Но они хотели абсолютной любви, полнейшего слияния двух душ, их растворения друг в друге. Они хотели, чтобы предельная любовь одного человека встречала в ответ такую же любовь — такую же до мелочей, до близнецовой одинаковости. И от невозможности такой любви их чувство было гибельным, трагическим. Романтическая любовь-страсть вбирала в себя всего человека, захватывала в плен все его существо и направляла на любимого человека все силы его души без изъятия. Как будто все, что есть в человеке — все его ощущения и чувства, все мечты и мысли, все его потаенные глубины — все это переплавлялось в божественную материю любви и изливалось светоносным потоком на любимое существо. Но, отдавая себя до дна, без остатка, это чувство требовало полнейшей ответной самоотдачи — жертвенной и абсолютной. Оно требовало от любимого полного замыкания на себе, оно деспотически ревновало его к любому интересу вне себя, к малейшему снижению пылкости. Накал этого чувства был предельно взвинчен, и оно испепеляло людей, надрывало их души. У такого отношения к любви были и предшественники в человеческой истории. Рыцарская любовь средневековья, как мы знаем, обоготворяла женщину, впрочем, не всякую, а ту, которую «обоготворял» — поднимал до себя — божественный луч любви. Возлюбленная была мировой величиной для чувств любящего, и рыцарская любовь возводила в событие малейший перелив ее взгляда, мельчайший трепет настроения. Все они были просвечены божественным лучом и все были наполнены от этого высшим — божественным — смыслом… Два психологических источника питали такое ощущение любви: религиозный экстаз и пылкий темперамент. Рыцарская любовь была романтическим чувством, и ее идеалы стали одним из главных фундаментов европейской любовной культуры. С самого начала европейское понимание любви тяготело к романтической односторонности, с самого начала оно было порождением лишь одного психологического темперамента или одной группы темпераментов — восторженных[112]. И постепенно один из психологических видов любви — любовь-страсть — стал считаться любовью вообще, истинной, настоящей любовью. Мерилом любви, ее пробным камнем стал накал чувства, его «количество», а не «качество». Чувства, в которых было меньше полыхания, подсознательно ощущались как бедные родственники любви, подступы к ее вершинам. И пусть даже они были пропитаны эгоальтруизмом, но, если в них не хватало страстности, они были недостойны называться любовью. Такое суженное понимание любви главенствует до наших дней и в европейской культуре, и тем более в обиходе…Кому доступна любовь-страсть?
Многие, наверно, понимают, что любовь-страсть доступна далеко не всем. Французские психологи думают, что к ней неспособны те, кто слабо возбудим и кто может держать в руках свои эмоции. Их чувства не дают им такого толчка, с которого началась бы бурная кристаллизация — та кристаллизация, которая меняет все мироощущение человека, всю его психологическую оптику. Для любви-страсти, считают Андре ле Галл и Сюзанна Симон, нужен темперамент, который держится на трех китах: сильной возбудимости, глубоком долгочувствии и узком поле ощущений — «телескопе сознания». По-моему, им помогают (может быть, на вторых ролях) активность эмоций и их ненасытность. На этих опорах (или на большинстве из них) и стоит, видимо, любовь-страсть — чувство-деспот, которое порабощает душу. Страсть всегда действует на человека двояко: она резко повышает его интерес к любимому и так же резко снижает все другие интересы. Разражается коренной переворот во всех ценностях человека, во всех его тяготениях и пристрастиях. Все их заглушает одно могучее чувство, все они бледнеют и стушевываются перед ним. Чем больше сил души берет себе страсть, тем меньше их остается на все остальное; чем больше нервно-эмоциональной энергии вливается в тягу к одному человеку, тем меньше ее выпадает всему остальному миру. Страсть — это чувство-абсолют, которое стремится заполонить человека абсолютно — до последних пределов. И раз так, то страсть, видимо, может быть только у пылких (В — А—Д) и чувствительных (В — нА — Д), и то, наверно, не у всех, а у тех, у кого узкое поле восприятий и ненасытные ощущения. Возможно, впрочем, что на страсть, но более короткую, способны и холерики (В — А—К), но, видимо, не все, а интроверты с узким нолем и ненасытностью ощущений. Краткочувствие, конечно, мешает им: чтобы образ любимого смог до дна заполонить психику, нужна биологическая способность нервов долго испытывать каждое ощущение любви, чувствовать его по инерции, переживать его эхо, отблески. Именно такое долгоиграние эмоций и углубляет, драматизирует чувство, придает ему накал страсти. Но возможно, что роль удлинителя ощущений, их продлителя могут брать на себя узкое поле и ненасытность ощущений. Если холерик обращен в себя, интровертен, если его ощущения трудно насытимы и у них узкое поле (и если ему при этом приходится долго завоевывать свою любовь), тогда его влечения бьются в тесном русле, усиливают друг друга и могут раскалить любовь до страсти. Итак, пылкий, чувствительный, холерик — вот три человеческих темперамента, у которых само нервное строение благоприятно страсти, помогает испытывать ее. В очень редких, пожалуй, в исключительных случаях страсть может вспыхивать у нервического (В — нА — К), у флегматика (нВ — А—Д). Их нервное строение не способствует страсти, как и нервное строение сангвиника (нВ — А—К), меланхолика (нВ — нА — Д), беспечного (нВ — нА — К).Утопическое чувство.
Французские психологи считают страсть враждебным для человека чувством. Любовь-страсть, говорят А. Ле Галл и С. Симон, — это полный разрыв с реальностью, она устремлена к несчастью и смерти — «она сжигает за собой мосты к жизни, делает жизнь отныне бесполезной»[113]. «Из-за страсти, — пишет Ф. Алкье, — мы отказываемся понять, каким будет наше будущее, следствие наших поступков… Из-за страсти мы отказываемся понять облик настоящего… Наконец, из-за страсти мы отказываемся думать о прошлом как о том, что прошло, чего больше нет. Мы утверждаем, что оно не мертво… Всем этим страсть есть безумие»[114]. Что ж, во многом эти слова верны; страсть — чувство-утопия, в ней немало самообмана, иллюзий, и она вселяет в человека воспаленное отношение к жизни. Но это лишь часть страсти, лишь одна ее сторона. По-моему, любовь-страсть — не только безумие, и в ней есть не только отлет от реальности. В ней есть и сверхразумие, есть «утопический реализм» — бросок к сути жизни, тяга к идеальному устройству человеческих отношений. Любовь-страсть — эхо нашего подсознательного стремления видеть и настоящее, и прошлое, и будущее счастливым, до предела человечным. Это двоякое стремление: оно обманно, утопично, но оно и побуждает нас улучшать жизнь, создавать в ней островки личной утопии — островки добра, счастья, радости. А эти островки — модели того, какими должны бы быть истинные человеческие отношения; и творчеством таких островков и должна бы, наверное, быть настоящая жизнь — естественная, обычная жизнь людей-творцов. Да, страсть безумна, она подменяет глаза человеку и вселяет в него слепоту. Но она и служит одним из главных психологических усилителей нашей тяги к человечному устройству жизни — ненормальным усилителем нормального стремления. И отношение к прошлому как к чему-то живому — это тоже не обман и безумие. Конечно, прошлого уже нет, оно исчезло, перестало быть. Но оно и осталось внутри настоящего — как материал, из которого это настоящее состоит, как живая ткань, из которой оно соткано. Сегодняшнее дерево — это миллиарды клеток, которые возникли вчера и позавчера. Сегодняшняя душа каждого из нас — это отпечаток миллиардов ощущений и мыслей, которые мы испытывали всю прошлую жизнь. Каждое наше дыхание, каждая мысль, каждый микропоступок — все они переплавляются в клетки нашего тела, искорки духа, строительные мозаинки личности. Секунды прошлого прошли, но они пересоздались, воплотились и в наши души, и в живые нравы эпохи, и в живое строение общества. И сегодня — это лишь точка роста на миллиардах живых вчера, как бы верхушка бамбука, которая растет у нас на глазах. Прошлое всегда живо — и не в переносном, а в прямом смысле, — как внутренний фундамент настоящего, как основа всего его облика.Фантазии и «эффект Эдипа».
Испуганные романтиками и обманутые рационалреалистами, мы считаем мир мечтаний и памяти чем-то нереальным и призрачным. Сладостные ныряния в глубины прошлого, сладостные взлеты в воздушные замки будущего кажутся нам чем-то наивно детским, сбивающим с толку… Но воздушные замки — это самые прочные из земных построек, хотя и самые рассыпчатые; такое сочетание полюсов — обычный парадокс обычной жизни. Жизнь в них дает нам неиссякающие потоки радостных ощущений, положительных эмоций — и лечит этим душевные раны, оберегает здоровье психики, растит неосознанное самоуважение. А главное — она заряжает нас тягой построить на земле эти воздушные замки, возвести их своими руками. Недоверие к фантазии, мнение, что она отвлекает от дела, возникло в русской культуре больше ста лет назад, во времена революционеров-демократов. Или практические дела, или бесплодные фантазии — так считается с тех пор в нашем обиходе. Но витание в мире грез и фантазий — одно из самых полезных практических дел нашей жизни. Это одно из тех дел, которые больше всего тренируют в человеке творца. Недаром струны грез и фантазий так колокольно звучат в детские годы — главные годы рождения творческих пружин: это, наверно, работают самые глубокие, самые естественные двигатели человека, которые предназначены пробуждать в нас творца. Создание грез — это создание мысленного мира, выдуманной жизни, и эта выдуманная жизнь правит — вместе с другими рулями — и нашей реальной жизнью. По своим психологическим пружинам сотворение фантазий — такое же творчество, как творчество писателя, композитора, художника: все они создают второй мир, мысленный и несуществующий. Только у «грезотворцев», в отличие от писателей, это мир из одних сияющих вершин, без темных пропастей и серых равнин обычной жизни. Фантазирование — это творение в себе творца. Тяга к фантазии — одно из главных родовых свойств человека, одно из важнейших его отличий от животных. Фантазия — это как бы моделирование желаемой нам жизни, как бы эмоциональное «прогнозирование» будущего, которое сильно влияет на это будущее. У футурологов есть термин — эффект Эдипа, взятый из древнегреческого мифа. Родителям Эдипа предсказали, что он убьет отца и женится на матери; и как они ни старались избежать предсказания, оно сбылось. Футурологи считают, что предсказание будущего усиливает его вероятность, и это и есть эффект Эдипа[115]. Предвидение почти всегда действует на предсказываемое событие — приближает его или мешает ему наступить. Думы о будущем, мечтания о нем незаметно усиливают тягу именно к такому варианту будущего, безотчетно рождают дела, которые ведут к нему. Вплетаясь в вереницу сил, правящих жизнью, эти дела и эти чаяния будущего увеличивают его шансы на жизнь, на то, что оно придет. Даже ложные прогнозы иногда сбываются, становятся истинными, потому что прогноз — как гипноз — подсознательно действует на людей, заставляет их работать для своего осуществления. Так фантазия лепит реальность — вместе с реальными силами; впрочем, она тоже — одна из самых реальных сил жизни, один из самых мощных двигателей человека — конечно, если она не довольствуется собой, а толкает нас на дела, поступки.Утро и день любви.
Кто годен и кто негоден к браку?
«Существуют ли такие типы людей, которые особенно пригодны для брака?» (г. Тольятти, Куйбышевская обл., Политехнический ин-т, апрель, 1980.) «Какие характеры вообще не могут притереться друг к другу? Есть ли абсолютно несовместимые люди или в любом случае можно что-то сделать?» (1-й подшипниковый завод, март, 1978.) «Современная индивидуализация людей не делает ли невозможной долгую совместную жизнь?» (Московский энергетический институт, ноябрь, 1980.) Еще в двадцатые годы этими вопросами задался Т. Ван де Вельде. Наблюдения привели его к выводу, что лучше всего приспособлены к браку «синтонные пикники» — то есть экстраверты, открытые миру, с радушным и жизнерадостным характером. У них, считал он, есть абсолютная пригодность к супружеству, они «годны к браку с каждым нормальным человеком»[116]. Но таких людей мало, говорил Ван де Вельде, а у остальных есть относительная годность к браку, — не со всеми, а только с людьми обратного темперамента, противоположного типа. К браку с человеком своего типа, считал он, они относительно негодны. Ван де Вельде добавлял при этом, что речь идет только о здоровых людях, а у людей с болезнями, с отклонениями от нормы пригодность к браку понижена. Очевидно, здесь много верного: чем «синтоннее» человек, то есть чем он «созвучнее» с другими, чем радушнее и открытее к ним, тем легче с ним жить и уживаться. И наоборот, чем человек «дистоннее», «разнозвучнее» с собой и с миром, чем больше он обращен в себя, тем труднее с ним и жить, и уживаться. Но всегда ли для такого уживания нужен человек противоположного типа? Для совместимости нужны и полярные, и похожие свойства, и она бывает полнее всего, когда стоит на трех китах: на духовно-душевном сходстве, на близости полового темперамента и полярности психологического. (И, конечно, на таком поведении, которое сближает, а не отдаляет людей.) Впрочем, когда Ван де Вельде выводил свои законы пригодности к браку, он учитывал в основном только темперамент человека, только нервно-психический склад. Мораль, взгляды, позиции, поведение — все это он оставлял в стороне, и это делало его подход полуверным. В пятидесятые годы английский врач и психолог Блейкер исследовал 8 тысяч человек и выяснил, что по складу своей личности 60–65 процентов людей могут быть хорошими семьянинами, 30–35 процентам трудно жить в браке и около 3 процентов людей совсем негодно к браку[117].Акцентуированные личности.
А как обстоят дела у нас? К сожалению, отечественные психологи таких работ не проводили, а переносить на нас английские цифры, да еще тридцатилетней давности, конечно, нельзя. Впрочем, кое-какие данные здесь есть. Во второй половине века в человеческой психологии идут перемены, невыгодные для супружества. Как установили психиатры из разных стран мира, появилось множество «акцентуированных личностей» (от акцент — ударение, упор), людей, у которых чрезмерно обострены одни стороны характера и притуплены другие. Этот акцент отпечатывается на всей манере чувствований, поведения, мышления; характер человека делается от этого или тревожным, или педантичным, или демонстративным, или излишне возбудимым, излишне замкнутым… Усиленно действуют его самозащитные, я-центрические струны, и вокруг человека как бы нарастает невидимая оболочка обособленности. Это не патология, а еще норма, но уже у предела, у самой границы с болезненным отклонением. Таких людей в 70-е годы было у нас от четверти до 40 процентов, а, скажем, в ГДР — около половины[118]. Как показало одно отечественное исследование, акцентуированных мужчин намного больше, чем акцентуированных женщин, зато женская акцентуация, заострение характера, гораздо сильнее мужской[119]. Правда, исследование это проводилось только внутри технической интеллигенции, среди людей 40–45 лет, жителей большого города, и переносить его выводы на другие возрасты и социальные слои можно только с поправками. Среди молодежи акцентуированных людей, возможно, меньше, меньше их, наверно, и в деревне, и в небольших городах. Но образованные слои большого города — это опережающая модель, к которой идут и другие слои, модель их завтрашнего состояния. И вполне возможно, что сейчас, в конце 80-х годов, другие слои и возрасты догоняют здесь техническую интеллигенцию 70-х годов. «Какие черты акцентуированных личностей опаснее всего?» (г. Горький, молодежный клуб общения «Я и ты», май, 1987.) Автор исследования, о котором шла речь, специалист по сексологии и совместимости Ю. А. Решетняк, выяснил, что акцентуация явно усложняет отношения мужчин и женщин. Обычный мужчина гораздо труднее уживается с акцентуированной женщиной, чем с обычной; еще труднее уживаются между собой акцентуированная женщина и акцентуированный мужчина. Причем самое опасное, пожалуй, то, что в их отношениях есть ловушка, основанная на странном парадоксе — «чем необычнее, тем привлекательнее». Каждого из них влечет к другому именно заостренность чужого характера («не такой, как все») — самая трудная для совместимости черта. Каждому кажется, что чужая необычность хорошо подходит к собственной необычности. На деле же две необычности вдвое дальше друг от друга, чем две обычности, и двум непохожестям вдвое труднее ужиться, чем двум похожестям. Заостренность, акцентуированность характера — это чаще не перекидной мостик между людьми, а разделительный барьер. Это двойной капкан: в начале знакомства, пока действует радужная оптика, он притягивает людей друг к другу, создает в них иллюзию «рифмующихся душ». Но чем дальше, тем больше у них несогласий, и тем больше две заостренности делаются двумя сторонами стены, которая растет между людьми. Сила их расхождения, его вероятность, как выяснил Ю. А. Решетняк, в пять раз больше, чем вероятность сближения. Это, видимо, значит, что из пяти акцентуированных пар только в одной могут победить силы сближения, а в четырех парах (в 80 процентах!) могут скорее перевесить силы разбегания. Конечно, это не жесткое правило, а вероятность, предрасположенность. Человек может ослабить минусы своей заостренности, и тогда они меньше будут мешать уживанию. Но сама по себе акцентуация — это дополнительная помеха уживанию. Она делается все более эпидемической, и поэтому сейчас, как «скорая помощь», нужны лекарства от акцентуации, особые способы, которые помогут ее смягчать. Если даже акцентуированных людей у нас от четверти до четырех десятых, это 30–50 миллионов взрослых — 30–50 миллионов людей, которые повышенно тяготеют к супружеским неудачам. Это социальная беда — такой источник личных бед, который несет тяжелую опасность для общества. У кого еще затруднена супружеская совместимость, кому трудно — и с кем трудно — жить в браке? «Полюбила человека, а он эгоист. Может ли он полюбить меня? И могут ли двое быть счастливыми, если один из них эгоист?» (Московский энергетический институт, ноябрь, 1980.) «Мне кажется, даже любовь не может победить эгоизм. Что же делать? Не жениться? Ведь семья, еще не родившись, обречена на развод. Как быть?» (Киев, дискуссионный клуб VIстуденческого фестиваля, Дом учителя, май, 1988.) Американский психолог Тиненбом неплохо сказал по этому поводу: «Когда Джон окружен с севера Джоном, с юга — Джоном, с востока — Джоном и с запада — Джоном, тогда у Джона не может быть хорошего брака, и жалко ту женщину, которая выйдет замуж за него»[120]. И Станислав Ежи Лец, известный польский сатирик, едко уколол эгоистов своей иронической наивностью: «Мы смотрели в глаза друг другу, я видел себя, и она — себя»[121]. Зрение у такого человека внешнее, и даже в глазах близкого он видит не его душу, а свой отпечаток. Он неспособен к нормальному супружеству по всему своему складу, всей своей душевной оптике; эгоизм — не просто синоним несовместимости, это ее отец. Другим родителем несовместимости или полусовместимости может быть болезнь, в том числе невроз, или неумение налаживать совместимость, очень частое сегодня, или такая разница в людях, которая пересиливает их сходство. Что касается абсолютно несовместимых людей, то, во-первых, это два эгоиста — пожалуй, самый распространенный сегодня случай такой несовместимости; во-вторых, это враги-любовники (типа Марютки — Говорухи-Отрока, но в бытовом выражении) — люди полярного подхода к жизни; в-третьих, люди противоположных половых темпераментов — сильного и слабого. Душевный союз всех таких людей может быть только коротким, магнитные силы, которые влекут их друг к другу, в большинстве случаев быстро иссякают. Впрочем, многих эгоистов спасает от краха непоследовательность их эгоизма, то, что он перемежается с неэгоизмом. Именно эта непоследовательность и делает их полуспособными к семейной жизни.От кого и как защищать семью.
«Но есть люди, которые совсем неспособны к семейной жизни, и им лучше жить одинокими, без семьи. Их незачем принуждать к семейной жизни, не надо агитировать за нее, так как они только принесут несчастье близким. Известно ли, сколько таких людей есть сейчас? И не надо ли отказаться от шаблона всесемейности? Пусть каждый живет, как ему лучше, а общество должно помогать всем, а не только семейным». (Зеленоград, лекторий семейно-бытовой культуры, октябрь, 1983.) До сих пор шла речь о людях, которые ограниченно годны к нормальной супружеской жизни. Многие из них могут — в принципе — преодолеть свои противосемейные слабости, но для этого им нужны неутихающие усилия. А кто же совсем неспособен к нормальному супружеству — именно нормальному, построенному на теплой душевности, на доброй помощи друг другу? Это люди серьезно больные, причем те, кто не просто болен телом, душой или нервами, а еще и живут в плену у своей болезни. Болезньдвижет их настроениями, мыслями, поступками, и они сеют вокруг себя токи недовольства и раздражения, холодные волны недобрых чувств. Это как бы психологические инвалиды, которые не могут давать близким радость. В их число входят больные психопатиями и олигофрены (слабоумные), алкоголики, наркоманы, пьяницы, близкие к алкоголизму. В развитых странах Запада таких людей 20–25 процентов. У нас данные о них не публикуются, но, по оценкам некоторых физиологов и социологов, таких людей не меньше, а то и больше. Чем быстрее ритм жизни, чем уродливее минусы нынешней повседневности, тем массовее делаются «болезни безволия» и психические заболевания[122]. Гуманен ли «шаблон всесемейности», нужен ли он? Семья — это, пожалуй, самая гуманная из всех человеческих ячеек, она больше всего делает человека человеком. В других человеческих ячейках — скажем, в трудовой — человек выступает больше не как личность, а как исполнитель типовой роли — токаря, доярки, продавщицы, бухгалтера, конструктора… Работа требует от человека именно типовых — «ролевых» — профессиональных умений, типовых черт, а не личных, индивидуальных. Все «ролевые» ячейки вбирают в себя только часть человеческой личности, все построены как минимум на полуотчуждении этой личности. Семья — современная семья — единственная человеческая ячейка, в которой нет такого отчуждения. Она стоит не на ролевой основе, а на личностной; вернее, все ее роли носят предельно личный характер, и, чтобы быть нормальным мужем и женой, нормальным отцом и матерью, надо вкладывать в эти роли все главные основы своей души. Человек глубже всего проявляется — и больше всего складывается — в семье, и поэтому семейное состояние — одно из наивысших человеческих состояний. Но именно поэтому семью и надо бы оберегать от тех, кто может ее только разрушить, от тех, кто неспособен к нормальной семейной жизни. Но что значит оберегать семью? Запретить жениться больным, алкоголикам, наркоманам или, скажем, генетически неполноценным (их сейчас 10 процентов)[123],как это запрещено психически больным? У нас нет системы медико-биологической защиты брака, нет шкалы «показаний» и «противопоказаний» к браку — медицинских, психологических, сексологических, нравственных, житейски-социальных… Нужен, видимо, свод каких-то минимальных запросов к человеку-семьянину, и он должен бы стать ядром медико-биологической и социальной защиты семьи. А в пару к такому своду нужен набор тестов, который показывал бы нам самим: вот тут ты, как семьянин, можешь не опасаться себя, тут у тебя уязвимое место, а вот здесь в твоей душе — или в твоем здоровье нет тех устоев, которые только и могут выдержать тяжесть брака. Можно, пожалуй, предположить, что большинство нынешних «абитуриентов в супруги» (да и самих супругов) с трудом прошли бы сквозь эти тесты на «брачную зрелость»… Но, конечно, запреты на брак должны быть гуманными; закрывать дорогу, наверно, стоит только тем людям, которые совсем не способны к нормальному супружеству: психически больным, пока они не вылечены, алкоголикам, пока они алкоголики, и т. п. А вот людей, генетически неполноценных или, скажем, легких олигофренов, по-моему, негуманно лишать права на супружество, но гуманно лишать права на потомство… А как быть с людьми, которые не дозрели до брака душевно, нравственно? Возможно, для таких стоило бы установить продленные сроки помолвки — своего рода испытательный срок, скажем, в полгода, год. Наверно, при любом исходе помолвки, при любых показаниях тестов такие люди сами — только сами — должны принимать решение, жениться им или нет. Но общество должно бы возлагать на них усиленную ответственность за судьбу их брака — и усиленно помогать им через семейные консультации. Обо всем этом надо, конечно, думать, спорить, искать всем вместе меры защиты семьи. Но, наверно, в любом случае не запреты на брак — главное в защите семьи. Главное — так переустроить жизнь, чтобы она рождала максимум способных к супружеству и минимум неспособных. Это громадная социальная задача, и она потребует коренного переустройства всего нынешнего уклада жизни, всего общественного организма. Частью этого переустройства должна, видимо, стать совершенно новая стратегия социальной помощи семье, о которой уже говорилось — не частичная помощь, как сейчас, а системная, универсальная: помощь во всех сторонах жизни семьи, укрепление всех ее слабых мест, лечение всех ее болезней одновременно.Убежденные одиночки.
Что касается помощи одиноким, то, конечно, общество должно помогать и им. Сейчас в нашей стране больше 40 миллионов людей неженатых и незамужних — мы стоим здесь на одном из первых мест в мире, пропуская вперед, как и с разводами, только США. Появилось очень много убежденных холостяков, причем не только среди мужчин. Пожалуй, еще никогда в истории не было столько женщин, которые не нуждаются в мужчинах: это оборотная сторона нынешних планетарных переворотов в человечестве, одно из главных боковых следствий антипатриархатной революции. Точные цифры их неизвестны, но, судя по наблюдениям, их становится все больше и больше. Одна из причин такого роста — то, что в супружеском возрасте у нас гораздо больше одиноких женщин, чем одиноких мужчин. Этот женский перевес особенно велик в старших поколениях, у тех, кому за пятьдесят, но он — вплоть до середины 80-х годов — был очень заметен и в молодых поколениях. Поэтому у многих девушек и многих молодых женщин, особенно разведенных, были в последние десятилетия очень понижены шансы на замужество. Среди них-то и стала разрастаться психология убежденного одиночества, которая возводила безвыходность в выход, превращала безвыборность в выбор… Убежденные холостяки делятся на несколько разрядов. Во-первых, это люди, которые болезненно неспособны к нормальному супружеству и не питают нужды в нем (алкоголики и т. п.). Во-вторых, это люди, которым чрезмерный эгоизм загораживает дорогу к семейному счастью, а жизнь без обязанностей, с одними правами кажется заманчивой и легкой. Их много среди мужчин и немало среди женщин. Третий разряд — те несчастные и усталые люди, у которых не хватает сил на семейные напряжения или ослаблено половое здоровье. Они убедили себя, что одинокая жизнь спокойнее, и если в ней меньше радостей, то меньше и горя, волнений. У многих из них, особенно у женщин, эта убежденность самозащитная, самоуспокаивающая. Они не могут насытить свою сердечную потребность в близком человеке и, чтобы заглушить душевную боль, подсознательно внушают себе, что он им не нужен… Впрочем, у многих женщин эта сердечная потребность стихла, поутратила силу. Убежденные одиночки — это часто женщины с подточенной женственностью, жертвы того омужчинивания женской психологии, которое принесла с собой эмансипация. Стремление к одиночеству — это по своей психологии скорее мужская склонность, отзвук мужской необремененности детьми. Женщина всей своей эмоциональной и материнской природой влечется к союзу с мужчиной, жаждет помощи ему и от него. И когда такое тяготение к мужчине вытесняется безразличием, это тревожный вывих в самих основах женской природы. Впрочем, это скорее беда, а не вина женщин, плод нервной измотанности — от двойного рабочего дня, торчания в очередях, сплющивания в автобусах, кухонного прислужничества… Это вина (и беда) общества, которое не создало для женщины климата благоприятствования. «Я разведена с мужем уже 10 лет. И я не хочу замуж! Можно понять людей молодых, тех, кто никогда не был замужем или у кого нет детей. Но говорить об одиночестве, когда есть дети… Где взять время на одиночество? Когда дети маленькие, забот полно. Подросли — в выходные с ними в лес за грибами, за ягодами, зимой на лыжах, на каток, в театр, в кино. Выйдут замуж — внуки появятся. Да мы, разведенные, счастливее тех, кто замужем! Они только внешне сохраняют свою семью, а сами уже давно надоели друг другу». (С. А., Москва, октябрь, 1986.) Такое настроение распространяется в последнее время все больше. Его сторонницы отдают всю душу материнству — одному из двух своих женских предназначений — и считают, что другое такое предназначение, супружество, им не нужно. Женщины из «материнских» семей иногда задумываются: а может быть, это нормальная семья и в ней нет ничего неполноценного, неестественного? «Не рождается ли сейчас новая семья — времен эмансипации — мать и дети, без мужа? У такой семьи есть недостатки, особенно для воспитания, но зато жить в ней спокойнее, нет ссор с мужем, а это очень важно для женщины. Не пора ли признать, что семья мать с ребенком — законный вид семьи?» (Иваново, текстильный институт, март, 1988.) По-моему, в этих словах много правды. У человеческой семьи не одна модель, а несколько. С давних пор у европейцев было две такие модели: малая семья, из двух поколений — муж, жена, дети, и большая, из трех поколений — гроздь нескольких малых. Новый уклад жизни несет и новые модели семьи. Нерасторжимый брак уступает сейчас место расторжимому, а кроме того, небывало затруднены брачные знакомства. Два эти переворота в личной жизни делают материнскую семью массовой: семья или становится материнской после развода, или с самого начала возникает без мужа — мать с ребенком. Каждый год у нас появляется около миллиона материнских семей — рождается новая модель семьи, нормальная для новых условий[124]. Многие, наверно, понимают, что у семьи есть две меры нормальности: состав семьи — мера «количественная», и отношения в ней — «качественная». Наверно, лучше всего, когда обе эти нормы встречаются в полной семье с хорошими отношениями. Но что лучше — когда в полной семье плохие отношения или в неполной — хорошие? Какая из этих семей «нормальнее»? Пожалуй, женщина из письма права тут в своем парадоксе: «Мы, разведенные, счастливее тех, кто замужем! Они только внешне сохраняют свою семью…» Но у каждого вида семьи есть свои преимущества и свои изъяны, и их стоило бы видеть открытыми глазами — видеть, чтобы уменьшать. Как, скажем, в неполной семье восполнить детям отца? Это тяжелейший изъян материнской семьи, и, если его не залечить, материнская семья будет «полунормальной» — как и полная семья с неважными отношениями. К сожалению, этого не видит женщина из письма. Ей достаточно одних только детей, она не чувствует себя обделенной без мужа, и это ее личное дело: к ее выбору надо, наверно, относиться с уважением. Но достаточно ли ее детям одной только матери, не чувствуют ли они себя обделенными без отца? По-моему, жизнь без отца обедняет больше, чем жизнь без мужа…«Только утро любви хорошо»?
«Согласны ли вы, что «только утро любви хорошо, хороши только первые встречи»? И что лучше, сразу выплеснуть любовь или растягивать ее на долгие годы, сдерживать себя?» (Куйбышев, Дворец спорта авиазавода, апрель, 1980.) «Не ведет ли сильная любовь к скорому разводу? («Дождь сильный льет мгновенно…») Сильное первое влечение может быстро пройти, и стоит ли без него поддерживать семью?» (Высшая комсомольская школа, ноябрь, 1979.) «Куприн писал: удовлетворенная любовь иссякает, а иссякнув, разочаровывает, и на душе остается только боль и обида. Что вы об этом думаете?» (Новокуйбышевск, ДК имени Ленина, клуб книголюбов, апрель, 1980.) Любовь — самое утреннее из наших чувств, говорил Фонтенель, французский писатель и философ XVIII века. Но у любви может быть и светлый день, и теплый вечер, и в каждом из этих чувств — утреннем, дневном, вечернем — есть своя прелесть, которой нет в других ступенях любви. «Только утро любви хорошо, хороши только первые робкие речи» — эти строки Надсона рождены очень ранимой мужской психологией и очень сильной — романтически сильной — двойной оптикой влюбленности. Облик возлюбленной виден сквозь эту оптику таким белоснежным, что душу влюбленного сотрясает почти религиозное преклонение. Потом на эту икону сердца начинают ложиться блики обыденности, и каждый из них на крупицу ослабляет, гасит нестойкое чувство… «Только утро любви хорошо» — это психология трагического по своей сути чувства, чувства с короткими крыльями: оно начинается со взлета счастливости и сразу же — без парения и планирования — переходит в спуск, падение, пике… Это скорее влюбленность, чем любовь, а если любовь, то лишь один из ее видов — любовь-маниа. У счастливой любви — у других ее видов — день может быть ярче утра, особенно у женщин. Той же ранимой мужской психологией и той же психологией побеждаемой любви рождена и мысль, что удовлетворенная любовь иссякает, оставляя после себя горькое разочарование. Так бывает с влюбленностью, а не с любовью: у влюбленности как бы короткий аппетит, и если она не перерастает в любовь, этот аппетит скоро насыщается, и влюбленность начинает иссякать. Любовь не умирает от удовлетворения; наоборот, она умирает только от неудовлетворения — это один из ее главных законов. Удовлетворяясь, любовь не иссякает, а, как дождь в почву, все глубже впитывается в подспудные пласты души, в ее потаенные закоулки. Удовлетворенность любви — это одна из коренных опор, которая поддерживает ее жизнь. При этом, конечно, насыщение любви не должно становиться пресыщением, ибо если насыщение продляет жизнь любви, то пресыщение укорачивает ее.Чем сложнее люди, тем короче счастье….
«Уважаемая редакция! Мне 17 лет, я учусь в Ростовском педагогическом училище, и моя будущая профессия — воспитательница в детском саду. Прочла статью Ю. Рюрикова «Любовь: ступени культуры» и решила высказать свое несогласие. Автор пишет, что через несколько лет после свадьбы чувства уцелевают меньше чем у половины супругов. Он говорит, что у одних паруса чувств оказываются одуванчиками и облетают от первого ветерка, а у других они, хотя и крепче, но не выдерживают шквалов жизни. Он утверждает, что, чтобы сохранить чувство, нужен тяжелый, даже каторжный труд души. Но стоит ли жениться по любви, если потом мы обречены каторжно трудиться? Тогда уж лучше выходить замуж по расчету. Правда, в таком браке самой малости не хватает — любви, но зачем она, если все равно через несколько лет она умирает? Незачем ставить резкую грань между отношениями до и после брака, разница не такая уж большая. Дело, по-моему, в другом. Ведь, кроме слова «любить», есть и слово «правиться». Если бы все об этом задумывались, бедным душам не пришлось бы каторжно трудиться. Когда есть настоящая любовь, легко бороться и с житейскими неурядицами, и со всеми другими врагами любви. А то женятся и потом выясняют, что и сохранять им нечего». (Наташа Игнатова, Ростов, декабрь, 1979.) Этим письмом в «Смену» движет обида за любовь, которой можно, конечно, только сочувствовать, в нем есть и важное различение между «любить» и «нравиться». Но в нем есть и очень распространенное у нас романтическое представление о настоящей любви, которой ничего не страшно и которая легко перебарывает преграды. Такое представление видит лишь одну «половину» любви — небесную, неуязвимую, и не видит ее земную половину, ранимую и уязвимую. Такое признание надземной силы любви и незамечание ее земной слабости — как бы орел и решка романтической позиции, две стороны одной медали. В нынешней усложняющейся жизни, повторю это, чувствам становится все труднее сохранять себя. Неожиданный вклад внесла сюда и эмансипация. Раньше, во времена патриархата, жена должна была гораздо больше приспосабливаться к мужу, чем муж к жене. Теперь оба должны со-приспосабливаться, со-применяться друг к другу, и это во много раз усложнило всю мозаику чувств, всю чересполосицу их повседневного существования. Но главное, куда более сложными стали люди и их запросы, и это в корне переменило всю атмосферу личной жизни, всю почву человеческих чувств. Самые проницательные умы Европы ощутили это еще в начале нашего века. В двадцатые годы английский философ и математик Бертран Рассел в своей книге «Брак и нравы» выдвинул идею, что чем сложнее делаются люди, тем короче у них счастье. Чем проще люди, говорил он, тем легче и проще им друг с другом. Гораздо труднее людям с многогранными вкусами, взглядами и интересами: они стремятся к тесному душевному сродству, но достичь его им сложнее. «Чем цивилизованнее становятся люди, — писал Рассел, — тем меньше они способны к длительному счастью с одним и тем же человеком»[125]. «Фрейд в работе «Будущее одной иллюзии» говорил: «Прирост культуры внутри человеческого рода происходит за счет убыли счастья у отдельных его членов». Можно ли разрешить в будущем это противоречие?» (Общежитие МГУ на проспекте Вернадского, январь, 1980.) Наверно, и Рассел, и Фрейд во многом правы в своих мыслях, правы чисто психологически. Чем проще внутренний мир человека, тем легче у него возникают радостные эмоции и тем легче они правят им. Детская простота души служит одной из главных основ счастливого детства, и для детского счастья нужно куда меньше усилий, чем для взрослого. Чем сложнее психика, тем больше ее слагаемых участвует в создании радости — и тем вероятнее их срывы и сбои. Чем глубже и разветвленнее сознание — призма, которая везде видит противоречия, — тем труднее достаются человеку радости, и тем труднее им править в его внутреннем мире. Возможно, есть психологический закон, по которому простая психика получает много радостей от немногих усилий, а сложная — мало радостей от многих усилий. Впрочем, дело здесь не только в простоте или сложности пуши, психики, а и в ее внутренней согласованности, внутренней гармонии или разладе. Если простая психика — и у детей, и у взрослых — «дистонна», разорвана противоречиями, то ей тоже нужно для радости много усилий. А сложной психике, которая внутренне гармонична, «синтонна», достаточны для радости средние, умеренные усилия. И потому вернее, видимо, сказать: гармоничная психика получает максимум радости от минимума усилий, а негармоничная — минимум радостей от максимума усилий. Это, пожалуй, один из главных законов счастья, один из его основных психологических механизмов. Конечно, простой психике легче сохранять свою гармоничность, чем сложной. Возможно, тут действует общекибернетический закон: когда в системе возрастает число элементов, трудность управлять ими (то есть согласовывать, гармонизировать их) растет в квадрате. И потому для взрослой счастливости всегда нужно усилий в квадрате больше, чем для детской, а для нынешних усложненных взрослых — еще на степень больше… Но навсегда ли это? Вечный ли это закон психологии или стадийный, преходящий? Может быть, он действует сейчас и потому, что мы не понимаем наших новых чувств, смотрим на них сквозь призму старой культуры чувств, во многом романтической и упрощенной? Может быть, наши чувства болеют сейчас, как болеют растения, которые пересажены в новую почву, и они перестанут болеть, когда приживутся на этой почве? Трудность нынешнего счастья резко усиливается и нашим незнанием многих законов человеческой психологии, и неумением строить жизнь по этим законам. Такой разлад нынешней жизни с законами человеческой психологии — один из породителей всех разладов в нашей психике. И когда научно-психологическая революция начнет перестраивать по законам человеческой психологии всю жизнь, она тем самым будет превращать ее из родителя дисгармонии в родителя гармонии. Вполне возможно, что просвещенная, гуманная цивилизованность будет не сокращать, а, наоборот, углублять п продлять счастье. Такая цивилизованность только начинает рождаться на земле, она делает лишь первые черновые шаги по материкам личной жизни, и утвердится она на земле, пожалуй, только с рождением новой цивилизации. Человечество переживает сейчас кризисный переход от доличностного состояния к личностному, от культуры простых чувств и отношений к культуре куда более сложных чувств и отношений. Возможно, что, когда люди освоятся на почве этой новой культуры, они найдут противоядия от нынешних ядов для чувства. Одно из таких противоядий, которое может действовать и сейчас, это, видимо, наша сознательная помощь своим чувствам. Рассел прав, когда он говорит о стихийном счастье: чем люди сложнее, тем их стихийное счастье короче. Но так ли будет обстоять дело со счастьем, которому стараются помочь сознательно? И возможна ли вообще такая помощь, или счастье как ветер — никакими дверьми не удержишь, никакими щитами не повернешь в нужную сторону? Жизнь счастливых пар, о которых тут говорилось, доказывает, что душевная сложность может углублять счастье, делать его многоцветнее. Счастливые — долгосчастливые — в один голос говорят, что, если бы они не помогали своим чувствам, те умерли бы быстро. И, видимо, у новой психологической культуры любви сейчас появляется новый главный закон — закон максимальной помощи своим чувствам.Самоугасающее чувство.
«В пьесе Рощина «Валентин и Валентина» приводится мысль Фрейда: «Самая сильная страсть длится четыре года». Справедливо ли это наблюдение? И вообще на чем основана длительность любви?» (Встреча с преподавателями русского языка военной академии, конец 70-х годов.) По своей психологической природе любовь, и тем более влюбленность, влечение — все это чувства самоугасающие. Сами по себе, да еще в трудных условиях, они, постепенно ослабляют свою двойную радужную оптику и даже вытесняют ее двойной темной оптикой, которая уже не улучшает, а ухудшает облик близкого человека. Но называть сегодня какие-то сроки угасания чувств вряд ли стоит, так как массовых сведений о длительности любви у нас нет. Настоящие исследования ее жизни нигде не проводились, и психология любви похожа сейчас на карту мира до Великих географических открытий — гораздо больше белых пятен и неоткрытых земель, чем земель открытых и познанных. Что касается Фрейда, то он говорит здесь о страсти, а бурные чувства иссякают быстрее спокойных. Скорость самоугасания у глубоких чувств меньше, и они, видимо, могут — в принципе — жить дольше. «Любовь — самоугасающее чувство?! Никогда и ни от кого не слышала такого пессимистического вывода! Любовь вечна, как вечна человеческая жизнь, она проходит ряд ступеней и с годами становится все крепче. Угасает любовь, которая не поддерживается близостью и физиологической совместимостью. Они нужны для любви так же, как нужен кислород для дыхания». (Ленинград, центральный лекторий «Знание», август, 1980.) Записка эта написана крупным женским почерком; мы еще встретимся с ним — в те дни у меня был недельный цикл лекций, его хозяйка не раз писала мне, и позже ее позиция получит расшифровку. Но испуг от мысли, что любовь сама по себе, без помощи, угасает, резкое неприятие этой мысли — все это, видимо, тоже веточка с дерева романтического понимания любви. Впрочем, не просто романтического, а облегченно, розово-романтического, потому что романтизм видел и мимолетность любви. Как писал Байрон: Когда б нетленной И неизменной, Назло вселенной, Любовь была, Такого плена Самозабвенно И вдохновенно Душа б ждала. Но торопливы Любви приливы. Любовь на диво, Как луч, быстра. Блеснет зарница — И мгла ложится, Но как прекрасна Лучей игра! Какие психологические пружины движут самоугасанием наших влечений? Радужная оптика безраздельно царит только в дебюте любви или влюбленности. Правда, у разных людей длина этого дебюта разная — от нескольких недель до нескольких лет. Как уже говорилось, чем дольше утро любви, тем длиннее и ее день, тем протяженнее вечер. Долгая любовь похожа на июньский день, короткая — на декабрьский: усеченное утро, быстротечный день, который на полдороге обрывается, сменяется ночью… Когда проходит утро любви, двойная оптика слабнет и достоинства человека видятся уже в меньшем увеличении, а недостатки — в меньшем уменьшении. Спустя еще немного оптика чувств начинает различать плюсы и минусы близкого человека трезво, в их натуральную величину. А если в нее встраиваются призмы недовольства, она снова делается двойной, но уже темной, и начинает увеличенно видеть недостатки человека, а уменьшенно — его достоинства. Примерно так и идет самоугасание любви и влюбленности. С неожиданной стороны подошел ко всему этому академик Густав Наан, эстонский астрофизик. Теория надежности, писал он, считает, что отказы и сбои — обязательное свойство любого явления жизни. Все, что может портиться, портится, говорит он, к этому ведет всеобщий закон природы — второй закон термодинамики, или закон энтропии. Энтропия (от греч. «превращение») — это обесценивание энергии, переход ее на более низкие уровни. Для обыденной жизни закон энтропии значит: «Само по себе, если ничего не предпринимать, все может только портиться, ухудшаться, распадаться». Чтобы построить дом, телевизор, семью, говорит Г. Наан, нужны усилия. Чтобы они развалились, никаких усилий не нужно — все случится само собой. И, если мы хотим уберечь от распада дом, машину, семью, мы должны постоянно поддерживать их прочность. Только эти сознательные и постоянные усилия могут ослабить второй закон термодинамики, смягчить или отдалить энтропию чувства… Еще рыцарский кодекс любви XII века возглашал: «Только отстаивание любви поддерживает ее жизнь». Можно, видимо, сказать: чем меньше мы помогаем своим чувствам, тем меньше они живут, а чем больше помогаем — тем дольше их жизнь. Сегодня это, пожалуй, главный закон психологической культуры любви, закон жизни и смерти наших чувств. Нынешнему человеку — и усложненному, и обедненному — такая помощь чувствам нужна, наверное, гораздо больше, чем раньше. Ведь чем ослабленнее наши чувства, тем быстрее они выветриваются из нас и, значит, тем больше нуждаются в укреплении, в продлении жизни. Но и чем они сложнее, ранимее, уязвимее, тем легче им угаснуть и тем больше им нужна защита. Невиданная трудность счастья — новая генеральная черта современности, и, наверно, наше отношение к счастью должно бы в корне перемениться. Если мы не зарядим свое подсознание предельным старанием помогать своим чувствам, то счастье, видимо, будет гибнуть скоропалительно. Если мы перенастроим свое подсознание на помощь чувствам, мы, возможно, сумеем продлять их жизнь, мешать быстрому иссыханию…Однолюбы и многовлюбы.
«Сколько раз в жизни можно любить? Раз или энное количество?» (Московская область, Болшево, ДК им. Калинина, декабрь, 1972.) «Кто такой однолюб? Каков он как муж? Если ты однолюб, что выпадает больше — страдания или радости? И кому больше свойственно однолюбие — мужчине или женщине?» (Краснодарский край, школа вожатых пионерлагеря «Орленок», апрель, 1977.) «Однолюб теряет или приобретает, любя одного человека?» (Куйбышевский мединститут, апрель, 1980.) По-моему, на последний вопрос лучше всех в мировой культуре ответил Илья Сельвинский в своей поэме «Пао-Пао»: «Любящий многих познает женщину, любящий одну познает любовь». Кто такой однолюб? По романтическому представлению это человек, который влюбляется один раз в жизни и навсегда. На самом деле у однолюба могут быть и влюбленности, особенно в юные годы, но любовь у него одна — долгое и глубокое чувство, как правило, сторгэ или агапэ или какой-то их сплав, иногда с вкраплениями эроса. Какие корни у однолюбия, биопсихологические и нравственные? Прежде всего это эгоальтруизм, иногда с уклоном в альтруизм, особенно у женщин. Это средний — или ниже среднего — половой темперамент; средняя или ниже среднего возбудимость; обязательно — долгочувствие, длительное звучание ощущений; узкое поле восприятий, их способность сгущаться в пучок и, наконец, трудная насытимость ощущений… Пожалуй, для однолюбия нужны все — или почти все — эти корни, а сверх того нужен еще такой человек, который своим поведением и обликом сумеет поддерживать в однолюбе его чувство… Для судьбы чувства это исключительно важно. Внутренние основы однолюбия, психологические и нравственные, — это еще не гарантия, что человек станет однолюбом. Это только способность к однолюбию, возможность однолюбия, а вот проявится ли она на деле, станет ли явью, это зависит и от уклада жизни, и от того человека, которого полюбит однолюб. Однолюбие чаще бывает у женщин, чем у мужчин, так как женщины по своей биологической и психологической сути более привязчивы и постоянны, а мужчины — из-за повышенного напора их чувств, повышенной поисковости всех ощущений — менее постоянны в чувствах. Впрочем, если говорить точно, то однолюб — это судьба, а не особый тип человека. По-моему, людей, которые по своей психологической природе были бы однолюбами, в строгом смысле слова не существует. В психологии человека нет таких свойств, которые вынуждали бы его любить только раз в жизни. В человеке заложена потребность в любви, сильная, средняя или слабая, и от того, какая она и как насыщается, и зависит, сколько раз будет любить человек. Если она сильная и насыщается хорошо, любовь не гаснет до склона лет, и долголюб может стать однолюбом; если любовь гаснет, а потребность в любви не насыщена, то в человеке, как лист в почке, таится готовность к новой любви, жажда к ней. Люди, которых мы называем однолюбами, — это по своей природе долголюбы, а однолюбами их делает счастливая любовь, которая длится до склона дней. Или, наоборот, еще один парадокс: несчастная, неутоленная любовь ранимого человека с неактивными ощущениями, любовь, которая меланхолизирует человека, гасит его энергетику, еще больше сбивает активность его чувств. Такая петраркианская любовь может (хотя и редко) стать пожизненным чувством, которое не кончается, потому что не насыщается… Обычно бывает она у поэтических и малодеятельных натур, интровертов с тонкой и уязвимой душой, с чуткими нервами и сниженным темпераментом. По способности любить люди делятся, пожалуй, на три вида: «сильнолюбы», «слаболюбы» и «многовлюбы». Однолюбы — это, видимо, те «сильнолюбы», которым очень повезло или, наоборот, очень не повезло в любви. Счастливых однолюбов, к сожалению, мало, несчастных, к счастью, еще меньше. К счастью потому, что хотя их любовь и просветляет их жизнь, насыщает ее светом исключительности, но в нее почти всегда вкрадываются черты любви-мании, а от этого она часто становится чувством-недугом и больше сковывает, чем расковывает энергию человека. Лишь иногда она остается светлым чувством, которое не тяготит душу — чувством-мечтой, фантазией, как бы бестребовательной детской любовью, которой не нужно ответное чувство. Возможно, так это и было с той ленинградской слушательницей, которую задела моя мысль о самоугасании любви. Она писала в одной из следующих записок: «Если любовь настоящая, то она никогда не гаснет, ей не надо помогать. Я люблю 25 лет, он женат на другой, и ко мне у него только дружеское отношение. Семья конфликтует, но он не рвет с женой из-за ребенка». И на следующий день: «Вчера это я писала, что люблю 25 лет. Это вызвало у некоторых смех, и я прошу прочесть для них мою записку. Вдумайтесь — 25 лет, такое редко кому дано, и я горжусь своей любовью. Мы познакомились с ним в 1955 году, он был в опале, а я его защитила. Потом он готовил меня в вуз, проявил ко мне интерес, но я его резко остановила, потому что он был моложе меня на 8 лет. А он сгоряча женился. У нас все чисто, я его люблю настоящей платонической любовью, и пусть она безответна, все равно любить и страдать — прекрасно. Любовь сделала меня человеком, развила, я даже пишу хорошие, как говорят мои знакомые, стихи. Считаю, что в любой век у нормального человека святое чувство любви неизменно!» (Ленинград, август, 1980.) Я знаю еще двух женщин, которые пронесли такую петраркианскую любовь через всю жизнь. И для них она тоже не мука, а тихая и светлая радость — смысл их жизни, душа существования. В чем психологическая разгадка такой долготы их любви? Наверно, в том, что это любовь-чувство, которая существует без любви-отношения. Это как бы продленная детская или юношеская влюбленность, которая отсечена от быта и живет только в душе человека. И, как обычно в таких случаях, это чувство не к тому человеку, какой он на самом деле, а к его улучшенному подобию, к человеку, каким он видится сквозь двойную розовую оптику. Один из главных видов смерти любви — это «удушение в объятиях», «потребление» любви без ее возобновления. Здесь таких объятий нет, именно поэтому царит продленная двойная оптика, и любовь этих женщин представляет собой как бы остановленное утро любви, утро, которое не переходит в день и как раз поэтому может длиться до заката жизни. Это как бы дебют чувства, которое застыло на ступени своей весны и поэтому ушло из-под власти старения. Безответная любовь двояка, она и просветляет, и порабощает душу. Если она долго не проходит, она перестает быть для человека трамплином, делается как бы пробоиной, сквозь которую постоянно вытекают его силы, способности, энергия… «Верно ли, что настоящая любовь может быть только один раз в жизни?» (ДК Московского энергетического института, март, 1976.) Это очень распространенное мнение, и у него есть могущественные союзники. Один из них, Бальзак, говорил: «Человек не может любить два раза в жизни, возможна только одна любовь, глубокая и безбрежная как море»[126]. Но сам Бальзак пережил две такие любви, глубокие и безбрежные как море. Его первая любовь, которую сам он называл великой, началась в 23 года и длилась около 10 лет. Его любимой женщине, Лоре де Берни, было в начале их любви 45 лет, на год больше, чем его матери, и Бальзак писал о ней много позже: «Госпожа де Берни стала для меня настоящим божеством. Она была одновременно матерью, подругой, семьей, другом, советчицей; она создала писателя». Это была любовь снизу вверх, полумужская-полудетская, но она была глубокой и сильной и погасла лишь за несколько лет до смерти Лоры де Берни, когда она, 55-летняя женщина, уже увяла. Вторая великая любовь Бальзака — к Еве Ганской — тоже длилась много лет и увенчалась браком, между прочим, в Российской империи, на Украине. Обе эти любви были «настоящие», и это еще раз подтверждает, что у человека, способного к глубокой любви, может быть несколько «настоящих» любовей…Загадочная любовь Наташи Ростовой.
«Можно ли считать чувства Наташи Ростовой к Борису, к князю Андрею, к Анатолию Курагину, к Пьеру Безухову чувствами любви?» (ДК автозавода имени Лихачева, ноябрь, 1981.) Наташа Ростова прошла обычный путь по лестнице любви, впрочем, обычный только до последней ступени. Сначала у нее была полудетская влюбленность в Бориса. Потом возникла «первая любовь» — чувство к Андрею Болконскому, пылкое, но поначалу нестойкое, скорее влюбленность, чем любовь. Душа Наташи росла в атмосфере нарождающегося преклонения перед чувствами, покорного следования им. XIX век считал чувства самым истинным проявлением человека, и уже в начале столетия в русскую духовную культуру стал проникать культ чувств, который незадолго до этого родился в Европе. Наташа была наивно незащищенной перед чувствами, она безоглядно слушалась их, и в эту ее незащищенность ворвалась как смерч вспышка темной, морочащей тяги к Анатолию Курагину. Вспышка эта вызвала в ней мгновенное затмение души, полный паралич всех других чувств. Она ввергла Наташу в глубокие страдания, и в этих страданиях перегорел простодушный эгоизм ее чувств. Душа ее углубилась, смогла вместить в себя более глубокое чувство — и в предсмертные дни князя Андрея ее влюбленность в него стала любовью. Все это, видимо, вечные метания созревающих душ. Но так же, как обычны первые чувства Наташи, так же необычно ее чувство к Пьеру. Во всей мировой литературе нет другого такого чувства, оно так уникально, и суть его так далека от видимости, что понять эту суть почти невозможно. …После замужества в Наташе совершилось поразительное превращение. «Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка». Наташа, говорит Толстой, «то, что называют, опустилась»: перестала заботиться о своих манерах, словах, одежде — обо всей внешней стороне жизни. Она забросила пение, отказалась от всех своих прежних увлечений, занятий. Она отдала всю себя семье, мужу, детям — почти растворилась в них, стала их частью. В этих превращениях Наташи было две глубины. Первая, внешняя, глубина состояла в ее полном отказе от всей старой жизни, всего ее просвещенного и образованного уклада. Наташа вся пропиталась крестьянской естественностью, стала жить как бы доцивилизованной, почти природной жизнью. Она опустилась, но опустилась в такую глубину, для рассказа о которой даже Толстому не хватает ясности, и о которой он говорит на ощупь, смутными касаниями интуиции. В чем же состоит эта главная глубина? И верно ли, что Наташа стала «красивой и плодовитой самкой», в которой «видно было только лицо и тело, а души не было видно»? Может быть, это казалось только обычному внешнему взгляду, и Толстой говорит это не от себя? Может быть, он не зря пишет, что она «то, что называют», опустилась? Превращение Наташи состояло в том, что она вся как бы перешла в синкретическое состояние. (Вспомним: синкретическое — от греч. «соединение, смесь» — значит нерасчлененное, слитное состояние, где все как бы сплавлено между собой, растворено друг в друге.) Ее душа сделалась невидной потому, что она вся как бы ушла внутрь, влилась в каждое ее слово, действие, спряталась в них. И утрата Наташей своего «я», потеря своей прошлой личности — это тоже погружение в синкретические глубины. Ее «я» до конца растворилось в «мы», и Наташа стала не просто естественным человеком, а каким-то странным «органом семьи», воплощением вечной «жено-матери». В этом своем растворении в «мы» она так слилась с мужем, что стала понимать его помимо слов, почти телепатически. Они разговаривали, «с необыкновенной ясностью и быстротой познавая и сообщая мысли друг друга… без посредства суждений, умозаключений и выводов, а совершенно особенным способом». Это был способ, противный всем законам логики — «противный уже потому, что в одно и то же время говорилось о совершенно различных предметах… Наташа до такой степени привыкла говорить с мужем этим способом, что верным признаком того, что что-нибудь было неладно между ей и мужем, для нее служил логический ход мыслей Пьера. Когда он начинал доказывать, говорить рассудительно и спокойно и когда она, увлекаясь его примером, начинала делать то же, она знала, что это непременно поведет к ссоре». Перед нами поразительный, невозможный парадокс. Передавая друг другу несколько мыслей сразу, в одну и ту же секунду, они не затрудняют этим свое понимание, а, наоборот, делают его более полным и быстрым. А когда они говорят по правилам логики, не о многих предметах сразу, а об одном, это не облегчает им понимание, а, наоборот, срывает его. В этом переворачивании привычной истины тоже есть две глубины. Внешняя понимается просто, без особых усилий. Логические рассуждения, как мы знаем, идут от рассудка и будят в другом человеке только рассудок — самую неглубокую, самую не сердечную часть психики. Механизмы логического мышления таятся в левом полушарии мозга, и когда они работают обособленно — это самые медленные и непроизводительные из умственных механизмов. А «разговор душ» — общение наших самых глубоких глубин — будит самое сильное и самое лучшее в человеке (в том числе и пружины логики), и потому дает необыкновенную ясность и быстроту понимания… Но Толстой не просто передает эту в общем-то известную XIX веку истину. Он — и здесь начинается вторая глубина — говорит именно об одновременной передаче нескольких мыслей и чувств сразу, о таинственных внесознательных руслах, которыми идут эти множественные потоки. Пожалуй, до него ни в европейской философии, ни в мировом искусстве не было речи о таком загадочном «многоканальном» разговоре душ — обмене информацией, который идет по каким-то неясным многорусловым дельтам. Это, видимо, очень глубокое, хотя и очень неясное, прозрение в человеческой природе — прозрение того, что назовут потом сверхсознанием. В наше время сделано как бы предоткрытие, созвучное этому нащупывающему прозрению: обнаружены залежи неизвестных нам возможностей человеческой психики. Эти возможности были вскрыты совершенно новыми методами учебы — методами глубокого погружения. Сегодняшние учебные методы используют лишь часть умственных механизмов человека, и самую слабую: пружины пассивного внимания, логического мышления и логической памяти. При глубоком погружении в работу вступают все основные механизмы психики. Напряжены радары внешних чувств, у предела работают поисковые эмоции, мобилизованы главные силы образного и логического мышления, образной, логической и двигательной памяти — слиты в унисон основные пружины сознания и подсознания, воли и разума. Это и есть сверхсознание: все силы психики действуют в синкретическом — вернее, в синергическом — слиянии. И как обычно, они не просто складываются, а помножаются друг на друга и дают громадные результаты. Пользуясь обычным методом, узкологическим, можно, скажем, усвоить пять иностранных слов в час, а пользуясь новым — 50, в десять раз больше. Возникает удивительный парадокс: чем изобильнее потоки информации, чем больше они захлестывают мозг, тем больше этой информации запоминается. Скажем, из тысячи иностранных слов, которые человек получает за несколько недель, он запоминает около девятисот, 90–92 процента. А из 32 тысяч, полученных за такое же время, он усваивает 50 процентов — 16 тысяч[127]. Это 17-кратное усиление психики, эту неслыханную силу впитывания дает именно «многоканальность» впитывания, согласная работа всех мозговых механизмов. И парадоксальное понимание друг друга стоит у Наташи и Пьера на родственных основах. Их «глубокое погружение» друг в друга, их многоярусный обмен разными мыслями и чувствами сразу — плод ихсинкретического — синергического слияния душ. И любовь Наташи к Пьеру — это совершенно особое чувство, зеркало ее особого характера. Это не обычное психологическое чувство, не радуга эмоций, ощущений, переживаний. Все эти биения психики ушли, как дождь в почву, в ее дела, мысли, слова, привычки, вживились в них, стали неотделимыми и поэтому неразличимыми. Любовь как бы перестала быть чувством, сделалась всеобщим состоянием ее души, тела, ума, поведения. И как свет пропитывает собой воздух, так и любовь пропитала собой весь образ жизни Наташи, весь уклад ее бытия, ушла вглубь и перестала существовать самостоятельно. Эта синкретическая любовь не изображается — то ли потому, что у Толстого нет слов для нее, то ли потому, что она — из-за своего синкретизма — исчезла как особый предмет изображения. Эта любовь — внеличное, внеиндивидуальное чувство. Она в корне не похожа ни на ранние Наташины чувства, ни на любовь цивилизации вообще — отдельное, психологическое чувство. Она как бы вознесена над временем и пространством, стоит вне обычных земных мер — как какое-то вечное состояние вечной Жено-матери. Наташа из эпилога — нравственно-философский идеал Толстого, и в ней как бы слились потоки трех величайших земных идеалов — платоновская духовность, русско-крестьянская (и руссоистская) естественность, индуистская растворенность в мире. Это не европейский идеал — таким идеалом со времен античности была женщина-возлюбленная. Скорее это идеал азиатский — женщина-мать и возлюбленная одновременно, идеал, в котором гораздо громче звучит сила земного плодородия. Но у Толстого этот идеал жены-матери лишен чувственно-наслажденческой стороны, которая была очень сильна в древнеиндийской и китайской культуре. Его телесность насквозь духовна, причем духовна этически, а не эротически, и этим она стоит гораздо ближе и к христианскому русскому, и к платоновскому, европейскому идеалу. Это союз восточных и западных идеалов, шаг в великом слиянии разных мировых культур. Причем древние истоки этого идеала — духовность, естественность, слияние с миром — как бы переплавлены в славянском горниле, окрашены в славянские цвета. В Наташиной самоотдаче семье проглядывает — неявно, издалека — почти былинный напор, в ее безоглядности — тоже окольно, неуловимо — чувствуется сила, похожая на силу древнерусских женщин-богатырш. Это, видимо, нравственно-психологическая утопия Толстого, попытка создать вселенский идеал женщины — идеал ее державной семейной роли. Да, это патриархатный идеал — превращая женщину в земное божество семьи, он замыкает ее в семейные рамки. Но это лишь одна, и не главная, сторона толстовского идеала. Гораздо важнее для нас и глубокие прозрения Толстого в человеческой природе, и его поражающие поиски в мы-психологии, в гармонии мужской и женской души. Своей необычностью его искания как бы предваряют сегодняшние поиски идей-озарений — «сумасшедших идей», которые освещают мир совершенно новым светом, дают в корне новый взгляд на жизнь.Паруса чувств и моторы сознания.
«Семьдесят процентов теперешних семей созданы не по любви, а раз так, нечего и говорить о любви, надо говорить лишь о том, как сохранить семью. О любви у нас и так говорят слишком много. Ее, сердешную, до того разобрали и раскрутили по винтикам, что тем самым и убили! Все, что можно сознательно построить, сберечь, сохранить — все это, конечно, хорошо, но к любви не имеет ни малейшего отношения. Потому что чувство это лишено всякого расчета и умничанья». (Э. Малахова, Волгоград, февраль, 1979.) Оставим пока в стороне проценты семей, созданных по любви — они неизвестны. Правда, по данным социологов, как раз 70 процентов семей возникает именно по любви, но мы-то с вами уже выяснили, что социологи причисляют к любви и влюбленность, и просто сильное влечение. Психологическая докультура очень портит нынешние исследования брака. Сколько свадеб играется именно по любви — этого никто не знает; вполне возможно, что их меньшинство — 20, 30 или 40 процентов, и автор письма права, но это еще неясно. Психолог В. Петровский предположил, что способность любить как-то связана психологически с тягой к бескорыстному риску (именно бескорыстному), и что к такому риску тяготеет как раз 3/10 людей. Но значит ли это, что только эти люди могут любить, а другие нет, неизвестно, и только будущие исследования смогут ответить на этот вопрос… В то, что сознательность чужда любви, верят, наверно, почти все. И правда, любовь — чувство насквозь непосредственное, оно слагается больше всего из бессознательных или полуосознанных тяготений, и главная обитель любви — это наше подсознание, а не сознание. Но у любви, как мы помним, есть две ипостаси: любовь-чувство, жизнь наших эмоций и ощущений, и любовь-отношение — поведение любящих, то, как они относятся друг к другу. Обе эти ипостаси прямо влияют друг на друга, усиливают или разрушают друг друга. От любви-чувства зависит, какие будут отношения у людей, но еще больше судьба их любви зависит от их будничных отношений, ежедневного поведения. И то, что здесь можно «сознательно построить, сберечь, сохранить», имеет самое глубокое и самое прямое отношение к чувству. Любовь-отношение может быть сторожем, а может быть и убийцей любви-чувства — здесь лежит один из главных секретов быстротечности или долговечности любви. Любовь — и как раз потому, что она безотчетное чувство — ждет от нас постоянного охранения и обережения. Именно ее чуждость расчету и умничанью делает ее особенно уязвимой и незащищенной, особенно нуждающейся в рассчитанной и умной защите. Наши чувства глубоко двойственны по всей своей природе: они стойки и переменчивы, выносливы и хрупки, и их жизнь прямо зависит от их союза с сознанием. Это больше всего касается любовных влечений: в их водоворотах просто невозможно плыть на одних парусах чувств, им нужны в помощь моторы душевной близости, которые создаются сознательно. В семейной жизни очень много плавания против ветра и против течения, и, чтобы супружеский корабль не сел на мель, ему нужны сильные двигатели и умный руль. Делаясь семейной, любовь попадает в тиски тяжелого психологического кризиса: она должна пройти мучительное второе рождение, в корне перемениться внутренне — или она умрет. Сохранить любовь — значит изменить ее: свить с другими нитями близости, душевными и духовными, укрепить эмоциональные нити таким сплетением — вплавить влечения чувств в широкую совместимость двух душ, сделать их звеном этой многозвенной совместимости. Сегодняшнему человеку, человеку с приглушенными чувствами или с усложненной психологией, гораздо труднее сохранить любовь, чем полюбить. Сохранить любовь — значит вдобавок к ней приобрести совместимость; безотчетные чувства могут сегодня выжить — или отдалить свое угасание — только как часть этого многослойного сплава… Но личная жизнь — это путь по узкому мостику, и оступиться с него можно в обе стороны — и в понесшую, закусив удила, эмоциональность, и в холодную, все взнуздавшую рациональность… «Предположим, мы научимся управлять своими чувствами. Но не будет ли это палка о двух концах, которая опять нас ударит? Не выхолостим ли мы себя? Ведь многие желают «спокойных чувств», чтобы не рваться, не путаться, не бороться, не испытывать нравственных страданий. Лев Толстой сказал, что это будет душевная подлость. Надо учить людей быть человеками. Надо поставить людей в такие условия, чтобы у них дух преобладал, а не «матерьялизм»… А то они могут стать еще более жестокими». (Леонид Абрамович, Амурск, январь, 1979). И это, видимо, правда. Любое разбухание в нас какой-то одной стороны души, любой перевес — чувств над разумом, разума над чувствами — может повредить нашей человечности. Эта человечность всегда — сплав, равновесие: или умное сердце, или сердечный ум, или — но это бывает редко — то и другое вместе. И распад равновесия, попадание чувств в рабство к разуму, грозит не меньшими бедами, чем порабощение разума чувствами…Три невежества.
«Область семейных отношений — это, пожалуй, единственная область человеческого знания, где каждый считает себя специалистом. Повседневная жизнь требует пусть ложного, но знания. А знание имеет свойства яда: в иных дозах — лекарство, в иных — смерть… Культура — отнюдь не сумма знаний, а духовное состояние человека. Душа может оставаться слепой и глухой, даже если мозг освоил многоэтажное здание человеческих знаний». (Михаил Анохин, кочегар домоуправления, Новоалтайск, март, 1979.) По-моему, это веско, чеканно сказано: культура — прежде всего духовное состояние человека, состояние души. И для нее исключительно важен союз чувств и разума, человечности и знаний. Отрыв знаний от сердца, души, нравственности ведет к уродливому рационализму, превращает человека в двуногий мозг, холодного робота. Но без знаний, особенно в наше время, нет и культуры, и знание сегодня — но доброе, человечное знание — такое же крыло культуры, как и душа, чувство. Доброе знание — помощник душевной интуиции, оно и восполняет ее нехватку, и развивает ее. Когда нет знаний (и нет душевной интуиции), люди то и дело попадают в азбучные тупики, наталкиваются на простейшие преграды, блуждают в трех соснах любовного мира. Вот наудачу типичные вопросы старшеклассников, которые то и дело повторялись в семидесятых-восьмидесятых годах. «Я люблю девушку, она меня нет, что мне делать?» «Как показать человеку, что он нравится, если он этого не подозревает?» «Если он и она любят друг друга и поссорились, что делать? Уйти или сделать шаг к примирению? И кто должен его делать, девушка или юноша?» «Зазорно ли девушке первой признаться в любви?» Вопросы, как видим, из психологической азбуки — даже не таблицы умножения, — и большинство школьников, к сожалению, не знает на них ответа. У студентов наивных вопросов меньше, сложных больше, но вот — тоже наугад — несколько записок, полученных на встрече в МГУ — одном из самых умных вузов страны. «Можно ли утверждать, что любовь между женщиной и мужчиной есть следствие сексуальной жизни?» «Что делать, если я полюбила преподавателя?» «Об эмансипации. Что отвечать парню, если его просишь понести «дипломат», а он говорит, что сейчас все равноправны?» «Скажите, этично ли со стороны юноши добиваться близости с девушкой через 2–3 встречи, после 10 дней знакомства? Можно ли к нему после этого хорошо относиться и как реагировать?» Увы, с таким вот набором незнаний и с такой молчаливой интуицией вступают сегодня в возраст любви многие люди. В жизни человека есть три главные области: семья, работа, общественная жизнь, и три главные роли — семьянин, работник, гражданин. Казалось бы, самая главная — и простейшая, необходимейшая обязанность воспитания — готовить человека к каждой такой роли. Но школа слабо готовит людей к роли гражданина, плохо — к роли работника и почти никак — к роли семьянина: жены и мужа, отца и матери, домохозяина и домохозяйки; никак не готовит она и к другим бытовым ролям — друга, соседа, читателя, зрителя, покупателя, пассажира[128]… Такое узкое, однобокое воспитание и выращивает узкого, одностороннего человека. В большинстве главных ролей своей жизни мы самоучки и, значит, чаще всего — неучи… В нынешней системе образования царит нелепый, губительный парадокс. Школа загромождает ученика множеством лишних, ненужных знаний, которые никак не формируют его душу и оказываются потом бесполезными в работе и в жизни. Но самых главных знаний, самых нужных умений — человековедческих, психологических, школа не дает. А ведь культура человеческих отношений, наука и искусство создавать домашнее счастье, растить детскую душу — это, пожалуй, самая трудная из всех наук, самое сложное из всех искусств. Никакая высшая математика не может даже сравниться по трудности с запутанными сплетениями, из которых состоит сегодня личная жизнь. Творчество хороших отношений в семье, воспитание как творчество человека в человеке — максимально сложная и максимально важная область жизни. И к этой-то максимально важной и сложной области мы готовим людей минимально… Если бы в больницах лечили людей на высоте знахарства и самодеятельности, если бы заводами, колхозами, институтами руководили без специальной подготовки, на уровне невежества и полузнаний, хаос и разруха быстро воцарились бы во всей жизни. А ведь семейная жизнь идет у нас как раз на таком уровне, и можно только удивляться, что при нынешней сложности личной жизни и примитивности подготовки к ней у нас не разваливается большинство семей. Подготовка к семейной жизни — одна из самых острых сейчас социальных проблем. Семья — самое главное для человека месторождение счастья или горя, а современный человек почти не готов к просвещенному и человечному ведению своей семейной жизни. Бытом многих семей правят сейчас три докультуры, три невежества: психологическая неграмотность — незнание женской и мужской психологии, основ эмоционального общения в семье; половое невежество — незнание законов человеческой сексуальности, разладов мужской и женской природы и способов их смягчения; воспитательная неграмотность — незнание детской психологии и физиологии, ее коренных отличий от взрослой, неумение воспитывать детей в ключе их психологии и в согласии с плюсами и минусами современной жизни. Европейские науки до последнего времени обращали главное свое внимание не на человека, а на природу, не на отношения людей и их внутренний мир, а на внешний мир. Плоды такого неравновесия пропитывают нашу жизнь и сегодня. Науки о человеке и человеческих отношениях развиты до крайности мало; учение о человеческой личности, об этических и биопсихологических потребностях людей, о культуре их отношений, законах общения — все это только начинает делать свои первые, черновые шаги. Престиж человеческих, «человекосозидающих» профессий поразительно невысок. Мало кто считает, что воспитатель, учитель, врач — это вершина земных профессий, а супружество, материнство, отцовство — один из главнейших духовных занятий человека. Мало кто думает, что профессия руководителя — это прежде всего человековедческая профессия, и ее сердцевина — не просто работа людей, а углубление их отношений и их духовного мира, улучшение всей их трудовой среды и всей жизни. Сложнейшая система человеческих знаний очень медленно поворачивается к своему главному магнитному центру — человеку, к его каждодневной жизни, его внутреннему миру. Особенно касается это наших человековедческих и общественных наук — психологии, физиологии человека, антропологии, социологии, педагогики, этики, демографии. Они явно отстают от мирового уровня — и в своем размахе, и во многих конкретных исследованиях, и в разработке своих самых сложных, самых коренных проблем. На них больно подействовало то пренебрежение к человеческой личности, которое долго переполняло наши будни. Уже говорилось, что следующей волной великих научных переворотов будет, видимо, научно-гуманитарная, человекоцентрическая революция — глубокий поворот всех наук в сторону человека, перемещение человековедческих знаний в зенит всей духовной культуры. Земная культура станет, наверно, все больше поворачиваться к ядру человеческого смысла жизни — к улучшению самих себя и своих ежедневных отношении, углублению своей человечности и интересности друг для друга. И стремление насытить этой человечностью и интересностью каждый микроконтакт с другими людьми начнет, возможно, все больше делаться главной будничной нормой.Лучше журавль в небе, чем синица в руке?
Наши незнания начинаются с культуры выбора, в которой сейчас идут огромные перемены. «Мне 20 лет. Меня любят трое мужчин, и я их тоже. Все они братья, все равны по достоинствам — примерно одного возраста, окончили военные академии, интересны внешне, замечательно богаты духовно, высокоинтеллектуальны. Все трое сделали мне предложение. Кого мне выбрать, и вообще, чем руководствоваться в подобной ситуации?» (Ленинград, центральный лекторий «Знание», июнь, 1981.) Девушка, наверно, испытывает ту начальную влюбленность, которая еще не прошла ступень выбора; так часто бывает в юности. Со временем такое равновесие влечений обычно пропадает, и человек начинает ощущать, к кому его тянет больше. В Древней Индии существовал особый вид брака — полиандрия, многомужие (от греч. «поли» — много и «андрос» — муж). У женщины было несколько мужей, или, говоря по-другому, у нескольких мужчин была одна жена. Чаще всего этими мужчинами были братья, — такая полиандрия называется фратернальной, братской (от лат. «фратер» — брат)[129]. При братской полиандрии жена старшего брата становилась и женой младших: о таком супружестве рассказано в древнеиндийской «Махабхарате», в знаменитой истории царевны Драупади, жены пяти братьев. Но братская полиандрия была, видимо, поздней ступенью многомужия. Раньше ее возникла как бы матриархальная полиандрия: в ней главенствовала женщина, а ее мужья не были родственниками друг другу. Впрочем, личные отношения в этих видах полиандрии были очень похожими. Полиандрия встречается и сегодня — в некоторых племенах Индии, Тибета, Южной Америки. Особенно известна полиандрия у знаменитого среди этнографов племени тода из Индии. В семьях тода царят мягкие нравы, ссоры в них редки, и женщины занимают в них очень высокое положение. (О нравах этого племени ярко написано в книге известного индолога Л. В. Шапошниковой «Тайна племени голубых гор».) Многомужие существовало в далекие доличностные времени, и его психологической почвой была психология простых душ, которые испытывали простые чувства и легко могли уживаться друг с другом. Во времена личностных чувств психологическая почва для таких браков исчезла; это касается, кстати, и многоженства, которое распространено в мусульманских странах и которое в образованных слоях этих стран резко идет на спад. Ответить на вопрос девушки, влекущейся к трем братьям, наверно, нетрудно: подожди, и твоя тяга к кому-то возьмет верх… Впрочем, это еще не значит, что этот кто-то и будет тем самым человеком, который ей больше всего подходит. Возможно, к ним не относится ни один из трех: если ее одинаково влечет ко всем, если ее интуиция не выделяет из них самого близкого, его может и не быть среди них. Впрочем, ее интуиция может молчать и потому, что она слаба. «Как вы относитесь к такому парадоксу: лучше журавль в небе, чем синица в руке? Моя беда или мое будущее счастье в том, что у меня сложился идеальный образ человека, с которым я могла бы связать свою жизнь. Я примеряю к этому идеалу всех людей, и если какие-либо их черты ему не соответствуют, ухожу от общения с ними, так как не хочу менять журавля на синицу. Но от этого я становлюсь все менее общительной. Мне 21 год, а я одинока, и у меня все чаще возникает тревога: а вдруг я никогда не встречу свою половину?» (МГУ, конференц-зал гуманитарных факультетов, ноябрь, 1984.) Это прекрасно — опрокидывать застойные истины и выворачивать их наизнанку. Душа испытывает от таких опрокидываний очистительные микрошоки, и это расшатывает в ней окаменелые догмы, ломает чугунные каноны. Конечно, журавль в небе лучше, чем синица в руке, но, наверно, только для журавля, а не для синицы. Поиски человека своего типа — это простейшая, азбучная основа всей культуры выбора. К сожалению, большинство из нас не знает себя и часто тянется к людям чужого или получужого типа. Психологи из службы знакомств выяснили, что у многих людей завышенные притязания, чрезмерные требования к будущему спутнику, и они ищут себе птицу не своего полета. Ожидая принца, они отвергают обычных людей и рискуют тем, что им придется потом искать нищего… Девиз «лучше журавль в небе» полон романтического бунтарства, и он хорошо подходит людям бунтарского склада, для которых заниженные притязания гораздо опаснее завышенных. У девушки из записки, судя по всему, романтичность души не деятельная, не бунтарская, а скорее созерцательная, выжидательная. Для таких людей лучше, видимо, не завышать себя и не ждать журавля в небе, а уметь увидеть в синице журавля — вернее, искать птицу своего полета, стараться увидеть в других людях родственные тебе самому крылья… Впрочем, завышенные требования — это не только влечение к незаслуженной награде; это и естественное тяготение самых чистых, самых детских слоев нашей души — тяготение к более совершенному человеку, который поможет и тебе стать более совершенным… И это вечное, но двоякое тяготение будет, наверно, всегда насыщать любовные поиски вечным и болезненным драматизмом…Чувство находящее или делающее?
«А как быть с единственностью выбора? Как быть, если твой суженый живет где-нибудь на БАМе?» (Политехнический, июнь, 1979.) «Надо ли ждать единственного? Ведь так можно оказаться в положении буриданова осла. По-моему, для каждого человека есть достаточное количество подходящих людей. Может быть, соединить свою жизнь с более или менее подходящим человеком и воспитывать свое чувство уже в браке?» (Московская область, Подлипки, Завокзальный клуб, октябрь, 1982.) Вспомним: миф о единственном — только миф. Для каждого человека существует свой тип нравящихся — люди с каким-то особым (часто неясным) набором черт характера, внешности, поведения. Таких людей может быть много или мало, они могут встречаться редко или не очень редко, — все зависит здесь от того, ясны или размыты наши подсознательные идеалы, взыскательны они или невзыскательны. Чем размытее наши идеалы, чем они проще, тем больше, видимо, круг людей, которые нам подходят; чем сложнее эти идеалы или чем капризнее, «акцентированнее», тем меньше круг подходящих… Но и среди тех, кто тебе подходит, могут быть подходящие средне, выше среднего и, наконец, редкостно, предельно. Таких, видимо, очень мало, и, когда они встречаются, у них и возникает ощущение, что они нашли свою единственную на земле половину… «Не слишком ли вы расшатываете вековечные истины? Ведь еще с древности известно, что любовь — лучший искатель своей половины. Когда мужчина полюбил женщину, это значит, он нашел для себя самую подходящую из всех, — вернее, его чувства-детекторы, или, говоря по-вашему, чувства-ищейки нашли ее. А любовь, как говорим мы, химики, это самый сильный катализатор в реакции соединения двух душ. Преподаватель». (ДК МГУ, октябрь, 1983.) Увы, очень многие думают, что раз человек полюбил, значит, его чувства нашли себе наилучшего человека. Это, к сожалению, еще один цветок на дереве романтического обожествления чувств. Любовь — чувство не находящее, а делающее, и в этом ее двоякость, ее мощь и ее немощь. Вернее, это чувство больше делающее, чем находящее, и она гораздо чаще создает из неполовин половины, чем находит готовые половины. А еще вернее, есть, видимо, две любви: находящая — очень редкая сегодня, и делающая — более частая. Наши чувства, повторю это, чаще ошибаются, чем попадают в цель, особенно в юности: в это время чувства растут куда быстрее интуиции, и они правят человеком гораздо сильнее, чем интуиция. И как в яблочко попадают только лучшие стрелки, так и находящая любовь бывает, видимо, только у людей с сильной интуицией, глубоким надсознанием. Обычное подсознание может и видеть, с кем стоило бы связать душу, и ошибаться в нем или полуугадывать. Как средние стрелки чаще попадают в средние цифры, а слабые промахиваются, так и большинство нынешних людей полупопадает в свою мишень или выстреливает мимо. Их любовь, к сожалению, часто бывает плохой ищейкой, слабым чувством-детектором. Она чаще отыскивает не настоящий идеал, не лучшую для себя пару, а то, что ей только кажется лучшим. Потому и выходит, что чаще всего мы идем в путь с не самым подходящим спутником и сами бываем ему больше попутчиком, чем спутником. Но, наверно, из-за этого не стоит отчаиваться. Любовь — чувство делающее, и это ее свойство как раз и несет в себе сильные надежды. Люди, мало подходящие друг другу, могут превратить себя если не в половинки, то хотя бы в полуполовинки друг для друга; и хотя этого мало для глубокого счастья, но вполне достаточно для нормальной, хорошей жизни…Любовь и совместимость.
Культура выбора.
Нынешний выбор спутника жизни чаще всего строится на чувствах, влечениях. Но наши чувства и находят себе оазисы счастья, и принимают миражи за оазисы. Чем громче звучат фанфары чувств, тем больше они заглушают слабые флейты интуиции. Потому-то выбирать спутника жизни и должен бы союз чувств и разума. У них противоположны сильные и слабые стороны, и их союз усиливает их силу и ослабляет слабости. Горячие влечения чувств уравновешивают холодное бесстрастие разума, а трезвость разума умеряет пылкую слепоту чувств. Еще больше, наверно, дает триединый союз — чувств, разума и интуиции, — то есть сверхсознание, надстройка над согласной работой сознания и подсознания, чувств и воли. Синергия — со-энергия — этого тройного союза необыкновенно углубляет проницание в другого человека, и она может почти полностью спасать от ошибок выбора. К сожалению, на такой союз способны сегодня лишь очень немногие, а большинство может рассчитывать — в лучшем случае — только на единство чувств и разума… Супружество становится сегодня в корне не таким, каким оно было еще полвека назад. Рождается совершенно новый исторический вид брака — супружество-содружество, многосторонний союз душ, тел, разумов, интересов, идеалов, принципов поведения. Но и сегодня мы выбираем супруга, как и в доличностные времена, повинуясь лишь одному голосу влечения. Подходят ли друг к другу наши главные свойства, уживутся ли они друг с другом, сумеют ли сомкнуть в «мы» два разных «я» — эту главную загадку выбора супруга мы чаще всего не решаем. Вместо многостороннего подхода к многосторонней личности мы пользуемся подходом частичным, односторонним. Он вопиюще не совпадает с нынешним типом человека, переусложненного и переупрощенного, вопиюще не подходит самому характеру нынешнего брака. Именно поэтому эмоциональный выбор часто соединяет между собой несовместимых или мало совместимых людей. Основа многих разводов (и еще чаще — несчастных браков) закладывается в сам момент брака — из-за докультуры в выборе спутника. Теперешние перемены в человеке и в супружестве впервые, пожалуй, стали широко заметными в 60-е годы. С этого времени начала все чаще обнаруживать себя несовместимость у жены и мужа, все быстрее стали расти разводы и несчастные браки. За четверть века число ежегодных разводов подскочило у нас втрое — с 270 тысяч в начале шестидесятых годов до 930–950 тысяч в восьмидесятых[130]. Как выяснили социологи, в 70-е годы от двенадцатой части до трети всех разводящихся в наших больших городах прожили друг с другом меньше года — несколько месяцев, несколько недель. Очевидно, это были люди, которые сразу после свадьбы увидели свою несовместимость, а до свадьбы и не думали о ней. Очень многие, к сожалению, не умеют различать, совмещаются они друг с другом или не совмещаются; к тому же у нас нет психологической службы, которая помогала бы здесь людям, и все это ведет к гибели множество браков. Потому и нужны тут два очень важных рычага помощи. Первый — всеобщее психологическое образование, которое должно бы стать одним из главных устоев школы и вуза. Воспитательная революция сделает, наверно, гуманитарные знания (психологию, социологию, этику, эстетику) основными школьными предметами. Эти знания гораздо больше дают личности человека и всей его жизни, чем точные науки. Точные науки готовят специалиста, работника, гуманитарные — человека, и в этом их уникальность, их первенство и главенство. Впрочем, они готовят и специалиста. Сейчас начинается громадный революционный переворот — психологизация производства, управления, общественных отношений. Самые разные области жизни будут перестраиваться по законам человеческой психологии, и работник XXI века не сможет сделать и шага без психологических знаний[131]. Подготовка людей к их семейным и личным ролям станет, наверно, уже в 90-е годы одним из столпов воспитания. Надо только, чтобы нас учили не мертвым теоретическим знаниям, а живым, жизненно важным, и чтобы эти знания врастали в душу, делались интуицией… Второй путь, который поможет людям в культуре выбора, — это служба совместимости, семейные и психологические консультации. Женихи и невесты — те, которые захотят этого, — смогут узнать, что в них уживается между собой, а что нет, как велик риск несовместимости, и если можно снизить его, то как. Служба совместимости станет играть роль нашего психологического помощника: она будет добавлять к эмоциональным основам выбора супруга другие основы — духовные, моральные, умственные. Она — вместе с психологическим воспитанием — поможет нам совершить глубокий переворот в семейной культуре: отказаться от частичного, эмоционального выбора спутника (выбора в общем-то детского по своей психологии), и перейти к многостороннему выбору, который будет основан на психологической культуре, а не на докультуре.Семейная любовь.
«Можно ли назвать любовью сумму двух чувств: влюбленность до женитьбы, привязанность, привычку после женитьбы?» (ДК «Прожектор», ноябрь, 1983.) «Я заметила, что у человека есть очень важные свойства, от которых зависит его счастье. Я поняла, например, что очень во многом это зависит от того, хочет ли он быть счастливым сам или хочет сделать счастливым другого; требует ли он любви от близкого, или сам пытается ее заслужить своей любовью. Или в нем есть то и другое одновременно. Очень важно также, способен ли человек чем-нибудь сильно увлекаться, способен ли, загораясь чем-нибудь, уходить от нормы в своих увлечениях. Если человек неспособен сам сильно увлекаться, то он никогда не поймет другого в его увлечениях. И еще… Очень важно знать, ставит ли человек интересы дома выше всего, способен ли он воспользоваться своим положением на работе, чтобы добиваться каких-то преимуществ для своей семьи, даже не брезгуя нехорошими средствами. Я хочу сказать, сильнее ли в человеке близкородственное или социальное чувство. Очень важно отношение человека к красоте: способен ли человек на жертву или на страдание ради красоты, или он предпочитает удобство. И считает ли он красивым изящное или простое. То же и в отношении к пище: предпочитает ли он здоровую простую пищу изысканным блюдам, и вообще, чревоугодник он или нет. И еще: предпочитает ли человек внешнее в поведении внутреннему, то есть ставит ли он выше внешнюю культуру поведения или истинно уважительное отношение к людям. Сумеет ли он, например, за резкой формой высказываний почувствовать доброе отношение к себе, а за очень вежливой формой обращения почувствовать безразличие или презрение. Важно, способен ли человек сочувствовать другим в трудную минуту или неспособен и сам ищет сочувствия. Преобладают ли у него положительные или отрицательные эмоции, то есть больше он радуется обычным мелочам или больше расстраивается от них. Я думаю, любовь и счастье обязательно будут там, где есть много общего, где есть понимание и сочувствие». (Т. Хатюшина, Московская область, пос. Менделеево, август, 1975.) По-моему, это умные и верные мысли, многое схвачено здесь с истинно женской — мягкой и тонкой — чуткостью. Кроме, пожалуй, слов, что любовь будет обязательно, если есть много общего, есть понимание и сочувствие. По-моему, тут упущен икс, который есть во всякой любви, та таинственная искра, которая и рождает любовь в нашем подсознании и которую высекают то ли какие-то проблески души влекущего тебя человека, то ли твой голод по любви… Впрочем, если понимание и общность не обязательно рождают любовь, то они обязательно продляют ее жизнь. Потому что полюбить можно разных, а сохранить любовь — только к близкому, душевно рифмующемуся человеку. Когда два человека начинают любить друг друга, у них обычно есть лишь одно звено многозвенной совместимости — сходство чувств, похожее влечение друг к другу. Это только зернышко широкой совместимости, и неизвестно, вырастет оно или нет. Как-то «Неделя» напечатала мою анкету о семейной совместимости и получила несколько тысяч ответов на нее. Вот отрывок из типичного ответа, который показывает, какие духовные нити часто связывают начинающих супругов. Муж — 27 лет, образование высшее, инженер. Жена — 21 год, среднее, служащая. Женаты год, детей нет — «младший супружеский возраст». Любимые занятия (пункт 7 анкеты; совпадающие занятия подчеркнуты).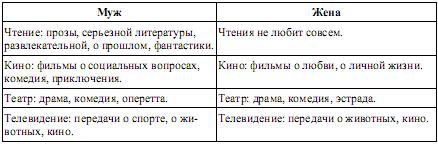 Как видим, духовные тяготения мужа серьезнее, активнее, разнообразнее. У жены серьезных — и активных — интересов мало, она совсем не любит читать, ее тянет к легким зрелищным жанрам. Есть у них и общие интересы, хотя их мало; может быть, есть и общие взгляды, но они не осознают, не чувствуют, что это — один из главных устоев их союза, вопрос жизни и смерти для их чувства.
Именно поэтому, наверно, никто из них не отметил в особом пункте анкеты — «Силы, которые вас связывают» — ни «общие взгляды, идеалы», ни «общие интересы, занятия», а в другом пункте — «Что больше всего привлекает вас в близком человеке» — не подчеркнул «интерес к вашим взглядам, занятиям», «уважение к вам, вашим интересам, взглядам». То есть таких общих взглядов у них, видимо, нет, нет и интереса к этим взглядам, к занятиям близкого.
Духовных связей, как видим, у молодоженов мало, и если их не прибавится, их чувства могут дать трещину, а зернышко совместимости может и не взойти. Любовь (и еще больше влюбленность) — чувство-стихия, она обычно приходит и уходит сама. И это самая нестойкая — хотя и главная поначалу — часть тех связей, которые скрепляют жену и мужа.
Широкая совместимость — клубок всех этих связей: союз чувства и интересов, притяжений подсознания и сознания, похожего отношения друг к другу, к детям, к домашним заботам и тяготам.
Это как бы живая мозаика из самых разных психологических «веществ» — из тяги к хорошему в близком человеке и отталкивания от плохого в нем, из восторгов перед его достоинствами, прощения недостатков, смирения перед его слабостями… Это кружевное сплетение влечений сердца, ума, тела, таинственная смесь привычек, поведения, глубинных вскриков души…
Раньше такой сплав называли «семейной любовью». Так говорил о нем Саллюстий, римский писатель и историк I века до н. э., так писал о нем и Чернышевский. «Семейная любовь, — говорил он, — наиболее распространенное между людьми… самое важное и самое благотворное из всех добрых чувств человека».
По мнению А. Ле Галла и С. Симон, когда девушка говорит, что любит юношу, а жена — что любит мужа, они называют этим словом два разных чувства. Супружеское чувство, считают они, совершенно непохоже на обычную любовь. Французский писатель Марсель Жуандо говорил о нем в своей «Супружеской хронике»: «Супружеская любовь не имеет никакой связи ни с симпатией, ни с чувственностью, ни с дружбой, ни с любовью. Она равна только себе, не сводима ни к одному из этих разных чувств, у нее своя природа, своя, особая сущность».
Вряд ли это верно: супружеская любовь прямо связана с симпатией и чувственностью, любовью и дружбой, она вбирает их в себя, строится на них. Это особый сплав чувств и психологических состояний: союз влечений — душевных, телесных, нравственных — и состояний уверенности, предпочтения, особого ощущения «мы», которое перестраивает всю душу и не передается словами…
Супружеская любовь, говорят Ле Галл и Симон, набирает силу там, где досемейная любовь слабнет, и «через несколько лет она превосходит ее силой, глубиной, прочностью». От этого в корне меняются и отношения мужа с женой, и они сами: «Другой перестал быть другим: каждый стал частью другого»[132].
Это блестяще сказано, хотя, пожалуй, не очень точны названия — супружеское чувство, семейная любовь… С точки зрения строго психологической, это смесь чувств, взглядов, настроений, привычек, поведения — то, что мы называем сегодня тяжеловесным словом «совместимость». Может быть, условно и можно называть такой сплав супружеской любовью, но только, видимо, помня, что это не любовь-чувство, а любовь-состояние, гибрид чувств, отношений, настроенности души.
Как видим, духовные тяготения мужа серьезнее, активнее, разнообразнее. У жены серьезных — и активных — интересов мало, она совсем не любит читать, ее тянет к легким зрелищным жанрам. Есть у них и общие интересы, хотя их мало; может быть, есть и общие взгляды, но они не осознают, не чувствуют, что это — один из главных устоев их союза, вопрос жизни и смерти для их чувства.
Именно поэтому, наверно, никто из них не отметил в особом пункте анкеты — «Силы, которые вас связывают» — ни «общие взгляды, идеалы», ни «общие интересы, занятия», а в другом пункте — «Что больше всего привлекает вас в близком человеке» — не подчеркнул «интерес к вашим взглядам, занятиям», «уважение к вам, вашим интересам, взглядам». То есть таких общих взглядов у них, видимо, нет, нет и интереса к этим взглядам, к занятиям близкого.
Духовных связей, как видим, у молодоженов мало, и если их не прибавится, их чувства могут дать трещину, а зернышко совместимости может и не взойти. Любовь (и еще больше влюбленность) — чувство-стихия, она обычно приходит и уходит сама. И это самая нестойкая — хотя и главная поначалу — часть тех связей, которые скрепляют жену и мужа.
Широкая совместимость — клубок всех этих связей: союз чувства и интересов, притяжений подсознания и сознания, похожего отношения друг к другу, к детям, к домашним заботам и тяготам.
Это как бы живая мозаика из самых разных психологических «веществ» — из тяги к хорошему в близком человеке и отталкивания от плохого в нем, из восторгов перед его достоинствами, прощения недостатков, смирения перед его слабостями… Это кружевное сплетение влечений сердца, ума, тела, таинственная смесь привычек, поведения, глубинных вскриков души…
Раньше такой сплав называли «семейной любовью». Так говорил о нем Саллюстий, римский писатель и историк I века до н. э., так писал о нем и Чернышевский. «Семейная любовь, — говорил он, — наиболее распространенное между людьми… самое важное и самое благотворное из всех добрых чувств человека».
По мнению А. Ле Галла и С. Симон, когда девушка говорит, что любит юношу, а жена — что любит мужа, они называют этим словом два разных чувства. Супружеское чувство, считают они, совершенно непохоже на обычную любовь. Французский писатель Марсель Жуандо говорил о нем в своей «Супружеской хронике»: «Супружеская любовь не имеет никакой связи ни с симпатией, ни с чувственностью, ни с дружбой, ни с любовью. Она равна только себе, не сводима ни к одному из этих разных чувств, у нее своя природа, своя, особая сущность».
Вряд ли это верно: супружеская любовь прямо связана с симпатией и чувственностью, любовью и дружбой, она вбирает их в себя, строится на них. Это особый сплав чувств и психологических состояний: союз влечений — душевных, телесных, нравственных — и состояний уверенности, предпочтения, особого ощущения «мы», которое перестраивает всю душу и не передается словами…
Супружеская любовь, говорят Ле Галл и Симон, набирает силу там, где досемейная любовь слабнет, и «через несколько лет она превосходит ее силой, глубиной, прочностью». От этого в корне меняются и отношения мужа с женой, и они сами: «Другой перестал быть другим: каждый стал частью другого»[132].
Это блестяще сказано, хотя, пожалуй, не очень точны названия — супружеское чувство, семейная любовь… С точки зрения строго психологической, это смесь чувств, взглядов, настроений, привычек, поведения — то, что мы называем сегодня тяжеловесным словом «совместимость». Может быть, условно и можно называть такой сплав супружеской любовью, но только, видимо, помня, что это не любовь-чувство, а любовь-состояние, гибрид чувств, отношений, настроенности души.
Последние комментарии
1 день 19 часов назад
2 дней 7 минут назад
2 дней 1 час назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 5 часов назад