Кукла и комедиант [Висвалд Лам] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Висвалд Лам Кукла и комедиант
 Висвалд ЛАМ родился в 1923 году в пригороде Риги, Милгрависе, где всегда жили моряки, грузчики и рыбаки, в семье портового рабочего. Рассказывать о его детстве нет нужды, так как оно описано в повести «Одну лишь каплю даруй, источник».
Рано потеряв отца, Висвалд Лам с детских лет привык своим трудом добывать себе хлеб. Вся его биография — это длинный перечень новых мест работы и освоенных им новых профессий: пастух, стекольщик, рассыльный, каменщик, электротехник, слесарь, дорожный мастер, лесоруб, сварщик, сантехник, бетонщик.
Законченного образования В. Лам так и не получил — помешала война. Но ничто не могло помешать ему читать: страсть к чтению не покидает его с детства до сего дня.
Наступил день, когда В. Лам решил испытать, как он владеет пером.
С 1949 года он пишет рассказы. А в 1953 году печатает свой первый роман «Дорога сквозь жизнь», с которым в латышскую прозу вошел новый писатель В. Эглон. Желание писать под псевдонимом автор объяснял тем, что собирается и дальше работать на строительстве и не хочет ничем выделяться среди рабочих. «Дороге сквозь жизнь» были присущи недостатки первой литературной работы — автору на хватало опыта, лаконизма и умения отбирать существенное.
В 1955 году В. Лам уже обращает на себя внимание романом «Неуемно гудящий город». В нем автор резко, сурово и правдиво рассказывал о судьбе рабочего в послевоенной Латвии и в период больших исторических перемен.
Наибольшие споры и противоречивые критические оценки вызвали два последующих произведения — повесть «Белая кувшинка» и роман «Полыхание зарниц». В первом ставится проблема «поисков жизненного пути» молодыми, во втором автор говорит свое слово о «реакции маленького человека» на такие сложные события, как гитлеровская оккупация…
Связь В. Лама с рабочей средой никогда не прерывалась. Бывали периоды, когда одну его книгу от другой отделяли два-три года, во время которых писатель держал в руках только разводкой ключ или газовую горелку.
Писатель считает, что без этих уходов от письменного стола не появились бы его романы: «Минута на раздумье», «Профессия — выше некуда», «Итог всей жизни».
В 1968 году выходит повесть «…И все равно — вперед…», суровая, яркая картина — люди военных дней, живущие под угрозой смерти. Гибель ждет их всех, но «настоящие люди идут вперед, пусть и навстречу смерти». С этой книгой писатель печатается уже под своим настоящим именем — Лам.
Всего им написано восемь романов и четыре повести.
Первым на русском языке вышел роман «Кукла и комедиант» (журнал «Дружба народов», 1973 г.), сразу же обративший на себя внимание не только советского, но и зарубежного читателя. Сейчас он переводится на эстонский, литовский, болгарский, польский, словацкий и испанский языки. В 1975 году в журнале «Дружба народов» печатается роман «Итог всей жизни».
В романе «Кукла и комедиант» В. Лам рисует Латвию военных и первых послевоенных лет. Но это книга не столько о войне, сколько о роли и позиции человека, «посетившего сей мир в его минуты роковые». Человек не должен быть безвольной куклой в руках любой силы, заинтересованной именно в безвольности, пассивности управляемых ею существ, будь эта сила бог, фюрер, демагог или молох взбесившейся цивилизации. Какой ценой дается эта независимая позиция, в какой мере человек сам творец своей судьбы, — вот о чем этот роман.
Примерно эта же мысль выражена и в повести «…И все равно — вперед…», включенной в данную книгу.
Висвалд ЛАМ родился в 1923 году в пригороде Риги, Милгрависе, где всегда жили моряки, грузчики и рыбаки, в семье портового рабочего. Рассказывать о его детстве нет нужды, так как оно описано в повести «Одну лишь каплю даруй, источник».
Рано потеряв отца, Висвалд Лам с детских лет привык своим трудом добывать себе хлеб. Вся его биография — это длинный перечень новых мест работы и освоенных им новых профессий: пастух, стекольщик, рассыльный, каменщик, электротехник, слесарь, дорожный мастер, лесоруб, сварщик, сантехник, бетонщик.
Законченного образования В. Лам так и не получил — помешала война. Но ничто не могло помешать ему читать: страсть к чтению не покидает его с детства до сего дня.
Наступил день, когда В. Лам решил испытать, как он владеет пером.
С 1949 года он пишет рассказы. А в 1953 году печатает свой первый роман «Дорога сквозь жизнь», с которым в латышскую прозу вошел новый писатель В. Эглон. Желание писать под псевдонимом автор объяснял тем, что собирается и дальше работать на строительстве и не хочет ничем выделяться среди рабочих. «Дороге сквозь жизнь» были присущи недостатки первой литературной работы — автору на хватало опыта, лаконизма и умения отбирать существенное.
В 1955 году В. Лам уже обращает на себя внимание романом «Неуемно гудящий город». В нем автор резко, сурово и правдиво рассказывал о судьбе рабочего в послевоенной Латвии и в период больших исторических перемен.
Наибольшие споры и противоречивые критические оценки вызвали два последующих произведения — повесть «Белая кувшинка» и роман «Полыхание зарниц». В первом ставится проблема «поисков жизненного пути» молодыми, во втором автор говорит свое слово о «реакции маленького человека» на такие сложные события, как гитлеровская оккупация…
Связь В. Лама с рабочей средой никогда не прерывалась. Бывали периоды, когда одну его книгу от другой отделяли два-три года, во время которых писатель держал в руках только разводкой ключ или газовую горелку.
Писатель считает, что без этих уходов от письменного стола не появились бы его романы: «Минута на раздумье», «Профессия — выше некуда», «Итог всей жизни».
В 1968 году выходит повесть «…И все равно — вперед…», суровая, яркая картина — люди военных дней, живущие под угрозой смерти. Гибель ждет их всех, но «настоящие люди идут вперед, пусть и навстречу смерти». С этой книгой писатель печатается уже под своим настоящим именем — Лам.
Всего им написано восемь романов и четыре повести.
Первым на русском языке вышел роман «Кукла и комедиант» (журнал «Дружба народов», 1973 г.), сразу же обративший на себя внимание не только советского, но и зарубежного читателя. Сейчас он переводится на эстонский, литовский, болгарский, польский, словацкий и испанский языки. В 1975 году в журнале «Дружба народов» печатается роман «Итог всей жизни».
В романе «Кукла и комедиант» В. Лам рисует Латвию военных и первых послевоенных лет. Но это книга не столько о войне, сколько о роли и позиции человека, «посетившего сей мир в его минуты роковые». Человек не должен быть безвольной куклой в руках любой силы, заинтересованной именно в безвольности, пассивности управляемых ею существ, будь эта сила бог, фюрер, демагог или молох взбесившейся цивилизации. Какой ценой дается эта независимая позиция, в какой мере человек сам творец своей судьбы, — вот о чем этот роман.
Примерно эта же мысль выражена и в повести «…И все равно — вперед…», включенной в данную книгу.
Кукла и комедиант роман
 В квартире была пустота. Янис Смилтниек, письмо и пустота. Мебель это ощущение делала почти невыносимым. Большой стол лежал разбухшей колодой — день за днем он впитывал чернила, пот, мысли, дела; год за годом его сверлили древоточцы, оставляя на полу тонкую пыльцу. Лаймдота, убирая комнату, все время говорила: «Ты глянь, эта моль даже дуб ест!» Ей казалось странным, что простая, фанерованная сосна убереглась от точильщика, а эта великолепная дубовая мебель, которую дед сделал в приданое своей дочери — матери Лаймдоты, — совсем изъедена. Почему письменному столу надо было стоять в этой квартире и в конце концов сделаться приданым и Лаймдоты? Ни ее дед — краснодеревщик, ни отец — кондитер Карклинь писаниной себя не утруждали. Янис Смилтниек был металлистом, но когда-то учился в вечерней школе и в последнем классе мог воспользоваться этой жениной мебелью. Может быть, именно ради него судьба заставила много лет назад попотеть никогда не виданного деда? Нет, Янис Смилтниек так же хорошо мог заниматься своим писанием за любым, даже за кухонным столом. И потомство Смилтниека — сын и дочь — свои уроки охотнее делало за круглым столом посреди комнаты; в первые школьные годы парнишка хранил в одном из ящиков письменного стола рогатку и выструганный из дерева наган, именуя это своим арсеналом. Лаймдота, в свою очередь, обнаружила в одном из ящиков припрятанную дочкой губную помаду и заграничный кружевной бюстгальтер — вещи, которые пока что этому самому юному отпрыску рода Смилтниеков были не нужны. В конце концов, не нужен был и сам стол — члены семейства Карклиней и Смилтниеков отнюдь не изнуряли себя за ним тяжелым умственным трудом, не изводили нервы, бумагу, чернила.
И если письменный стол был все же пропитан мыслями и чернилами, если не служил единственно кормом для точильщиков, то лишь потому, что им долгие годы учения пользовался Ояр. Никакому мужу не бывает особенно приятен дальний женин родственник, который занимает (хотя бы и с временной пропиской как студент) место в квартире, в особенности если муж и сам-то вошел в дом к жене. Дети растут, им нужна своя площадь, а тут кто-то — вроде и член семьи, но ведь и не настоящий, вроде и чужой, а не чужой — путается под ногами. Вообще-то Янис Смилтниек неплохо относился к Ояру и все же в душе порадовался, когда тот, получив диплом инженера, покинул Ригу без намерения вернуться. Уже годы прошли с того дня; после того Ояр наведывался в гости, присылал и письма. Вот это письмо и было виной всему, оно взбаламутило старые воспоминания, вызвало чувство пустоты.
Сын с приятелем в кино. Дочка с подружкой в кино. Лаймдота вчера упрятала в кошелек железнодорожный билет, поцеловала мужа в щеку: «Веди себя хорошо. Ешьте салаку, она быстро портится».
В пустоту квартиры вошли сумерки, они приглушили шумы, смазали очертания предметов, наконец погрузили весь мир в какое-то неведомое, ирреальное пространство. Янис слышал голос прошлого, который рассказывал, напоминал, тосковал и смеялся, он чувствовал связанность с людьми, фигуры которых окутывали эти струящиеся сумерки, невидимые, вроде бы незнакомые и все же близкие. Лаймдота — единственная, любимая — красивая, хотя и немножко чересчур округлившаяся. В девичестве она казалась привлекательнее. Но зато раздавшаяся матрона — это символ домашнего очага. Альбом: вот я, совсем крошечная (ужас! даже нельзя узнать); папа, мама, сестра и я; я в начальной школе у рождественской (новогодней) елки; я в день конфирмации (совершеннолетия); мы с мужем выходим из церкви (из загса); наш младенец (ужас! даже нельзя узнать!); бабушка с внуками. А Янис Смилтниек? «Я жил, воспитывал дочь и сына, я старался быть честным, добропорядочным, сознательным». Семейный альбом — нечто вроде жизненного цикла одного поколения, замкнутый круг. Вне его находятся эти воспоминания, вышедшие из сумерек, голоса, которые зовут, напоминают, наполняют беспокойством сердце.
Ояр написал, и это нарушило равновесие если не в квартире, то в самом Янисе Смилтниеке. Первым об этом оповестил тяжелый, массивный, старомодный письменный стол, потом объявилось чувство пустоты. Ояр пришел с небольшой брезентовой сумкой, ушел с дешевым картонным чемоданом. Никогда у него не было никакого богатства, ничего он отсюда не забрал, и все же недоставало части Яниса Смилтниека, той, что хранится в сейфе прошлого, куда не могут проникнуть самые ловкие взломщики. Вместе с Ояровым письмом вернулись — как воспоминания — многие лица и события. Он, который не очень-то касался прошлого, совсем неожиданно пространно написал об Улдисе. Одно это имя всегда заставляло Яниса настораживаться, потому что было связано с разными многозначащими в его жизни периодами. И вот Ояр сообщил кое-что, не известное Янису, и в конце назвал и ту девушку: «Она лежала обмякшая, как сломанная кукла, а меня терзали жуткие угрызения из-за разговора, из-за того, что я сказал. Тяжело так встретиться с прошлым, когда уже ничего нельзя изменить, ни одну ошибку или подлость уже нет возможности исправить…» Ояр рассуждал дальше, но Янис читал это только глазами — прошлое подступило к нему самому. Камень, который Ояр с внезапной одержимостью бросил в кого-то другого, превратился в лавину, и она обрушилась на Яниса Смилтниека.
…И вот явился Улдис. И это не было чередой образных воспоминаний (не так уж долго Янис находился вместе с Улдисом!), не было это и оценкой или суждением (что Янис знал об Улдисе, о чем он мог судить!), не могло быть вглядыванием в мир мыслей и чувств Улдиса (Улдис все в себе хранил за семью запорами) и уж никак не могло быть развернутой справкой или рассказом о злоключениях этого парня — он же не был живой легендой или притчей, где смешались быль и небыль. Улдис явился сам, рассказывал о себе сам, размышлял, чувствовал сам, говорил совсем как живой — и говорил такое, что часто было Янису непонятно, а нередко вызывало и страх. Но он был здесь, он стоял перед Янисом, близкий и непостижимый. И ему дела не было до Яниса, до его забот и хлопот, нет, Улдис оставался в своем мире. Два знакомых и далеких незнакомца, запрессованных в один виток истории, но каждый со своей особенной жизнью.
Улдис, давний товарищ по работе и школе, меньше всего годился для семейного альбома, а вообще-то ни для какого альбома: слишком подвижный перед объективом памяти, слишком будоражащий уют и покой, никак не вписывающийся в тихий вечер с рождественской елкой.
В квартире была пустота. Янис Смилтниек, письмо и пустота. Мебель это ощущение делала почти невыносимым. Большой стол лежал разбухшей колодой — день за днем он впитывал чернила, пот, мысли, дела; год за годом его сверлили древоточцы, оставляя на полу тонкую пыльцу. Лаймдота, убирая комнату, все время говорила: «Ты глянь, эта моль даже дуб ест!» Ей казалось странным, что простая, фанерованная сосна убереглась от точильщика, а эта великолепная дубовая мебель, которую дед сделал в приданое своей дочери — матери Лаймдоты, — совсем изъедена. Почему письменному столу надо было стоять в этой квартире и в конце концов сделаться приданым и Лаймдоты? Ни ее дед — краснодеревщик, ни отец — кондитер Карклинь писаниной себя не утруждали. Янис Смилтниек был металлистом, но когда-то учился в вечерней школе и в последнем классе мог воспользоваться этой жениной мебелью. Может быть, именно ради него судьба заставила много лет назад попотеть никогда не виданного деда? Нет, Янис Смилтниек так же хорошо мог заниматься своим писанием за любым, даже за кухонным столом. И потомство Смилтниека — сын и дочь — свои уроки охотнее делало за круглым столом посреди комнаты; в первые школьные годы парнишка хранил в одном из ящиков письменного стола рогатку и выструганный из дерева наган, именуя это своим арсеналом. Лаймдота, в свою очередь, обнаружила в одном из ящиков припрятанную дочкой губную помаду и заграничный кружевной бюстгальтер — вещи, которые пока что этому самому юному отпрыску рода Смилтниеков были не нужны. В конце концов, не нужен был и сам стол — члены семейства Карклиней и Смилтниеков отнюдь не изнуряли себя за ним тяжелым умственным трудом, не изводили нервы, бумагу, чернила.
И если письменный стол был все же пропитан мыслями и чернилами, если не служил единственно кормом для точильщиков, то лишь потому, что им долгие годы учения пользовался Ояр. Никакому мужу не бывает особенно приятен дальний женин родственник, который занимает (хотя бы и с временной пропиской как студент) место в квартире, в особенности если муж и сам-то вошел в дом к жене. Дети растут, им нужна своя площадь, а тут кто-то — вроде и член семьи, но ведь и не настоящий, вроде и чужой, а не чужой — путается под ногами. Вообще-то Янис Смилтниек неплохо относился к Ояру и все же в душе порадовался, когда тот, получив диплом инженера, покинул Ригу без намерения вернуться. Уже годы прошли с того дня; после того Ояр наведывался в гости, присылал и письма. Вот это письмо и было виной всему, оно взбаламутило старые воспоминания, вызвало чувство пустоты.
Сын с приятелем в кино. Дочка с подружкой в кино. Лаймдота вчера упрятала в кошелек железнодорожный билет, поцеловала мужа в щеку: «Веди себя хорошо. Ешьте салаку, она быстро портится».
В пустоту квартиры вошли сумерки, они приглушили шумы, смазали очертания предметов, наконец погрузили весь мир в какое-то неведомое, ирреальное пространство. Янис слышал голос прошлого, который рассказывал, напоминал, тосковал и смеялся, он чувствовал связанность с людьми, фигуры которых окутывали эти струящиеся сумерки, невидимые, вроде бы незнакомые и все же близкие. Лаймдота — единственная, любимая — красивая, хотя и немножко чересчур округлившаяся. В девичестве она казалась привлекательнее. Но зато раздавшаяся матрона — это символ домашнего очага. Альбом: вот я, совсем крошечная (ужас! даже нельзя узнать); папа, мама, сестра и я; я в начальной школе у рождественской (новогодней) елки; я в день конфирмации (совершеннолетия); мы с мужем выходим из церкви (из загса); наш младенец (ужас! даже нельзя узнать!); бабушка с внуками. А Янис Смилтниек? «Я жил, воспитывал дочь и сына, я старался быть честным, добропорядочным, сознательным». Семейный альбом — нечто вроде жизненного цикла одного поколения, замкнутый круг. Вне его находятся эти воспоминания, вышедшие из сумерек, голоса, которые зовут, напоминают, наполняют беспокойством сердце.
Ояр написал, и это нарушило равновесие если не в квартире, то в самом Янисе Смилтниеке. Первым об этом оповестил тяжелый, массивный, старомодный письменный стол, потом объявилось чувство пустоты. Ояр пришел с небольшой брезентовой сумкой, ушел с дешевым картонным чемоданом. Никогда у него не было никакого богатства, ничего он отсюда не забрал, и все же недоставало части Яниса Смилтниека, той, что хранится в сейфе прошлого, куда не могут проникнуть самые ловкие взломщики. Вместе с Ояровым письмом вернулись — как воспоминания — многие лица и события. Он, который не очень-то касался прошлого, совсем неожиданно пространно написал об Улдисе. Одно это имя всегда заставляло Яниса настораживаться, потому что было связано с разными многозначащими в его жизни периодами. И вот Ояр сообщил кое-что, не известное Янису, и в конце назвал и ту девушку: «Она лежала обмякшая, как сломанная кукла, а меня терзали жуткие угрызения из-за разговора, из-за того, что я сказал. Тяжело так встретиться с прошлым, когда уже ничего нельзя изменить, ни одну ошибку или подлость уже нет возможности исправить…» Ояр рассуждал дальше, но Янис читал это только глазами — прошлое подступило к нему самому. Камень, который Ояр с внезапной одержимостью бросил в кого-то другого, превратился в лавину, и она обрушилась на Яниса Смилтниека.
…И вот явился Улдис. И это не было чередой образных воспоминаний (не так уж долго Янис находился вместе с Улдисом!), не было это и оценкой или суждением (что Янис знал об Улдисе, о чем он мог судить!), не могло быть вглядыванием в мир мыслей и чувств Улдиса (Улдис все в себе хранил за семью запорами) и уж никак не могло быть развернутой справкой или рассказом о злоключениях этого парня — он же не был живой легендой или притчей, где смешались быль и небыль. Улдис явился сам, рассказывал о себе сам, размышлял, чувствовал сам, говорил совсем как живой — и говорил такое, что часто было Янису непонятно, а нередко вызывало и страх. Но он был здесь, он стоял перед Янисом, близкий и непостижимый. И ему дела не было до Яниса, до его забот и хлопот, нет, Улдис оставался в своем мире. Два знакомых и далеких незнакомца, запрессованных в один виток истории, но каждый со своей особенной жизнью.
Улдис, давний товарищ по работе и школе, меньше всего годился для семейного альбома, а вообще-то ни для какого альбома: слишком подвижный перед объективом памяти, слишком будоражащий уют и покой, никак не вписывающийся в тихий вечер с рождественской елкой.
1
Янис Смилтниек познакомился с Улдисом осенью 1941 года. В газете «Тевия» появилось объявление, что бывшие учащиеся вечерней школы имени Райниса могут зарегистрироваться в помещении школы (вход со двора) для занятий в новом учебном году. Поэтому-то в тот осенний день Янис Смилтниек и искал вход «со двора». Еще издали виден был у ворот во двор немецкий часовой. С немцем разговаривал учитель истории. Подошли и другие бывшие ученики. Листва на бульваре еще зеленая, школьное здание такое же, как в светлом звонком мае, но чем-то зловещим веяло от стен, от хруста гравия под ногами. Учитель истории и история, которую Геродот именовал «magistra vitae»[1]. Сила, которая сместила границы, швырнула в бездну небытия державы и миллионы людей: солдат, стальной шлем и маузеровская винтовка, подкованные сапоги, рифленая железная противогазовая коробка на брезентовом ремне. Эта зеленовато-серая форма царила в Европе, породивший ее старый Бисмарк возгласил: «Великие вопросы времени решаются не речами и парламентскими резолюциями, а железом и кровью!» Янис не знал про Геродота и Бисмарка, это было по части Улдиса. Яниса разозлило сообщение историка, что регистрация учащихся гимназии происходит в бывшей еврейской начальной школе на Лазаретной улице, где предусмотрены и занятия. Зачем тогда гонять сначала сюда? Чтобы заставить историка дежурить рядом с немецким солдатом? Волосы у историка были седые, как сумерки в комнате, сумерки небытия, в которых все тает, все исчезает; лицо серое, кожа увядшая, взгляд уклончивый. В советское время на первом уроке истории учитель сделал нечто вроде доклада насчет «трудовых побед в советских пятилетках». Он нервно прохаживался, руки и ноги его подергивались, классные остряки определили: «Колеблется вместе с историей», — а затем приписали ему постыдный, сказывающийся на нервах порок. Так же передергиваясь, учитель начал первый урок истории на Лазаретной улице с сурового осуждения событий, происшедших за год советской власти. Янис думал: «Не очень-то большая радость так себе хлеб зарабатывать, да и хлеб-то какой — загаженный, невкусный». Янис Смилтниек хотел стать инженером, потому он ежевечерне и смирял свою профессиональную гордость солидного мастерового за школьной партой. Работать, учиться, получить аттестат зрелости, учиться, стать техническим специалистом, который работает, а не славословит всяких там… В математике он был силен, а в языках, истории — обычный троечник. Улдис рассуждал иначе, — на его взгляд, история подавила живого человека, «magistra vitae» тяжким грузом легла на грудь и дыхание историка. Разные воплощения вышнего шутника — субъекты в сенаторской тоге, в позолоченных латах Ричарда Львиное Сердце, в императорском сером походном сюртуке, вопящий в микрофон демагог — и, предводительствуемые ими, по полям сражений маршируют к гибели армии, армии. Гробницы героев, воинские звания, ордена, знамена, штандарты, бессмертие героев и инвалиды, нищенствующие на углу. Дрожащий человек рассказывает о героях, о славе… Слава точно закованный в железо змей, поглощающий поколения мужчин. Зрелище смерти Цезаря на подмостках — склоняются знамена, звенят мечи, покрытые шрамами ветераны роняют от растроганности слезы, благородное воодушевление наполняет сердце; закулисная пыль: грязные окопы, выпущенные кишки, испакощенные и разграбленные города, пьяные солдатские проклятия великому Цезарю. Бессмертный Цезарь — столь же абсолютный и бессмертный, как людская глупость… Улдис бросал ехидные слова и попыхивал папироской. В школьном помещении это, конечно, запрещалось, так что они дрожали в темном сыром дворе. Янис просто не понимал, какого черта он водится с этой долговязой, высохшей ядовитой жердью. Костлявые плечи, узкая грудь, щеки к зубам прилипли, брюхо к спине. Как будто ради повода для ссоры Янис заметил: — А зачем курить, если с табаком так худо? — Именно потому. Запретный плод — услада, — Улдис нарочито торжественно извлек папиросы «Услада» и предложил Янису. Янис отказался — человек практический, он знал, что делает, во всяком случае был убежден, что знает. Не то что этот долговязый, с папироской в зубах, с умными словами на языке. Работал Янис «жестяных дел мастером» в подвале напротив старой церкви святой Гертруды. Владелец умер, и Янис остался единственным хозяином. «Надо учиться жить», — говаривал мастер, обучавший Яниса ремеслу, старый Зауэр. Еще Зауэр любил добавить: «Человеку голова дана, чтобы думать, обдумывать надо все, что делаешь, толково обдумывать». Янис старался толково думать, а Улдис ему мешал, даже раздражал. Янис Смилтниек хозяйничал в своей и не своей мастерской: брал в обучение молодых ребят и платил им самое высокое жалованье, которое назначал «Арбайтсамт», и все же эти парни только время отбывали, материал изводили, а на каждое замечание отвечали дерзостью. Никакого от них проку, самому все приходилось делать. Разными путями Янис раздобыл немного жести и стал изготовлять посуду, на которую был большой спрос в деревне, так как в магазинах она исчезла. Он спросил у Улдиса: — Ты где работаешь? — На заводе сельскохозяйственных машин. То железо таскаю, то целый день у сверлильного. Чернорабочий. — Не по плечу? Улдис вспыхнул: — Не ною. Дырки сверлить любая девчонка потянет. То беда, что обращаются как с цуциком! Считаешься учеником, получаешь «фениги»; раз моложе двадцати лет, стало быть, вместо папирос тебе фига!.. Он сконфуженно осекся. Узкие губы слились в одну линию, тонкая шея как будто ушла в костлявые плечи. Это был один из редких случаев, когда Янис слышал от Улдиса жалобу. Перемена кончилась, разговор оборвался, но Янис думал об этом и потом, искоса поглядывая на своего соседа. Что этот Улдис за птица? Сукно на нем хорошее, одет красиво, чисто. С маменьки тянет? На барчука не похож, хотя натужно норовит казаться остроумным и легкомысленным. Вроде бы очень правдивый, честный — есть у некоторых такая особенность характера, одних привлекает, других отталкивает. После первой контрольной по истории, когда Улдисова шпаргалка спасла его от двойки, Янис вновь заговорил про работу: — Ты паять умеешь? Ну, хоть дырку в посудине заделать? — Да уж как-нибудь смог бы. — Иди ко мне работать. Дам тебе жалованье. Мне хороший помощник нужен. Улдис робко и недоверчиво посмотрел на Яниса: — Да у тебя, наверное, всякая тонкая работа? — Выучишься, с металлом же дело имел. Янис решил, что хуже теперешнего вертиголового подручного этот все равно не будет, все же школьный товарищ, свой парень. И вновь промелькнула мысль, что по правде-то он этого Улдиса вовсе и не знает. Только имя и фамилию — Осис, Улдис Осис.2
Сумрак небытия отхлынул, Улдис вышел из глуби времени — длинный, в плохо сидящем костюме, хотя и сшитом в «Jockey-club», Улдис с его вечными полуциничными, полунесуразными сентенциями, вертикальной морщиной между бровями, с насмешливо закушенной губой: «Ваше преподобие, вы что же, сомневаетесь в существовании аллаха? Не утруждайтесь, никому еще не удалось это доказать», «Простите, господин учитель, мне не доводилось видеть глазами эту строчку из «Horst Wessel Lied», — и гримаса, не то изумленная, не то озабоченная. — Как оно там? «Der Tag für Knechtschaft und kein Brot bricht an?» Ах так? «Für Freiheit und für Brot!..»[2] «Хм, какая промашка!» Почему Эвклид сравнивал треугольники, а не вина?» Он всегда был насмешливо вежлив, пользовался чистыми, аккуратно сложенными платками, казалось, что за вечер он извлекал их из карманов с дюжину, всем девушкам в классе говорил закрученные комплименты, особенно обворожительными именовал дурнушек. И это вечное старание быть остроумным! Где-то все отдавало мальчишеской задиристостью, что-то было очень симпатичным, в высшей степени порядочным. Он охотно одалживал учебники, тетради с уроками, письменные принадлежности и шпаргалки, охотно растолковывал темные места — в какой-то мере был хвастлив, но не высокомерен, а этак по-доброму хвастлив. Вскоре Янис понял, что Улдис, в общем-то, очень застенчив, особенно в толпе, и застенчивость свою старается прикрыть фанфаронством. Но с Янисом он не выламывался, а говорил просто: — Ты, друг, крепче моего стоишь на этой земле. Нам всем приходится в одном строю держаться, нас туда сунули, не спрашивая согласия, и теперь хоть плачь, хоть смейся. Так что лучше уж не брыкаться, не нарываться на взбучку. А костлявая придет незваной, деловито попробует ногтем острие косы, пошаркает бруском и пошла косить. Угрюмые осенние месяцы — пришлось отчаянно побороться с голодом, стыдно было бы кому-то жаловаться, если теперь это можно вспоминать как что-то забавное. Горечь прошлого, обиды, слезы — все так забавно, как хорошая шутка. Не смешно ли, что я бродил по кулинариям и столовкам — когда какое название — и пробовал постные блюда; веселенькая проба — без мяса, без жира, без крови. Морковные котлеты — объеденье — уже распроданы, под вечер безнадежная пустота, а днем я работал. Овощное пюре! Пожалуйста, пожалуйста! Я бы сожрал три порции разом, да стыдно, бегу в другую столовку. Официантка — миловидная девушка, хорошенькое личико, стройные ножки столбиками. Гм, не нравятся? Глубокое декольте… Вдруг чувствую себя сытым, даже почти в полной форме. На мою улыбку она ответила холодно, и я уставился на стройные ножки и пустое меню. Суп из свежей капусты, скажем прямо, сваренная в воде капуста. Подчеркивая свое глубокое презрение, я заказал две порции этой уродине с дубовыми ножищами. Ночью несколько раз вскакивал, бегал к раковине на кухне. Потом стало не хватать даже этих металлических пфеннигов. Наваристые соблазнительные запахи и тощие супы; погреб жестянщика с яркими электрическими лампочками и темными углами, низкий потолок, металл, нашатырь, пары соляной кислоты, рабочий лязг. Твоя перепалка с моим предшественником, который на прощание стал просто хамить, да и ты был такой резкий, каким я тебя никогда не слыхал. Дни нашей жизни. «Быстры, как волны…» Нет, нет, бесконечно медлительные, изнурительные. Вдруг какая-то женщина встала на решетку, прикрывающую углубление подвального окна. У нее были красивые ноги, и вот они открылись куда выше колен. Подвал почти озарился розовым светом. Тут будет весело работать, и я несколько дней время от времени поглядывал наверх — а вдруг опять удастся глаз потешить? Напрасная надежда, первое яркое событие осталось и последним. Тротуар широкий, прохожие редкие, обладательница красивых ног, видимо, была случайным здесь явлением. Брр-р… до чего же мал был карточный паек! Вечный голод, словно стальной солитер, сосал под ложечкой. Овощное месиво, овощная похлебка. «От воды взят ecu и в воду отыдешь…» Пять раз за ночь бегать в обледенелое помещение на лестнице! А ты удивлялся, что я весь из костей, жалких мускулов и кожи. Хорошо, что в воде всегда содержатся растворенные горные породы, я питался только ими. Янис, оправдываясь: — Я же делился! Улдис: — Что верно, то верно. Выражаясь возвышенным слогом, «с глубоким душевным трепетом» еще и сейчас вспоминаю, как это было. Явился мужик, забрал свои чайники, кастрюли, ведра и оставил сверток. Ты развернул его при мне. Копченый окорок, коричневый, сочный, пахучий… Ты откромсал хороший кусок. Я глотал слюни, у меня дрожали руки, я пробормотал благодарность. Голод, голод, наконец-то я смогу его утолить. И вот я сижу на единственном стуле в своей сырой комнате. Стены были тоскливые, лампочка весело смеялась, гвозди от дикого любопытства почти вылезали из тоскливых стен. Сколько мяса в этой комнате! Краюшка хлеба, которую я сегодня утром, закаляя волю, оставил нетронутой, конфузливо съежилась рядом с большим куском мяса. Да, там, где брюхо, ничего возвышенного нет, а власть брюха над человеком велика. Я рвал мясо, заедая его хлебом, стены становились все меланхоличнее, лампочка тускнела, высунувшиеся гвозди крутили своими глупыми железными головками. Я выпил воды, икнул, кончил есть и с наполненным брюхом и осчастливленным духом повалился на кровать. В «мой дом» вошел праздник… Янису была знакома тогдашняя квартира Улдиса. Она находилась в глубине многоэтажных блоков, высящихся на скрещении Суворовской (Plescauer Straße) и Таллинской (Revaler Straße) улиц. Вход через шикарное парадное, по красивому коридору, через узкий двор, вверх по угрюмой лестнице на пятый этаж, там дверь в тесную кухню, а за нею комнатенка чуть побольше. В кухне царил вечный полумрак, окно выходило в колодец, потолок был давно не беленный, стены облупились, плита редко когда топлена. Если бы в доме не работало центральное отопление, Улдис долго бы здесь не выдержал. Пусто, темно, сыро. В комнате стены такие же облупившиеся, на нескольких гвоздях вся одежда Улдиса. Продавленный матрац, кухонный шкафчик, служивший Улдису столом, и стул, да, действительно, хороший, красивый стул. Занавесок на окне не было, только обязательная черная бумага. Впервые Янис навестил друга днем. Чудесный вид открывался на широкую округу с низкими домишками. И тут же подавленность при мысли, что здесь искусственное освещение — когда окна закрыты, красный глаз электрической лампочки мигает в этой пустоте, нищете, холоде…3
Улдис: — Наверное, не сумел я соблюсти меру в еде, ночью спал очень плохо. Сны, неприятные, мучительные сны. Я вернулся в дом отчима, отчим лежал на смертном одре. Торжественной чередой шествовали разные светила медицины, но костлявая смеялась над ними. Мрачными тенями бродили по многочисленным комнатам завистливые, жадные, лицемерно скорбные родственники. Мать сама напоминала тень. Покорно проводила она ночи подле умирающего, капала из разных пузырьков, клала грелку к ногам, резким голосом приказывала что-то услужающим теням. Рот у матери сделался тонким, бледным, безулыбчивым, а глаза, большие карие глаза, которые год назад покорили моего отчима так, что он, богатый человек, женился на этой не очень-то красивой бедной «разводке» с мальчишкой, эти глаза западали все глубже и глубже, все больше застилаясь скорбной пеленой. Появился баптистский проповедник Коцис. Я закричал, видя, как этот проповедник, выражая соболезнование, гладит туго причесанную материну голову, тогда как алчный огонек его глаз облизывал каждую вещь в этой комнате, начиная с тяжелой ореховой мебели и кончая дорогими кружевными занавесями на окнах. Баптистский проповедник был солидный, полный человек, моя мать — невзрачная, сухая. У меня даже что-то подкатило к горлу. Мать терзалась, она не могла верить, хотела, но не могла. Это было ужасно, дьявол сомнения не отступался от нее, желанный душевный покой не приходил, были только смятение, молитвы и неутолимая жажда жизни — жажда, которую она не сумела утолить. Коцис, а может быть, Тоцис, поди знай, как его там точно звали, вместе с матерью молил бога, но тот ничем не помогал. А родственники отчима проклинали мать и меня, потому что нам доставалось богатое наследство: три шестиэтажных дома, акции какого-то предприятия, деньги в банке и маленький современный, вроде зимнего дома отдыха, особняк в Задвинье, в районе улицы Алтонавас. И моления проповедника и проклятия родственников были бессильны. Но и материна душа была подобна пустыне, жаждущей влаги, а не семян божественного откровения. Она металась в смятении и огне, она вздыхала: «Господи, почему ты проклял меня?» И жаждала отнюдь не милосердия, а свободы. Беда таилась в ней самой. Тогда, когда мой отец бросил нас (мне было всего шесть лет), он вместо прощания грубо крикнул: «Да ведь все опостылеет за столько лет! Я мужчина, пойми ты, мужчина! А ты — лягушка холодная!» Отец у меня был решительный и жестокий человек, что он решил, то и делал. Дверь за ним захлопнулась, и больше он не появлялся. Мне это причиняло страдание — ребята во дворе признавали, что мой отец выше всех остальных. И вот у меня были только нужда и в смятении пребывающая мать. Целые дни она плакала и буйствовала, причем буйствовала больше, чем лила слезы, и с таким жаром, что совсем не напоминала лягушку. Она призналась этому толстяку баптисту (о господи, тип заурядного жулика!), что хочет жить, любить, не намерена губить свою жизнь: «Я сама не знаю, что делать. — Ее тонкие, как лезвия, губы подбирались. — Хочу счастья, к богатству я равнодушна». Счастье и богатство, богатство и счастье. И вот он я, бедный и несчастный. Ну, что такое счастье и несчастье? Там шаги глохли в толстых коврах или кожаные подошвы скользили по натертому паркету. За окном точит зубы северный ветер, а от батарей центрального отопления день и ночь струится приятное тепло в просторные комнаты. Лифт поднимает, лифт опускает, шуба обнимает, шуба защищает, желудок приятно ублаготворен, рот ублажен. Костюмы мне заказывали в знаменитом «Jockey-club», матери шила ее «придворная» портниха. Отчима похоронили в дубовом гробу, на могилу в спешном порядке взвалили тяжелую полированную гранитную глыбу. Для пущей надежности, чтобы часом не выбрался и не встревал в перебранку неутешных наследников. Счастье и богатство… «Вы-то и счастливые и богатые», — шипели губы несчастных, небогатых родственников, вопили их взгляды, жесты, мысли. Тогда еще никто не знал, что спустя полгода все наследство развеют суровые ветры. Нам оставили только особняк в Задвинье. Тесниться не пришлось, потому что построен он был хорошо, обставлен дорогой мебелью. При всей своей неприязни к богатству мать все же сумела кое-что припрятать, было что продавать и как-то жить. Меня больше привлекали танки и грузовики, заполнившие улицы, да и солдат было много. Осенью я пошел в школу. Настроение среди школьников было неодинаковое. Были такие, что радовались сами и радовали других, что теперь мы избавлены от ужасов войны, потому что Гитлер ни в жизнь не осмелится напасть на такое могучее государство, как Россия. Я стоял в стороне, был ни горячий, ни холодный и даже не теплый, просто никакой. Да и мать, по сути дела, не соображала, какого богатства и власти она лишилась. Зато хорошо понимали родственнички. Один из них явился к нам в радужном настроении. Я знаю, что о нем говорили: всячески старается подладиться к новой власти, не брезгуя и доносами. Этот человечек начал язвить, что мать прогорела со своей буржуйской лавочкой, вместо доходов одни убытки. «Народ сверг угнетателей!» — громыхал он. Мать боязливо помалкивала, мне стало жаль ее, я сказал незваному гостю, чтобы он кончал брызгать слюной на буржуйских недобитков и поживее ушивался к своим пролетариям. Тот ушел, кипя и тараща потемневшие от злости глаза. Мать причитала: я же погублю ее и себя, ведь надо же, господи, понимать, в какое время живем, и придерживать язык. Она любила меня, но так, что ледяная выдержка и суровые команды перемешивались с болезненно-щепетильным отношением к любому моему слову. Еще больший кавардак внесли в наш дом все тот же не то Тоцис, не то Коцис, который вел себя, как настырный клоп, и еще один из «бедных родственников», который был уверен, что скоро Латвию займут немцы и имущество отдадут обратно, поэтому он решил жениться на матери, чтобы сразу стать богатым мужем. Это я узнал перед самым появлением претендента на ее руку. Мать грозилась показать этому жениху на дверь, но не сделала этого. Толстый баптистский проповедник пытался воспротивиться. Он ссылался на небеса, на всевышнего и был убежден на основании каких-то неведомых нам сведений, будто этот всевышний решил, что матери надлежит оставаться вдовой. Мать отрезала: «Я живой человек, а не кукла в божьих руках!» Не то Коцис, не то Тоцис стоял на своем: каждое деяние господне — благо, человек в руках его воистину только кукла, которую он может наказать, возлюбить или подшутить над нею, хотя бы это и казалось нам суровым. Я подумал: «Жуть какой шутник, этот господь». Но толстяк смог убедиться, как беспомощен в таких случаях его всемогущий, — на дверь указали самому Коцису. Доверенным человеком матери стала какая-то тетушка (тоже из числа «бедных родственников»), которая одинаково ловко умела читать молитвы, передавать сплетни и управляться на кухне. Сама мать не умела хорошо готовить. В школе говорили, что немецкие войска высадились в Финляндии, на границе пахло порохом, а в нашем доме свадьбой. Моя мера переполнилась в тот день, когда я услышал, как мать донимает тетушку: «Неужели он действительно меня любит? А будет он вести себя, как обещал?» Обман один! Разве такую может кто-то вообще любить? И дальше: «Отец Улдиса замучил меня до смерти… Зато Петер был хороший, такой хороший! Мне страшно, какой будет этот! Мужчины редко умеют любить, только и знают по-скотски лезть на тебя…» Я слушал, слушал, пока мне все это не осточертело. Я оделся в школьный костюм, собрал книжки, немного белья и покинул дом. Успокоившись, я забылся сном. Но жадно проглоченный окорок продолжал меня мучить. Подступали воспоминания, как я кочевал по знакомым, чтобы протянуть до конца учебного года. Получу аттестат и уберусь куда-нибудь подальше. Одну ночь я провел в ужасной клопиной норе, там ютился школьный товарищ, который расценил мое бегство от домов и состояния отчима как пробуждение пролетарского сознания. Он предлагал свой кров и в дальнейшем, но мне ужасно противны клопы. Только в июле я узнал, что как раз в свадебную ночь мать взяли вместе с новым мужем. Это был не арест, а высылка. Еще раз я появился у себя дома за своим пальто. Это произошло осенью, когда я уже нашел жилье и зарегистрировался в школе. Домом завладели какие-то «бедные родственники». Они держались со мной и испуганно и нагло, со мной, единственным законным наследником. Пальто я получил, взял еще один костюм и кое-что из одежды. Вернулся я в свое жилье, однокомнатную квартиру, где чувствовал себя свободным от клопов, свободным и самостоятельным. От радости я мог плясать в этом пустом помещении, где только и был продавленный матрац, остальную обстановку я приобрел позже…4
Улдис в мастерской. В синей, вернее, когда-то синей, а теперь застиранной и дочерна засаленной парусиновой куртке, пахнущей табаком («Спорт», «Услада»), соляной кислотой, ржавчиной, с бруском паяльного олова, мелом, штангелем, сломанными сверлами в карманах — слесарь, сущий слесарь, как и Янис. И жестянщик, если надобно, деловитый, ловкий, смышленый. Тогда тонкая фигура его сгибается, в лице появляется что-то старческое, резкое. Беда была со штанами: холст, как известно, от стирки садится, и его тощие ноги торчали чуть не по лодыжку, так они и виднелись над латаными башмаками — «детскими гробиками». Стараясь поправить дело, Улдис надставил штанины, и одна вышла длиннее, другая короче. Откромсал длинную, но перехватил. Вслух обозвал себя бараньей головой, а свой глазомер заразомером. Там, где дело касалось металла, глазомер у него был куда лучше, нередко даже точнее, чем у Яниса. Янис Смилтниек полностью ушел в ирреальное пространство — вне окружающего мира, вне времени. Здесь слышались невысказанные мысли, вопили приглушенные чувства, встречались живые с мертвыми. Неведомое прошлое и то, чего никогда не будет. Умерло прошлое, и умерло будущее, с причитанием тянулось погребальное шествие, звенели лопаты, сыпалась земля — зарывали умершего, который не жил, даже не родился. Улдис: — Очередное рабочее воскресенье. Ты только представь, Янис, это воскресенье: город, как огромный холодильник, наша мастерская — ледник, заиндевелые наружные стены, заснеженные улицы, холодным солнцем освещенные крыши домов, гудящий от песнопений камень церквей. «Как отчие божьи храмы, твои помыслы будут благи…» — это я помню из школьной утренней молитвы. Мы тут балдеем от своего рабочего ладана — от пронзительной вони соляной кислоты, а в церкви молитвы, торжественные словеса священнослужителя, холод, гул органа. А нам надо скорей изготовить самогонный аппарат. Янис: — Они занимаются небесными, а мы земными делами. Улдис глухим голосом: — Memento mori![3] Янис: — Этого мне не понять. Улдис: — А кто вообще это понимает? Почему человек так болезненно стремится постичь непостижимое? «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Вечером я решил, что заработал его. Повалился на продавленную тахту, закурил последнюю папиросу. Хлеб насущный: на такой-то и такой талон продуктовой карточки одно яйцо, на такой — творог или снятое молоко. Шестьсот граммов сахара, принесенное крестьянином мясо (преступление против нового порядка в Европе!). Считать ли и водку хлебом насущным, и девочку, которая, не ломаясь долго, сама расстегивает, снимает, стягивает? Нужны нам еще и теплое (бр-р!) жилье, белые простыни на постели и прочие удобства, радости, сладости. Господи боже! Ты, который сотворил землю и небо, зверей и людей, ты жуткий шутник и комедиант. Творить миллионы, уничтожать миллионы, на живых напускать беспощадный мор, плясать на инвалидных протезах и вообще выкидывать всякие штуки. К тому же я не уверен, что именно этот жуткий комедиант решил выкинуть со мной; находиться на невидимой бечевке, за которую дергает безжалостная рука, это не очень-то приятно. По милости этого господа мне досталось мясо, много мяса, а какие казни египетские мне грозят от его нерасположения? Например, перестанет работать центральное отопление и в одну далеко не прекрасную ночь я замерзну в своей собственной постели; когда я буду спешить по улице Бривибас (Adolf Hitler Straße), он заставит меня поскользнуться, и я попаду под трамвай; привезенный крестьянином окорок был от свиньи, представившейся по божьей воле, и я отравлюсь или подхвачу неизлечимую болезнь… Мне стало не по себе, и я перестал думать в этом плане. В конце концов, близко рождество, которое считается праздником мира и любви, так что я могу надеяться на мир и любовь. Иллюстрированный еженедельник «Эпоха», который новые хозяева Риги предложили мне в качестве рождественского подарка вместо бывшего «Отдыха», на обложке являл рождественскую елку, но что-то было в ней не то, потому что под вечно зелеными ветками стояла броневая машина с черно-белым крестом. Я даже не мог понять, то ли эта елка декорация для танка, то ли маскировка. Солдат, высунувшийся из люка, мало напоминал рождественского деда; рождество подмяли под себя гусеницы, но в городе во многих домах еще уповали на любовь и милосердие, что свидетельствовало в известном смысле о человеческом разуме, который быстро забывает суровость бога и властей, прощает злые дела и все время видит доброе, хотя это доброе проявляется только в торжественных заверениях и обещаниях. Карклини праздновали рождество на старый, добрый лад. Помнишь, Янис?..5
Как же Янису Смилтниеку не помнить! Первое рождество с Лаймдотой, первый праздник в кругу семьи Карклиней, в квартире Карклиней. Праздник, который, казалось, никогда не кончится. Больше года он проработал в подвальной мастерской, ничего не зная о семье Карклиней, жившей в том же самом доме. В этом удобство большого города — можешь всю жизнь прожить в метре от другого человека, не зная его и не тревожа. В мастерскую и из мастерской Янис шел рано утром и поздно вечером, так что Лаймдоту ему никогда не доводилось встретить. И если бы не злополучный благословенный ключ, оставшийся в замке, когда дверь захлопнулась, так Янис Смилтниек и прошел бы мимо счастья своей жизни. И вот оно явилось в облике красной от мороза и волнения мадам Карклинь, стало поторапливать Яниса открыть дверь и все зудело и ныло, пока в подвале не появилась дочь этой мадам и Янис вдруг почувствовал себя способным на любые дела и на любые геройские подвиги. Улдис принес лом, но «вдохновленный» Янис невероятно быстро, ловко и бережно открыл сложный замок. Потом они пили самодельное вино за здоровье всех присутствующих, а глаза Яниса следили за каждым движением Лаймдоты. Румяная, сдобная, пухлая и красивая-красивая. Его идеал: тихая, спокойная, застенчивая, без всякой резкости, вызова, болтливости, умничания — без всех этих качеств, которые, по убеждению Яниса, шли рука об руку с распутством. Лаймдота казалась даже не особенно умной, зато доброй и радушной. Пространство больше не было ирреальным. Вполне даже реальным — квартира Карклиней, теперь уже многие годы квартира Смилтниеков, каждый угол дорог, знаком. Тогдашняя Лаймдота — и много парней (в том числе и Янис с Улдисом) вокруг нее… Семейство Карклиней. Сам глава семьи — мастер-кондитер Карклинь, просто булочник Карклинь, среднего роста, сухой, усталый, вечно занятый работой, редко когда бывающий дома. Как настоящего мастера своего дела, его взяли в такую пекарню, которая обслуживала оккупационные чины, «золотых фазанов». Там приходилось горбить дни и ночи, зато всегда можно было принести кое-что домой. Мадам Карклинь — предприимчивая, строгая, с решительным голосом и движениями. И она служила и всегда имела возможность подработать. Лаймдота училась в гимназии. Еще в квартире нередко находилась старшая дочь Карклиней, уже замужняя Смуйдра — мадам Берман. Кто был сам Берман, чем занимался, где работал, это Янис узнал не скоро. Смуйдра была неразговорчивая, выглядела невеселой, скорее, даже усталой, обычно проводила время с матерью, шепталась, всхлипывала и прощалась с красными, заплаканными глазами. У Яниса Смилтниека была наблюдательность, которая давала ему возможность надежно все схватывать и оценивать. Он быстро соображал, кто серьезный, солидный человек, а кто всего лишь проныра с пустым карманом. И его приговор был такой: Карклини — добропорядочное семейство, только с одной, пока еще непонятной, червоточиной. А червоточина связана со Смуйдрой, и родители из-за этого несчастны. Чудесная квартира! Янис с болью осознал, какой жалкой выглядит жизнь в меблированной комнате, которую ему приходилось влачить все эти годы в Риге. Квартира у Карклиней была просторная, слегка запущенная — давно не ремонтировалась, — но все же чистая. Мебель старая, сборная, со следами точильщика. Стиля никакого, зато много салфеток, декоративных безделушек и чистоты, словом, порядок, уют, который Яниса глубоко тронул. Он не был эстетом, он был работяга, он мечтал свить свое гнездышко и вот, кажется, нашел что-то вроде того, к чему стремился. Здесь было красиво, очень красиво, а сама Лаймдота еще красивее. Сочельник прошел в предвкушении праздника. В прежние годы Янис скидывался с другими холостяками, чтобы провести вечер за бутылочкой и застольными песнями. А тут все время вспоминалась девически свежая и чистая Лаймдота, ее глаза как будто провожали Яниса на эту попойку и укоризненно отворачивались. Янис сходил в церковь, потом сидел дома и читал какую-то благочестивую книгу Сельмы Лагерлеф. Сейчас он не отказался бы даже от житий святых. У Карклиней они провели первый день праздника. Господи, какой оравой они ввалились! В Риге пока еще хватало молодых здоровых парней. Полдюжины уже сидело там, да потом еще подошли. Мадам Карклинь хорошо понимала, почему у них в гостях столько молодых мужчин, и она хотела, чтобы дочь выбрала лучшего из лучших, самого порядочного из порядочных, обеспеченного и трудолюбивого.
Янис Смилтниек был в самой зрелой мужской поре, костюм черного сукна, спокойная, но твердая поступь, солидная манера говорить. И на Улдисе костюм хороший, только пиджак, как обычно, плохо сидит на его тощей фигуре, уродливо морщит; впрочем, и в хорошо сидящем костюме этот тонкий высокий парень напоминал бы сплошные сухожилия. Держался он прямо, не горбясь, только порой сутулил плечи.
Холостяцкий год, холостяцкий праздник, только без необузданности в духе «Саги о Песте Берлинге». Здесь все было чисто по-латышски — явился добрый господь бог народных песен с белой, мягкой бородой, с тихой поступью и радушным сердцем. Это была не голая, пустынная ночь Иудеи со священными ужасами, посланцами свыше, с волхвами, поклоняющимися тому, кто покоится в яслях, с невиданным синеватым пламенем звезды. Снежный покров укутывал землю, небо было такое близкое-близкое, страшный мороз держался подальше от теплого дома, а вифлеемское светило сверкало на зеленой елке. И подарки, ими наполнял глаза, руки, душу все тот же седобородый старец, о котором нельзя было сказать, то ли это переодетый, отыгравший свое актер, подрабатывающий на рождестве, или впрямь сам всевышний, только ни в коем разе не страшный Иегова, который обрек своего единородного сына на смерть на деревянном кресте. Янис скорбноусмехнулся через вечерний сумрак, через всю эту толчею лет: «До чего жестокая легенда! И ведь Иисус Христос был не первый и не последний, которого постигла эта судьба. Почему же люди увидели в нем что-то особенное, если вообще сомнительно, что подобный Спаситель когда-либо существовал?»
В уголке губ Улдиса проклюнулась опасная усмешка. Никогда заранее не знаешь, то ли последует легкая, а то и плоская шутка, то ли что-то язвительное, а то и целый поток яда: «Свидетельство о рождении не нужно тому, кто живет уже две тысячи лет. Может быть, и мы оба без паспортов, без продовольственных книжек, без выписок из отдела записей гражданского состояния будем ничем. Не первый, кто умер на кресте? Самый бесспорный приоритет — когда ты имел дело с девицей, но самое ли это ценное? А ты знаешь, что до той поры люди не сознавали, что они человечество, были только свободные и рабы, а раб был предмет, двуногое животное, который не мог равнять себя с отпрыском колена Давидова. Правители — как воплощение бога, бог — самый высокий, самый жестокий правитель. Он родился в яслях, как раб, умер, как раб, для него все были братья и сестры. Не существовал… Ты же вот никогда не спал с богиней любви. Но значит ли это, что любви нет?»
«Тихая ночь, святая ночь…» То ли этот Улдис проповедует, то ли иронизирует, то ли ерничает, то ли серьезно говорит, то ли верит, то ли нет. А если верит, то во что? Знал он или не знал, сбивал с толку или сам был сбит? Шутник, комедиант…
«Так что, друг мой Янис, игра началась, шахматная игра, не исторических масштабов шахматная игра, но для меня единственная, так как она никогда не повторится».
У Яниса было такое чувство, что Улдис увлекает его из этого теплого, уютного дома на опасный путь, вновь в ирреальное пространство.
А Улдис все чудит, и чудит как-то неприятно:
«Ты знаешь, смерть на кресте была уделом рабов и отверженных, знак креста был символом рабства… А вознесение — возрождение. Рабство умирает, и рабство вновь вылазит из темных ям человечества. Куда же укрыться рабу, не будь рабства? Твердыня эпохи служит прибежищем для трусливых душ».
Пламя свечей еще сильнее высветлило волосы Лаймдоты, в розовом лице ее глубокая сосредоточенность, в глазах растроганность. Улдис с его откровениями отошел в сознании Яниса в сторону. Лаймдота хранила Яниса…
У Карклиней они провели первый день праздника. Господи, какой оравой они ввалились! В Риге пока еще хватало молодых здоровых парней. Полдюжины уже сидело там, да потом еще подошли. Мадам Карклинь хорошо понимала, почему у них в гостях столько молодых мужчин, и она хотела, чтобы дочь выбрала лучшего из лучших, самого порядочного из порядочных, обеспеченного и трудолюбивого.
Янис Смилтниек был в самой зрелой мужской поре, костюм черного сукна, спокойная, но твердая поступь, солидная манера говорить. И на Улдисе костюм хороший, только пиджак, как обычно, плохо сидит на его тощей фигуре, уродливо морщит; впрочем, и в хорошо сидящем костюме этот тонкий высокий парень напоминал бы сплошные сухожилия. Держался он прямо, не горбясь, только порой сутулил плечи.
Холостяцкий год, холостяцкий праздник, только без необузданности в духе «Саги о Песте Берлинге». Здесь все было чисто по-латышски — явился добрый господь бог народных песен с белой, мягкой бородой, с тихой поступью и радушным сердцем. Это была не голая, пустынная ночь Иудеи со священными ужасами, посланцами свыше, с волхвами, поклоняющимися тому, кто покоится в яслях, с невиданным синеватым пламенем звезды. Снежный покров укутывал землю, небо было такое близкое-близкое, страшный мороз держался подальше от теплого дома, а вифлеемское светило сверкало на зеленой елке. И подарки, ими наполнял глаза, руки, душу все тот же седобородый старец, о котором нельзя было сказать, то ли это переодетый, отыгравший свое актер, подрабатывающий на рождестве, или впрямь сам всевышний, только ни в коем разе не страшный Иегова, который обрек своего единородного сына на смерть на деревянном кресте. Янис скорбноусмехнулся через вечерний сумрак, через всю эту толчею лет: «До чего жестокая легенда! И ведь Иисус Христос был не первый и не последний, которого постигла эта судьба. Почему же люди увидели в нем что-то особенное, если вообще сомнительно, что подобный Спаситель когда-либо существовал?»
В уголке губ Улдиса проклюнулась опасная усмешка. Никогда заранее не знаешь, то ли последует легкая, а то и плоская шутка, то ли что-то язвительное, а то и целый поток яда: «Свидетельство о рождении не нужно тому, кто живет уже две тысячи лет. Может быть, и мы оба без паспортов, без продовольственных книжек, без выписок из отдела записей гражданского состояния будем ничем. Не первый, кто умер на кресте? Самый бесспорный приоритет — когда ты имел дело с девицей, но самое ли это ценное? А ты знаешь, что до той поры люди не сознавали, что они человечество, были только свободные и рабы, а раб был предмет, двуногое животное, который не мог равнять себя с отпрыском колена Давидова. Правители — как воплощение бога, бог — самый высокий, самый жестокий правитель. Он родился в яслях, как раб, умер, как раб, для него все были братья и сестры. Не существовал… Ты же вот никогда не спал с богиней любви. Но значит ли это, что любви нет?»
«Тихая ночь, святая ночь…» То ли этот Улдис проповедует, то ли иронизирует, то ли ерничает, то ли серьезно говорит, то ли верит, то ли нет. А если верит, то во что? Знал он или не знал, сбивал с толку или сам был сбит? Шутник, комедиант…
«Так что, друг мой Янис, игра началась, шахматная игра, не исторических масштабов шахматная игра, но для меня единственная, так как она никогда не повторится».
У Яниса было такое чувство, что Улдис увлекает его из этого теплого, уютного дома на опасный путь, вновь в ирреальное пространство.
А Улдис все чудит, и чудит как-то неприятно:
«Ты знаешь, смерть на кресте была уделом рабов и отверженных, знак креста был символом рабства… А вознесение — возрождение. Рабство умирает, и рабство вновь вылазит из темных ям человечества. Куда же укрыться рабу, не будь рабства? Твердыня эпохи служит прибежищем для трусливых душ».
Пламя свечей еще сильнее высветлило волосы Лаймдоты, в розовом лице ее глубокая сосредоточенность, в глазах растроганность. Улдис с его откровениями отошел в сознании Яниса в сторону. Лаймдота хранила Яниса…

6
С того рождества Янис с Улдисом вошли в число друзей дома Карклиней и часто бывали здесь в гостях. Янис нередко опаздывал по вечерам в школу. У Карклиней всегда можно было встретить молодых парней; парни, парни — и приподнимающие шляпы, и задиристые, и приветливо улыбающиеся, и лихие, и услужливые. Даже один студент ходил сюда — подтянутый, видный Эдгар. О Лаймдоте, парнях и Эдгаре Янис думал даже в школе и стал так «заноситься мыслями», что заработал замечание от учителя. Истинные терзания Янис испытывал весной, нечаянно узнав, что Лаймдота с Эдгаром несколько раз ходила в кино. В наплыве свирепой ревности Янис высказал свое негодование избраннице. С наивной непосредственностью она сказала, что со студентом она знакома с детских лет, но в каком-то смысле он ей не очень приятен. Это объяснение еще больше сблизило Яниса с Лаймдотой, и летом они уже каждое воскресенье вместе выезжали в окрестности Риги, но всегда в компании других юношей и блюдущей приличия мадам Карклинь. Красавица дочь, претенденты на ее руку, девичество и постель, и будущая теща. Глубокое переживание, увлекательная игра? Кажется, один только Улдис стоял в стороне, наблюдая за всем этим с холодной издевкой. Высказывать он ничего не высказывал, мадам Карклинь это не понравилось бы, она любила покой, покой, и только покой. Даже для полновесных перебранок дом Карклиней был заказанным местом. Там были натертый пол, не очень художественные безделушки на буфете, спокойный разговор, уютная атмосфера. Как обычно, в то воскресенье там толпились парни, желающие сопровождать семейство Карклинь в поездке на Юглу. Стало накрапывать, с выездом задержались, а там явилось еще несколько парней. Лаймдота могла гордиться — пусть и не как у всемирно известной Дины Дурбин, «сто мужчин и одна девушка», но все же с дюжину наберется. А Лаймдота среди них только одна-единственная, мать не в счет. Последним явился Эдгар. В то время Эдгар, кажется, был ближе всех к Лаймдоте, да и мадам Карклинь нравился этот представительный студент. Янис в душе терзался, но держался как мужчина. И сама Лаймдота такая возвышенная, что при ней самые грубые становились учтивыми, заносчивые — униженными, самоуверенные теряли кичливость. Янис же вообще был человек спокойный, так, он с неудовольствием вспоминал единственную драку в своей жизни, никому никогда об этом не рассказывая, но здесь даже тень воспоминаний об этом событии падала на него ужасным позором. Улдис порой допускал промашки, в особенности стараясь осмеять слишком уж джентльменистого Эдгара; но это всегда выглядело так, будто Улдис просто сопливый щенок, на тявканье которого мудрый студент может и не обращать внимания. В то воскресенье Улдис подпустил шпильку: — А я-то все думал, что ждут принца. Эдгар как раз целовал руку матери Лаймдоты. Никто больше этого не делал — не потому, что не признавал хороших манер, а потому, что не сумел бы проделать это с настоящим шиком… У Эдгара же получалось с природным аристократизмом, и мадам Карклинь таяла от счастья, как таяли во рту пончики самого Карклиня. Эдгар, чувствуя это, позволил себе зайти за черту, он ответил Улдису: — Сначала является шут, потом принц. У Улдиса обычно была неуверенная улыбка, потому что он смущался в обществе лихих парней и красивой девушки. Выделялся он только ростом, а во всем прочем был не бог весть что и виды на успех имел минимальные. Наверно, поэтому Улдис всегда говорил деланным напряженным голосом, стараясь вобрать тонкую шею в костлявые плечи. Видимо, его угнетала собственная робость, и если он все же не давал собой помыкать, то только потому, что всегда умел хорошо ответить. Эдгар проявил открытое презрение. Улыбка на лице Улдиса исчезла, губы стали злыми, а глаза… Да, человек с таким взглядом может убить. Любящая покой мадам Карклинь по доброте своей хотела все сгладить — она больше почуяла, чем поняла, что гимназист со студентом схватились, — и поэтому сказала: — Шутят ведь для того, чтобы посмеяться. Эдгар все так же высокомерно заметил: — А как же. И шутить — это подлинно шутовское ремесло. Улдис: — Но это уже не шутка, а трагедия, когда шут всерьез мнит себя принцем. Эдгар повернулся к Улдису спиной и стал долго-предолго здороваться с отцом Лаймдоты, который на сей раз, ко всеобщему удивлению, был дома, но, конечно, для того, чтобы тут же собираться на работу. Обычно Эдгар на этого пончиковых дел мастера обращал внимания ровно столько, сколько требовали приличия. В то воскресенье у Карклиней пробежала искра какого-то разлада, чего-то тревожного. Из-за дождя расстроилась и поездка. Улдис потом долго не появлялся. Никто о нем не спрашивал, никто не обрадовался, когда он снова объявился. Он и Янис принесли самодельные сладости из свекольного сиропа, и мадам Карклинь поставила на стол вино цвета темной крови. Завтра воскресенье, погоду обещают хорошую, надо что-нибудь придумать — таково было общее мнение. Подумали, посоветовались и воскресным утром двинулись в путь. Никто уже не думал о том, что идет война и что время тяжелое, не думал о новом немецком наступлении к Волге. Это было так далеко. А здесь Белое озеро играло голубой волной и Лаймдота напоминала шоколадную от загара Деву солнца. Был и Улдис, до безобразия тощий, костлявый. От воды он быстро покрывался гусиной кожей, но парень не отставал от всех и ни за что не влезал в одежду. Улдис шутливо сказал Лаймдоте, что она напоминала бы рубенсовскую мадонну, если бы не блюла так свою «стройную линию». Янис не знал, что это за птица Рубенс, но все же обиделся на насмешливый тон сравнения. Он уже свыкся с ролью рыцаря, защищающего свою даму, самую возвышенную, благородную, прекрасную во всем мире. Лаймдота засмеялась, и гнев Яниса скоро прошел: Улдис, он же всего лишь шутник, который никак не может тягаться с ним, Янисом Смилтниеком. Когда солнце стало клониться к закату, они отправились домой. Скорость эскадры зависит от самого тихоходного корабля, а здесь поступь мадам Карклинь определяла темп всего молодого шествия. Мать у Лаймдоты была особа еще вполне подвижная, но не слишком торопливая, так как считала, что замужняя женщина должна выступать с достоинством. Молодежь скакала вокруг нее весело и беззаботно. Светлые волосы Лаймдоты развевались, серые глаза лучились весельем и усталостью. Янис, разумеется, Янис был тем, кто осмеливался нести ее жакетик и туфли на деревянной подошве — до самой границы Риги Лаймдота шла босиком. Усевшись на берегу Юглы на траву, она стряхнула с ног песок и одела «деревяшки». Янис помог застегнуть пряжки. Ему было так приятно, что хотелось сказать: «Благословенна земля, по которой ступают эти ноги!» И Лаймдота — вся тепло и дружелюбие. Смеяться над шутками Улдиса она смеялась, но за руку ее держал Янис. Студента больше не было: он вступил в добровольческий батальон, чтобы сражаться, как он заявил, за достойное место для Латвии в новой Европе…7
Вот такими они и были, холостяцкий год, холостяцкое рождество, холостяцкое лето. Один холостяк отправился «в дальнюю даль», на поле сражения завоевывать себе славу и сносное место в гитлеровской тюрьме для народа, который, лишившись государства, не был больше нацией («генерал-гебитс Леттланд»). Скатертью дорожка, никто об этом холостяке и не всплакнул. Одна мадам Карклинь сказала что-то вроде того, что это не очень умно, Лаймдота улыбнулась Янису, Улдис же как-то скривил уголок рта — что он думал, бог весть. Но вдруг в подвале Яниса Смилтниека появился третий «мастер», и уж тут-то было видно, что Улдису это не понравилось. Парень был из родных Янисовых мест; вместо Альфреда, по-мужицки Придис, моложе Яниса, на год старше Улдиса, коренастый, румяный — классический мужицкий тип из книг Яншевского и Блаумана, который в наше время стал уже музейным экспонатом. Во имя детской дружбы он привязался к Янису, помог ему распродать привезенную в волость каустическую соду, помог дотащить свертки с копченой свининой до машины, а в Риге от машины до квартиры. Янис сначала решил, что Придис хочет уладить кой-какие делишки в главном городе Остланда. Ночлег он может предложить. Работу? Разве что на время, в том же подвальчике напротив старой церкви Гертруды, пока не подвернется что получше. «Предприятие» его процветало, заказов было все больше, еще один помощник пригодится. Новый помощник с самого начала не был таким работящим и стеснительным, как Улдис. Безмятежнейшим образом Придис развалился на верстаке, поглядывая, как Янис трудится один, побалтывал ногой и насвистывал «Что ты смотришь в глаза с улыбкой?» так вдохновенно, что слюна летела. Таким его и увидел Улдис. Даже не поздоровавшись, Улдис встал посреди мастерской и свирепо воззрился на вторгшегося незнакомца. — Новый товарищ, — кивнул Янис на Придиса, — познакомьтесь. — Привет, привет! — воскликнул Придис сквозь свист. Выглядело это так, будто он с кем-то прощается. Улдис пробурчал что-то невразумительное, похоже, что охотнее всего он отчеканил бы: «Катись ты к лешему!» А отчетливо и громко он сказал: — Мне здесь работать надо. Придис послушно отъехал в сторону. Улдис раздражено громыхал инструментом и железом. Никакой срочной работы не было. Янис собирался в «Арбайтсамт» — без благословения этой организации на работу никого нельзя было брать, — так что можно бы посидеть и мирно поболтать, но Улдис замкнулся и обособился. Схватив молоток, он принялся лупить по заклепке и тяпнул себя по пальцу. Покамест он шипел от боли, Придис все дудел свою песню, наконец стал даже напевать вполголоса: «Что ты смотришь в глаза с улыбкой?» — Да не гляжу я на тебя и не улыбаюсь! — заорал Улдис. И оба растерянно уставились друг на друга. Придис захохотал первый. Улдис подхватил, и нахлынувшее веселье смело все недоверие. В молодости это быстро делается. В «Арбайтсамте» уладить дело было нелегко, там не хотели оставлять молодого парня в небольшой слесарной мастерской — вокруг большие предприятия в голос выли от нехватки рабочих рук. Янис «подмазал» и получил согласие «на неопределенное время». Все возликовали. Жизнь покатилась в полном согласии. Придис был шикарный малый. С металлом он управлялся не очень хорошо, зато был мастер рассказывать охотничьи были, подражать голосам птиц и животных. Он изображал, как петух ведет себя в своем гареме, как куры ревниво кудахчут друг на друга. Ревел лосем в любовную пору, заливался тетеревиной песней на току. Мычал за целое стадо, идущее по лесу, и рассказывал, что быть пастухом самое паскудное дело на свете. Улдис никогда «не крутил хвосты коровам» (выражение Придиса), поэтому с живым интересом слушал рассказы о таком чужом для него мире — о мире, состоящем из угрюмых еловых лесов, светлых сосновых боров, подлесков, топей, перейти которые мог только лось, когда растопырит клешни своих копыт. В этом мире были свои законы, были таинственные чащобы и взгорки с коричневыми боровиками, низины, красные от брусники, мочажины с кочками, где, как на пуховике, лежит клюква, и ягода там в сустав мизинца, и каждую минуту может поднять голову гадюка. Там были вырубки, заросшие высокой сочной травой, где росистым утром, как на купанье, сходится стадо лосей, мелькают пугливые серны, воздух свежий и бодрящий, румяное солнце горит сквозь вершины деревьев, и его приветствуют писк, визг, щебет, рев, мычание — тысячеголосая лесная жизнь. Улдис никогда не был ни охотником, ни рыбаком, никогда не изучал язык зверей и птиц. А сын лесника Придис не только умел рассказывать, но и знал лес. Он пас коров, валил лес, охотился. Осенью ездил по округе с молотилкой помощником машиниста — был такой ящичек, цеплявшийся к «фордзону», с ним легко было пробираться по дальним и узким лесным дорогам от усадьбы к усадьбе. Через несколько сезонов Придис уже возомнил себя механиком, потому и отправился с Янисом в Ригу. Ничем особенным он себя здесь не проявил, даже не смог вжиться в городскую среду, скучал по родной стороне, но с возвращением туда что-то тянул. Как будто он почвы под ногами лишился. Но веселья своего Придис не утратил, хотя порой оно было довольно кисловатое и охотничьи рассказы выглядели попыткой отгородиться от всего, что навязывала чужая, неприятная рижская жизнь. Янис это хорошо заметил, когда Придиса навестила в мастерской знакомая девушка из родных мест. Кажется, гостья была красивая (Янис же восхищался только Лаймдотой, пусть ее и не было рядом), даже совсем городского облика. Она, как и Лаймдота, училась в гимназии, а жила у родственников, где временно пристроился и Придис; ей понадобился второй ключ от двери, а Придис только растабарывал, не спеша с делом, пришлось Улдису взяться за работу. Придис сиял — не из-за самой девушки, а потому, что она сегодня получила письмо из дома. Как там живут в волости, что нового в «Спрунгисах», в «Налимах»? А в «Клигисах»? Девушка отвечала сдержанно, даже холодновато, видно было, что родная волость ей так же безразлична, как сам Придис, и что она с нетерпением ждет ключа. Улдис работал, даже не глядя на них, как будто совсем уйдя в себя. «Извольте», — протянул он наконец ключ, но Придис выхватил его и придирчивым взглядом мастера сравнил второй ключ с оригиналом. Когда гостья начала рыться в сумочке, он великодушно заявил: «Какая там плата, дарю», — как будто он сам и делал это. Улдис не возразил, продолжая возиться у тисков, но время от времени украдкой поглядывал на девушку. Та же видела одних грязных, непривлекательных парней. Даже воздух здесь был какой-то застойный, душный. «Ну, мне пора! Спасибо, Придис, спасибо!» — быстро бросила она и исчезла. Придис тут же притих, поскучнел, но через минуту пустился в рассказы о своей знакомой. Вместе в начальной школе учились, Придис на класс старше; лихая девчонка была: только Придис ее за косу — она ногтями в глаза. В детстве ничего особенного в ней не было, а теперь вон какая красотка. И кавалеры есть — и в мундирах и без мундиров. Янису почему-то казалось, что Улдис тут же засыплет Придиса ехидными расспросами насчет этой стройной белобрысой пустельги, которая так ловко воспользовалась чужим трудом и смылась, не заплатив ни пфеннига. Но ошибся, Улдис ни о чем не спросил, даже никакого замечания не отпустил. «Нельзя же так, как Придис. Работу все больше запускает со своей болтовней, — подумал Янис. — А сам по себе немного значит…» Улдис: — А в моей жизни этот парень значил очень много! И это правда, ведь ты же, Янис, помнишь, как это началось. И продолжалось, потому что мы вместе с Придисом впервые встретили Талиса. Во многие переломные моменты моей жизни Придис был со мной — мы делили с ним кусок хлеба, вместе были под огнем врага, делились мыслями, сомнениями, соображениями. Друг? Вряд ли, у таких, как я, друзей не может быть, я всегда что-то держу про себя. Но есть нити, которые связывают людей, с этими связями приходится считаться, из-за этого они движутся в каком-то одном русле. Придис всегда был поблизости. Талис? И он неисповедимым образом был связан со мной, хотя вызывал ужас и отвращение. В жизни и в людях много необъяснимого. Странным и необъяснимым было и знакомство с Талисом. Бессмысленное, но неотвратимое, как будто даже неизбежно необходимое. Мы с Придисом чинили карбидную лампу — больше делать было нечего. Ты ушел по своим «организаторским» делам, а мы только еще открыли дверь мастерской, хотя был уже полдень. Придис взахлеб рассказывал, как вытащил на живца из омута на Виесите пудовую щуку. Он был из тех людей, у кого, если язык работает, руки в простое. Только он воскликнул: — Глянь, во какой длины! — и развел свои толстые руки во всю ширь, как в подвал пришкандыбал какой-то старикашка. — Ух, ребята, как до вас трудно добраться! — Нечего тогда ходить и нам мешать, — вполголоса бросил Придис. Так как я оставался за главного, заместителем мастера, то постарался держаться вежливее. — Здравствуйте. Вам что? — Я дворник, рядышком, из дома, что на улице Свободы. За кино «Фортуна». — Никакой улицы Свободы нет, — вроде бы сердито заявил Придис. — Гитлерштрассе! Вы эту свободу, папаша, постарайтесь забыть. Распустились, мужичье! — Вы уж, сынки, не мешайте мне по-старому звать. Погнали меня сейчас в три шеи за мастерами. Все чтобы в порядке было, говорит, да я, говорит, тут все расшибу начисто, что только можно, что у меня, денег, что ли, мало, да я жидовское золото — раз на стол! — да я всех рижских девок голышом плясать заставлю… Так и говорит… — Да говори ты толком! Выяснилось, что ванная и клозет «как есть насквозь разворочены». Вода льет, где не надо, и вовсе не льет, где надо. В квартире этой ночью гуляли с девицами парни из СД. Под утро принялись стрелять в потолок, а в ванной в печку. Весь пол там залит. Мы пошли. Я запер дверь в подвал. Чтобы все видели, что главный тут я, инструмент я заставил нести Придиса. Лестница просторная и внушительная, коричневые двустворчатые двери. Старый дворник позвонил и тут же отступил в сторонку. Его робость заставила меня усмехнуться. Приниженность жалкого раба! Слово «свобода» он умеет произносить, а сам полон холопства. Ах, до того времени мне приходилось иметь дело только с немцами в гражданских чинах, да и то мимолетно. СД для меня значило не больше, чем эти две буквы. Дверь открыла какая-то женщина. Еще довольно молодая, но какая-то всклокоченная, с увядшим лицом. Я коротко уведомил, что мы мастера. Дворник уже ускользнул вниз по лестнице. Женщина кивнула, чтобы мы следовали за ней, и провела нас в ванную. Господи, ну и конюшня тут была! Углы загажены, по колено вода, унитаз сорван, в бойлере пулевые дыры. Я стоял и глазел, даже у Придиса румяные щеки побледнели и округлое лицо вытянулось. — Быстрей почините, чтобы дворник мог подключить воду! — приказала женщина и собралась уходить. Я схватил ее за рукав: — Стоп, стоп! Не так-то просто это сделать, как сказать. Бойлер испорчен начисто, а нового у меня нет. Бачок, может быть, еще спасем. Но уж тут придется заплатить!.. — последнее я добавил не ради денег, а чтобы она поняла, что мы настоящие мастера. Женщина осталась все той же барыней. — Сделаете и получите, что положено. И подотрите все! — Что? — яростно закричал я. — Мы мастера, а не подтиратели. Свое добро сами и подтирайте! Ух, как она взвилась! Вот тут-то и настал момент, когда я узнал, что те, кто за деньги заставляет танцевать других, не самые опасные существа — никто же не хочет чересчур бить себя по карману. И эта взлохмаченная дамочка заставила понять, что за нею стоит власть. — Да вы знаете, перед кем стоите? Сопляки! Спекулировать вздумали, деньги вымогать? Саласпилса захотели понюхать? Талис! — крикнула она в комнату. — Иди-ка сюда. Погляди на этих большевичков! В двери появился длинный-длинный, совсем еще молоденький парень. В мундире службы безопасности, в галифе, в сверкающих шевровых сапогах, на петлицах и погонах звездочки. Но это был не офицер, потому что у офицеров, насколько мне было известно, серебряные погоны, а у этого только с окантовкой. Главное же было не в мундире, а в том, что выражало это лицо, еще не знакомое с бритвой. Туманное, вялое обалдение в сочетании с напускным шиком молодого пьяницы. Выскочка, который командует не при помощи золота, а при помощи стали. Он был особенно опасен потому, что его терзало похмелье, от которого он был зол на весь свет. Молодчик рявкнул: — Это еще что за митинги на работе? Время под коммунистами еще не забылось? — Я мастер и свое дело сделаю, — спокойно сказал я. — Слесарное дело. И за это надо будет заплатить. Долговязый чин направил указательный палец мне в грудь. — Хватит балабонить! Arbeit macht Leben süß![4] По-немецки понимаешь? Чтобы за час мне тут был полный клярунг, как на кухне у самого фюрера. Ты слышишь, — повернулся он к женщине, — если что не так, зови меня, второй раз я приду с пистолетом. Ну, шнеллер! Ты учти, если я прикажу, ты у меня будешь любым местом гвозди дергать! Был самый подходящий момент четко и ясно сказать, что я отказываюсь работать, сказать этому типу что-нибудь покрепче. Если бы он еще помахивал горстью золота, я бы так и сделал — пусть знает, что есть люди с чувством собственного достоинства. Но в данном случае кроме гордости необходимо было еще и мужество. У меня не хватило смелости выйти безоружным против силы. С пересохшим ртом, с противной дрожью в груди я смотрел, как длинные тощие ноги ушагали в комнату. Он пригрозил, что вернется с пистолетом. Страх, очевидно, отразился на моем лице, потому что хозяйка съязвила: — Скажите Талису спасибо, что он не заставил вас этот пол вылизать. Ушла и она, а мы, молча переглянувшись, взялись за работу. Все починить мы не смогли, но клозет быстро привели в порядок. Что делать с бойлером? Потом я удивлялся, почему не подумал о бегстве. Пол я попытался спихнуть на Придиса — мне же надо возиться с нагревателем. Но тут заупрямился мой помощник, который обычно беспрекословно делал все. — И не подумаю, — сквозь зубы буркнул он. Я недоуменно посмотрел на взъерошившегося Придиса. Такой маленький, особенно рядом с моей длинной фигурой, округлый, полный ярости. Он уже не казался добродушно-уютным, нет, настоящий желчный пузырь. А я… Я трусливо взглянул на себя со стороны — на свою чистоплюйскую душонку, сутулую спину, на физиономию усердного раба. Послышался скрипучий голос хозяйки: — Ну, долго еще ждать придется? Я присел на корточки возле печки. Придис не шелохнулся. В эту минуту послышались девичьи голоса, и, кинув взгляд через плечо, я увидел одну из них — Придисову землячку, для которой делал ключ. Красивая девушка, светлое платье, все помятое, в пятнах — следы ночного веселья. Почувствовав стыд и за нее и за себя, я вновь взялся за работу. Девушка примолкла и исчезла, хозяйка вновь накинулась на нас: — Стоит столбом! — это Придису. — Затри живей, чтобы можно было войти! — Это пусть дворник подтирает вашу блевотину и еще руку лижет, — буркнул Придис зло и прямо. Похоже, что парню вожжа попала под хвост и он уже плевал на все. Дикий визг прорезал всю квартиру: — Талис! Я вскочил. Придис набычился, как баран, готовый рогами садануть в стену. Тут же возник Талис с большим пистолетом, от страха он показался мне просто огромным. Пока мы чинили развороченный клозет, Талис починял свое нутро, терзаемое похмельем, и явно был в таком состоянии, когда человек готов на все. Сквозь дымку, плавающую у меня перед глазами, я видел, как он поднял пистолет. Щелчок, но не выстрел — то ли пистолет был не заряжен, то ли осечка. Талис недоуменно крутил его, а женщина, вся сжавшись, молчала. Она явно не ждала, что парень так круто возьмется за дело, только хотела нас попугать и теперь испугалась сама. Мы все еще стояли в оцепенении. Талис взвел пистолет и, продолжая крутить его, нажал курок снова. Выстрел грянул, пуля без малого не отхватила кончик носа Талису и ушла в потолок. Девушки в комнате завизжали, Талис оцепенел вместе с нами. Рот его перекосился, рука чуть не отбросила пистолет. Я уже не владел собой, все напряжение разрешилось взрывом истерического смеха. Я заходился в реве, брызжа в это испуганное лицо слюной. Талис все больше глупел и глупел, а я все смеялся и смеялся… Наконец он опомнился и направил ствол в мою грудь. Я даже не слышал щелчка. Убедившись, что капризный патрон был последним, он кинулся в комнату за другой обоймой. Мы с Придисом подхватили свой инструмент и вылетели за дверь. Злобная хозяйка на сей раз даже подгоняла: — Скорей, скорей! Я слышал девичий голос: — Успокойся, Талис, ну, ну, успокойся! Придис потом рассказывал, что Талис грозил перестрелять всех большевиков. В ушах у меня стоял грохот, и по-настоящему я опомнился только в нашем подвале.
Придис сказал:
— Ну, ты дурной! Чуть не в глаза плевал этому жеребцу.
Я стиснул зубы, только бы они не лязгали, — неужели он не понимает, почему я так смеялся? — и с усилием выдавил:
— И надо было тебе с этой бабой заводиться! Из-за ерунды чуть пулю не схватил.
— Из-за ерунды? — снова набычился Придис. — Тут уж дело на принцип пошло, а не из-за ерунды.
Зубы у меня как-то перестали плясать, страх мало-помалу прошел, и его сменил дух противоречия:
— А я говорю, из-за ерунды. Из-за большого, я понимаю, там можно и головой рисковать. Пьяная сволота… Тоже мне, нашел подходящий момент…
— Еще какой подходящий! — кинулся в спор Придис. — Если уж ты в мелочах не такой, как надо, то никогда и не дождешься подходящего момента. Будешь все кланяться да соображать, тот ли это момент. И так всю жизнь. Нет, раз уж на принцип пошло, тут я в горящую печь полезу.
Звучало это довольно хвастливо, но все же, что верно, то верно, в этой проклятой квартире он проявил больше смелости. Меня подмывало поддеть его как-нибудь, но нужные слова не приходили. А он еще добавил:
— А эта… подстилка! Знал бы я, что она с такими… Ты заметил?
— Да, — коротко ответил я, поняв, о ком говорит Придис. Он ничего больше не сказал, как будто ждал, что я что-нибудь добавлю. Я и хотел бы что-нибудь сказать, но опять не нашлось нужных слов…
Придис потом рассказывал, что Талис грозил перестрелять всех большевиков. В ушах у меня стоял грохот, и по-настоящему я опомнился только в нашем подвале.
Придис сказал:
— Ну, ты дурной! Чуть не в глаза плевал этому жеребцу.
Я стиснул зубы, только бы они не лязгали, — неужели он не понимает, почему я так смеялся? — и с усилием выдавил:
— И надо было тебе с этой бабой заводиться! Из-за ерунды чуть пулю не схватил.
— Из-за ерунды? — снова набычился Придис. — Тут уж дело на принцип пошло, а не из-за ерунды.
Зубы у меня как-то перестали плясать, страх мало-помалу прошел, и его сменил дух противоречия:
— А я говорю, из-за ерунды. Из-за большого, я понимаю, там можно и головой рисковать. Пьяная сволота… Тоже мне, нашел подходящий момент…
— Еще какой подходящий! — кинулся в спор Придис. — Если уж ты в мелочах не такой, как надо, то никогда и не дождешься подходящего момента. Будешь все кланяться да соображать, тот ли это момент. И так всю жизнь. Нет, раз уж на принцип пошло, тут я в горящую печь полезу.
Звучало это довольно хвастливо, но все же, что верно, то верно, в этой проклятой квартире он проявил больше смелости. Меня подмывало поддеть его как-нибудь, но нужные слова не приходили. А он еще добавил:
— А эта… подстилка! Знал бы я, что она с такими… Ты заметил?
— Да, — коротко ответил я, поняв, о ком говорит Придис. Он ничего больше не сказал, как будто ждал, что я что-нибудь добавлю. Я и хотел бы что-нибудь сказать, но опять не нашлось нужных слов…
8
Самый красивый, возвышенный, единственный роман в жизни Яниса Смилтниека в то лето, осень и зиму. У Карклиней они бывали втроем, так уж повелось. Улдис время от времени откалывал всякие штуки, Придис был самый тихий из них. По-прежнему появлялись и другие парни, но теплой, интимной дружбы с Лаймдотой медленно и незаметно добился один Янис. Боковое течение взбудораженной, взбаламученной жизни, казалось, занесло этот дом, мастерскую, квартиру в тихую заводь. И Янис порой позволял себе думать, что так все и останется. Практический, холодный ум обольщался розовыми надеждами. Лаймдота, Лаймдота! Он как будто отгородился железными воротами от житейского зла, разумеется, только воображаемыми. А по сути дела, всех их оберегала жалкая изгородь из лучинок, которую мог сломать любой шуцман. Да и в воображаемые железные ворота порою стучала тяжелая рука Каменного Гостя: «Отопри! Я явился к концу пиршества!» Янис испытывал страх, стены милой, надежной квартиры кренились, вновь открывалось опасное неведомое. Там был Улдис. А много ли наблюдал в то время Янис за Улдисом? На работе Улдис часто кашлял, даже в школе, прижав ко рту чисто выстиранный платок, приглушенно откашливался. И вообще стал более нервным, желчным, перемогался, что Янис глубокомысленно объяснял недостатком витаминов. Хлеба и мяса им теперь хватало. И все же Улдис слабел, под глазами у него виднелись темные круги, а в глазах часто вспыхивал нездоровый блеск. Улдис, да, Улдис, но ведь на свете есть Лаймдота! Она обращала на себя все заботы, все душевное внимание, все мысли Яниса. Хотя и моложе Яниса на год, в гимназии Лаймдота шла классом старше, потому что раньше начала учиться, стало быть, раньше и закончит — весной 1944 года. Учиться дальше она не думала, хватит, пожила за счет родителей, пора и самой зарабатывать. Янис кое-что узнал о сестре Лаймдоты Смуйдре — мадам Берман. Мать любила обеих дочерей, любила и это звание «мадам», даже сама себя охотно величала «мадам Карклинь». (А как чудесно это звучит — мадам Смилтниек!) У Смуйдры был этот господин Берман, был маленький сын, «бедный маленький клопик», как обычно вздыхала мадам Карклинь. Сам Артур Берман, насколько Янису доводилось видеть, обычно пребывал в мутном тумане, образованном винным угаром, и хамством в смеси с сентиментальными пьяными слюнями. От него несло самохвальством, сигарами, острым рвотным запахом. Таким он являлся из своих неведомых скитаний, принося грязь, похмелье, немного денег и заискивание перед женой. Сам пекарь Карклинь на незадавшуюся семейную жизнь старшей дочери взирал ясными глазами. Бывало, что он весьма цинично говаривал: «Смуйдра начисто заморочена этим своим битюгом. Три ночи за месяц он дома проводит. Вот и показывает себя в постели, если только жена пускает такого в постель». Мадам Карклинь зажимала мужу рот: «Как тебе, отец, перед девочкой не стыдно!» А девочка, то есть Лаймдота, покраснев, убегала в другую комнату. Она была воспитана в надлежащем духе. Карклинь только в сильном гневе позволял себе нечто подобное. В военных условиях нелегко было прокормить столько ртов, поэтому работала и мадам Карклинь, так что Лаймдоте не приходилось думать о дальнейшем учении. Каменный Гость грохнул тяжелым кулаком в кованые железные ворота, преграждающие вход в сознание Яниса Смилтниека. А этот ставший таким наивным мечтателем практик строил планы на будущее, такие розовые, такие робкие. Он возьмет еще одного работника, расширится, заработает, женится. Счастливец, счастливец… Зима была мягкая, приятная, чудесная, белая, чистая, нежная…9
Весной Придиса угораздило загнать железную занозу в большой палец правой руки. Такая ерунда, что он даже не заметил, а потом не хотел обращать внимания на пронзительную боль, которая схватывала, когда он случайно задевал чем-нибудь этот палец. Бедняге вообще не везло. У него было худо с зимней одежкой. Янис отдал кое-что из своего гардероба, да и Улдис старался помочь, хотя сам был не бог весть какой богач. Потом накрылось жилье. Селился он у дальних родичей, которые терпели этого «лесовика» только потому, что надеялись на то, что его отец как-нибудь привезет козлиную ляжку или бочонок масла. Но Придисов отец не являлся и сыном не интересовался. Родичи не скрывали своей злости и разочарования, они стали требовать, чтобы Придис или обеспечил их дровами для кухни, или убирался. Но парень действительно не мог приволочь сухую сосну из родных лесов, находящихся больше чем за сто километров. Какой-нибудь угол он бы подыскал, но это значило бы, что спать придется на голом полу в нетопленом помещении. На горести свои Придис не жаловался, но, когда он захотел остаться ночевать в мастерской, Улдис расспросил обо всем и отвел его к себе. Сразу же после этого свалилось несчастье с пальцем. Первую ночь Придис еще кое-как перетерпел, устроился на кухне и читал захватывающую книжку про призраков и вампиров. Книжка была такая сильная, что порой от нее мурашки бегали и боль пропадала. Но на другой день Придис на работе был словно «мешком хлопнутый». Янис заметил это и погнал парня к врачу. Врач оказался подстриженной под мужчину женщиной. Робко потрогав злополучный палец, она велела сестре смазать его черной, резко пахнущей мазью. Придису дали больничный лист. Диагноз — панариций. Гм, Янис читал, что панариций вроде бы лечат широким рассечением тканей. «Тю, дурень! — испугался Придис. — Палец и без того эвон как болит, а тут еще резать! Мазь что надо, вытянет всю гниль, докторша вроде баба с умом!..» Через несколько дней у Придиса начался жар, его отправили в больницу. Тамошние медики нехорошими словами отозвались о своем коллеге из больничной кассы, положили парня на стол и вылущили весь сустав большого пальца. Невыносимая боль стихла, гноение продолжалось, пока наконец не выпала, словно крысами обглоданная, косточка. Придис стал полуинвалидом. Как он исходил злостью, бедняга! «Врачиха, специалист, тоже мне хирург! Калечить специалист, вот она кто! Баб скоблить, наверное, мастерица!» Ха-ха! Янис не хотел смеяться над бедой Придиса, палец парня ужасно донимал, но, когда тот ругался, поневоле засмеешься — деревня деревня и есть, даже похабщина его напоминала хорошую навозную толоку, когда от запаха коровника ни у кого не перехватывает горло. У прежних помощников, таких же молодых парней, у тех безо всяких усилий извергались сплошные помои. Улдис с видом прозорливца произнес: «Ах, милый друг, не грусти, не грусти, не печалься. Утратив полпальца, ты обретешь большой жизненный опыт. Кое-кто потеряет полголовы, а то и всю голову. Ты и не предвидишь всего блага, которое явится от этой потери». Ирония судьбы, Улдис не заглядывал так далеко и глубоко, но спустя несколько месяцев Придис прекратил свои поношения и наконец стал чуть ли не возносить неумелую врачиху. Перемены убеждений, воззрений и веры всегда злили Яниса Смилтниека. «Сволочи, — чертыхался он в таких случаях, — что они делали, говорили, писали вчера и позавчера? Как людям не стыдно своего прошлого?!» Улдис с напускным цинизмом произносил: «Для холопа прошлое — мертвый господин, а настоящее — господин живой. Пока существует власть господина, хорошо оплачивается и холопство». Когда на работе бывали свободные часы, они проводили их в спорах, читали «Отчизну» и «Эпоху», рассказывали последние анекдоты, что кому удалось услышать. Улдис всегда знал стишки, высмеивающие рейхскомиссара и комиссаров, которые бродили по бывшей школе имени Райниса, нынешней 10-й гимназии. Янис посмеивался над ними, но тут же забывал, анекдоты крепче держались у него в памяти. Газетам, официальной информации он вообще не верил, но был готов поверить, если известия устраивали его. Что ж, каждая мелочь хочет взять что-то от благ большого мира. Улдис больше издевался, как будто просто стремился к смеху ради самого смеха. Придис слушал и молчал — его лесные концерты здесь были не нужны. Так, он и словом не обмолвился, когда «Отчизна» преподнесла «радостную» весть о создании латышского легиона СС. У Яниса было такое чувство, что кулак судьбы брякнул его по затылку. Да и Улдис в первую минуту задумался. Янис воскликнул: — Где они возьмут добровольцев? — Ушел же добровольно Эдгар. Разве он не стоит целого отряда героев? Стиснув губы, с серым худым лицом, с глубокой морщиной между бровями, Улдис гнул свою жесть. В уголке рта знакомая усмешка, делавшая его не то злобным, не то старым. Похоже, что он начал стареть еще до того, как стал юным. А не была ли ухмылка Улдиса, в конце концов, только мелкой черточкой в кощунственной гримасе эпохи? Добровольные, безвольные, слабовольные, слабоумные, скудоумные… За какую свободу они будут бороться? Батальон прошагал по Гитлерштрассе, бывшей улице Свободы, прогромыхал по шведской брусчатке, сотрясая воздух песней «Он геройски пал на поле брани, в жертву родине себя принес». «Эпоха» пестрела фотографиями — боевые эпизоды, взрывы снарядов, оружие, люди в мундирах, суровые люди. «Отчизна» печатала мужественные стихи, очерки, фронтовые известия и объявления о геройской гибели. Официальная формула: черный железный крест с изображением ордена Лачплесиса слева от железного креста. Довольно неожиданным казалось единение Лачплесиса с Черным Рыцарем. Или, погрузившись в пучину Даугавы, они заменили смертельное объятие братским содружеством? Улдис заметил, что медвежьи уши были отрублены еще на обрыве над Даугавой[5]. — А не были ли у рыцаря нашей Лаймдоты, скорее, ослиные уши? — заключил Улдис, имея в виду студента. — Когда Латвии будет отведено обещанное место в гитлеровской Европе, мы все это обстоятельно проверим. Янису Смилтниеку и сегодня нравится все обстоятельно проверять. Хорошо, если бы человек всегда знал, как в каждый момент поступать. Но, стало быть, есть же причины, которые одного заставляют действовать так, а другого совсем наоборот. Так, он вспомнил день, когда по чистой случайности был в Старой Риге, проходил по Ткацкой улице мимо бывшего армейского экономического магазина. Янис знал, что вход в магазин разрешен только немцам. Ничего особенного, такие оскорбительные объявления украшали каждое приличное место, и если он все же остановился и с любопытством уставился, то не на эту, запертую для него дверь, а на латышского офицера, который стоял поблизости и разговаривал с двумя инструкторами. Снова нечто характерное для этого времени, когда всякие вопиющие противоречия не просто вопили, а орали друг на друга: в тени бывшего магазина бывшей армии человек в форме бывшей армии со всеми нашивками, при сабле, в парадной фуражке, на околыше которой сверкает латвийский государственный герб. До этого Янис видал только солдат из добровольческого батальона, с ободранными петлицами даже у офицеров. А этот просто из прошлого явился. Дверь «только для немцев» распахнулась, оттуда вышли какие-то офицеры вермахта, один из них приостановился и, натягивая кожаную перчатку, окинул латвийского капитана любопытным, слегка насмешливым взглядом. Вот ведь, и кого только у нас не насобирали! То ли немца восхитила, то ли насмешила сабля, которую сами они не носили, — оружие, выглядевшее устаревшим даже как атрибут милитаризма, — то ли заинтересовала незнакомая форма, броская, но без особых украшений, то ли фигура в этой форме, гордая, самоуверенная. Янис Смилтниек быстро прошел, но его так и не оставили воспоминания о гордой выправке одного офицера и усмешке другого. А опасный соперник самого Яниса, Эдгар, который выбрал форму простого солдата, да еще с оборванными петлицами!.. Почему один, почему другой, почему третий? Должно же быть какое-то объяснение. Латышский капитан, наверное, учился в военной школе, так же, как Янис Смилтниек у мастера в механической мастерской; у каждого свое ремесло, каждый хочет заниматься своим, потому что не умеет делать ничего другого. Попытка покорить Россию пока что принесла неудачу и тяжелые потери. Гордые немцы уже не брезгуют ни одним союзником, вернули капитану его форму, старомодную саблю, честь и офицерское жалованье. Почему же ему не чувствовать себя довольным и не выпячивать грудь? Работа чистая, хлеб мягкий… Может быть, до появления Яниса Смилтниека он вышел из той двери, открывать которую разрешено только немцам. Еще одна привилегия. А может быть, он дошел только до двери и был отогнан, как не немец? Кто скажет это Янису? Ладно, у офицера мышление профессионального военного. А Эдгар? Янис тогда радовался, когда тот пошел добровольцем, и не подумал поинтересоваться его мотивами. Он не верил в то, что сам Эдгар сказал, эти глупости можно ежедневно прочитать в «Отчизне», ни один нормальный человек не мог принять их всерьез. Так почему же? И Эдгар был не единственный, сотни составили этот батальон, который послали в огонь, на смерть. Что они все, без царя в голове? За каким чертом надо идти воевать за немцев? По глубочайшему убеждению Яниса Смилтниека — это убеждение он, возможно, не смог бы выразить словами, но оно сидело у него в мозгу, — каждый действует, руководствуясь чисто деловыми соображениями, тем, что он может выиграть или потерять. Янису Смилтниеку и в голову не приходило отказаться от Лаймдоты, от мастерской, лишиться образования и видов на будущее, и все это ради ежедневного смертельного риска и сомнительной чести воина-добровольца. Янис решительно не понимал, почему и другим надо это делать, но все же полагал, что Улдисовы насмешки неуместны. В конце концов, кто таков сам Улдис? Янис Смилтниек взглянул на долговязого ехидника сегодняшними глазами, ухитряясь при этом находиться во вчерашнем сумрачном подвале у своих тисков. Он даже оторвался от дела, что с ним бывало довольно редко, опустил руку с поднятым, только что разогретым паяльником и внимательно уставился в серое, изрезанное ехидной усмешкой лицо Улдиса. Несозревший парнишка, легкомысленно отказавшийся от больших материальных благ, от наследства, не сознавая всей его ценности. Но работает хорошо, не жалуясь ни на холод, ни на голод, ни на нужду, никогда не оплакивая утраченного. Напоминает бесшабашного зубоскала, который всю жизнь считает увеселительным автоматом, куда бросают сантимы, чтобы получить шоколадку; он бросил все движимое и недвижимое, чтобы получить взамен право издеваться и сыпать остротами. Это верно, он всегда готов прийти на помощь, не корыстолюбив, никому не завидует, не норовит подставить ножку, жалит только языком, но ведь есть же поговорка: «Языком заработал, спиной расплатись». «Молодой, легкомысленный, воздухом подбит, — вывел заключение Янис и для оправдания добавил: — Станет старше, будет как все». Вообще с Улдисом можно ужиться, но только вот над Эдгаром не надо бы так издеваться. Думал ли Янис Смилтниек так и сейчас? А как с Придисом? У Придиса болел палец, он надеялся на врача. Придис потерял сустав пальца — маленькую изглоданную косточку — и за это честил врачиху. Пусть они там создают свои легионы, он в них ни ногой. Но что же делать генералуБангерскому, если вместо запланированных дивизий будет лишь несколько изреженных пулями батальонов? Между прочим, немцы потом передумали и командиром дивизии назначили немецкого графа, дав латышскому генералу-мужлану должность генерал-инспектора. А что ему было инспектировать? Повестки, которыми молодых парней вызывали в мобилизационные пункты? Так тогда ему надо было дать чин генерал-писаря, потому что тем, кто являлся на комиссию — а являлось большинство вызванных, куда денешься! — давали уже приготовленный бланк. «Вам предлагается вступить в латышский легион СС! Извольте подписаться!» К сожалению, господам из комиссии приходилось и морщиться — слишком многие не хотели подписываться. Но еще такой специалист по военным вопросам, как Наполеон, говаривал, что господь бог всегда на стороне сильного. Подписался ты, не подписался, сказал «да» или промолчал, в легион зачисляли всех, кроме тех, что ростом не вышли, этих совали во вспомогательные службы вермахта. Янису повезло, трудовое управление направило его в железнодорожные мастерские и там выдало карточку НЗ — незаменимый. А молодые легионеры в серо-зеленой форме СС маршировали по рижским улицам, повсюду слышались звон бутылок и на скорую руку сочиненная песенка: «Будь здорова, крошка, и привет!» Придиса признали негодным из-за злополучного пальца, и он со всем сердечным пылом благодарил дуру врачиху, желая ей долгих лет и доброго здоровья. Улдиса как будто ничто не могло спасти, но вышние силы пеклись и о нем — медицинская комиссия обнаружила в его левом легком туберкулезные очаги. Вот, оказывается, где была причина его усталости, худобы и бледности. Бациллы лучше всего чувствуют себя в сыром подвале и холодной квартире. Краем уха Улдис подслушал, что врач шепнул одетому в форму латвийской армии офицеру: «Этот мешок с бациллами не стоит брать, еще других перезаразит». И ему вежливо велели одеться.
Мастерская доживала последние дни. Янис ее еще держал: пусть оба работают, никто к ним не привяжется. И ребята ходили туда, как повелось, но настоящего хозяина уже не было. Ошивались там, чтобы только зашибить несколько марок на продуктовые карточки. Янис основательно запрягся в работу в железнодорожных мастерских, а все остальное время поглощала Лаймдота. Улдис начал серьезно недомогать, похоже было, что скоро придется слечь и ждать последнего часа. Все чаще он по-стариковски кашлял и плевал кровью. Лето было в самом разгаре, а он выглядел бледным ростком проросшей весной картошки. Придису осточертел пыльный и душный город, но он не покидал вечно квелого чахоточника, наверное потому, что не хотел бросать друга в беде. Он старался вытаскивать Улдиса в окрестные леса и на озера, как это делали прошлым летом, но Улдис стал какой-то странный, похоже, чересчур ослабел, какой-то стал капризный и предпочитал торчать дома с книжками. Прихоть смертника.
За месяц с лишним Янис совсем потерял связь с обоими парнями, даже не знал, что там, в мастерской, творится. Как-то, когда время уже стремительно мчало к осени, мать Лаймдоты передала ему ключ от мастерской. Придис вручил его и велел сказать, что они с Улдисом сматываются из Риги. Куда? Зачем? Но этот мордан только усмехается. Пошел по свету рыскать и того бедолагу потащил с собой. Уж дал бы по-хорошему помереть в родном городе, все равно до будущей зимы не доживет, это каждому видно.
Придис, надо быть, запропал в своих лесах. Так ведь и Янис из тех мест. Как-нибудь поедет и разузнает. Улдис? А может, надо было побольше позаботиться о больном парне? А что может один человек против смерти, да и все мы, что?..
Придиса признали негодным из-за злополучного пальца, и он со всем сердечным пылом благодарил дуру врачиху, желая ей долгих лет и доброго здоровья. Улдиса как будто ничто не могло спасти, но вышние силы пеклись и о нем — медицинская комиссия обнаружила в его левом легком туберкулезные очаги. Вот, оказывается, где была причина его усталости, худобы и бледности. Бациллы лучше всего чувствуют себя в сыром подвале и холодной квартире. Краем уха Улдис подслушал, что врач шепнул одетому в форму латвийской армии офицеру: «Этот мешок с бациллами не стоит брать, еще других перезаразит». И ему вежливо велели одеться.
Мастерская доживала последние дни. Янис ее еще держал: пусть оба работают, никто к ним не привяжется. И ребята ходили туда, как повелось, но настоящего хозяина уже не было. Ошивались там, чтобы только зашибить несколько марок на продуктовые карточки. Янис основательно запрягся в работу в железнодорожных мастерских, а все остальное время поглощала Лаймдота. Улдис начал серьезно недомогать, похоже было, что скоро придется слечь и ждать последнего часа. Все чаще он по-стариковски кашлял и плевал кровью. Лето было в самом разгаре, а он выглядел бледным ростком проросшей весной картошки. Придису осточертел пыльный и душный город, но он не покидал вечно квелого чахоточника, наверное потому, что не хотел бросать друга в беде. Он старался вытаскивать Улдиса в окрестные леса и на озера, как это делали прошлым летом, но Улдис стал какой-то странный, похоже, чересчур ослабел, какой-то стал капризный и предпочитал торчать дома с книжками. Прихоть смертника.
За месяц с лишним Янис совсем потерял связь с обоими парнями, даже не знал, что там, в мастерской, творится. Как-то, когда время уже стремительно мчало к осени, мать Лаймдоты передала ему ключ от мастерской. Придис вручил его и велел сказать, что они с Улдисом сматываются из Риги. Куда? Зачем? Но этот мордан только усмехается. Пошел по свету рыскать и того бедолагу потащил с собой. Уж дал бы по-хорошему помереть в родном городе, все равно до будущей зимы не доживет, это каждому видно.
Придис, надо быть, запропал в своих лесах. Так ведь и Янис из тех мест. Как-нибудь поедет и разузнает. Улдис? А может, надо было побольше позаботиться о больном парне? А что может один человек против смерти, да и все мы, что?..
10
Улдис: — Рядовой, ты знаешь, что такое порядок? Это роковая власть, которая ставит тебя на левый фланг, велит равняться направо и наконец дает команду: «Вперед, шагом марш!» Куда? Рядовой, прикуси язык, тебя не спрашивают, ты должен исполнять приказ. Carpe diem (пользуйся днем)! Следя за тем, как хорохорятся и разгуливают гоголи при нашивках и петлицах, я чувствую зависть — так калеки завидуют цветущей, гогочущей здоровой плоти. Но в подсознании эти пьяницы наверняка трепещут перед лотереей, которая им неизбежно предстоит и где много выигрышей в виде березового креста. Не знаю, уместна ли тут моя зависть, но я завидую, часто кашляю, слышу проклятый скрип в своих легких, а порой и соленый вкус во рту. Дом, где я обитаю, находится на когда-то оживленном, а теперь заглохшем перекрестке. Из всех видов городского транспорта работает только трамвай, а военный транспорт течет по Гитлерштрассе. Здесь находится конечный пункт четвертого трамвая. Время от времени подползает вагончик, минуту подождет, заберет пассажиров, звякнет и катит. Снова тишина, редкие прохожие (вечером хоть наплыв в кино «Свет»), редкие покупатели в пустых магазинах, совсем пустой заснеженный Зиедоня-парк. Проживающие в доме, явившись в свои квартиры, стараются не беспокоить друг друга, не бродят по двору и по лестницам и, даже торопясь, закрывают парадную дверь бережно, без шума. Все совсем как в церкви перед заутреней. И вот так уже два года — притихло, но не застыло. И, кажется, сохранилось еще какое-то брожение, а отсюда накапливается давление, которое надо как-то разрядить. Квартира за квартирой выбивают затычку и выплескивают необычную пьянку, которая состоит из разных шумов, бурной жажды жизни и безудержного разгула. Долго постящееся ханжество хочет оседлать самый гребень волны. Далеко за полночь тишину терзают патефонные вопли, и они перекликаются через стены, из квартиры в квартиру. Порой слышен звон бутылок, иногда даже пальба из револьверов, с револьверным звуком начинает хлопать и парадная дверь. Если сначала была одна-другая дама, которую навещали немецкие солдаты (фу, какая!), и делалось это тихо, конфузливо, обычно под покровом темноты, то теперь мундиры объявлялись с песнями, громким говором, просто с ревом, и дамы ответствовали им громким смехом и весельем, словно бросая вызов всем добродетелям и всем святошам. Моей ближайшей соседкой была полная дамочка, швейка, которая умела вышивать белые рунические знаки СС на черных петлицах. У нее была своя машинка, но не хватало черного сукна. Извольте, молодые легионеры, приносите хоть вырезки из отцовских штанов и быстро и дешево получите себе нашивки. Дамочка нашла хороший источник дохода, она думала только о шитье, но нашлись и желающие. Дамочка долго не ломалась — не стоит строить из себя святую, лучше скопить воспоминаний на старость. Не из этических, а из чисто эстетических соображений я злился на ее клиентов, которые оставляли грязные следы на площадке. Этажом ниже жили две молодые девицы — блондинка и брюнетка; к ним ходили чины СД, ночью пели о трех увядших розах, о том, что еще не все потеряно, вели себя довольно шумно, но в потолок не стреляли, а мне, право, не хотелось угодить под шальную пулю. Для единственной в нашем квартале женщины, жившей этим ремеслом, настали тяжелые дни: приходилось поломать голову, как заработать на кусок хлеба, если столько молодых красоток даром или почти даром приносят себя на алтарь любви. В смятении металась она со своим предложением по темнеющей улице: «Мальчики, перед фронтом любви не хотите? Курс — пятьдесят марок». Но улица высокомерно отказывалась: «Катись к бесу, старая подстилка, много чести будет, если эсэсовец с тобой и даром переспит!» Но немецкий устав не давал этим хвастунам права ни на ношение рун СС, ни на звание эсэсмана, они были всего лишь легионеры при СС, так как сам легион был лишь в рамках СС. Но сейчас все выглядело так, точно весь мир был выломан из рам и косяков, и если наша нещадно разбиваемая парадная дверь еще держалась, то это было одно из тех чудес, которые так просто не истолковать. Разгульная жизнь меня никогда особенно не влекла, но наблюдаемый вокруг смертельный фарс с ядовитой беспощадностью напоминал, что аз есмь только без пяти минут покойник. Так прошли жаркие майские, июньские, июльские дни. Гогочущее разгульное веселье угнетало меня все больше, болезнь тоже. Зачем я живу, как смею осквернять своим дыханием смертника и бациллами этот пустившийся во все тяжкие дом, ведь я должен уже быть покойником! Придис старался убедить меня, что я слишком мрачно смотрю на состояние своего здоровья. «Не будь мобилизации, ты бы и не думал о здоровье, эти врачи тебя с ног свалили», — пытался он убедить меня, присовокупляя весьма поносные слова насчет врачебной премудрости. Какая-то правда в этом была, потому что до врачебной комиссии я, в общем-то, весьма безмятежно разгуливал по свету. Но все же резоны Придиса оставались вне моего сознания, куда уже вторглось угрюмое предчувствие смерти. Наверное, большинство чахоточных убивают не бациллы, а страх. Все это время Придис был со мной мягок, улещал меня, но настал момент, когда он просто разъярился и этим, наверное, спас меня. В тот солнечный августовский день я, как обычно, торчал у себя, сражался с мухами и читал «Das Land ohnne Herz», это я хорошо помню, хотя я в то время пролистал гору печатной бумаги. Меня потревожил Придис, ворвавшийся так, что все ходуном заходило. — Во что это ты уткнулся? — Читаю, — буркнул я. — Вижу. По-немецкому читаешь. Ну-ну. А по-нашему это про что будет? — Страна без сердца. В общем-то довольно интересно, про Америку, понятно, жуткая пропаганда, но много и правды. — Плешь все это, — заявил Придис с воинственным презрением. — Фрицы ненавидят Америку, потому что эти лоботрясы из «золотых фазанов» там не смогут доллары зашибать. Работать не хотят, ремесла не знают, все только палкой да автоматом норовят. Страна без сердца?! Ишь, сердечные… горлохваты! Я вновь уткнулся в книгу. Неожиданно книга исчезла — Придис выхватил ее и свирепо швырнул в угол. — Ты что? — Я уже обо всем договорился. Собирай свои шмотки, через час будет машина. Да поживей, не пяль глаза! Барахлишка мы не много нажили, книжки здесь останутся, пусть их дьявол читает и чахотка. — Ты, ты… — Будешь мне еще буркотеть, я тебя пришибу! — взревел Придис. Его округлое лицо пылало, в глазах стояли злые слезы. — Ключ от мастерской я передал Карклинихе, сказал, что мы сматываемся. Да что ты копаешься, будто старая дева на бал собирается!.. Я тупо поднялся, тупо последовал за Придисом на заезжий двор на Дерптской улице, где ждала машина какого-то сельского потребительского общества. Только когда мы уже катили мимо Кекавы, я осведомился, за каким чертом он решил меня похитить и куда. — В мои места, — последовал веселый ответ. — В тех лесах не один легочник вылечился. Придис растерял свою злость, ее словно унес дорожный ветер, он снова был добродушным круглолицым сельским парнем. И я ожил, подхватил его веселую песню и впервые за долгое время взахлеб смеялся. Но тут на меня навалился приступ кашля, я сплюнул красный сгусток за борт машины, но не стал поддаваться отчаянию. Мир был так залит солнцем, что в нем уже не было места для мрачных предчувствий. Час за часом мы болтались на ухабах шоссе, глотали пыль, пели, курили. Придис мне ничего не запрещал, как будто я совершенно здоров. За Вецумниеками мы свернули на Аугшземе, и за Валлес кончилась полевая Земгалия. Мы очутились в дымчатой полосе лесов; какое-то время ехали по берегу Мемеле, здесь река проходит границей между Латвией и Литвой. Леса, леса, есть и поля, но вдали все равно высится чаща. Машина шла на Нерету. Мне было все равно куда, но тут меня охватило желание покинуть этот пыльный ящик и побрести по сосновому бору, вслушиваться в птичьи голоса, утопать ногами в мягком мхе, пробовать ягоды. Словно угадав мое желание, Придис забарабанил по крыше кабины: — Эй, придержи! Мы вылезли в пустынном месте. Перепрыгнули через канаву и вырезали себе палки. Весело продирались мы сквозь заросли, пока не попали в смешанный березово-еловый молодняк. Где-то вдалеке проглядывали серые крыши крестьянских усадеб, но Придис вел меня все дальше в лес. Ну и что?! Такое чувство, как у беглого каторжника, которого в любом лесу ждет только свобода. К самым березовым стволам припало ячменное поле, и остистые колосья тихо клонились от своей спелости; в уши мне ударили хлопки пивных пробок, шлепки пены на пол, веселые застольные песни. Янтарная горечь, эстафета пьющих пронесла тебя от колыбели цивилизации — от плодородных речных долин, через жаждущие пустыни, до полей латвийского края. Может быть, пьяное веселье — сильнейшее выражение человеческой сущности. И моралисты всего мира, что борются с ним, воюют с ветром, так же как и обличая грешные формы Афродиты, поскольку в холодный мрамор воплощена смертная женщина. Божественная жажда любви, мысли, опьянения, неуемная, всю жизнь томящая жажда. И влага переливается через край, поцелуи возбуждают, звезды манят к себе — можешь ли ты что-то свершить, все равно, здоров ли ты как бык или изнурен подлой болезнью. Так что пейте, братцы! Придис сказал, что в здешних краях из ячменя пекут лепешки, и вкусные. А похлебка со сметаной, м-м!.. Я поинтересовался: — Может, ты знаешь хорошие брусничники? Придис отрицательно покачал головой. Здесь места для него незнакомые, да и вечер уже, надо с ночлегом устроиться. И я спросил: — Да куда же мы идем? Это далеко, завтра еще целый день придется мотать. Но походить по лесу — это для меня только на пользу. Я решил, что в таком случае надо поскорее сговориться с кем-нибудь насчет ночлега. Придис был не согласен: а зачем надо к кому-то проситься? Да еще в душную комнату? Здесь много покосов, можно и в сарае переночевать, а еды малость и своей есть. Скоро мы наткнулись на лесной покос и увидели небольшой завалившийся сарай. Самое время устраиваться с ночлегом, сумерки уже сгустились. Летняя ночь, когда лето уже на исходе, последняя теплая пора. Вокруг лес, словно тайна, — может быть, из чащи выйдет красивая добрая колдунья Лаума и заворожит меня. Усталость убаюкивала мою плоть, но кровь беспокойно мчалась от сердца к мозгу. Всевышний шутник, пошли мне в этой жизни сказку, заставь расцвести чудесным цветом источенную бациллами грудь, и я навеки прославлю твое величие и щедрость, даже все-все утративший и, яко червь, в смятении извиваясь. Я хочу захмелеть, жизнь так коротка, а смерть так холодна! Эти размышления звучали во мне чем-то вроде молитвы. Придис как лег, так и не шелохнулся, я чувствовал себя совсем одиноко во тьме, поэтому я то стыдился, то отдавался приливу сентиментальных чувств. Может быть, эта гнусная болезнь сама разжигает такую неудержимую жажду жизни — я был молод, но кашлял, как старец. Я был вытолкнут из хода жизни, хотя рассудок подсказывал, что мне надо только радоваться этому, так как теперешний ход событий с мобилизациями, легионами, геббельсовской тотальной войной — это жуткая чехарда, которая не может кончиться добром. И все же я не хотел быть несчастным, хворым страдальцем. Подступала глубокая горечь, настоящий приток желчи, и хотя я не очень завидовал здоровым, все же хотелось кричать о несправедливости, о том, почему и я не могу быть здоровым. Почему именно я? Я видел Лаймдоту, румяную, уютную, довольную собой, видел Эдгара, напыщенного от сознания своей студенческой мудрости и добровольческой доблести, видел всех этих веселых гуляк — здоровых, и только здоровых. Я не хотел смириться с тем, что мне выпала доля страданий, угнетающих мир; уже сама война была ненормальностью, она выплеснула целое море отчаяния и боли… Правители, суровые законы, война и всяческие хвори и напасти всегда терзали человечество, а я не хочу терзаний, в мире не одни страдания, есть и счастье, я требую свою долю. Разве у меня нет нрава жить, если я не мешаю другим? Может ли быть, что хозяином жизни вечно останется этот Талис с его автоматом, с его здоровыми легкими, идиотски распушенным хвостом и всяким ярким оперением? На это клюнула и та девушка… Мне она понравилась в тот раз, когда пришла в наш подвал к Придису. Думать о ней не хотелось, и все же я видел ее. Она стояла тихая, бледная, и словно не слышала тех поношений, которыми я мысленно осыпал ее. Придис спал, а я долго не мог заснуть… Проснувшись утром, мы отыскали ручей, помылись, перекусили и пошагали дальше. Наткнулись на большой брусничник и хорошо поели; была и черника, она уже сделалась водянистой, но казалась сладкой после недозрелой брусники. Мы петляли вдоль извилистых лесных дорог, встречали жнецов, приветствуя их заведенным «бог в помощь!»; побеседовали с пастушонком, а на перекрестке встретили старика, который тащил большой мешок с яблоками. Он щедро одарил нас. Завернули в одну усадьбу и попили свежего молока. Придис сказал, что уже недалеко, поспеем вовремя. Он веселился, подражал птичьим голосам и без конца рассказывал всякие вероятные, полувероятные и вовсе невероятные охотничьи были. Мы вышли на берег петляющей речушки. — Это Виесите, — сказал Придис. Речка была не шире семи-восьми метров, извилистая, со многими старицами. Берега обрывистые, местами и пологие, там легко было перейти поперек быстрого течения; местами заросшие ольхой излучины с глубокими омутами. Вот из такого, наверное, Придис вытащил «во какую здоровенную» щуку. Вдоль реки луга, дальше стена леса, на опушке кое-где стоят сенные сараи, точно такие же, в каком мы провели ночь. Полуденное солнце палило, я предложил выкупаться. Придис согласился. Мы скинули мешки и освободились от одежды. Вели мы себя так, словно были одни, но окрестность не была безлюдной: слева хутор, а из леса, который здесь подобрался к самой реке, доносилось коровье мычанье. Придис первый кинулся головой в омут и, вынырнув у того берега, сообщил, что чуть не ударился о затонувшее дерево. Я был не из хороших ныряльщиков, но плавать умел прилично, чтобы без опаски пересекать эту речку взад-вперед. Мне скоро стало холодно, я вылез с гусиной кожей и, одевшись, еще долго стучал зубами. Придис вылез, только когда подошло стадо с пастухом — мальчишечкой от горшка два вершка. Пастушонок изнемогал от любопытства, но слишком робел, чтобы произнести еще что-нибудь, кроме приветствия. Он встал в сторонке и уставился на нас широко раскрытыми глазами. Наверное, так таращились бы мы, доведись нам встретить на лесной дороге сохатого с десятком развилок на рогах. — Ты, наверное, сын Налимовой Зенты? — спросил Придис. Услышав робкое «да», он захотел узнать возраст парнишки. Но тот только пялил глаза. — Верно, годков шесть есть, и уже таким стадом заправляешь. Лихой малый, — похвалил его Придис, но так как пастух пребывал в безмолвии, мы направились к усадьбе «Налимы», которую было видно отсюда. Я выразил свое удивление: — Какая странная фамилия — Налим! Придис объяснил: — А это не фамилия, а прозвище. Все к нему привыкли. Чужого или того, у кого своей усадьбы нет, зовут по ремеслу или по тому, у кого он работает. Ежели Янис у Спрунгиса в работниках, так и будет он Спрунгисов работник Янис, а просто Спрунгисов Янис — это уже сам хозяин или его сын. Меня вот зовут Придис-машинист. Хозяина в «Налимах» фамилия не то Шмит, не то Шульц, не помню толком… Вот оно что. Уж не хочет ли Придис сделать меня Налимовым работником Улдисом? В «Налимах» как раз свозили в овин снопы. Здесь ездили не на телеге, как в Видземе, лошадь была запряжена в длинную узкую фуру. Не знаю, какие преимущества как у первого, так и у второго средства передвижения. С фурой, кажется, легче перевернуться. Обитатели «Налимов» не слишком торопились и в честь гостей даже выпрягли лошадь. Их было трое: сам хозяин, уже больше чем средних лет, но еще крепкий и сильный мужчина, хозяйка, нагулявшая хорошие мяса, и дочка, ничуть не уступавшая матери в пышности. Четвертый домочадец пастушил, отца его никто не упоминал. Довольно радушные люди — тут же накрыли на стол и понимающе выслушали Придисовы объяснения, что мы решили несколько месяцев пожить в деревне. — В Риге в такую славную пору дышать нечем, как только вы там терпите! — в один голос согласились хозяин с хозяйкой. Работу они нам не могут обещать. Так пожить какое-то время можно, но дармоедничать ни мне, ни Придису и в голову не пришло бы. Поля в «Налимах» уже сжаты, хотя в округе еще звенят косы. Неудивительно, так как поля у них маленькие, все трое — работники хорошие, да еще Густ помочь приходит. Видимо, этот Густ имеет отношение к Зенте и ее мальчику, хотя жить здесь не живет. Глядя на Придиса, хозяйка сказала: — К молотилке тебе уж не воротиться, а отец твой… Девчонкой его только что наградили… — она осеклась, потому что Придис явно разозлился. Хозяин же деловито заявил, что работники нужны в «Клигисах», а то у них хлеба осыплются. Поля большие, один он из кожи лезет. — Чудной он, — вставила Зента. — Хороший человек, — строго сказал хозяин. — Я его насквозь знаю. Ступайте туда. Чем глубже в лес, тем вас дольше не унюхают в волости. Теперь таких молодых парней в легион гонят. Ага, это у Налима подозрения насчет наших документов и отношения к мобилизационной комиссии. Придис коротко сообщил, что мы оба непригодны к службе, но они как будто только сделали вид, что поверили. В тот же вечер мы отправились в «Клигисы», километрах в трех в гуще леса. Зента проводила нас до коровника и на прощанье сказала мне: — Там можно каждый день пить парное молоко. Клигис не скупится, а молодому парню нельзя быть таким тощим. Я усмехнулся, но почувствовал себя задетым. А молодой женщине можно быть такой бочкой? Лицо круглое, вся, как печка. Ах, я совсем не понял эту добродушную, душевную женщину, я с самого начала был слишком строптивым, чувствительным к уколам со стороны, гримасам, дружеским ухмылкам. Тонкая кожица самолюбия! Зента была освежающе теплой, как дыхание осиновой рощи в полуденный зной. Школьный диплом, она училась в Екабпилсском (местные зовут его не городом, а местечком) коммерческом училище, магазинная брошка на блузке, красивые модные туфли, которые она поспешила надеть ради нас, — все это было только внешнее, она могла выйти из глухой старины в холстинном облачении и сказать: я женщина сельская, прими привет мой, смешной костлявый горожанин. Сначала мы шли вдоль реки. За омутом, где мы купались, взобрались на высокий берег и свернули в лес. Дорога была извилистая и такая узкая, что еле разминутся две телеги. Вокруг сосны, и бодрящий смолистый воздух наполнял мои больные легкие. Я дышал глубоко, ублаженно. Придис рассказал, что леса здесь всякие: сырой осинник, смешанный, чистые сосновые боры. Старые еловые пущи, те больше к Сауке. — Тут такие подходящие места! — восторженно сказал он. А я так и не понял, что он понимает под «подходящими местами». Придису-то все было ясно, он бы чрезвычайно удивился, начни я приставать с назойливыми расспросами об очевидных вещах. Это лес, который он знал, как свой дом родной, это работа в поле, которую он делал с удовольствием, забывая про весь остальной мир, от всего остального отворачиваясь. Из леса его, по несчастью, изгнали, а поля, даже крошечного клочка, у него никогда не было. Я знал, что, работая на чужом поле, он всегда тосковал по своему. Быть хозяином — сам себе работник и указчик; слышать, как у твоего плеча тихонько ржет гнедой, по воскресеньям запрягать этого гнедого в рессорную коляску и ехать в церковь. Набожности в Придисе не было никакой, но будь он хозяином да будь у него своя запряжка, так уж он бы непременно и за кучера служил. Что ни воскресенье, так в церковь. «Шесть дней делай, и сотворивши вся дела твоя, в день же седьмый суббота господу богу твоему». Только господом этим был бы Придис сам себе. Порой он подумывал, не пойти ли в примаки. Хозяева здесь были некрупные, бедноватые, никто не откажется выдать дочку за работящего, хоть и голого парня. Но хозяйств с единственной дочкой-наследницей было не так уж много. Да и еще была одна помеха, тут я чуял что-то, а сам он не говорил. Так Придис и оставался кочевым работником, все вздыхающим «по своему углу, своему клочку земли». Вот и сейчас, когда мы шли по лесной дороге, он просто принюхивался к нивам, находившимся где-то за сосновой и еловой чащей, принюхивался к запаху вспаханной земли, коровьего хлева, жаркого пота жнецов… И совсем иные мысли крутились у меня в голове. А вдруг это заколдованный сказочный бор и наша дорога приведет в древний королевский дворец? После долгого пути мы увидим деревянные башни, высящиеся над вершинами деревьев, стена леса расступится, открыв сочные луга, где пасутся пестрые коровы с черными пятнами (но почему коровы и почему именно чернопестрые?), высокий частокол ограждает жилые строения — такие я видал на театральных декорациях, — солнце заиграет на крытых соломой крышах и вощаных окнах. Нас встретят добродушный, обутый в постолы король и седобородый жрец с украшенным янтарем жезлом. С башни донесется нежный голос, поющий под звучание гуслей о героях и их славных деяниях. Певица эта — дочь самого короля. Такая привлекательная и возвышенная… В воспоминаниях моих вновь всплыла та девушка, знакомая Придиса, которая всю ночь гуляла с оравой из СД. Что-то острое, противоречивое врезалось в мою душу… Собачий лай дал знать, что мы приближаемся к «Клигисам». Первое, что я увидел, это была действительно соломенная крыша, но она была не золотистая, а серая, местами замшелая. Коровник вместительный, но уже покосившийся, готовый завалиться, точно накренившаяся лодка. Такие же просторные, но старые, вконец запущенные были все прочие строения, включая жилой дом. А вместо нежного пения нас сопровождал лай сердитого пса. Усадьба напоминала разрезанное вдоль яйцо: закинутый в лес небольшой взгорок, по которому проходит дорога с тупого конца к острому. Мы вышли в тупом конце, где находились строения. Поля по обе стороны дороги спускались к сырой луговине, которая полосой лежала между лесом и полями и медленно зарастала кустарником. От строений у меня возникло чувство глубокого разочарования. Второе разочарование я пережил, когда увидел хозяйскую семью на овсяном поле. Солнце уже сползло с небосвода, а они еще возились в поле. Даже мать хозяина, сварив похлебку на ужин, спешила сюда. Хозяин весело и радушно поздоровался с нами. Этот одноглазый человек ничуть не напоминал короля: длинный, с удивительно маленькой головкой, явно кретинского облика, да еще больной гноящийся глаз. Постолы на нем были к тому же из невыделанной кожи, потому что выделанная давно исчезла в лавке. Жена его — низкорослая, в свое время, кажется, довольно красивая, но вымотанная тяжелым трудом. Старая хозяйка — костлявая, скрюченная и вроде бы хитрая старуха. К тому же три дочери: первородная Мария, тринадцати лет, средняя Анна, одиннадцати, и младшая Ильза, пяти лет от роду. Вот тебе и прекрасная королева! И жреца что-то не видать. Покуда Придис вел дипломатические, окольные переговоры с хозяином — в деревне не принято прямо приступать к делу, — я поближе познакомился с обитательницами усадьбы. Девочки сами сообщили, как их зовут и сколько им лет. Ильза принесла красивый камешек, который она считала драгоценной игрушкой, но тем не менее добровольно уступила его. Мария сообщила, что учится в школе, а бабушка присовокупила, что голова у нее тугая, зато вот Лелле[6] все дается легко. Мать тут же рассерчала: — Далась вам эта Лелле, давно пора уже своим именем звать! Хозяин наконец поладил с моим приятелем, пришлось оставить детей и тут же браться за работу. Этот захудалый хозяин не был никаким эксплуататором, просто работа сама подгоняла. Не надо было быть землеробом, чтобы видеть, в каком состоянии овсы — даже самые мелкие колосья вот-вот осыплются. Мы убрали часть скошенного поля и затемно пошли ужинать. Я изо всех сил старался сдерживать кашель и потел от страха, что Клигис учует правду. Придис предупредил, что мужик он хоть и отходчивый, но вспыльчивый. Я заметил, что противный скрип в груди не унимается. Чахоточник, смертник… Удрученно сел я к столу, но простая забеленная похлебка с ржаным хлебом и творогом пришлись мне по вкусу. Я усердно работал ложкой, но тут заметил, что застенчивая девочка все жмется ко мне. — Ты, дядя, из Риги? — спросила она. Так как рот у меня был набит, я только кивнул. — А Рига такая, как про нее в книжках пишут? — Да, — подтвердил я, наконец проглотив кусок. — В точности такая. В книжках пишут правду… — Я помялся и уточнил: — Хоть и не во всех. — В Библии каждое слово — истинная правда, — строго произнес Клигис. — А ты рижанин? В голосе девочки был такой детский восторг, что мне захотелось ее слегка подразнить. — Я принц. — Как принц? — Ну, заколдованный принц. Ты что, сказок не читаешь? — Читаю. И бабушка рассказывает. Мне они нравятся. — Вот я и есть такой сказочный принц. Если хочешь, могу наколдовать себе золотые доспехи; это можно сделать в тринадцатый месяц, тринадцатого числа, в тринадцать часов, после того как произнесешь тринадцать заговоров. Вся семья смеялась, даже обе сестры, старшая и младшая, наверное, потому, что это делали взрослые. Сама Лелле притихла. Похоже, что глубокие сумерки привели ее в такое состояние, что постороннее веселье не задевало. Она вновь спросила: — А что ты делаешь в наших местах? Отгоняешь колдунов? — Ищу себе жену. Когда вырастешь, я возьму тебя, если ты усердная, трудолюбивая и будешь слушать старших.
— Вот видишь, какая ты должна быть, — сказала мать. А старшая сестра, Мария, тут же презрительно фыркнула.
— Я же не принцесса, — жалобно произнесла Лелле.
— Станешь моей женой, станешь и принцессой, — успокоил я ее.
Снова веселье.
— Ну, ты, брат, и шутник! — сказал хозяин.
Я почувствовал, что девочка ко мне привязалась. Странно, ведь как будто и смышленая и не такая уж маленькая; может быть, она не сказку приняла за быль, а в были старается увидеть красивую сказку, так же как я, бредя сюда по лесной дороге.
Очевидно, я произвел хорошее впечатление, так как сам хозяин собрал одеяла и отвел нас в завозню. Здесь он вдруг прервал разговор о завтрашних работах и неожиданно сурово сказал:
— Знаешь, Придис, чтобы в моем доме этого баловства не было!
И, кинув одеяла, ушел, только из-за двери послышалось:
— Доброй вам ночи.
Я ответил, Придис нет. Сопя, он забрался на груду сена. Мне показалось, что сопит он от гнева. Устроились мы удобно. Придис хмуро спросил:
— Нравится тебе здесь?
— Чудно, — ответил я. — Один лесной воздух чего стоит. Люди как будто хорошие, такие простые. А тебе?
Придис посопел и не ответил.
Я проявил назойливость:
— А что тебе хозяин хотел сказать? Насчет чего-то… Может, пойдем в другое место?
— Еще чего! — буркнул Придис. — Старик мой на пять волостей раструбил.
Наконец он рассказал все.
— Отец у меня лесник, я у него единственный сынок, гордость. Так оно и шло, пока мать не померла. Папаша уже был не бог весть какой лев, еще в ту пору, как на матери женился, молодые годы давно проводил. И не жену бы ему надо было, а хорошую хозяйку. Бабка моя, материна мать, приглядела там одну работящую и путную вдову, если уж не по карману работницу держать. Да вот ведь эти упрямые старцы — иной раз ветер оседлать норовят, и мой выкинул штуку — взял да и на скорую руку окрутился с совсем молоденькой девкой, о прошлом годе еще в пастушках ходила. Людям на смех: когда она по лесным выгонам пасла, парни так туда и бегали… Ну, девка! А старик свое: это все злые языки норовят сиротку обговорить, это все те со зла наговаривают, кто попусту к ней подкатывался. Он ей и за мужа будет, и за отца. Насчет отца — это у него получалось, а вот по мужниной части тут уж кое-как… В первый год родился у меня сводный братец. Ну, папаша мачеху на руках носит, любое хотенье ее по глазам читает. Только главное хотенье все меньше может исполнить, чай, в годах ведь уже. Я в ту пору по округе ездил с молотилкой и искал еще какую-нибудь оказию заработать — большой парень уже, стыдно у отца на шее сидеть. Бедно мы не жили, в этих лесных местах лесник большой человек, лесничий — это тебе как в старину барон, а уж главный лесничий — сам господь лесной бог. Вот как-то приехал я к отцу, пивка выпили, болтаем. И она встревает в разговор. Шуточки всякие. Я, говорит, старичок, больше на твою сношку смахиваю, чем на жену. И всякое такое… А глаза у самой жадные, как у голодной кошки. Гляжу я, она моему старику только что в бороду не плюет, а он жмурится, как опоенный. Выпили еще по кружечке, и она свое пропустила. Пошли спать. Мое место, как всегда, в кухне. С утра старый пошел в обход по лесу, он всегда с зарей подымается. И я, бывало, с ним, я же прирожденный охотник. А в то утро повернулся на другой бок и дальше храпеть: все же гость. А она встала, гремит посудой по кухне, потом присела на кровать и давай меня щекотать. Мне как-то совестно, но все за шутку принимаю. Ну, шутки да шутки, а она — хлобысть! — ко мне в постель. Ну, я уж, понятно… И как раз тут старый входит. Угораздило его что-то дома забыть. Она тут же всю вину на меня — шла, дескать, коров доить, а я сгреб и в постель. Ну бог с ним, что было — было, пусть меня и жеребцом этаким выставили, только на что было сор из избы выносить. Надо же и стыд понимать. А старик каждому любому, кого встретит, в три горла орет, что нет у него больше старшего сына. Вот и Клигис суется… Охота мне была с его заезженной старухой… Вот сволочи! Сделали из меня выродка какого-то…
Мне страшно хотелось смеяться, но я сдерживался, боясь поссориться с приятелем.
На этом наш разговор кончился. На меня свалился сон, дорогу за день прошли немалую, да и поработали. И Придиса сморило, к тому же он никогда не поддавался трагическим переживаниям. Ощущение довольства, тепла и надежности переполняло нас обоих. Вокруг лес, я свободен, дышу свежим сосновым воздухом, завтра новый яркий день, а я молод…
— Ищу себе жену. Когда вырастешь, я возьму тебя, если ты усердная, трудолюбивая и будешь слушать старших.
— Вот видишь, какая ты должна быть, — сказала мать. А старшая сестра, Мария, тут же презрительно фыркнула.
— Я же не принцесса, — жалобно произнесла Лелле.
— Станешь моей женой, станешь и принцессой, — успокоил я ее.
Снова веселье.
— Ну, ты, брат, и шутник! — сказал хозяин.
Я почувствовал, что девочка ко мне привязалась. Странно, ведь как будто и смышленая и не такая уж маленькая; может быть, она не сказку приняла за быль, а в были старается увидеть красивую сказку, так же как я, бредя сюда по лесной дороге.
Очевидно, я произвел хорошее впечатление, так как сам хозяин собрал одеяла и отвел нас в завозню. Здесь он вдруг прервал разговор о завтрашних работах и неожиданно сурово сказал:
— Знаешь, Придис, чтобы в моем доме этого баловства не было!
И, кинув одеяла, ушел, только из-за двери послышалось:
— Доброй вам ночи.
Я ответил, Придис нет. Сопя, он забрался на груду сена. Мне показалось, что сопит он от гнева. Устроились мы удобно. Придис хмуро спросил:
— Нравится тебе здесь?
— Чудно, — ответил я. — Один лесной воздух чего стоит. Люди как будто хорошие, такие простые. А тебе?
Придис посопел и не ответил.
Я проявил назойливость:
— А что тебе хозяин хотел сказать? Насчет чего-то… Может, пойдем в другое место?
— Еще чего! — буркнул Придис. — Старик мой на пять волостей раструбил.
Наконец он рассказал все.
— Отец у меня лесник, я у него единственный сынок, гордость. Так оно и шло, пока мать не померла. Папаша уже был не бог весть какой лев, еще в ту пору, как на матери женился, молодые годы давно проводил. И не жену бы ему надо было, а хорошую хозяйку. Бабка моя, материна мать, приглядела там одну работящую и путную вдову, если уж не по карману работницу держать. Да вот ведь эти упрямые старцы — иной раз ветер оседлать норовят, и мой выкинул штуку — взял да и на скорую руку окрутился с совсем молоденькой девкой, о прошлом годе еще в пастушках ходила. Людям на смех: когда она по лесным выгонам пасла, парни так туда и бегали… Ну, девка! А старик свое: это все злые языки норовят сиротку обговорить, это все те со зла наговаривают, кто попусту к ней подкатывался. Он ей и за мужа будет, и за отца. Насчет отца — это у него получалось, а вот по мужниной части тут уж кое-как… В первый год родился у меня сводный братец. Ну, папаша мачеху на руках носит, любое хотенье ее по глазам читает. Только главное хотенье все меньше может исполнить, чай, в годах ведь уже. Я в ту пору по округе ездил с молотилкой и искал еще какую-нибудь оказию заработать — большой парень уже, стыдно у отца на шее сидеть. Бедно мы не жили, в этих лесных местах лесник большой человек, лесничий — это тебе как в старину барон, а уж главный лесничий — сам господь лесной бог. Вот как-то приехал я к отцу, пивка выпили, болтаем. И она встревает в разговор. Шуточки всякие. Я, говорит, старичок, больше на твою сношку смахиваю, чем на жену. И всякое такое… А глаза у самой жадные, как у голодной кошки. Гляжу я, она моему старику только что в бороду не плюет, а он жмурится, как опоенный. Выпили еще по кружечке, и она свое пропустила. Пошли спать. Мое место, как всегда, в кухне. С утра старый пошел в обход по лесу, он всегда с зарей подымается. И я, бывало, с ним, я же прирожденный охотник. А в то утро повернулся на другой бок и дальше храпеть: все же гость. А она встала, гремит посудой по кухне, потом присела на кровать и давай меня щекотать. Мне как-то совестно, но все за шутку принимаю. Ну, шутки да шутки, а она — хлобысть! — ко мне в постель. Ну, я уж, понятно… И как раз тут старый входит. Угораздило его что-то дома забыть. Она тут же всю вину на меня — шла, дескать, коров доить, а я сгреб и в постель. Ну бог с ним, что было — было, пусть меня и жеребцом этаким выставили, только на что было сор из избы выносить. Надо же и стыд понимать. А старик каждому любому, кого встретит, в три горла орет, что нет у него больше старшего сына. Вот и Клигис суется… Охота мне была с его заезженной старухой… Вот сволочи! Сделали из меня выродка какого-то…
Мне страшно хотелось смеяться, но я сдерживался, боясь поссориться с приятелем.
На этом наш разговор кончился. На меня свалился сон, дорогу за день прошли немалую, да и поработали. И Придиса сморило, к тому же он никогда не поддавался трагическим переживаниям. Ощущение довольства, тепла и надежности переполняло нас обоих. Вокруг лес, я свободен, дышу свежим сосновым воздухом, завтра новый яркий день, а я молод…
11
Разве человек не носит в себе самом тюрьму и бессолнечную угрюмость, разве свобода и счастье в первую очередь не в состоянии твоего духа, когда ты находишься в согласии с самим собой, пусть даже ты и в цепях и брошен в тьму подвалов? Проклятая чахотка, которая неустанно выедала меня изнутри, и страх перед хозяином. Он вовсе не казался таким отходчивым и добрым, какое там, строгий хозяин над чадами и домочадцами, серый барон, и серый именно оттого, что концы с концами не сводит. Как-то с утра погода вдруг испортилась, полил дождь, в поле нельзя было идти, и Клигис широким шагом вышел на середку огорода, чтобы взглянуть на небо. В тяжелых юфтевых сапогах, в самотканых штанах и пиджаке, он вперил свой единственный глаз в тучи и выглядел точно так, как будто сейчас потянет к суду самого господа бога. Головка маленькая, пожалуй, меньше даже головки сапога, сам тяжелый, как земля. Яко земля еси и в землю отыдеши, а пока что владычествуй здесь, на этом окруженном лесом поле. И если он скажет: «Весь остатний мир — дерьмо собачье», — я откликнусь: «Воистину». Если же он продолжит: «Солнце — плевок божий на небе», — я откликнусь: «Хоть бы уж этот плевок вынырнул из туч». Я предпочитаю хорошую погоду, хотя очень хочу отдохнуть. Но вот хозяин сообщает, что сейчас распогодится и надо браться за косы. Мы так и делаем. Придис — весело напевая, я — сдерживая кашель. — Что у тебя за немочь? — дивится хозяин, а его мать с подозрением вглядывается в меня. Сама хозяйка добродушная, без хитрости и без особого ума. Иной раз Мария весело кричит: «А я уж знаю, что вы идете обедать! Улдис так бухает, что за версту слыхать». Детское простодушие, а у меня такое чувство, что Клигис вот-вот заявит, чтобы я уметался и не портил его потомство бациллами. Стоит кому-нибудь из домашних помянуть чахотку, и я смотрю на него с глухой яростью. Только с детьми я чувствую себя свободным, особенно с Лелле. Та задает мне тысячу и один вопрос, я, забавляясь, даю самые фантастические ответы, просто даже невероятные, но вскоре замечаю, что ей именно такие и нравятся. Я рассказываю про райскую птицу с золотыми перьями и бриллиантовым хохолком, о затонувшей в древности Атлантиде, по которой разгуливает в скафандре капитан Немо со своими спутниками, про путешествие Марко Поло в далекий Ципанг, про английского лорда, которого воспитали обезьяны, про ученых, которые в кратере потухшего вулкана столкнулись с древним прошлым и вместе с извергающейся лавой вернулись на поверхность земли, про полет Ганса Гарта на луну. Рассказываю про воздушный дворец, высящийся за белыми стенами облаков, про волшебное седло, в котором можно улететь в страну Никуда и обрести там вечное счастье и жизнь, рассказываю про героев, отправляющихся в сумерки подземелья и затевающих сражения со сверхъестественными силами, и про прекрасных принцесс, дающих им на дорогу хлеб, в котором запечены земная сила и солнечное тепло; рассказываю много-много всякого, смешивая чудеса истории с научной фантастикой, с народными преданиями, со сказками и собственными выдумками. Девочка слушала, словно завороженная моим голосом, ревновала к обеим сестрам, нередко отгоняла их, в особенности если они не сдерживали язык. Ильза обычно громко восторгалась, но и вопрошала: почему? Почему это и почему то? Мария иной раз выражала сомнение: «А ты, часом, не обманываешь, это вправду так было?» Для Лелле, как для ее бабушки во время богослужения в церкви, уже один громкий вздох был непростительным грехом. Дрожащим от возмущения голосом она заявляла Марии: «Если не веришь, если болтаешь попусту, убирайся!» Старшая сестра упиралась, хоть и привыкла слушаться Лелле, потому что у той светлая голова и воля сильная, но тут не сдавалась: «Что, у тебя одной права на Улдиса?» Да, Лелле настаивала на своих правах, ведь она же, когда вырастет, станет моей женой. Отец с матерью посмеивались и подшучивали над девочкой. Но бабка просто возносила ее. Наверное, потому я и завоевал расположение старой хозяйки, что Лелле была ее любимицей. Разумеется, главным в «Клигисах» была работа, а не сказки. Мы успели убрать поля до того, как зерно осыпалось. Потом косили отаву, ходили на молотьбу к соседям и пригоняли «паровик» в «Клигисы». Звенели грабли и железные и деревянные вилы-тройчатки на длинных-длинных черенках, точили ножи, умирали хромающие овцы, бродило пиво — ужасающее питье, что-то вроде кофе, куда добавлено немного молока, ударяет в голову, точно тебя обухом в лоб хватили. Клигис в восторге заявил, это было уже на другое утро: «А пивко-то удалось!» Я только тяжело вздохнул. Господи милосердный, надо брать вилы и идти на толоку в «Налимы», а я вчера наговорил Зенте всяких глупостей, не помню уж каких, но явно страшных, и в моем несчастном нутре словно пара ежей выколачивает свинг. Тяжелый это был день. Но где-то нашлись силы выдержать, наверное, сознание, что я перебрался через черный омут. Это часто бывало в моих ночных кошмарах — будто иду я, иду по узким мосткам, дрожа от страха, зная, что перейти надо и каждую минуту ожидая неотвратимого падения. Я просыпался, мокрый от пота, слышал спокойное дыхание Придиса, и страх медленно покидал меня. Иногда я во сне падал, но в жизни все же перебрался, уже не кашлял так свирепо, хрипы в легких стихли даже сейчас, на вечном сквозняке и в пыли молотилки. Вечером опять пили, на этот раз немецкую слабенькую водку, про которую говорили, что ею только покойников обмывать. В «Налимах» крепкое пиво не признавали. Ну и, конечно, пели, даже танцевали. Я вальсировал с Налимовой Зентой, она хоть и была дородная, но танцевала легко. Там был и Густ, его в тот вечер я видел впервые. Густ держался сам по себе. Придис меня предупредил: — Гляди, как бы неприятностей не нажить, у них хоть любовь и вперекосяк, но Густ все еще ревнует. А я выпил — не слишком много, но вполне достаточно, чтобы почувствовать в себе силу и глядеть на какого-то там Густа, как на блоху. Давай его сюда, отвозим как надо!.. Хотя какой я был противник для крепкого деревенского парня. И уж никак не для Густа. Этот был еще из тех битюгов, о которых у нас в Риге ребята говаривали: «Шея, как у быка, грудь — как мусорный ящик». Он в одиночку мог откидывать солому от молотилки (обычно для этого к большой установке ставили четверых, к маленькой, какие были здесь в ходу, двоих), вздымал на вилы такие копны, что черенок прогибался. Лицо у Густа было неулыбчивое, даже угрюмое, челюсти крепко стиснуты, слово и то редко кинет. Про него говорили, что мужик он — во, что надо! Где треснет кулаком, там трава не растет. Придис уже успел рассказать, что у Зенты с Густом все получилось как-то несуразно. Она еще девчонкой была, когда Густ на нее стал поглядывать, ну, тут только хиханьки одни были. Но вот ранней весной кончила Зента коммерческое училище, вернулась в отцовский дом, пошла в воскресенье на вечеринку… Угостили ее там вином, выпила рюмку, еще одну, еще, а до этого никогда не пила, ни капли. Густ объявился, где Зента, тут уж и он. Он как раз деньгу огреб за сплавленный лес и швырял той деньгой, что твой лесничий Приедкалн. Зента ему не отказывала — один танец, другой. Придис самолично там был, хоть и стоял за изгородью (мальчишкой еще был), но все хорошо видел. Зента «ржала, что твоя лошадка», и коса трепалась, «как кобылий хвост», а вот на ногах уже держалась нетвердо. И удалились они в глухой угол парка, Зента только за Густа могла цепляться. И пропали там. С той вечеринки Густ каждый вечер у Зенты на сеновале до утра. Хозяйство у Густа было небольшое — пара гектаров, избенка, хлев с одной коровой, — приходилось поденно работать у крупных хозяев в страдную пору, но бывало, что и отказывался от этого: поворочает зимой в лесу, весной плоты погоняет — вот и хлеб на весь год есть. В то лето он всю силу на Зенту извел. На другую весну она округлилась. Все говорили, что стыдно Русту должно быть — опутал совсем невинную девку, а жениться не хочет. Но мало-помалу вышло на свет, что Густ только и добивался ее согласия, а она ни в какую — надоел будто ей этот Густ, сама своего ребенка вырастит. И вот уже седьмой год Густ в страду работает в «Налимах», но по ночам там уже не бывает. Даже в молотьбу только на подмогу приходит, и все… Но кто же он такой, этот Густ? Рабочий, плотогон, крестьянин… Видно, все вместе. На пятнадцать лет старше Зенты, уже на пятый десяток пошло, а старости и в помине нет. Говорили про Густа, что работает как зверь, а выпить надо — тоже не больной. Были у него друзья, которые очень уважали этого сурового, угрюмого человека и с которыми он отлично ладил; сам же он не уважал никого по-за кругом друзей. Придиса он порой аттестовал так: «Машинист-то он хват, да в заду легковат», — хотя, в общем, не проявлял большой неприязни. Клигис считал меня страх каким умным человеком, потому что я мог ему сказать, сколько от Земли доЛуны, как солнечное тепло превращает материю в энергию, как самолет использует сопротивление воздуха и о многом другом, ему, Клигису, неведомом. Но когда Клигис похвалился Густу, какой у него башковитый работник, тот обозвал Клигиса балдой, а меня городским свистуном, баричем недоделанным, который только умно болтать умеет, а не дело делать. Густ не терпел людей, у которых было мало физической силы, чувствовал недоверие к книжным мудростям и книгочиям. Порядочный человек, по нему, это только рабочий человек, а порядочный рабочий человек — это тот, кто бревна, как спички, кидает. Ко всему еще Густ ненавидел немцев. Рассказывали, потому будто, что его младшая сестра вышла за прибалтийского немца и стала стыдиться своих неотесанных родственников, «мужиков». И уже одно то, что я под немцами учился в школе и бог весть чему там выучился, настраивало Густа против меня. А тут еще предупредительность, даже особое внимание, которое Зента мне оказывала. Вот почему на толоке в «Налимах» Густ делал вид, будто меня и не замечает, а вскоре даже исчез. А там и прочие разбрелись. Зента, уложив своего парнишку, вызвалась проводить нас. Клигис в сильном подпитии — после того злополучного выстрела, когда он из самопала вышиб себе глаз и повредил голову, мало мог выпить. На опушке мы простились и выслушали просьбу Зенты, чтобы рижане завертывали как-нибудь в «Налимы». Мы поблагодарили за любезность и расстались. Когда дошли уже до «Клигисов», хозяин с оглядкой сказал: — Поди знай, как там бабы коней спутали. Пойти поглядеть. — Я схожу, — предложил Придис. — Нет, нет, ребята. Ступайте на боковую, сегодня хорошо поработали, — похвалил нас Клигис. — Я сам… И он направился мимо клети, как раз в другую сторону, а не туда, где паслись кони. Неужто пробитая голова у него после двух-трех стаканчиков совсем направление теряет. Мы устроились у себя на сене. Придис буркнул: — Куда это он собрался своего коня пристроить? — Ты думаешь? — По той тропе можно только к моему бате прийти… — Да ведь этот Клигис на черта похож! — Стало быть, конек у него хорош!.. Придис крутился на сене, словно на него блохи напали. Меня же сморило быстро. Я спал глубоким сном, только легкие сновидения, как светлые неуловимые отголоски чего-то, проплывали сквозь мой покой. Иногда приближалась та девушка, которую я недолго видел в мастерской, а потом в загаженной квартире Талиса. Ее платье отливало белизной, без единого пятнышка, свет источало все ее существо, она приближалась и опять скрывалась. Под утро пришел совсем другой, ясный сон: Налимова Зента забрела в Виесите и мылась, на ней была одна рубашка, а я балансирую на тонкой жердочке, перекинутой через омут. Вид Зенты меня очень волнует, вот думаю: если даст рубашке упасть, у меня так голова закружится, что свалюсь в омут и утону. Я покачнулся, но рука Придиса ухватила меня за плечо. Приятель кричал мне в ухо: — Этот одноглазый журавль и удружил мне сестрицу!12
Улдис — легкомысленный свистопляс! Неужто для него вся жизнь — шутка, высекающая искру смеха? Нет, что-то мало соли в его язвительности. Поднимись над собой — учит древняя житейская мудрость. Улдис был слишком молод, чтобы в любом месте и в любом деле не быть самим собой. Да и Янис Смилтниек не мог по-настоящему выйти из узкого круга своего «я». Это было местечко под солнцем, всемилостиво отведенное ему, его цитадель, королевство, может быть, просто раковина, куда мягкотелый моллюск может забиться и укрыться от полного ужасов мира. Раковина в виде квартиры на Гертрудинской улице. Но в этой раковине обитала жемчужина. Она встречала Яниса улыбкой, теплом, ее мать ставила на стол что-нибудь вкусное. Янис взял на себя многие семейные заботы, и мадам Карклинь Сумела это оценить. Карклинь, разумеется, на работе, поэтому они втроем сидели у вэфовского приемника, тихонечко слушали запрещенные передачи или немецкую бравую воинственную или мелодичную венскую музыку, обсуждали то-это и чувствовали себя заедино. Когда наступал миг прощаться, Янис со сладкой радостью думал, что когда-нибудь он навсегда останется в раковине рядом с жемчужиной и квартира Карклиней превратится в квартиру Карклиня — Смилтниека. Еще один год, когда Лаймдота кончит гимназию, так решила мадам Карклинь. Ночью Янис проснулся. На улице крики, выстрелы. Тишина. Янис вслушался. Стихло. Тяжелые шаги, стучат подкованные сапоги, а может быть, стучат только в его воображении. Слушаешь вражеские передачи! Но этого же никто не знает… Но за это грозит смертная казнь. Сколько раковин хрустнуло под марширующими подкованными сапогами! Приближаются тяжелые шаги или еще долго будут обходить его дом, королевство, достояние? В железнодорожных мастерских многих лишили категории НЗ: фронт нуждался в свежей крови взамен выпущенной — только что закончились сентябрьские бои под Волховом. Янис Смилтниек, этот далеко не воинственный любитель спокойной жизни и спокойной работы, дотошно изучил страницу за страницей во всех латышских изданиях, где описывались эти бои и прославившиеся герои. Газеты воспевали «мужество и оружие», воскуряли фимиам, и не вина газетчиков, что тонкий нюх Яниса уловил сквозь этот фимиам трупный запах. Штандартенфюрер Вейс получил рыцарский крест. В памяти Яниса ожили школьные уроки по истории Латвии — рыцарь и крест тогда однозначно выглядели как символы порабощения, символы недругов его народа. Янис Смилтниек пожалел, что нет сейчас рядом Улдиса, этот наверняка знает что-нибудь побольше насчет рыцаря Вейса и его креста. Разумеется, Янис Смилтниек совершенно не интересовался званиями и орденами гитлеровской армии, ему было все равно, как их вешают, куда их вешают — в петлицу, на шею или на задницу, — он бы с превеликим удовольствием покидал все эти цацки в клозет. В жизни он не позволит заманить себя в легионерскую форму — это Янис сознавал столь же ясно, как и свою любовь к Лаймдоте, тягу к своему гнезду, к своему, хоть и малому, достоянию и к более или менее приличному образованию, к солидной профессии и приличному заработку. И если он так старательно рылся в бумаге, воспевающей только что закончившуюся резню на берегах Волхова, то лишь затем, чтобы распознать дух милитаризма, который Янис считал своим злейшим врагом. Перед глазами вновь возник капитан на фоне бывшего армейского экономического магазина: блестящая сабля, сверкающие пуговицы. Сейчас таких офицеров больше не видно, все перешли на немецкую форму, наверняка и у того капитана мундир СС и соответствующее звание. У солдата и ремесло солдатское. Янис Смилтниек покусал большой палец и признал, что тому капитану есть прямой расчет держаться раз навсегда избранной профессии и искать хозяина, который хочет и может использовать его квалификацию и соответственно заплатить. Но на другой чаше были миллионы вояк, которых мобилизовали и которые не считали войну профессией, да и вообще не очень-то хотели воевать. Почему они подчиняются этому противоестественному делу, ведь они же вооружены и в один миг могут покончить с этими воспеваемыми ужасами? Отложив груду печатной бумаги, Янис проявил нежность к Лаймдоте, которая не ломала голову над такими вещами, и заботу к будущей теще, так как та без его поддержки уже ничего не предпринимала. Он взял на себя ответственность за других людей, за свою будущую семью и стоял на своем. Если даже не удается проникнуть в тайну войны, то формулу своей жизни он знал: жилище на Гертрудинской улице, Лаймдота плюс любовь, удобства и дети, которые продолжат его род. Пусть войны громыхают где-то на отшибе, у них с Лаймдотой есть право на жизнь и его он решил оберегать назло всем властям. Немецкий солдат все еще стоял у настоящей школы имени Райниса, только он уже не был воплощением исторического могущества — удары на востоке чувствительно повредили военную машину Гитлера, удары становились все сильнее, все беспощаднее. Навстречу этим ударам мчались эшелоны, мчались днем, мчались ночью, а возвращались обезноженные, стонущие, пыхтящие, дребезжащие, совсем как перемолотые в бойне инвалиды. Но в мастерских никто не спешил их быстро и старательно чинить. У Яниса Смилтниека не было ни ослиных, ни медвежьих ушей, он держался своей скорлупы. Жизнь оскудевала, сокрушаемая машина пожирала все, — казалось, только и останется, что пустота небытия. Гости, бывавшие у Карклиней, молодые парни, угодили в легион, люди замыкались, становились необщительными, одни только мундиры веселились все оглушительнее. Улдиса по утрам будило петушиное пенье, охраняла чащоба, врачевали сосновый воздух, свобода. Янис Смилтниек был рабом, впрягшимся в обязанности, страх, надежды, любовь; он сам стал чем-то вроде западни для своей жажды свободы, сам стал своим деспотом и палачом. Мир громыхал, мир угрожал. Близился миг, когда центр бури вновь сместится к Риге. Еще далеко было до того дня, конечно, не годы и не тысячи километров. Теперь, когда каждый день приносил новые, неожиданные повороты событий, Янису было отпущено всего десять месяцев — необозримо много. И когда Янис с Лаймдотой шли по чернеющей от осеннего дождя аллее, когда руки девушки сжимали сочные стебли темно-красных гладиолусов, он, преодолевая растроганные слезы, сказал: — Лаймдота, как я рад, что у меня есть ты. И как все красиво, весь мир. — Да, — ответила она, и пышная сфера под ее блузкой сладко всколыхнулась. Почему же Улдис смеялся?..13
Улдис: — Нет, я не смеюсь, по крайней мере сейчас, разве что морщусь, какая-то заноза воткнулась в мою нежную кожицу. Ей-богу, ну чисто барышня! Я не смеюсь, вообще чувствую себя хорошо в этих «Клигисах», в лесном захолустье. Ночью сплю глубоким, непробудным сном, без всяких сновидений, недомогание все дальше уходит от меня, иногда только скрип в легких напоминает о бациллах. Будущее, еще недавно выглядевшее распахнутыми кладбищенскими воротами, расцвело вдруг, подобно тем голубеющим вересковым взгоркам, на которых мы с Придисом по воскресеньям собираем грибы. Мой приятель взахлеб рассказывает все время что-то веселое, я только поддакиваю, а вообще-то ничего не слышу, меня захватывает колдовство осеннего леса. Щемящая сладость струится от простых лесных цветов, точно чудесный ковер уходит вдаль, к забвению и воспоминанию. Пчелы гудят свой реквием последнему теплу бабьего лета. Жизнь уходит в просторы вечности, холодный небосвод без улыбки взирает на этот уход. Я хочу оставаться под этим небом еще долго, хочу оставаться на этой земле. До чего же бесценен каждый год жизни, день, кратчайший миг! Волостные власти начинают нас тревожить, пронюхали все же — Придис с подозрением упомянул своего отца, Клигис полагает, что просто людская молва далеко бежит. Придису-то ничего, а вот меня могут признать здоровым, а тогда — марш в легион! И вот в этот момент оказывается, что Клигис действительно порядочный человек, как его представляли Налимы. — В волость явись, а ежели кто грозить будет, дуй сюда. Устроим тебя в сенном сарае на лесном покосе. — Клигис бьет кулаком по столу, гневно вращает своим глазом, но я этого уже не боюсь. — Устроим тебе где укрыться, как Налимовой Зенты Густу. Там их у него много, ни один в легион не идет. Густ у них за командира, все же сержантом в армии был — большой чин! Густ, понятно, меня не возьмет. Там его друзья, настоящие люди, не какие-нибудь городские свистуны, выучившиеся у немцев бог весть чему. А мобилизация шла полным ходом: генералы Данкер и Бангерский призывали всех латышских сынов к оружию, чтобы отстоять народ и отчую землю от большевиков. Новую Европу теперь что-то мало упоминали, насчет Остланда и вовсе помалкивали. Зато Латвию дозволялось склонять сколько хочешь, даже флаги 18 ноября разрешали вывешивать. Но юноши и мужчины этой волости больше грудились вокруг Густа, этот угрюмый человек имел здесь большое влияние. Уже сейчас было понятно, что все, кто уклоняется от мобилизации, уйдут с ним, даже недруги его. Вот только меня Густ не возьмет. С Зентой у меня как началось тогда на молотьбе, так и пошло с продолжением. Как-то я завернул к ним… один. Что для молодых ног лишний крюк по чудесной лесной тропинке — семь верст не околица! — прохладным воскресным деньком. В «Клигисах» все отдыхали, а мне не отдыхать хотелось, двигаться, веселиться. Зента же приглашала. И все равно я бы не осмелился зайти, да надо же случиться такому — она сама была на берегу Виесите. И ей не спалось, ну и обрадовалась гостю. Пошли мы бродить по окрестностям — живописные места! — полезли по крутому берегу заросшей старицы. У Зенты вдруг что-то нога подвернулась, повалилась она и меня за шею обхватила. Ухнули под куст и хохочем. И весь мир был — лес да мы двое. Я только на язык смелый, а тут всю робость явил, вспомнить стыдно, зато она все на себя взяла, соломенные вдовы быстро огнем занимаются. Я уже чувствовал себя совсем здоровым, как будто эта лесная глухомань передала мне свои силы. И еще мне казалось, что Зента — единственная женщина на свете. Была, правда, еще где-то Придисова мачеха, в одних с ним годах (а то и помоложе пасынка). Обе они были не из праведниц. Зента тогда сказала: — Я бы и от тебя ребенка хотела… Я их так люблю, маленьких!.. Потом мне было стыдно и Зента уже не казалась такой притягательной. Но прошло несколько дней, и опять я отправился «в гости наведаться». Ночью. Придис только сказал: — Ты, Улдис, знай, лес, он с глазами, а поле с ушами. Все верно — старая мудрость… Но что она дает тому, кто загорелся? А с Густом мне все равно дружбу не водить. Я-то бы ничего… Да ведь он не тот человек, кто это переварит. Авось Клигис поможет, уломает его как-нибудь. И Зента обещала… Я уже никуда не могу скрыться. Здесь мое место, подлинный дом. Мою душу истого сына Риги покорила красота лесной природы; местные вросли в этот мир, а я погружаюсь в него, как пчела в переполняющий цветок нектар. Эти люди обитали здесь из поколения в поколение: рождались, росли, обрабатывали тощие поля и, наконец, ложились на тихом лесном кладбище. Все эти люди были полны дыханием лесной чащи. Летом они обливаются соленым потом, осенью борются с ячменем и хмелем и застольными песнями заставляют дрожать небесные стропила; они кричат, как журавли, ревут, как лоси в любовную пору, и подчиняются законам природы. Врач, к которому меня погнали, был молод, но во взгляде его уже была тяжелая усталость. Он сказал мне, что дело явно идет на улучшение, но в бумаге написал что-то такое, что даже волостного старшину — уж такого самодура — заставило притихнуть. Мы бредем по синему вересковому океану. Придис все тарахтит, тарахтит, я не вникаю, не слушаю, гудит пчелиная песня. Где и когда еще я ощущал такое изобилие чувств? Угрюмая рижская квартира на Артиллерийской улице, там мы ютились втроем — отец, мать, я. Громыхание извозчичьих роспусков на булыжнике, двор, по которому ветер гоняет сор, грязный песок. Мы, ребята, чертим «классы» на асфальте, рисуем мелом или куском осыпавшейся штукатурки. Но в тот день я не принимал участия в их играх. Был обычный день, только необычный для меня. Легкая облачная пелена висела над городом, солнце больше ощущалось, чем виделось, ночью шел дождь, но уже просохло; двор, дом, улица, весь город источали запахи: свежего хлеба, голубей, дыма, колбасы и мыла из лавочки и еще чего-то, что я не смог бы назвать. Мелкой рысцой цокал легковой извозчик, лошадь роняла яблоки, на радость воробьям и старой тетушке, которая с пустым цветочным горшком приплелась к этим яблокам: «Не смейся, голубок, кактусик надо растить, навоз нужен». А я смеялся не над нею, а от этого чудесного настроения; мне было не больше пяти лет, что же удивительного, если от всего этого у меня слезы подступали к глазам. Они не жгли, они были легкие, как веяние ветерка. Тяжелая отцовская рука легла на мое плечо, острый взгляд пробился сквозь влажную дымку в глазах, голос… Я обожал этот голос и боялся его. — Чего слезы льешь? Я понурился. — Смотри мне в глаза! У мужчины должны быть два правила: здороваешься — крепко жми руку, разговариваешь — гляди прямо в глаза! Мне это понятно, я и сам не уважаю людей, которые не выполняют эти правила. Отец был прав и все же не прав. Он не понимал меня — я сторонился его не от трусости, мне было стыдно. — Ты мой сын, не смей хлюпать! Мой сын должен быть настоящим мужчиной! Он был стройный, строгий, безжалостный. — Я не хлюпаю… — Ты еще и лжешь. Разлился в три ручья, а говорит, не хлюпаю… Как он не понимает? Я было хотел сказать, что пересилил свои слезы. Но заупрямился и продолжал стоять понурясь. Этот высокий человек еще позавчера носил меня на плечах, я радовался, смотрел на всю улицу с высоты. Разве есть еще у кого-нибудь такой отец, как у меня? Как он смеет называть меня лгуном и хлюпиком? — Ты маменькин сын, а не мой! А город все-таки благоухал, назло! И я сам по себе, свой собственный…14
Дни, дни, дни… Утренняя заря покрывает белым пологом инея окрестности усадьбы. Мы торопимся на картофельное поле, хозяин запрягает Серка в соху, я иду за лошадью по верхушке борозды и сношу брань, если порчу эту борозду. Потом мы гнем спину каждый в своей борозде, время от времени подбегая к разведенному Придисом костру, чтобы погреть озябшие пальцы. Как-то туманным утром мы видим на лугу диковинные существа — вышло попастись стадо лосей. Начались настоящие морозы, солнце становится тусклым, холодным. Лиственные деревья подле усадьбы и плодовый сад оголяются, но стена леса все такая же зеленая и полная жизни. Коровы уже целый день стоят в покосившемся хлеве. У нас еще есть кое-какая работа. Придис разводит поперечную пилу, я вожусь с маленькой Ильзой, а бабка рассказывает о тех временах, когда в «Клигисах» еще хозяйничал отец ее сына. — «Клигисы», как и «Приедниеки» и «Зираки», поначалу были прежними усадьбами лесников. Все угодья и леса тут были графа Шувалова. Был такой русский вельможа, страсть какой богатый, все больше в Петербурге проживал, здесь редко показывался, а когда наезжал, праздники здесь устраивали. С арендаторов своих Шувалов драл недорого; когда стали усадьбы выкупать, дешево отдал. Лесникам платили серебром, на одно это могли работников держать. Двадцать коров стояло. Масло продавали в Елгаве на рынке. Сорок пять лет я здесь прожила, а все будто в чужие места меня привезли. Я ведь из Валле, там совсем другой народ, светлее, чем в этих лесах. У моего отца было сорок пурвиет земли, теперь ею племянник владеет, в саду одних яблонь триста штук. Отец ни за что не хотел меня сюда отпускать. Лесник сколько раз приезжал свататься, наконец сказал, если меня не отдадут, то он до конца жизни холостым останется. Только так уж получилось, что он раньше меня богу душу отдал, вот я и одна. (Хозяина «Клигисов» его мать нисколько не уважала, любимый сын выучился и работал лесоводом где-то в Курземе.) Так вот в этих лесах и гублю свою жизнь. При царе лесничий был, так с ним хоть по-немецки можно было толковать, а там всех господ развеяли, толкуй хоть с немецкой елкой. Вот Аннеле его хорошо учит. Она свою любимую внучку звала по имени, а я все — Лелле. Они с Марией больше в школе жили, только в субботу под вечер отец домой привозил. В воскресенье бабушка час-другой уделяла немецкому, он казался ей воплощением высочайшей мудрости. Лелле старалась, Мария ловко увиливала. В занятиях немецким принимал участие и я, но вскоре старая стала сердиться. Я портил ее внучкам выговор, произнося немецкие слова так же плохо, как местные ребятишки латышские. И верно, в то время, как сам хозяин изъяснялся на местном говоре, мать его говорила, как рижанка, да и по-немецки изъяснялась довольно своеобразно: вместо «морген» — «морьен», вместо «геен» — «йейен» и в таком же духе. Многие мои выражения казались ей глумлением над немецким языком, я спорил, доказывая, что еще не слышал ни одного немца, который бы говорил иначе, чем я, и услышал в ответ, что настоящие, образованные немецкие господа вывелись, а эту наезжую голь перекатную и слушать нечего. Лелле больше прислушивалась ко мне, и старуха стала ее даже ревновать. Но в будни, когда школьниц не было дома, мы снова дружески толковали про графа Шувалова, про русского царя и про старые времена, когда каждому хорошему ребенку, умеющему целовать руку господину, как с неба сваливался серебряный полтинник, про «Клигисы», где в ту пору текли молочные реки с кисельными берегами, но где каждую весну великолепный вишневый сад погибал от поздних заморозков, приходившихся на самое цветение. За все сорок пять лет только два раза и собрали урожай, будто манна небесная свалилась: банок с вареньем без счету, бутыли с соком и вином, а уж ели ее так, что чуть не у всех рези были. Вот и нынче заморозки побили цвет, сад погиб, колоды завалились, иструхлявились. Старик отец до самой смерти заботился, чтоб медок водился, только вот слышать не хотел о новомодных ульях. И вот приходит в упадок вся добротность прошлого века с клетями, конюшнями, завознями, большим и малым хлевами. Даже крыша на жилом доме залатана кое-как, а нижний венец в срубе осел под тяжестью верхних. Упадок начался после первой мировой войны, когда власти отдали лесникам, прослужившим много лет, усадьбы во владение. Но должность лесника и жалование получил отец Придиса. «Клигисы» же стоят в дальнем лесу, маслодельня за тридцать километров, хлеб на тощей земле рос плохо, а свинина на рынке была такая дешевая, что свиней откармливать не было выгоды. Сам хозяин уже не помнил тех времен, когда в просторной людской голосисто болтали два работника и две работницы, только и мог себе позволить пастушонка на летние месяцы. Этим летом пас литовский парнишка, который уже вернулся в свою деревню, и старая хозяйка одна ютится в комнатушке рядом с обширной пустотой. Мы с Придисом перебрались с сеновала в комнатушку наверху. Иной раз по вечерам, вслушиваясь в вой ветра, я думал об этом тоскливом одиночестве посреди леса. Мария с Лелле в интернате, Ильза все с бабушкой и ее рассказами, схожими с «Цветочной корзиной» Ансиса Лейтана, а молодая хозяйка на своей половине все забросила, если Клигис ушел наведаться к Придисовой мачехе. В старые, шуваловские времена там внизу все ходуном ходило: люди каждый в своем углу заводили себе семью, работали до седьмого пота и отцовской земли у них только и было что в цветочном горшке, который они все же осмеливались держать в людской на подоконнике. Может быть, они считали, что так оно и должно быть, а может, и нет, но ничего не могли изменить. Старуха с грустью вспоминала древнее благочестие, когда заправляла всем в людской с глинобитным полом. Конечно же, надзор за всеми этими пристройками был на ней, работники же были в ведении хозяина. Ушедший мир графа и «благородных» господ унес с собой не только крепкий уклад и серебряные рубли, но и ее молодость, и женское счастье. Растянувшись на кровати, я пытался представить себе те годы, когда она, богатая невеста, училась в елгавской школе, говорила «чисто по-немецки» и с сознанием превосходства смотрела на простолюдье. Яблоневый сад что твой лес, хлеба на глинистой равнине ивняком высятся, а молодая девица цветет пышным цветом на хозяйской половине дома под черепицей. Школа и книги приоткрыли ей волнующий вид на мир, который держался на красивых мужественных господах. Кто-то из них приблизился к ней, перед окном девицы расцвел чудесный цветок, и душу переполнило предчувствие сладостного счастья. Ах, бабушка читала в школе «Leiden des jungen Werthers»[7], я же это читал только в переводе Аспазии (и к тому же кощунственно счел тоскливым занудством), она верила в любовь, которая возносит до небес. А явился всего лишь лесник, потому что для настоящих господ ее красота была простым полевым цветком, а образованность — всего лишь умением читать по-немецки. У лесника были пылающее от любви сердце, недавно поставленный дом, обработанные поля. Он привез яркий полевой цветок в эту чащобу, но уже не против ее воли; привез в рессорной бричке, которая год за годом поддерживала престиж графского лесника и вот, сломанная, покоится в углу завозни, привез через залитую солнцем молодую поросль, через вековой ельник, где даже полдень теряется в полумраке, через бело-алый цвет брусничника и через дурманящий запах багульника по извилистой дороге, которую подвенечной фатой покрывала белая пыль; а может быть, это было в зимнюю пору, когда от мороза трещит весь мир и играющие на солнце сугробы сверкают, как зубы веселого парня. Она вылезла во дворе Клигисовой усадьбы, скинула шаль с пышной «фризуры»; я видел ее лицо, оно цвело, как брусничник, алело, как брусничник… Вот это морщинистое старушечье лицо, древнее, как мир. Цвела эта вечная любовь, древняя, цветущая, рассыпающаяся прахом, возрождающаяся из праха. Твоя молодость и моя старость, ты же не знаешь, что жизнь — это сплошной закат. Эти ветры с воем вращаются вокруг меня по спирали вечности, я простираю руки поверх них, и приходит время, когда опаляет зноем лето, обжигают поцелуи и небо дарует вишневому саду багрово-черную ягодную благодать. А кто одарит ею древо моего познания и его ольховой горечи сок? Всевышний комедиант, сотвори чудо: даруй старости легкость детской души и юношескую веру неверующему. Быстрым шагом сновала она в те минуты, когда сын запрягал лошадь, чтобы отвезти ее в гости в Валле к племяннику и племянницам, — молодая девушка возвращалась в свои родные места. А я не вернусь, мне некуда возвращаться. Утерянный и возвращенный рай. Я родился за воротами Эдема, в пустыне, — обретая, я могу только терять.15
С утра мы собирались варить сироп из сахарной свеклы. Хозяйка растапливала плиту, хозяин ловко орудовал ножом и рассказывал о третьем графском леснике, Приедкалне. — Приедкалн был ух какой колдун! У него дом никогда не запирался и клеть стояла полная, все равно никто оттуда ничего не мог взять. Войдешь, крадучись, в клеть и что-нибудь своруешь — так и останешься на месте, будто гвоздями приколотили. Такие, брат, дела! — На лице Клигиса священный ужас. — Это он от отца перенял заговорные слова. Вся эта колдовская сила у него прямо на лице была написана. Глаза черные-черные, так и горят, поглядит в упор, у тебя мурашки по коже. Кто того Приедкална даже в первый раз встречал, сразу делал, что он велит. Когда казна стала передавать усадьбы во владение, он браковщиком леса работал у одного еврея. На черном жеребце по округе скакал, только огонь из-под копыт. Сказывали, что он этого жеребца телячьей кровью поил. Сколько раз, бывало, подъедет к кому-нибудь, кто в лесу работает, крикнет: «Подержи-ка моего коня!» — а сам меряет. Не шутка была того черного коня удержать. Потом вытащит из кармана десять латов и даст за то, что хорошо держал. У него денег пропасть была, ему змей по ночам таскал сколько надо. — А откуда змей эти деньги брал? — спросил я. — Из Латвийского банка? Клигис с минуту напряженно думал, мигая обоими глазами, как выбитым, так и здоровым. — Колдун, он все может, — заключил он наконец. Спокойная и добродушная хозяйка, видимо, поняла, что я шучу, и добавила: — Я было поначалу ничему не верила. Только знаешь, Улдис, как один раз увидала того Приедкална, так сразу поняла — все правда, что про него говорят. Клигис продолжал свое: — Приедкалн чуть не все мог, такие он знал слова. Но и помирал тяжело. Ничего есть не мог, стонал так, что все домашние убегали, черт его душил. Либа, которая за Приедкалном ходила, знала слово от нечистого, она очень-то не боялась, потом сама мне сказывала, что ночью такой косматый черный нечистик крутился в углу. Глаза горят, как угли. Приедкалн как закричит: «Отпусти меня, не хочу тебя!» Тут черный пропал, а в лесу кто-то дико захохотал. Либа стала петь божественное, но тут опять Приедкалн заорал, чтобы она унялась. Имя господне при нем чтобы никто не смел поминать. Так он мучился, все помереть не мог, но, видно, решил все свои слова с собой унести. Да и кто бы их захотел на себя взять, душу губить? Уж я-то ни за что! Наконец велел работнику ехать в Яун-Елгаву за гробом. На обратной дороге его все время провожали семь волков. Работник сразу понял, что никакие это не волки. Уж и страху натерпелся! Дело зимой было, темнеет быстро, а до «Приедкалнов» по глухому лесу еще вон сколько километров! Волков здесь нету, а тут сразу семь голов! Но они не нападали, лошадь фыркает, вся в мыле, работник еле сдерживает. Проводили волки сани до самого дома, а там пропали. Это были другие колдуны, которые следили, привезли ли гроб. Приедкалн той же ночью и помер. Люди сказывали, что все лицо у него свело и язык вывалился. Так его слова никто и не перенял. — Жалко, — вздохнул я, — богатый был бы человек. — И душу бы загубил! — одновременно воскликнули хозяин с хозяйкой. — Да вы только подумайте, если бы у вас были деньги, всякое добро, всего навалом! — произнес я голосом совратителя. Клигис полагал, что первым делом надо заботиться о том, что будет после смерти. Жизнь короткая, а там ведь конца нет. — Вот потому-то и есть смысл, — настаивал я на своем. — Торчать на белом облачке, славить господа бога, не иметь возможности ни в чем согрешить и пускать слюнки, глядя, как на земле все так же пьют пиво, а по ночам шастают к молодым женам старых мужей. Так ведь и в ад легче идти. Клигис насупился: — Ты, Улдис, как погляжу, безбожник, коли так… У души ни ног нет, ни третьей ножки. За дверью послышался грохот, и в людскую весело ввалился Придис. Кинул на стол пилу и два топора. — Пила что крапива, топоры сами в комель лезут. Давай-ка в лес, там семь потов спустишь, ни про баб, ни про девок не будешь думать.16
Клигис вывозил нарубленное, мы с Придисом работали в бору километрах в четырех от усадьбы. Стройные сосны, сверкающий снег, царство тишины. Я вступил сюда, как в первозданный девственный мир. Время, рождающееся с восходом дня и сжигающее себя в костре заката, останавливалось вместе со мной. Только мерное повевание вершин, сознание, что ты живешь, и над всем воля творца — бысть! И бысть так: зубы металла въедаются в вечность, рвут ее в щепки, сосны рушатся и обнажают холодную серую пелену небосвода. Мы умерщвляем. Сколько сосен выросло из первого посева? По какому праву их умерщвляют? По какому праву умерщвляем мы деревья, которыми топим, животных, которых поедаем, траву, которую топчем? По какому праву человек умерщвляет человека — например, вождь племени ньям-ньям, которому хочется умять коричневый окорочек и пюре из мозгов врага, чтобы присвоить себе его силу и ум? Что же такое каннибальство — причина или следствие войны? Я бью обухом топора по стволу, удар разносится далеко — до самых «Клигисов», «Зираков», «Приедкалнов». Старый колдун, явись и открой тайну своего «слова»! Может, ты обманешь господа бога, может, все силы ада, но не себя, и в тот миг, когда сделаешь возможным невозможное, ты погиб и пропал — ты задушишь самого себя, черту не придется тебя душить, ты задушишь себя в шелковых перчатках, без стонов, с улыбкой. Разве может быть страшнее смерть, чем проникнуть в пустоту, которая осталась вместо самого человека? Я говорю Придису: — Жалко, что с Приедкалном ушло все колдовство. Нам бы пригодился какой-нибудь фокус из области черной магии. Придис шутку не подхватывает. — Э, тут не так просто, — говорит он. — И мне сдается, что все эти россказни насчет души да воскрешения мертвых — болтовня одна. А как вспомню Приедкална, раза два-три я его в детстве видел, так и сейчас еще не по себе делается. Это такой человек был, что ты бы с ним не пошутил. Мы берем пилу и начинаем разделывать поваленные деревья. Я произношу: — А если бы вдруг он подъехал на черном жеребце… Вдруг пила выскальзывает у меня из рук, я, раскрыв рот, гляжу поверх плеча Придиса. — Ты что? — удивленно кричит Придис, взглядывает мне в лицо и оборачивается. Теперь и он видит, нет, не всадника на черном жеребце, а трех вооруженных людей, идущих по взгорку. В одном из них я узнаю Густа, того самого Густа, которого впервые встретил на молотьбе у Налимов. Где-то в подсознании звучит предостережение Придиса. Через плечо у Густа английская винтовка, у других автоматы русского образца с обоймами в виде дисков. И одежда у них разная: у Густа полушубок и зашнурованные сапоги, у его спутников ватники и непонятного материала сапоги. Держатся они отнюдь не угрожающе. Густ еще на расстоянии кричит: — Здорово! Помогай бог! Спутники добавляют: — Привет! Придис больше проявляет любопытства и добродушно отвечает на приветствия. Мы здороваемся за руку и присаживаемся на поваленное дерево. Густ с Придисом перекидываются словом-другим насчет нашей работы, насчет хорошего морозца. Я молчу, молчат и те двое. Я уже догадываюсь, кто они такие. Ничего воинственного в них нет, особенно в том, что с костлявым лицом и острым носом. Глаза белесые, взгляд глухой, как будто в себя направленный. Второй поживее. Острые карие глаза. Он внимательно следит за разговором Густа с Придисом. Густ: — Ворочаешь ты здорово, только все равно ведь не разбогатеешь. Придис смеется: — Так разве от работы кто разбогател? Но хлеб-то зарабатывать надо. А Клигис еще и сала подкидывает… — На день-другой можешь и прервать свои заработки, — отрубает Густ. Такое впечатление, что светлый взгляд незнакомца подгоняет его. — Хочешь нам помочь? — Это как же? Густ косится на меня и говорит, что об этом надо наедине. Мне неловко, впору убираться отсюда. Но приятель ощетинивается: — То, что ты скажешь, можно и при Улдисе. Глаза незнакомца просто жалят меня. Такое ощущение, будто Густ проявил ко мне недоверие перед товарищами. Почему? Я знаю, что он укрывается в лесу, но мне-то что за дело. Лес большой, нечего к нам лезть, мы же никому не мешаем! Придис добавляет: — Ты что, Клигиса больше не знаешь? А меня? На твоих глазах вырос. Мы знаем, кто Улдис, а если тебе его нос не нравится… Тут вмешивается сам незнакомец: — У тебя документы надежные, сможешь съездить в Ригу, купить кое-что. Деньги мы дадим. Судя по выговору, незнакомец не латыш, хоть и старается говорить медленно и внятно. Второй незнакомец, с глухим взглядом, сидит все такой же недвижный и молчаливый. — А что купить? Незнакомец прищуривает карие ясные глаза, достает из кармана коробочку с махоркой и газету, свертывает цигарку и небрежно бросает: — Батареи к радиоприемнику. Придис поворачивается ко мне: — Э, Улдис, ты же хорошо знаком с Янисом. Авось втроем нам удастся? Я тут же улавливаю, почему Придис таким торжественным голосом объявляет меня главным лицом — друг стоит за друга до конца. А радует ли это меня, если холодно все продумать? Поди знай, я уж, скорее, постараюсь отговорить Придиса от шашней с этими людьми из леса. Я понимаю, они не дружбы просят, а стараются подчинить тебя, обстоятельства, события своей воле. За их спиной стоит сила — победители под Сталинградом. Придис добивается своего, все глаза устремляются на меня. Тот, что с чужим выговором, спрашивает: — Что это за Янис? — Мастеровой. Вместе работали. Что ж, все обговорили, остается собрать топоры и топать домой, чтобы скорее собраться в дорогу. Потом я подумал, что второй большевистский партизан, кроме «привет» при встрече и на прощание, ни слова не сказал. Но и этого было достаточно, чтобы понять, что он здешний…17
Отыскались оба блудных сына, отыскались так же неожиданно, как пропали. Радостная встреча произошла в квартире Карклиней в присутствии всех трех женщин — Лаймдоты, Смуйдры и их матери. Круглое лицо Придиса лучилось радостью. Улдис явно поздоровел, повзрослел, бледность с лица сошла, только уже не по-юношески оно стало суровым; он сказал, что Лаймдота и Смуйдра, вероятно, от любви стали еще краше. Это можно было истолковать и как насмешку (особенно по отношению к Смуйдре) и как галантный комплимент. Янис больше придал значения невинному замечанию Придиса, что им хочется побольше узнать, что творится на свете, а для этого надо бы взять в лес батареи для радиоприемника. Янис знал людей, которые могли это устроить. Другая сделка, которую Придис совершил в тот же самый вечер, надолго запала в памяти Яниса. Уже вечер, все дела у приезжих улажены, вещички связаны, и домашние с гостями сидят за столом. Карклинь, как всегда, занят, обслуживая пирующих «золотых фазанов», но его отсутствие мало кого трогает. Улдис с Придисом не очень торопились: билеты есть, а елгавский поезд отходит через несколько часов (там они пересядут на Крустпилсскую ветку), нечего спешить на вокзал и торчать в зале ожидания. Неожиданно раздался звонок, и вот уже руку ошеломленной мадам Карклинь целовал стройный унтерштурмфюрер СС, старый семейный знакомый, студент, который хотел завоевать для Латвии достойное место в новой Европе. Как там насчет места, это было еще не ясно, но для себя он отвоевал железный крест второй степени и серебряные погоны офицера СС. Его сопровождали два унтерфюрера, вероятно прихваченные только для того, чтобы начальнику было приятно слышать, как те то и дело почтительно восклицают: «Слушаюсь, господин лейтенант!», «Так точно, господин лейтенант!», «Это великолепно, господин лейтенант!» На душе у Яниса кошки заскребли. Он, который в этом доме чувствовал себя настоящим хозяином, чуть ли не главнее самого Карклиня, этого жалкого мучного червя, должен смотреть, как фрукт в нашивках садится рядом с его девушкой, тогда как стул с другой стороны занимает обалдевшая от любопытства, комплиментов и чаяний гусыня, к сожалению, мать этой девушки. А тот хватает Лаймдоту за руку, глядит ей в глаза и трезвонит: о метели, воспевающей заброшенность в русских просторах, о звездах, которые мерцают в небесной вышине, столь же яркие и чистые, как глаза Лаймдоты, о светлом образе девушки в родном краю, который ведет каждого солдата через ужасы, войны… И Лаймдота смущенно краснеет, похоже даже, что польщена. Янис даже не может быть подле нее — эти «слушаюсь, господин лейтенант» и «так точно, господин лейтенант» окружили мадам Карклинь, Лаймдоту, офицера и размахивают руками, как ветряные мельницы. Янису бы распихать их, но в доме Карклиней скандалить невозможно. Янису остается холодно проститься и уйти, но столь высокие рыцарские жесты не в его природе, это может позволить себе щепетильный и гонористый Улдис, а Янис Смилтниек понимает, что в подобном случае он потеряет возможность хоть как-то воздействовать на ход событий. Он остается. К сожалению, Янис не смог придумать, что же он должен делать. Минута за минутой он ерзал, словно сидя на ржавых гвоздях, и откровенно проклинал свою глупость, дернувшую его встать со своего места рядом с Лаймдотой и выйти в коридор к вторгшимся «завоевателям». Освободившееся место занял лейтенант, а теперь уже поздно настаивать на своих правах. Янис Смилтниек так стискивает зубы, что вздуваются желваки, — «утрись в сторонке» и гляди, что вытворяет этот петух в мундире. Положение спасает Улдис, нет, право, этот малый лепит слова точнее пули. В ту минуту, когда военные ненадолго стихают, чтобы перевести дух, и наступает тишина, достаточная, чтобы услышать и еще чей-то голос, Улдис произносит: — Браво, Лаймдота! Теперь вам ясно, что в рыцарские времена чувствовала придворная дама, в Провансе, когда к ней прибывали в седле такие мужественные любители «верхом попрыгать». (Сейчас Янису кажется, что сказано слишком ядрено по двусмысленности, но тогда он воспринял это с дьявольской радостью.) Жаль только, господин лейтенант (раньше Улдис, как и все, звал студента по имени, просто Эдгаром), что немцы не дали вам шпор, позвякать!.. Лаймдота знает, что у ульманисовских офицеров они были, она еще может подумать, что при планомерном отступлении русские слишком близко наступали вам на пятки… У всех такие лица, будто этот долговязый нахальный парень швырнул на стол бомбу с горящим фитилем. Но тут же все осознают происходящее. Ворвались три буйвола, сожрали с таким трудом добытые яства, а они не для них предназначались, продымили всю комнату досиня, хоть топор вешай; а какое Лаймдоте или мадам Карклинь утешение от того, что они разрешения попросили. Хоть бы сообразили бутылку вина или чего-нибудь сладкого для этой встречи. Какое там! Наверное, считают, что их на руках надо носить. Взгляд Лаймдоты дал Янису понять, что настал момент борьбы; к сожалению, он не умел быть таким ядовитым, как Улдис. — Все мы любим похорохориться. — Это Янис как будто отвечал Улдису, а потом обратился к офицеру, разумеется назвав его по имени: — Эдгар, есть предложение скинуться и найти хоть капельку чего-нибудь горло промочить. Придис выдаст кусок свинины, нельзя же все угощение госпожи Карклинь начисто истреблять. Лаймдота, — Янис дал всем понять, что он с девушкой на «ты», — будь добра, приготовь бутерброды. Нет, поведение Яниса было слишком бытовым и могло вызвать у девушки неприязнь. Что-то в этом роде даже промелькнуло в ее лице, только она не знала, что ответить. Офицер, оскорбленный и уязвленный, положил руку ей на плечо и сказал: — Лаймдота! Может ли быть, что то, что казалось самым, возвышенным, чистым, лучшим, все это можно забыть? Мы, солдаты, на фронте день и ночь мечтаем о том, что нас верно и преданно ждут! И вот вам действительность!.. — У него даже не хватило слов, чтобы выразить свою боль и разочарование. Если бы разговор шел с глазу на глаз, Лаймдота, наверное, почувствовала бы себя виноватой, хотя она не давала Эдгару ни малейшего права ждать и надеяться. Но бестактно, при всех! Возмущение заставило кровь прилить к ее лицу, оттолкнуть властную руку. А тут еще, как на беду, один из капралов, тот, что все время орал: «Так точно, господин лейтенант», обнаружил мандолину Карклиня — сам хозяин уже редко ею пользовался — и решил прийти на помощь командиру; дабы пробудить в Лаймдоте совесть, он грянул солдатскую песню. «Слушаюсь, господин лейтенант» куда-то на минуту исчез, но «Так точно, господин лейтенант» разевал глотку за троих. Лаймдота слушала треньканье мандолины, мужские голоса у самого уха (Эдгар единственный, кто подпевал) и чувствовала себя окончательно униженной. В песне умоляли возницу скорее ехать на родину, потому что там ждет девушка. Особенно надрывной она стала, когда в окне девушки засверкали свадебные огни; в конце следовала угроза, что неверное сердце испытает зимнюю стужу, потянется в поисках тепла к обманутому, но тот ее уже не узнает. В этом месте Эдгарсделал грозное лицо. Лаймдота вскочила и пересела к Янису. Пока «Так точно, господин лейтенант» старался блеснуть пением, «Слушаюсь, господин лейтенант» пустился в коммерческую сделку с Придисом. Этот капрал принял близко к сердцу замечание Яниса, а отсутствие денег — обычная беда солдата. «Слушаюсь, господин лейтенант» нашел чудесный выход: у него есть лишний «вальтер», эту хреновину можно выгодно продать, но где так быстро найдешь покупателя? Придис сделал заинтересованное лицо — он бы и сам купил, если не заломят. Там у них в лесах дичь прямо на тебя прет, ружья нет, да только вот годится ли для этого револьвер. — Да ты что! — заверил его «Слушаюсь, господин лейтенант». — Это же большой, армейского образца «вальтер». Бьет, что твой «парабеллум», лучше любого ружья! Они осмотрели оружие, пересчитали патроны к нему. На кухню, где это происходило, Придис затянул и Яниса. Тот был против покупки, еще неприятности наживешь. Продавец доказывал обратное — в лесах никто Придиса обыскивать не станет и вообще правильному латышскому парню плевать на всяких там фрицев с их законами. Будет оружие, всегда будет свежее мясо, эта штука быстро окупается. Опять же защита на случай, если партизаны покажутся, в России ими все углы забиты, там без оружия лучше через порог не соваться. А «вальтер» — чистое золото. «Слушаюсь, господин лейтенант» еще раз перечислил все достоинства продаваемого оружия. Янис заторопился к Лаймдоте, теперь он уже решил ни на минуту не отходить от нее; Придис не пустил его дальше коридора — у него не хватает денег, а он загорелся купить этот пистолет. В другой раз Янис бы твердо отказал, но сейчас, чтобы отвязаться от Придиса — жужжит тут, как комар! — он согласился дать деньги. «Слушаюсь, господин лейтенант» и «Так точно, господин лейтенант» зашептались, как лучше организовать пирушку, во время которой офицер мог бы как следует выразить Лаймдоте свои охи и вздохи. К сожалению, было поздно. Оскорбленный офицер, бросая обиженные слова об извечном женском коварстве, стал прощаться. Мадам Карклинь возликовала в душе, хотя и сделала расстроенное лицо. Лаймдота жалась к Янису, как его истинная невеста; в коридор девушка не пошла. Наружную дверь открыл Янис, тут же оказался и Улдис, не преминувший посоветовать: — Не стоит огорчаться и из-за одной рыбки лапки мочить. Можно подцепить какую-нибудь «блиц-медель» и наблицеваться вдосталь. Капралы вытаращили побелевшие глаза на этого долговязого насмешника. Сам лейтенант бросил что-то насчет тыловых крыс. Но Улдиса еще никто не переговорил, он тут же сумел отрезать, что тыловикам стыдно перед солдатами только тогда, когда те на фронте одерживают победы. И дверь уже захлопнулась, оставалось обратить свой ответ стенам на лестничной площадке. Янис проводил друзей на станцию. Он сознавал, что Улдис вступился за него и многим помог, и был благодарен ему за это. Настоящий друг, иной смотрел бы равнодушно, а то и помог бы лейтенанту высмеять незадачливого жениха. И все же Янис облегченно вздохнул, когда поезд унес обоих. До самой последней минуты его мучил страх за оружие, очутившееся в сумке у Придиса. Ведь если будет контроль, Придис влипнет, а его прихватят с ними…18
Улдис: — Опять ветры крутят белую вьюгу над вечнозелеными вершинами, над крышами «Клигисов», опять я упал в это царство покоя, как камень в пруд. Неужели и впрямь покой? Непонятно, почему я страшусь прямо ответить на этот вопрос, и этот страх уже сам по себе ответ. Поездка в Ригу что-то поломала. Мировые события стальными когтями вонзились в самую лесную глушь, схватили меня и уже не хотят выпускать. А что важнее всего в этих событиях? Для одного самое примечательное это, для другого совсем другое. Воспоминания и оценки определяются ходом жизни так же, как все, что именуется человеческой личностью. Есть много такого, что мы хотели бы отбросить от себя, разумеется тщетно, и еще больше такого, что мы столь же тщетно стараемся заполучить. Клигису удалось достать водочные талоны, а в лавке как раз можно купить настоящего, хорошего спирта, вместо трех водочных бутылок дают бутылку спирта. Придис с Клигисом возят бревна, а мое дело смотаться за десять километров в лавку и принести выпивку. Я смогу узнать, что творится в большом мире, пусть даже этот «большой мир» представляют всего лишь волостное правление, три лавки, Народный дом, бывшее имение, переделанное в школу, и еще несколько домишек и пробуду я там самое большее полчаса. Человеку порой достаточно глотнуть другого воздуха. Я и не подумал, что волостной воздух протух, особенно по сравнению с тем, которым мы все время дышали в лесу. Пребывание в волостном центре заняло у меня куда больше, чем полчаса. Приближаясь к лавке, я увидел движущихся навстречу двух человек в форме. Я струхнул. Разумеется, документы у меня в полном порядке, поездка в Ригу не была чем-то запретным — второй раз с людьми из леса встречался один Придис. Но я вспомнил давнюю встречу с представителями СД, а эти были из той же шатии. На голове стальные шлемы, через плечо автоматы, что-то уже очень грозно выглядят. Была бы возможность, я бы куда-нибудь свернул, но они уже стояли передо мной. — Стой! Я сделал лицо как можно невиннее. — Кто такой? Что тут бродишь? — Пришел спирту купить, — я даже не узнал свой голос, так неуверенно он звучал. — Работаю в лесу. — Ага, в лесу!.. Давай документы, поглядим, что ты там делаешь! Один долго изучал мой паспорт, потом забрал себе выданные Клигису «шайны». Я чувствовал себя так неловко, что даже не подумал возражать. Появился третий: — Кто такой? — А черт его знает, — пробурчал тот, что смотрел мой паспорт. — Подозрительные документы. Говорит, что больной, а морда здоровее, чем у нас троих. В лесу работает. Надо бы потрясти, не посыплется ли красная труха. Отведи его, Артур, и посади. Тут только я сообразил, что третий мне немного знаком. Артур Берман, да, муж Смуйдры, свояк Лаймдоты. Я только раз видел его, да и то в штатском, но все же узнал по угрюмому лицу и синему носу пьяницы. Заговорить с ним, сослаться на Карклиней? Нет, политическая полиция не то место, где можно заводить человеческий разговор. Я последовал за Берманом в волостное правление, где меня заперли в узкую холодную конуру. Оказалось, что здесь с незапамятных времен была кутузка, в окно вделано прочно «небо в клеточку». Берман обыскал меня, отнял карманный нож, наказал: — Хочешь остаться целым, не вздумай номера откалывать, — и оставил меня. Не похоже, чтобы за дверью был караульный, но и выломать эту дверь я бы не смог. Я растянулся на какой-то широкой лавке и стал прикидывать, что мне может грозить. Вот же хамство — засадить человека ни за что ни про что! Проверить, настоящие ли документы? Да проверяй себе на здоровье! В конце концов, что там рыпаться, не в первый раз я вижу, что у кого власть, у того и сила. А много ли я грустил о тех насекомых, которых давил мой сапог? Всевышнему комедианту заблагорассудилось сунуть меня в тюрьму (хорошо еще, что не в львиный ров), что-то он еще уготовит. Я просидел несколько часов, было уже за полдень, когда Артур Берман распахнул дверь и махнул рукой: — Выходи! — Господин Берман… — робко начал я. Берман недоуменно взглянул и отнюдь не пожелал пускаться в разговоры. — Заткнись! Давай поживей! Глубоко оскорбленный, я последовал за ним, но окрик послужил мне на пользу. Ведь это же настоящий пьянчуга, тупо исполняющий приказы начальства. Искать помощи у того, кто сам себе помочь не может! Глупее не придумаешь. Я было вызывающе усмехнулся и тут же оцепенел. Еще одна паршивая, но куда более опасная встреча — в комнате стоял тот длинный тип с пистолетом, Талис. Он делал вид, что перелистывает мой паспорт, потом кинул его на стол и указал на стул: — Садись! Это было не приглашение, а приказ. Помнит ли он меня? Тогда он был пьян в стельку. Долговязая орясина помахал паспортом у меня перед носом, покачал своей журавлиной ногой, затянутой в галифе и шевровый сапог, точно собираясь пнуть меня, и спросил: — Как ты сумел разжиться этим паспортом? Я довольно смело ответил: — Волостной старшина вам скажет, что я был здесь на врачебном осмотре. Доктор покажет, что мои легкие… — Хватит свистеть! Вон у тебя харя — в три дня не обделаешь. Ну! — Талис указал через мое плечо. — Гляди туда. Узнаешь его? Я услышал, что за моей спиной ввели еще кого-то, обернулся, взглянул и сказал: — Не знаю… Это была неправда, но у меня было такое чувство, что я и не лгу. Там стоял молчаливый партизан, от которого я только и слышал «привет» при встрече и расставании. Оружия у него, конечно, не было, и шапки не было, на лбу кровь, в глазах та же самая замкнутость. — Не брехать! — угрожающе крикнул Талис. — В лесу встречались, про конституцию-проституцию толковали, а тут сразу незнакомы. — Никогда я его не видал, — ответил я. Я не чувствовал ни страха, ни волнения, только сердце как будто зажали двумя ледяными глыбами. — Ага, а других видал? — Кого других? — Эй, малый! — Талис ткнул меня паспортом в лицо. — Спрашиваю только я! Если еще раз, зубы проглотишь! Я промолчал. — Рассказывай все про бандитов! — продолжал Талис. Но во мне уже возникла уверенность, что он действует наугад. Я закричал, словно от отчаяния: — Я работаю у хозяина Клигиса, живу в лесу, чтобы легкие поправить. Хозяин послал меня за водкой, а вы отняли талоны и грозите выбить зубы за какие-то дела, о которых я ничего не знаю. Талис вскочил, казалось, сейчас он меня ударит. Но нет, только пригрозил: — Этаких больных я задерживаю, чтобы выдрать легкие и посмотреть, какие они больные. — Потом приказал Берману: — Артур, уведи этого осла, пусть душу к покаянию приготовит. Ты у меня запоешь, падаль! Не очень вежливо меня втолкнули обратно в кутузку. Я сидел на нарах и ждал, а дальше что? И тут я услышал рев. У кого-то вырвался болезненный вопль, но тут же стих, как будто истязаемому заткнули рот. Взволнованно заметался я по клетушке. Это что, Талис палачом работает? Дикий вопль, потом полное молчание. Я застыл на месте и прислушивался, но все молчало. Полчаса, час? Кто это знает. Потом звуки эти повторялись, но всегда глохли. Время тянулось ужасающе медленно, наконец в зарешеченном оконце сгустились сумерки. Я услышал приближающиеся шаги, резкие выкрики и опустился на нары — коленки просто не держали. Дверь распахнули и втащили за ноги знакомого-незнакомого партизана. В глазах у меня рябило от волнения. Голос Талиса: — Хватит для этого полудурка! — и я остался один с лежащим на полу человеком. Он лежал и время от времени испускал глубокий вздох. Я присел, положил ему руку на плечо и почувствовал, как человек вздрогнул. Вот он открыл глаза, узнал меня. Я заметил, что на лице у него нет следов истязаний, если не считать прежней ссадины. И все же он был здорово отделан, как будто уже ожидал конца, даже пошевелиться не мог, только попросил: — Подложи что-нибудь под голову, парень! Я подложил свою шапку. Даже от этого легкого усилия он застонал, видимо, у него было отбито все нутро. Я сказал: — Здесь на полу холодно. Я помогу вам перебраться на нары. — Не шевели меня. Мне было неудобно оставлять его, и я остался сидеть на корточках, привалясь к стене. — Воды, — простонал он, — воды… Я не мог этого выдержать и, не сознавая, что делаю, стал бить кулаками в дверь, крича, что хочу пить, ведь вода же денег не стоит. Но никто не отвечал, снаружи никого не было, нас заперли и предоставили своей Судьбе. Мои вопли заставили очнуться избитого человека, он окликнул меня: — Брось, воды не дадут… А вот в зубы… — С минуту он молчал, видно было, что каждое слово дается ему с трудом. — Скажи… ты наш? Я не знал, что ответить. Наш, ваш… О местоимениях, что ли, будем разговаривать? Так в грамматике я не силен. Но и этот человек не похож на учителя. — Не бойся… я тебя не выдал, — продолжал партизан. Только тут я сообразил, что на допросе не все зависело от меня одного. — Тебя выпустят… Только у волостного справятся… Так вот что, найди моего товарища… — А где я его стану искать? — Густ знает. Мне говорить тяжко… Слушай. Скажешь, что выдал Чашка. Немцы солдат пришлют… скоро… из Екабпилса. Девушка сказала… Чашку можно взять… а немцам ловушку… — Ничего не понимаю. — Сергей Васильич поймет… Ты только скажи… Партизан захрипел от кашля, застонал, потом ушел в забытье. Все чмокал губами, будто пьет. Я сидел в неудобной позе, на корточках. И жалко было этого человека, и за себя страшно. Выпутаюсь ли? Талис мне ребра переломает, если что пронюхает. — Ты тут? — очнулся партизан. — Помни, что я сказал… — Почему вы мне доверились? — Ты честный человек. — Гм… Уж какой ни есть, да ведь не ваш же. — Раз честный… стало быть, с нами… Экая уверенность! Как будто у него права на всю честность в мире. А может, и есть это право, только вот какой ценой оно дается. Партизан: — Я останусь… ты выйдешь… ты увидишь. После войны… — Он боролся с душившей его петлею, все оттягивал ее рукой, хватал воздух, но говорить не мог. После войны? Можно было представить себе, какой он видел жизнь после войны, в какой жизни был убежден. Только много ли у него шансов дожить до нее? А у нас обоих? Ведь эта хитрая штука — Его Величество Случай, Господь Бог, Судьба (выбирайте на любой вкус) сегодня не разрешит слону тебя растоптать, а завтра даст комару забодать. И будем мы покоиться и не увидим, что там будет после второй, а то и после третьей войны. Но, может, я все же выпутаюсь… И моя обязанность передать слова Сергей Васильичу… Человек перевел дух. — Ты, малый, с нами будь… будущее наше… Поймешь… потом… В День Победы поздравь их… от меня!.. Товарищей, значит… скажи… Он зашелся в кашле. Я почувствовал, как у меня перехватило горло. Вот он, тот случай, когда плоть немощна (тут и от плоти-то уже мало что осталось!), а дух силен… И сильнее не только плоти, но и тех, кто ее искалечил, истоптал. Мало сказать, что этот человек — не трус. Тут было гораздо больше… Он опять забылся, опять стал просить воды. И я почти с облегчением услышал шаги — ничего хорошего, конечно, не будет, но вдруг все же дадут воды!.. Дверь открылась. — А ну, вставай! — заорали полицейские на лежащего. — Он все время бредит, — сказал я. — Воды просит. Дайте ему. — А может, коньяку? Заткни глотку! — цыкнули на меня. Так же, как и приволокли сюда, снова за ноги вытащили избитого партизана. Неужели расстреляют? Нет, если выберусь из этой ямы, обязательно сделаю все, что он просил. Но вот пришли и за мной. Опять допрос, может, и пытка, а может, отведут в укромное место и ликвидируют. Как будто мурашки засновали по моему телу, когда я услышал: — Выходи! Я вышел. Уже темная ночь. Повелительный голос приказал: — Отведи его к оберштурмфюреру! Ага, меня хочет видеть сам начальник. «Держись!» — мысленно подбодрил я себя. Меня повели в школу. Достаточно темно, чтобы смыться, но ведь вокруг заснеженные поля — окажусь в положении зайца, пуля догонит. А может, ничего страшного не будет. Офицер, наверное, немец, немецкий язык я знаю и смогу объяснить, пусть проверят. И все же я был подавлен и чувствовал страх. Бывший барский дом был не бог весть каким шикарным зданием. Парк голый и редкий. Наверное, жил здесь какой-нибудь шуваловский управляющий, а не сам граф. Я внимательно вглядывался во встречных солдат, они вели себя тихо и выглядели усталыми. Мой конвоир куда-то вошел, и с минуту я был предоставлен сам себе, никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Но скоро меня вызвали в ярко освещенное помещение. Окна тщательно занавешены, как положено в военное время, стол накрыт, за ним сидит Талис. Керосиновая лампа освещала спину офицера, он рылся в шкафу. Офицер повернулся, и я узнал своего отца. — Ага, все же это ты, — сказал он. — Осисов много, но я угадал по лицу. — Он помахал моим паспортом, я вспомнил, как подобным движением Талис ткнул им мне в лицо. — А ты вырос с той поры. Я понял, что под той порой он подразумевает бурное расставание с матерью.19
Тьфу ты, дьявол! Ну, сами подумайте, что такое был этот Таливалдис, которого его подружки звали уменьшительным Талис? Облаченная в мундир сила. Он стоял передо мной: занесенная для удара рука, сознание бесчувственной мощи в глазах, поджатые губы. Обстоятельства, повседневность, усвоенный ради куска хлеба ритуал заключают нас в футляр, мы становимся слепыми котятами. Неожиданно на нас обрушивается удар в челюсть, нас безжалостно бьют по морде, и мы прозреваем, когда нас уже сшибли с ног. Этот Талис с шиком носил немецкий мундир, гортанно произносил немецкие слова (старой хозяйке «Клигисов» стоило бы послушать, поучиться), геройски бил. Для битья не нужна национальная метаморфоза — сильный бьет слабого. Талис, Артур Берман и вместе с ними, выше их, мой отец. Как мне измерить отца своим «я»? Неужели формула Протагора «человек — мера всех вещей» остается в силе и сейчас, спустя две тысячи лет? Была ли во мне любовь, была ли ненависть? Да, воспоминания о белых меловых клетках на асфальте, о хлюпанье, о навозе, о запахах города и материнских причитаниях — все это потухшие дни. Разве можно найти мои следы на том дворе, хоть мельчайшую черточку на тротуаре, маленького мальчика, который диковинным образом вытянулся в долговязого парня. Одно удивительно: как может быть, что я так мало думал, что где-то в этом мире должен быть мой отец? И вот он объявился в мундире офицера СД, скажем, полицейский, возможно, уездный надзиратель или что-нибудь вроде, а может, и повыше. В детстве мы играли не только в «классы», но и в «полицейского и вора». Я каждый раз отказывался быть «легавым», «вор» казался более благородным, он хоть знал свое ремесло, а «полицейский» был чем-то вроде собачонки, вынюхивающей следы. Политическая полиция, СД (Sicherheitsdienst), охрана концентрационных лагерей, специальные команды — желторотый, опьяненный беспредельной властью щенок, вечно хмельной паразит и подтянутый, строгий офицер. Я не мог отделаться от мыслей об избитом человеке, он оставил мне слова. Опасные слова, они так и рвались в мир, от них пахло порохом и кровью. Вспомнился «Овод» Войнич, описанная там встреча отца и сына казалась мелодрамой. Действительность всегда проще, даже банальнее. И именно примитивизм, проявившийся в этом эпизоде, лица обоих, бутылка вина на столе, именно это нагнало на меня смертельный страх. Я глупо смотрел на отца. Он достал яркую пачку сигарет, сунул сигарету в рот, а пачку бросил передо мной на стол. — Курить выучился? — У меня больные легкие, — сказал я. Отчетливое сознание, что я говорю не с отцом, а с офицером СД.
Паспорт упал рядом с сигаретами. — Стало быть, не ловчишь? — Да разве можно… — У меня чуть не вырвалось: «Господин офицер». — Как там словчишь на комиссии? Вот и волостной старшина не верил, будто для человека радость болеть чахоткой. — Ха-ха-ха! — заржал Талис, переминаясь на длинных журавлиных ногах. — Наивный ты малый. Какие только фокусы не придумывают, чтобы отделаться от казенной шинели. У нас надо учиться — на фронте порох не приходится нюхать, пей водку и люби девок. История в Риге научила меня, насколько опасен этот желторотый щенок, но отец казался еще опаснее. Попыхивая сигаретой, он смотрел на меня острыми, как стеклянные осколки, глазами. — Одни кости, — дал он заключение. — Вот и мать твоя была… бледная немочь, — похоже было, что он удержался от более презрительного словца. — Мать в Риге осталась? Я коротко рассказал о матери. Голос офицера: — Уж коли мы встретились, садись к столу, перекусим. Я сел напряженно, как по команде. Талис щелкнул каблуками и, сказав что-то насчет проверки постов, вышел. Мы остались одни. — Что-то мы как чужие. — Теперь я знал, что это говорит мой отец. Он сел напротив, наполнил стаканы, показал на хлеб и консервную банку. — Ты ведь целый день не ел, продержали тебя с этим русским парашютистом. Здесь целую группу выбросили, хотят засесть в лесах и портить воздух. Ну, прозит! Водка — первое средство от туберкулеза. Мы выпили. Тепло наполнило все тело, даже сердце. Вот этому суровому человеку я должен быть благодарен за то, что живу на свете. А есть ли смысл в этой благодарности? Природа действует властно — взбудораженность, пьянящее чувство близости, а о дальнейшем можно не думать. Но ведь отец женился на матери! — Отец, я часто думал о вас. А это была неправда. — Не придуривайся и не выкай. — Да непривычно как-то… — Мать наверняка поминала меня недобрым словом? Я покачал головой: — Она вообще о тебе мало говорила, почти что ничего. — Ну вот, видишь… — отец осекся и не закончил фразу. — О таких делах нечего много болтать. У каждого из нас своя природа, и против нее не попрешь. Что делать, если кровь горячая. С годами человек утихомиривается, женится, детей заводит. А тут является кто-то незнакомый, как из тьмы, и вопит: «Папа, дай хлеба!» И поди знай, бог его сделал или ты. Пей, мальчик! — Бог, он большой шутник, — заметил я. — Твоя мать была верующая, мужчине это не к лицу, — продолжал отец. — Поэтому она и была такая… святая. Но у твоей матери это от природы… ну и пусть! Ты на свет появился благодаря тяжелой операции, она еле выжила. После этого для нее мужчина стал чем-то вроде черта. После развода я еще хотел позаботиться о тебе, но твоя мать с руганью прогнала меня, кричала, что сын такого пса и видеть не хочет. Неужели я на самом деле пес? Я сказал: — В первый раз слышу. И встречаемся в первый раз. — Не в последний, — отрезал отец. Признаюсь, меня что-то влекло к этому сильному, безжалостному человеку. А если я открою свою душу? Как он поведет себя, как отец или как полицейский? Я смотрел на подтянутого офицера, от которого исходили сила и уверенность. Ему было уже далеко за сорок, но старости там не было и в помине. Мундир сидел на нем великолепно, лицо по-солдатски суровое, он как будто сошел с картины, изображающей воплощение немецкого солдатского духа. Я невольно воскликнул: — Почему ты пошел к немцам? — К немцам? — переспросил он и наморщил лоб. — Сейчас война, а я солдат. Ты, разумеется, не знаешь… Короче, я был калпаковцем[8] думаю, ты понимаешь, что это значит. После войны несколько лет учился, потом был в военном училище. С армией мне пришлось расстаться, потому что я расстался с женой. Первая моя жена была дама, как бы сказали коммунисты, буржуйская дочка, а твоя мать — простая, необразованная девчонка. Мы, Осисы, крепкие мужчины, для нас такие хрупкие, но упрямые девчонки нередко становятся роковыми. Я не жалею о том, что сделал, я с самого детства умею сам стоять на своих ногах. Нас было три брата, отец дал нам только жизнь, мать выучила читать. Старший брат своими силами получил образование; после ухода из армии и я продолжал учение, помнишь, как мы тогда перебивались; третий брат остался в армии. Я сказал, было три брата, и вот остался только я один… Теперь ты понимаешь, почему я пошел к немцам? — Но ведь СД — это политическая полиция, — пробормотал я. Отец облокотился на стол и близко пригнулся ко мне. Неужели он сейчас скажет: «Ты материн сын, не мой!»? Мне казалось далеким и непонятным это бесчувственное выражение. — Ты… А ты знаешь этого большевика, которого мы схватили? — Нет, — ответил я и почувствовал сухость в горле. Во мне все же была его кровь, я выдержал этот взгляд. — Отец, если ты хочешь сражаться, почему ты не в легионе? — За такой вопрос мне надо бы дать тебе оплеуху, — ответил он резко, но без гнева. — Это вы часто делаете. Только потому, что фрицы разрешают? — Я тебя излуплю как отец сына. — А не слишком ли многих вам приходится бить по лицу? Кулак отца сжался. — Не у меня одного личные счеты с большевизмом… Ты мой сын! Blut und Ehre![9] Ты, конечно, незнаком с идеями национал-социализма, ты не читал Гитлера и Розенберга, но голос крови в тебе должен сказаться. Мы вырываем сорняки. Ясно? Голоса крови я не слышал, это был голос рейхсминистра Розенберга, вещавшего устами отца. Ясно и то, что эти откровения не раз уже слышаны: если твоя левая рука, если твой левый глаз вводят тебя в грех, то… и так далее, а если в голову закрадываются превратные мысли, отрежь полголовы, всю голову, насади на плечи деревянную ступу, так и живи. Но я кое-что читал и потому с минуту боролся с соблазном спросить, что отец думает насчет решения фюрера о том, что на востоке должно быть пустое пространство, где станут жить люди чисто немецкой крови. Нет, не стоит, ведь оберштурмфюрер Осис не немецкий нацист, он просто приспособившийся к нацистам полицейский со своей философией. Надо перестрелять половину народа, чтобы другую половину спасти от чего-то, неважно от чего, перестрелять во имя идеи спасения, которая позволяет убивать возвышенно. Неожиданно мы услышали песню, громче всех доносился голос Талиса: «Не при на рожон, не при на рожон, пусть всюду дерьмо, не все ли равно? Не при на рожон, пусть ноги скользят, зато об дерьмо расшибиться нельзя!» Отец усмехнулся: — Вот Талис — это парень что надо! Я уже не сомневался, что передо мной сидит оберштурмфюрер СД. — У латышей есть поговорка: «Чей хлеб ешь, ту и песню поёшь». Наконец-то оберштурмфюрер вскипел: — А ну хватит языком молоть! — Стукнув кулаком по столу, он бросил на стол рядом с паспортом отнятые у меня «шайны». — Это все? Ты, конечно, свободен, без причины мы никого не задерживаем. Но хотелось бы, чтобы ты наконец по-настоящему нашел своего отца. Пойми, что сейчас в зубы никому не смотрят. Над Европой нависла угроза большевизма, ни тебе, ни другому мы не позволим уклониться от этой исторической борьбы. Золотой середины тут нет. Подумай, мальчик, об этом. Когда лечишь в этом лесном углу больные легкие, остается много свободного времени. Наш разговор продолжался еще полчаса, но все остальное было уже повторением. Оберштурмфюрер СД ясно сказал, что если я не с ними, то уже против них. Это поставило точку, дальше уже некуда было идти. Завершение разговора было неожиданным: на улице послышался треск мотоцикла и вбежавший солдат вручил офицеру какой-то пакет. Он прочитал его, наморщил лоб и отдал команду выступать. Краткая суматоха — эсэсовцы действовали ловко, — ворчание моторов, и я уже оказался один на заснеженной площадке перед школой. На прощание отец быстро произнес: — Я тебя не забуду. Или сам, или пришлю Талиса. Жди! И выбрось из головы всю ту чушь, которая там накопилась. Я ощущал силу его ладони, видел пружинность его походки, слышал мужественный, строгий голос. Задумчиво побрел я к дому лавочника, чтобы в этот поздний час выпросить спирта на «шайны». Отца я больше никогда не встречал и не знаю, что с ним сталось…
20
Остались слова, те слова, которые вручил мне избитый партизан, чья судьба никогда больше не сталкивалась с моей, потому что в ту ночь оборвалась навсегда. Что делать с этим опасным наследством? В любом случае смерть соберет свое удобрение. Через сто лет и мы, и наши враги, и дети наших врагов — все умрут, изживут свою жизнь даже те, кто сейчас еще не родился. Но разве от этого мир превратится в одно гигантское кладбище? Скорее уж все нынешние кладбища превратятся в танцплощадки, на которых будут весело отплясывать наши внуки. Скрип снега под ногами острыми зубами раздирал ночную тишь; дорога, одиночество, лесная темнота, звезды, как алмазные рыбы в океане вечности. Опять я двигаюсь из неизвестного в неизвестное, опять я одинок, и только уходящее время со мною. Что мир может дать любому за этот краткий отрезок пути и что он сам может отвоевать у него? Спутника, чтобы чувствовать пожатие его руки в этой безграничной пустоте, незаметным, непреодолимым рубежом которого является небытие. Огонек пробивался сквозь занавешенное окно, призывно рождаясь и умирая. Я перешел Виесите, это было окно Налимовой Зенты, там же был и Придис — в «Клигисах» он не смог усидеть, домашние стали тревожиться обо мне. Я рассказал про то, как меня задержали, про партизана — хватался за эти теплые доверчивые руки и уже не чувствовал себя одиноким на заснеженной дороге. Зента тут же засобиралась к Густу, стала искать платок. Мы вызвались проводить, в чем нам было отказано. Я понял, что здесь все тесно связаны с партизанской группой. Спирт мы выпили с Сергей Васильичем и Густом. В то время как Сергей Васильич держался со мной, как со своим человеком, Густ по-прежнему делал холодное лицо. Придиса это насторожило. — Густ на тебя взъелся и не хочет мириться. Он мстительный, — шепнул мне мой друг. Я пожал плечами, не такой уж этот Густ всемогущий, мелкая пташка рядом с Сергей Васильичем. Мне выразили благодарность от командования партизанского соединения — слова помогли удачно провести операцию. Что там было, этого Сергей Васильич не рассказывал, но кое-что я узнал про него самого. Фамилия у Сергей Васильича была украинская, родители его были настоящие украинцы, родился он на берегах русской реки Волги, а учился в Казанском университете. — До службы, в молодости, я ездил строить Комсомольск, — рассказывал он на своем корявом латышском языке; наверное, потому и был такой разговорчивый, что старался овладеть латышским, а может быть, хотел познакомить других со средой, из которой он вышел. — Такой единоличной жизни у нас нет, живем и работаем сообща. Легче, веселее. Я не стал спорить, хотя и не совсем был согласен с ним. — Тайга, — продолжал Сергей Васильич рассказ о строительстве города на берегу Амура, — это не веселый сосняк, а первобытная чащоба. Могучая, красивая земля это Приморье. Латвия, Эстония, вся Прибалтика — кроха по сравнению с этим простором. Бурные реки, лосось косяком, сопки. А везде тайга, тайга… И вокруг города тайга… Течение у Амура широкое, по берегам редкие рыбацкие деревушки и тайга. Кое о чем Сергей Васильич выспросил и у меня. Я сказал, что отец бросил мать и что из-за отчимова наследства мать выслали. Но ни ему, ни кому другому я не сказал о встрече с отцом. Сказал только правду, что задержали для проверки документов, а потом отпустили. Вообще-то мы ладили — я молчал, когда надо было молчать, и никогда не возражал, если даже хотелось поспорить. Полной откровенности не было по той простой причине, что незнание языка возводило барьер. При всех усилиях Сергей Васильич по-латышски изъяснялся сухо, кратко, даже скупо, а я русский учил всего одну зиму, так что практически был нем. Да и не было в нас чего-то такого, что могло затронуть общую струну в каждом. Порой мне казалось, что Сергей Васильич человек не очень умный, заученной фразы, а порой совсем наоборот — умный, но недоверчивый человек, который не станет раскрываться малознакомому «другу». Густ, этот говорил по-русски, насколько хорошо, судить не берусь, но зато мог судить по его почтительной стойке, которая ему совсем не была присуща, что он ловит каждое его слово. Замечал я и то, что у Сергей Васильича никогда не было барственного тона, хотя он и умел говорить повелительно. Во всяком случае, производил он впечатление человека, который совершенно, без колебаний убежден в правоте всего, что он думает, говорит, делает. Порой меня подмывало спросить, а думал ли он когда-нибудь о том, что на свете есть уйма людей, которые иначе смотрят на вещи, и люди эти не сволочи, злодеи и балбесы, а очень часто честные, смелые, благородные и самоотверженные люди. Но спрашивать не имело смысла, вести разговор свободно мы не могли, а Густ в качестве переводчика вряд ли годился. Густ в мою сторону даже глядеть избегал, да и на Придиса только косился. А ведь Придис предупреждал: «Лес, он с глазами, а поле с ушами». Но на выпивку Густ смотрел охотно, похоже, что и у Сергей Васильича не было предубеждений против крепких напитков, но за стакан он брался как будто лишь ради компании. При всей его горячности и темпераменте владел он собой хорошо. Мы пили чайными стаканами, и чем меньше оставалось в бутылках, тем больше нарастало во мне чувство радости, тем гуще становился туман, в который я наконец погрузился. Под конец был только этот туман, и в нем плавало жесткое, неулыбчивое лицо Густа. Я держался за руку Придиса — это была рука друга, она не оставит меня, не выдаст. Я сказал, что пора домой. — Свалится по дороге, замерзнет, — Сергей Васильич. Густ: — Пускай уматывает. Отойдет! Я пьяно бормотал, что только в «Налимы», только бы добраться, там отдохнуть, выспаться… — Ах, выспаться?! — Кто это сказал? Я уже спал, вокруг меня туман. Неведомая сила вздернула меня на ноги, заставила идти. Мне стало страшно идти туда. Куда? Туда, черт возьми! Темная комната, тусклый угол, какой-то призрачный лунный свет, падающий на кладбищенские кресты, на стены часовни. В том углу пустота, тишина, только тяжкий стон. Либа читала молитвы, но я мохнатой нечисти не боялся. Нет! Страх внушал тот, что стоял за моей спиной и толкал меня в тот призрачный ужасающий угол. Я сопротивлялся, хотел закричать, язык не слушался, сердце дрожало мелкой дрожью. Туда? Нет, нет, нет… А-а-а-а! Хоть бы успеть позвать на помощь. Где же Придис? Черный, черный гроб, в гробу лежит мертвый колдун: черное, черное лицо, глаза, как угли, губы, как деготь; он вытягивает руку, костлявые пальцы хватают меня за волосы, подтягивают голову к колдуну. Губы его впиваются в мое горло, передают слова. Я не хочу их слушать, не хочу! Но эти проклятые слова уже звучат в большой, необычной пустоте, которая во мне самом. Язык у меня оживает. — Не хочу! — кричу я. — Не хочу! Придис поворачивается ко мне: — Ты чего колобродишь, упился, видно! — И с опаской вглядывается в меня. Я дрожу, держу его за руку, сердце колотится, как колотушка, голова как гранитная глыба. Я бормочу: — Сон видел… Приедкална… Придис недоуменно: — Он же давно помер. Как можно во сне видеть, когда в жизни не видывал, даже в доме его не бывал? Я и потом никогда там не бывал. Только поблизости, когда мы с Придисом уже партизанили. Да, я взялся за оружие, тогда это получилось как-то просто, а может, и не так уж просто. Из волости опять прислали повестку явиться на медицинскую проверку, и я знал, что решать будет уже не прежний врач — работала уже целая комиссия, сплошь из военных. Густ тебя спрячет, сказал Клигис, но Придис сделал недоверчивое лицо. Зента, вот кто устроил нам еще одну встречу с Сергей Васильичем. — Товарищ комиссар, — начал Придис и покрутил купленным в Риге пистолетом (он ведь знал, что из-за нехватки оружия невооруженных в партизаны не берут, но зато совсем не знал ни настоящей должности Сергей Васильича, ни его воинского звания), — а нам нельзя вдвоем обойтись одной этой штукой? Пока что… Глаза у Сергей Васильича на редкость суровые. Он спросил даже не Придиса, а меня: — Решился? — Да, — ответил я. — Похоже, что другого пути нет. — Ладно. Оружие тебе я дам. И знаешь, что это за оружие? Откуда мне было знать. — Когда-то оно было того погибшего товарища, от которого ты передал сообщение. Уже позднее я понял, какое значение придавал этому факту сам Сергей Васильич. Наш отряд засел у шоссе, в конце дороги к «Приедкалнам». Немецкие транспорты пошли сразу же, как только дороги после распутицы подсохли, и Сергей Васильич сказал, что с этими перевозками пора кончать. Мы были хорошо вооружены и готовились к серьезному бою. Не словами, а пулями. Для нас с Придисом это была первая настоящая перестрелка. — Смерть оккупантам! — сказал Сергей Васильич, но мы с Придисом не были так свирепо настроены. Не каждый, кто может убивать, — солдат, и не каждый солдат думает — только бы убивать. Наверное, и сам Сергей Васильич не понимал эту воинственную фразу так уж буквально, а поднимал ею наш боевой дух. Борьба будет яростная, и наша кровь польется обильно, и тех и других смерть покосит дай бог! На лицах некоторых товарищей я видел напряженность, граничащую со страхом. Когда затрещат выстрелы, тогда уже не подумаешь, сейчас самое время ждать и думать. И Сергей Васильич считал своим долгом направить наши раздумья в нужном направлении, чтобы они были нацелены по-воински. Приказывать он, понятно, мог только нам, смерть ему уж никак не подчинялась. И все же его присутствие рождало чувство какой-то надежности. Трудно, конечно, объяснить, но в гнетущие минуты ожидания его неиссякаемая воинственность действовала убедительнее, чем все наше надежное партизанское укрытие. Оно дало мне слова и оружие, но не уверенность. Сергей Васильич был как будто весь направлен наружу — громкий голос, движения, действия… А может быть, все это воздействовало и вовнутрь? Подбадривая партизан, он подбадривал и себя? Яркое полуденное солнце, темная стена леса, по обе стороны дороги, которая, как по линейке, вонзалась в горизонт, и мы лежим, припали к земле, срослись с лесом. Была еще роса, одежда вся промокла, но шея у меня взмокла только от пота. Неужели Сергей Васильич, такой неустрашимый и цельный, так выглядит? Я не сомневался, что в нужный момент он первый кинется под пули — «Ура-а-а! За Родину, за Сталина!» — чтобы поднять остальных. А если падет, это что, сознательное самопожертвование или инерция? Старые партизаны божились, что в смертную минуту с людьми случается всякое. Даже обделаться могут. А он? Я это к тому, что сам-то я смертельно боялся именно чего-то постыдного. Не может быть, чтобы со всеми так… Что в нем такое есть, в этом человеке? Мало я его знал и не мог проникнуть в него по-настоящему. Это-то я знал, что никогда и никому он не давал ни на столько вот усомниться в личностях и принципах, которые ему казались святыми. А вот есть ли у него какие-то сомнения, этого никто не знал. Не похоже, чтобы жизнь для него была четко разлинованным бухгалтерским балансом, нет, не казался он таким ограниченным… Мы заминировали шоссе, готовые к схватке, и стали ждать. Придис считал, что удаче нравится дразнить охотника. Он по опыту знал: идешь в лес без ружья, серны у тебя чуть не из рук едят, а если при тебе ружье — самые изведанные места вдруг пустыми оказываются. Стало быть, и сегодня улова не будет. И все же Придис ошибся. Сразу же подошла большая колонна. Рев дизелей все нарастал, — казалось, движется целая танковая армада. Какое-то необычное возбуждение. Взрыв. Большой кузов вздыбился и повалился. В первый момент я выстрелов не слышал, а опомнился, когда сам уже высадил весь диск. Немецкие солдаты беспорядочно били по лесу, но наши ручные пулеметы взяли их под перекрестный огонь. В дорожной пыли мелькали бегущие фигуры. Вставив второй диск, я стал уже искать цель. Серо-зеленый мундир, пригнувшись, прыгал через канаву, мушка обозначилась на его спине, приклад заколотил меня в плечо. Бежавший в медленном повороте, точно неуклюжий танцор, свалился в канаву. Я ошеломленно опустил автомат, встал и направился, сам не знаю, куда. Придис повалил меня на землю. — Опупел! — взревел он. Пули еще визжали, но бой уже подходил к концу. Бежали все оставшиеся в живых немцы, с треском горели грузовики, время от времени слышались взрывы, стоны, ругань, вопли. А у меня из головы не выходила канава, в которую свалилось обмякшее тело. Я не пошел в ту сторону, но несколько ночей мне не давало покоя кошмарное воспоминание. Настроение в отряде поднялось. Было объявлено число погибших, захваченных трофеев, поврежденных дизелей — полдюжины. А я несколько дней думал о совсем других вещах. Я видел не грузовики, а детские коляски на дорожках Верманского парка, мальчишеские игрушки: барабаны, трубы, картонные каски, жестяные сабли, револьверы, стреляющие пробками, заводные танки… «Эй, ребята, давайте в войну, кто будет генералом?» А потом пыльные дороги чужой страны, пули и смерть. В «Клигисы» мне довелось завернуть в конце июля. Здесь мы чувствовали себя, как в своем царстве. В воздухе чувствовались большие перемены, и сюда уже дошли известия о стремительном ослаблении сил Германии, о покушении на фюрера. Клигис уже не сдавал в волость поставки, а все отдавал партизанам, вот и теперь нас навьючили изрядными узлами. Хозяина нигде не было. Хозяйка рассказала, что редко дома появляется — ночует в сенном сарае с той поры, когда в дом ввалились солдаты. Это были латыши «в страшной одеже», с мертвыми головами на шапках; начальник, молодой, долговязый, нахальный парень, требовал подать ему сюда Улдиса Осиса. Клигис дивился — впервые такое имя слышит. Начальник поглядел-поглядел, вгляделся в сердитый глаз хозяина и сказал, что и он впервые видит такую похабную морду. Да уж верно ли, что Клигис латыш? Латыш, ответил хозяин. Стало быть, латгальскими блохами да русскими вшами оброс, заорал он, остальные заржали. На вопрос, почему он не сдает в волость полагающиеся поставки, Клигис пожаловался, что земля тощая, ни навоза, ни удобрений нигде не достать, сами на одном хлебе перебиваются. Начальник пригрозил, что на обратном пути заглянет к нему в клеть — какой там навоз оставили бандиты. Самого хозяина обвяжет веревкой и протащит через трубу, чтобы красноту с него ободрать. Понятно, что после таких «Милых» посулов Клигис поторопился скрыться из дому. — Значит, в волости кто-то интересуется тобой, — сказал Сергей Васильич. Очевидно, этим командиром с мертвой головой был Талис. Это было видно по его манере изъясняться. Чего оберштурмфюреру СД Осису надо от меня? Наши пути никогда не шли вместе, и лучше, чтобы они больше не скрещивались. То лето напоминало вихрь, сломивший много зеленых вершин, но все же оно несло освежающий воздух, несло надежду. И пусть меня кто-нибудь предостерегал бы — не очень-то надейся, не будь очень наивным! Я все равно хотел надеяться. Я не думал о том, что роковая пуля сваливает солдата с оборванным боевым возгласом, что коса валится на цветущий луг, а косарь на скошенный валок, что жизнь поэта обрывается на запятой, а пекарь сникает на черенок хлебной лопаты. Смейся, паяц… смейся! И все равно это грозное лето было прекрасно…
21
Улдис прав, признает Янис Смилтниек, грозное, прекрасное, беспощадное было то лето. Обжигаемые солнцем улицы Риги становились все безлюднее, по Гертрудинской улице словно мор прошел. Булыжник раскален, как печь в преисподней, и на восточном склоне небосвода сгущается гроза. Когда Янис последний разполучил возможность выбраться из города, он за один день прочистил легкие, наполнил кровь дыханием леса, полей, широкого неба. Лето в самой поре, жнецы вышли на нивы, еще пахнут поздние цветы, речные омуты манят теплой водой, белыми кувшинками. Но тень смерти нависла над всей этой красотой, давила грудь. Янис Смилтниек встретил кое-каких знакомых, уже мобилизованных парней. Они вместе уходили в легион. Чувство страха, скрытого в подсознании, всплыло наверх, напомнило, что и его дальнейший путь может привести туда же. Скрежет подбитых гвоздями сапог по мостовой, широкие ремни с «Meine Ehre heißt Treue»[10] на пряжке, зловещие черепа на фуражках, громыханье зеленых полированных котелков и касок, резкие голоса унтеров, черные погоны, железные пуговицы. Янис уже соображал, как побыстрее распрощаться и удрать, но тут пришел Эдгар — ротный командир, оберштурмфюрер, кавалер железного креста первой степени. Эдгар дружески пожал Янису руку и пригласил прийти поужинать вечером на ротный командный пункт. Как Янис заметил, здесь легионеры в присутствии ротного и унтера держались куда свободнее. Здесь царили иные отношения, чем в далеких тыловых казармах, обучающие старались вести себя по-дружески с новобранцами, лишнего цуканья не было: вдруг завтра уже зазвучит сигнал тревоги и всем вместе придется идти в бой. Лаймдота: «Мой дорогой, единственный друг! Верь, пока ты со мной, никакая сила нас не разлучит. Мы будем жить!» Мы будем жить! А на горизонте громыхала какая-то гигантская камнедробилка, перемалывающая жизни, цветение лета и любви. Чувство страха, злости, растерянности сжимало горло Яниса Смилтниека. Почему парням надо носить эту проклятую форму, чистить казенную винтовку, стрелять в макет человека, учиться убивать? Ведь каждый хочет жить, хочет любить! Но вот у него отбирают карточку НЗ, облачают его в серо-зеленую форму, безжалостная команда сует его вместе с другими в стальные челюсти машины, «катюша» играет погребальный хорал, а Лаймдоту целует и ласкает кто-то другой. Учебные стрельбы: ближняя и дальняя цель, занятие правильной позиции, грозная коса смерти — скорострельный пулемет «МГ-42». Разобрать и собрать замок за одиннадцать секунд; переменить ствол за три секунды. Марш по поляне и песня: «Там клинками засверкала битвы яростной стена». Налетели советские самолеты, и легионеры рассредоточились по кустам. На бреющем полете двухмоторный бомбардировщик скользнул над ними, и его черная тень упала, как предостережение, что борьба будет без красивого сверкания клинков. Вечером Янис Смилтниек не пошел в гости к командиру роты. В кузове старого газогенераторного грузовика он укатил обратно в Ригу, смятенно крича про себя: «Я не дамся! Нет, никогда! Ни в жизнь!» Но гроза следовала по пятам, становясь все более угрожающей. Когда далекий гул стал слышен уже в преддверии Риги, настал черед Яниса. НЗ, незаменимый, — ругательство, которым бросались и загоняемые в легион и загоняющие, хотя сами считали работу этих незаменимых ценнее геройской смерти на фронте. Хватит этих отличий, во фронтовом городе незаменимых нет, все должны взяться за оружие. «Мы не расстанемся, мы будем вместе», — твердили Янис с Лаймдотой друг другу. Большой город набряк ненавистью, каждая улица таила опасность, а их дом — хрупкая раковина — спрятал и уберег Яниса Смилтниека. Окно заброшенной мастерской заперто, дверь заперта, поперек нее большая железная накладка и висячий замок. Янис забился в небольшой, размером в шкаф, чуланчик. Снабжение его происходило через люк из погреба Карклиней. Свечной огарок, коробок спичек, кой-какая посуда, гнетущее одиночество и чувство беспомощности. Лаймдота появлялась раз в день, Янис понимал, что это ради него самого, чтобы никто ничего не заметил, но от этого ему не становилось легче. Его волю, самообладание размягчил какой-то прогрессивный паралич. Хоть бы все кончилось, неважно чем, долго этого не выдержать. Человек хочет жить как человек. Будь проклята нечеловеческая власть, которая погребает человека заживо! Тяжелые сапоги громыхали возле самой хрупкой раковины. Один неосторожный шаг, и все рассыплется в обломках. Янис всхлипнул, в темноте он не стыдился своей растерянности, своих слез. Сжавшись в комок, точно крохотное олицетворение горя, он прижался к теплой стене. Хорошая стена, милая стена… Там наверху, в райском этаже, у самой этой стены стоит кровать Лаймдоты. Милая, хорошая! Темнота вывалила черный насмешливый язык, передразнивая его смятение. Улица просыпалась, тяжело громыхала. Громыхало и сердце Яниса. Они идут, все открылось! Такое чувство, будто сам Гитлер вместо бежавшего комиссара Лозе и Дрехслера отдал приказ непременно сыскать Яниса Смилтниека и строго наказать в назидание остальным. «Мать-земля, спаси меня, укрой меня!» Шаги прогрохотали, шум стих, пока что еще он спасен… «Мать-дубрава, мать-земля, спаси меня, укрой меня!» — молит герой в сказке, которую мать Яниса Смилтниека рассказывала своим детям. Те полгода, которые мать угасала на своей кровати, она говорила много. Доселе придавленная тяжестью непомерной работы, она наконец-то получила возможность полностью отдаться своим детишкам. Первую и последнюю возможность. Дети были маленькие, еще не понимали этого. Отец, румяный, с подкрученными усами, появлялся редко, всегда пахнущий вежеталем, помадой, вином, всегда улыбающийся, добродушный, занятой. Сестра за зимние месяцы научилась делать из всяких тряпок куклы. Янис одну и ту же, только «мужскую» куклу обряжал в разными шерстинками вышитые мундиры. То это был полицейский, то капрал, то генерал. Тряпичные лягушки, посмеивалась мать, она считала, что такие игры, годятся только для девчонок; отец пустил громкий смешок, но ничего не сказал. Мать стояла на своем — мальчишка должен строгать дерево. Нож у Яниса был, старый отцовский «косарь», только дерево мальчика нисколько не манило, скорее уж железо, но в сельской глуши разве что зубья от бороны попадаются да сломанные ключи, с которыми можно возиться, играя с капралом и генералом. А мать тихим голосом рассказывала еще никогда не слыханную сказку, она все больше уставала, все меньше двигалась. Близилась весна, дни стремительно становились светлыми, а мать медленно угасала. Она была уже такая слабая, что даже не радовалась принесенной Янисом свежей калужнице, боялась даже одна оставаться. «Мать-земля, укрой меня!» И остались только плачущая сестренка и три грустные «тряпичные лягушки». Стена остыла, стена была сырая, тяжелая, холодная, как смерть. Тишина. Улица молчала, тишина была еще страшнее шума. Янис Смилтниек против силы, ломающей миллионы. Смятение, упрямство, несгибаемая воля? Нет, только жажда жизни. И надежда — эта сила сгинет, не останется, а я останусь, я снова смогу выйти на белый свет. Янис Смилтниек и понятие о честности, о послушании. Он преданно сидел у постели умирающей матери, был честный, послушный, он верил, что из небесных кущ, «где ангелы живут», сам бог смотрит и благословляет его и других детей, верил священнику, который над могилой матери обещал вечную жизнь. Тяжелый запах тления смешивался с запахом увядающих цветов, а там похожие на куриные перья облака застилали царство вечной добродетели. Осенью, когда Яниса, как вареную картофелину, вмяли в длинную школьную парту, он часто повторял про себя последнее материно наставление: «Будь, сынок, усердным, честным, послушным, всегда говори правду, и сам господь бог тебе поможет». В то время он зубоскала вроде Улдиса счел бы слугой дьявола. Но его товарищи по школьной скамье отнюдь не были паиньками. Скамья была на восемь человек, старая, как и все школьное здание, где обретали знания за первые четыре класса ребята волостного захолустья. Янис попал в ряд самых настоящих головорезов, сидящие рядом только и думали, как бы отчубучить что-нибудь с девчонками или с самим учителем. Девчонки в возрасте время от времени давали шалопаям хорошую взбучку, их они не задевали, маленькие же пищали или бессильно злились. Учитель, высокий мужчина, с усыпанными перхотью волосами, был человек прямой и строгий, но его попытки судить и наказывать по справедливости терпели крах перед единым фронтом восьмерки. Янис был тише воды, никому ничего не выдавал, но, когда господин учитель спрашивал, отвечал по чистой совести, он просто не умел лгать. Вот так: Петер подстрекал к тому-то, Роберт делал то-то, а хлебную корку швырнул Майгонис. Так учила мать, которая теперь смотрела с небесной высоты, как он ведет себя в школе. Кара сыпалась справа и слева, ребята стояли в углу, довольные девчонки, язвительно смеясь, показывали им нос. Какое-то время Янис Смилтниек сидел посреди скамьи один, как король, рука учителя произвела вокруг него опустошение. Но вскоре Янис познакомился с иного рода пустотой вокруг него: девчонка, ябеда, маменькин сынок, подлиза. Все это сыпалось на него, точно камни. Друзья пропали, девчонки, те самые девчонки, которые страдали от наказанных сорванцов, они первые окрестили его позорным словом «предатель». За что? Ведь он, Янис Смилтниек, честно следовал заповедям и господа бога нашего и господина учителя. Мир несправедлив, приходил к выводу Янис в залитые слезами ночи, когда нехорошие мальчишки сладко спали, а он терзался, обиженный и покинутый. Но в последний класс волостной полной школы он пришел уже совсем другим парнем и ушел всеми признанным. В начале лета шестиклассники выкинули номер, заведующий взъярился, учитель по военному воспитанию, командир айзсаргов, и священник, преподававший христианское учение, не менее того. Так уж получилось, что Янис в этом не принимал участия, но все знали, что он может выдать виновных. Яниса вызвали в кабинет заведующего, долго донимали. Айзсарг сверкал начищенными пуговицами, солдатской мужественной речью, заведующий — биографией народного вождя и цитатами. Янис онемел. Возвысил свой голос священнослужитель. Он бракосочетал мать Яниса, крестил самого Яниса во имя бога отца, бога сына, бога духа святаго, он смог дать последнее наставление умирающей, и вот она вкушает блаженный покой, а отец наш небесный взирает на сироту, зрит правду, которую Янис скрывает… Янис дерзко посмотрел в глаза священнику и наконец-то раскрыл рот: «Если у вас такие знакомства с богом, так спросите его сами, кто виноват, а кто нет». Из основной школы Янис ушел со свидетельством об окончании второго разряда, без права поступления в среднюю школу. Его ответ обошелся ему в лишнюю зиму учебы в рижской городской вечерней основной школе. Но зато можно было не слышать слова «предатель». В Риге он поступил учеником к слесарных дел мастеру. Первые годы были невеселые. Отец мало чем мог помочь, мачеха старалась не допустить и этого малого, заработки были тощие. Помогли смекалка и тяга к избранному ремеслу. Работодатель, мастер Зауэр, был добропорядочный старикан — как только Янис проявил умение, так он еще до истечения срока учения стал платить ему, как подмастерью. «Голова человеку дана, чтобы думать, — говаривал мастер, — а у кого она годна, только чтобы шапку носить, тот пусть не жалуется на тяжелую жизнь». Всего у Зауэра было четыре подмастерья и четыре ученика. Янис — старший из них. Трое из подмастерьев хорошо ладили с Янисом, а вот четвертый — молодой, недавно вытянувшийся Артур, или, как его звали, Артис, — тот его невзлюбил. Так уж повелось, что Артис нещадно поносил Яниса: и что этот мальчишка лезет в подмастерья, пусть подождет, пока молоко на губах обсохнет, да подучится, сколько будет единожды один… Артис любил выпить, мастеру это не нравилось, и Янис от этого воздерживался. Остальные подмастерья были не святые, и Янис не отказывался сбегать, если посылали, за бутылкой. Но Артису заявил — нет! «Ах ты, сопля с гонором!» Гонор у Яниса действительно появился, он ответил: «Сам ты сопля!» Артис кинулся на него, схватка была короткая и не в пользу Яниса. Дома он привел себя более или менее в порядок, но Зауэр что-то заметил. «Кто это тебя так?» Янис молчал, а Артис смеялся — он решил, что парень это от страха. Когда мастер ушел, Янис тут же заявил: «Я из тебя эту насмешку выбью!» Он так завелся, что уже не смотрел ни на что. Снова полетели тяжелые предметы, зазвенело оконное стекло, из разных углов по Янису били всякие железяки. «Дураки! Пошли на двор, без глаз останетесь!» — испуганно вопил старший подмастерье. А остальные орали: «Вложи ему! Подкинь еще штуку!.. Во, лихо! Еще отвали! Сунь в ноздрю!..» Янис бил, бил, бил… Голоса куда-то пропали, закопченные стены мастерской как-то странно заиграли, высаженное окно раскрылось, как рот с ощерившимися зубами. Вой Артиса врезался в его сознание, стал пронзительнее, перешел в грохот и укатился… Дома Янис весь исстонался и только потому не вызвал врача, что боялся больницы, расследования, полиции и протокола. Он провалялся два дня, словно через молотилку пропущенный, явился на работу и выслушал нотацию от Зауэра и угрозу от Артиса подать на него в суд за тяжелые телесные повреждения. Остальные заорали: «Ты гляди, предатель! Мы тебя распотрошим!» А Янис: «Давай еще раз чокнемся!» Но тот «чокаться» отказался. Честность и послушание. Янис Смилтниек не хотел быть хромым ягненком, покорно подставляющим горло под нож. Он был честный, послушный человек, но не предатель, он настаивал на своем праве жить. Ягненок настаивает?! Да будь он ничтожнее ягненка, самой микроскопической инфузорией, и тогда он не поддался бы темному потоку жизни. Он вырвался из вихря, укрылся в щель занесенной песком коряги и здесь отсидится. Раковина? Нет, прочная крепость — его воля, его решимость, несгибаемость. Пусть дерутся фюреры, пусть генералы лазают по окопной грязи, пусть ораторы заряжают фузеи, пусть вербовщики сами нюхают порох, да дери их всех дьявол! Янис Смилтниек останется здесь, он отразит приступ страха (как гудит улица!), выдержит мучительное неведение (а не допрашивают ли Лаймдоту, не пытают ли ее за пропавшего мужа?!), сломает тиски молчания (оно, точно смерть, стискивает все, все!), сохранит надежду, что его дом-раковина не хрустнет… Взрывы, взрывы, неужели в воздух летит весь город? Дрожат стены, дрожит земля. И он дождался часа, когда теща с красными заплаканными глазами (Карклинь пропал без вести) вызвала его из этого садка. Он вышел, глубоко дыша, тихо радуясь, что жестокая гроза, почти до неузнаваемости развалившая город, наконец миновала, и тут же взглянул на окружающее деловито, взвесил положение, возможности. Вода из крана не идет, помыться нельзя; он стряхнул груз убежища и быстро подыскал место, дающее документ под названием «броня». Жизнь начиналась сначала…22
Разрушенная изгнанными захватчиками красавица Рига. Больно глядеть на следы увечий — изуродованные дома, изуродованных людей. Как дыры от выбитых зубов — пустоты и пепелища между строениями. Все еще в Риге скрещивались невидимые, но непримиримые линии фронтов. Одни брались за дело — восстанавливали заводы, взорванные мосты через Даугаву, зажигали электрические лампочки; другие с трепетной надеждой прислушивались, что там варится в Курляндском котле, ведь «еще не все потеряно»; третьи боялись даже своей собственной тени. Но жизнь поднималась, пробивалась, шла в рост, наливалась. Начала пробиваться молодая поросль. Утром эти ростки теснились в переполненных трамваях, а вечером, так же как их старшие братья и сестры, сидели за школьными партами или встречались у больших часов. Молодость не переживает горе, и Янис Смилтниек тянулся к радости, жил, работал, любил жену, свою Лаймдоту, в общем был всем доволен, хотя иной раз и поддакивал теще, которая ничем не была довольна. Каждодневно мадам Карклинь приносила известия, подслушанные в очередях или на Звиргзду-острове, где она по воскресеньям кое-что продавала: Лаймдота ждала сына от Яниса Смилтниека, ей необходимо питаться лучше, чем другим, которые готовы обойтись и сухим хлебом. Лаймдоту, в свою очередь, заботил Янис, а он был доволен тем, что есть. Он работал в трех-четырех местах, больше всего в ремонтных бригадах, и через вечер приносил домой груду червонцев. У него была раковина, теплая, милая, уютная. В квартире Карклиня-Смилтниека снова появились старые знакомые, разумеется, не все — все уже никогда не смогли бы собраться. Эдгар не вернется, это ясно, и Янис по нему не грустил. Да и многие другие не вернутся. Смуйдра появлялась часто, рассказывала, что Артур Берман окончательно пропал осенью 1943 года и с той поры не давал о себе знать. Но из-за этого она не отчаивалась, держалась стойко и воспитывала сына; раньше, когда Артур пропадал на несколько недель, она переживала куда больше. Янис предполагал, что это потому, что у Смуйдры нашелся кто-то другой, совсем же еще молодая и привлекательная женщина. Мадам Карклинь такое предположение рассматривала почти как личное оскорбление — нет, она воспитала порядочных детей. Впервые теща рассердилась на зятя, но уже день спустя, волнуясь за него, лила горькие слезы. Янис получил повестку из органов государственной безопасности. Господи милосердный, что там еще может быть?! Янис старался делать спокойное лицо, хотя был взволнован не меньше, томило что-то нехорошее. Уж не распустила ли теща свой язык? Беда с нею. Но Яниса приняли довольно дружелюбно. Необходима его помощь для выяснения личности одного человека. Ввели Артура Бермана, и Янис назвал его имя. А что еще было делать?! Бермана увели, но Янис понял, что свояк попался с чужими документами. Неприятное чувство. Янис вытер мокрый лоб. Теперь Артура будут судить за преступления, которые он совершил, неся службу в СД. Главный бандитфюрер (здесь чекисты нечаянно, а может быть, и умышленно обронили имя Осиса) при аресте оказал сопротивление и был убит. Янис смотрел на разложенные перед ним фотографии, в глазах у него ходили круги, он никого не узнавал. Подумать только, Артур служил в СД, форма ну никак не шла этому слюнтяю. — Вот вы удивляетесь, — сказал следователь, — и нам иной раз приходится удивляться, потому мы и привыкли проверять каждого человека. Карклини о происшедшем молчали так же, как Янис, и все же Смуйдра как-то вечером влетела в дом и устроила скандал: Янис шпион и подлый предатель. Только теперь мадам Карклинь узнала, как ловко ее дочка играла соломенную вдову. Все это время Артур прятался у Смуйдры, и она была счастлива, что неверный, но все же по-прежнему горячо любящий ее муж наконец-то в ее руках. Теперь Артура ожидала суровая кара. — Спасибо за это Янису. Чека тебе хорошо заплатила! — вопила Смуйдра. — А я тебе в глаза плюну! Когда придут наши, они тебя вздернут!.. Янис не знал, что сказать, теща хотела внести мир, сгладить все, но Лаймдота, как оскорбленная жена, полностью стала на сторону Яниса. Пусть Смуйдра не очень здесь распинается за своего паршивого пьянчужку! Слово за слово, Смуйдра визжала, проклинала, — словом, бабья свалка. Но тут у Лаймдоты начались боли, и Янис помчался за «скорой помощью». Давно это было. Сколько лет назад. Дети выросли, мы постарели, старики уже под холмиком. Жизнь никогда не повторяется. Невеселым было гощение Яниса в родных местах: друзья разбрелись, запропали, Придиса не довелось встретить. Когда Янис спросил про Улдиса, председатель волисполкома Густ скривил угрюмое лицо: — А пес его знает, куда эта жердь завалилась! Куда? Ревел мотор, машина петляла по пыльному шоссе. Из серой пелены вынырнула тонкая фигура Улдиса — зеленоватые бумажные штаны и гимнастерка, на ногах грубые ботинки, острижен наголо, на худом лице растерянность, радость, недоверие. Улдис возвращался по этой дороге, это была не Янисова дорога. Янис здесь гонял в кузове газогенератора, в «виллисе», в автобусе, знал здесь каждый поворот, каждую усадьбу при дороге, и все равно это была не Янисова дорога. Улдис шел по пыли, по густому мраку, по какой-то нереальной дороге. Это была его судьба, его мир, неведомый Янису. И все же Улдис возвращался, везде и всегда возвращался в жизнь Яниса Смилтниека…23
Улдис: — Да, я возвратился. Хорошо знакомая пыльная дорога. Мир синеющих лесов и клочковатых полей открывался передо мной. Позднее утро, я иду спокойным шагом, хотя дорога от станции до волостного центра немалая, а уж оттуда до «Клигисов» все ближе. В тени деревьев еще лежала серая роса. Я перепрыгнул через канаву и пошел по мягкому замшелому лугу, припал к жбану с росой. Пичуги распевали: «Чир-чир… фюит-фюит… тью-тью…» А березы вздыхали: «Приветствуем тебя!» Многохвостки солнечных лучей прогнали последнюю тень, последнюю горечь воспоминаний из моей груди, и серебристый кукушкин колокольчик пообещал долгие свободные годы. Доселе для меня было тайной, что счастье может быть тяжелым. Мать-земля, мать-дубрава, сними часть этой тяжести! Лицо у меня было мокрое от росы… Снова клубилась дорожная пыль, щебенка хрустела под подошвами моих разбитых ботинок. Людей на полях было мало, сенокос еще не начинался, все работали дома, готовясь к тяжелой страде, которая начинается с первым валком сена и кончается с последней выкопанной картошкой. Лето, похоже, будет урожайное — травы в лугах по пояс, рожь густая-прегустая. Клевер усыпан красными головками, гудят шмели, бабочки так и пестрят. Незаметно я дошагал до волостного центра. В тот день мне не суждено было добраться до «Клигисов»: когда я шел мимо волисполкома, оттуда выскочил и скатился со ступенек Придис. С минуту мы радостно вопили, потом друг повел меня в исполком. — Теперь мы здесь хозяева, — заявил он с явным самодовольством. Поздоровался с председателем, парторгом и участковым уполномоченным — всех их я знал по нашему партизанскому отряду; все они держались со мной сдержанно вежливо, не то что Придис. Я понимал, что это значит, и почувствовал что-то вроде обиды, первой на родине, а предчувствие подсказывало, что это и не последняя. Сергей Васильич наверняка сказал бы: «Придется вернуть полное доверие товарищей. Сам виноват, что утратил его». Но я-то ясно понимал, что здесь меньше всего идет разговор о доверии или недоверии. Люди сторонились таких, как я, потому и вели себя настороженно. Я почувствовал себя свободнее, когда Придис привел меня в свою комнатушку. И ему полагался «кабинет» в одном из закоулков исполкома. Заготовитель. И свои десять гектаров получил из земли одного бежавшего хозяина, дом хороший. — Ты же не знаешь, какая у меня бедовая жена, Клигисова Мария. Мне даже показалось, что течение жизни сделало вокруг меня поворот. Я стою в центре, и ничто не утрачено, никто не ушел, прошлое здесь же, давние события повторяются в настоящем. Я был молод, и было бы смешно назвать свою жизнь в «Клигисах» древней, но события последних лет оказались такими, что я чувствовал себя старцем, который колдовством сочетает старость с молодостью. Недоверчивый голос Марии: «Улдис, неужто так было, как ты рассказываешь, а ты не врешь?» Ильза смеется, Лелле злится: «Если ты не веришь, так не мешай другим слушать, иди отсюда!» Мария перешла в дом Придиса и стала хозяйкой — девочка, школьница, которая с беспредельной торжественностью, с забавной беспредельной серьезностью строила свою усадьбу из желтого песка, и хлев строила, и клеть. Весь двор украшала сломанными веточками сирени, втыкала щепочку — сторожевой пес, только заставь — и он «гав-гав!» Придис надевает калоши, достает старую косу и отбивает ее, Мария влезает в грубые башмаки и с навозными вилами бродит в хлеве подле Буренки. Мне тоже не хочется быть без дела, и я оглядываюсь в поисках его — все же обедом кормили. Придису дали десять гектаров, я не очень-то разбираюсь ни в гектарах, ни в пурвиетах, которыми мерили раньше, — наверное, это меньше, чем «Клигисы», но уж куда больше, чем городской садовый участок. Как бы то ни было, настроение у меня было самое серьезное, если не торжественное, когда я очутился посреди Придисовой усадьбы. Глянь, вон и та школьница с «тугой головой». В простой юбке, босиком, в платке, она возилась у клети и на наше бодрое «Здравствуйте, хозяюшка!» ответила полной растерянностью. Как она выглядела? Выросла, но не окрепла, тоненькая, худенькая, с тонким личиком и плоской грудью. Не узнает или не хочет меня узнавать?
— Ой, господи! — вдруг воскликнула она и уткнулась лицом в платок. Не то засмущалась, не то растерялась от радости, хотя я совсем был не похож на знатного гостя, да и не так уж дорог ей был. Подав руку, она присела и бессвязно затвердила:
— А мы тут по дому возимся… Вот уж не думали, что гости пожалуют…
Придис добродушно посмеивался:
— Да что ты, мать! Чай, не бароны какие, и Улдис не граф. На одной ноге канадский ботинок латаный, на другой немецкий.
Послышалось звонкое:
— Улдис, Улдис! — и Лелле уже висела у меня на шее. Когда старшая сестра одернула ее, она сконфуженно отпрянула, смеясь и сверкая слезами в глазах. Даже Придис чуть не зашмыгал носом, хотел было что-то сказать, но лишь пробормотал нечто невразумительное.
— Ну вот мы и опять вместе, — сказала Мария. — Вот как Сергей Васильич помог. Я с самого начала говорила, что только ему одному это под силу…
— Да что там! — откликнулся Придис. — Все мы за нашего Улдиса стояли.
Мы дошли до жилого конца дома, где обитала семья моего друга. Мне все нравилось, в первую очередь полугодовалый крикун, о котором я убежденно заявил, что он весь «папин сын», хотя про себя подумал, что похож он единственно на себя самого. Но эта невинная ложь привела Придиса и Марию в восторг. Столь же лживо я подтвердил, что молодожены хорошо устроились, хотя всюду была видна голая нужда. Снова радостные улыбки. Радость жить и работать была главным богатством в этой половине дома, которую исполком сдал в пользование своему уполномоченному по заготовкам и новому земледельцу. В другой половине такая же голытьба. А наверху две комнаты. В одной из них я могу поселиться. Вторую занимает дорожный мастер. При упоминании этой личности в голосе Придиса каждый раз проявлялись почтительные нотки. Дорожный мастер — это мой будущий начальник.
Суп был уже готов и подан на стол, это была, как здесь называли, похлебка с убоиной. Крестьянское угощение, и я, схватив ложку, вступил в это землеройное сословие, как рыцарь с мечом и святитель с крестом вступают в свое. Наконец мне стало ясно, что я вернулся, все остальные чувства заглохли, и я с живым любопытством стал глядеть по сторонам, хлебал похлебку, услаждал и взор. Пол в кухне деревянный, не глинобитный, как в «Клигисах», плита с бетонной окантовкой, окна большие, светлые. Я знал, что эта усадьба была одной из самых зажиточных в волости. Стол, за которым мы сидели, тоже от старого хозяина, новыми были мы сами, а самой новой и молодой — Лелле. Она сидела против меня, ела как-то нехотя, выглядела радостно смятенной и, мне казалось, готова была попросить: «Улдис, расскажи что-нибудь», — если бы не опасалась, что старшая сестра одернет ее. Я позволил себе заметить, что хлеб чудесный. Это получилось само собой, потому что действительно со времени жизни в «Клигисах» ничего вкуснее не ел. И Мария пояснила, что пекла его Лелле. Тут и Придис похвалил ее:
— Аннеле у нас славный помощник. Уж и не знаю, как бы мы управились без нее, когда маленький появился.
И сама Лелле осмелилась тихо сказать, что хлебы печь научилась от бабушки. Ах, валльская аристократка, будничное прозябание в доме лесника таки гильотинировало ее благородство. Но «чистый, настоящий» немецкий язык бабушка не успела передать своей любимице, так как вскоре после моего исчезновения занемогла и отправилась на тот свет. За день до смерти она просила сына похоронить ее на Валльском кладбище с отцом и матерью. Сын пообещал, и, насколько я знаю Клигиса, обещание, данное им матери, было для него свято. Но старуха сама почувствовала себя несчастной, всю ночь проохала, проплакала и, словно беседуя с покойным мужем, громко воскликнула: «Я не жалею, так надо!» Заплакала и Лелле, не от страха, а от жалости. Под утро старая хозяйка снова позвала сына и изменила свое последнее решение. Нет, в Валле ее все же не везти, она хочет остаться на маленьком кладбище на берегу Виесите рядом с мужем. Сразу же после этого она успокоилась и легко отошла.
Ушла и теперь отдыхает. Оборвалась нить жизни, кончился старый любовный рассказ — графский лесник и красавица хозяйская дочь. Серебряные рубли закатились в небытие вместе с серебристыми и слезными днями и минутами, брусничник отцвел, спелые ягоды осыпались, остались только вечнозеленые ветки для венка. Полевица растет по валу вокруг кладбища, гряды облаков теснятся по небосводу, а внизу все так же виднеются замшелые крыши «Клигисов», гнутся на ветру вершины деревьев, зияют пустые окопы… Вот и первая мирная весна. Вооруженные люди ушли, оставив шелуху патронных гильз, неразорвавшиеся снаряды, ржавую колючую проволоку. Прошло первое мирное лето, пришли вторая мирная весна и второе лето. Все так же ветер трепал на кладбищенском валу метелки полевицы и облака орошали лес, поля, нивы… Пришло четвертое мирное лето, вот уже полных три года с той поры, когда отгромыхал победный салют и когда я получил бумажку, где говорилось, сколько мне дано лет. Могло ли быть еще большее чудо — вот опять я сижу против Лелле и вижу, как холмики ее наливающейся груди дерзко пробиваются под тонкой блузкой!
Придис с Марией поели и повеселели.
— Улдис, сегодня ты свои мечтанья брось! — заявила Мария. Мечтаньями они называли то состояние, в которое я погружался, глубоко задумавшись. Лелле убирала со стола и время от времени бросала на меня улыбчивый взгляд.
На лестнице послышались шаги, и в наше веселье вторгся молодой парень. Он старался делать серьезное взрослое лицо, но на нем помимо желания пробивалась улыбка, в которой тонула вся эта деланная серьезность.
— Наш дорожный мастер — представил его Придис таким голосом, как в старину произнес бы: «Господин лесничий».
— Ояр, — назвался молодой парень, и твердо пожал мою руку.
Я ответил с неожиданной для себя теплотой. Ояр мне понравился, более того, я почувствовал к нему какую-то родственную тягу. Он был примерно моего роста, года на два, на три моложе, а потому и с более взъерошенными настроениями и мнениями. Но этого хватало и у меня. Когда я разговаривал с ним, мне порой просто казалось, что я смотрюсь в зеркало, что он отражает меня; это не значит, что мы были двойниками. Внешнего сходства у нас было мало, зато внутренне мы порою просто дублировали друг друга. Разумеется, я не имел намерения углубляться во всякие душевные тонкости, но то, в чем мы сошлись, заставило нас довериться друг другу и в конце концов достигло невиданной остроты. Это было нечто вроде двойного выражения одного характера. Наверное, поэтому я никогда не придавал значения его наружности, даже не обращал внимания, потому что мы или понимали друг друга без малейшего старания проникнуть друг в друга, или нещадно ссорились.
Познакомившись, мы тут же договорились о работе, которую я должен был выполнять. Ояру это понравилось, а Придису понравилось болтать с нами. Строить придется большой мост. Придис обещал дать мне велосипед, собственность Марии. Это был мужской самокат, и она охотно предоставила его в мое пользование, дорожный мастер, в свою очередь, обещал достать для велосипеда новую резину, а для меня новые ботинки. Я смогу начать работать и зарабатывать, а то обносился уже до последнего. Заплакал Мариин малыш, Лелле заторопилась выгнать из хлева и привязать обеих коров и телку — вот и все, что было у новохозяев, а Придис стал искать припрятанную бутылку самогона. Ради такого дня, в честь такого знаменательного события надо ее поставить на стол. Вот и все богатство моего друга, да и Ояр не выглядел человеком, которого изобилье так и распирает. Позже Мария рассказала мне, что после техникума он явился на место работы в старой шинели, после старшего демобилизованного брата, и стоптанных ботинках, болтавшихся на его ногах. Но вот оправился малость, кое-что завел, даже в лице округлился. В целом Ояр выглядел человеком, который о жизни судит больше по заученному в школе. Но это пройдет…
Вечером затопили баню. Лелле подошла и, сунув мне белый сверток, тихо сказала:
— Это тебе чистое белье.
И покраснела. Я принял его с благодарностью, но тоже почувствовал смущение. Вот обо мне уже и заботятся. Заместительница хозяйки, но ведь это не игра в песочек, она работает как надо и выросла как надо, выглядит куда лучше своей поблекшей старшей сестры, светлая, звонкоголосая. Волосы все такие же коротко подрезанные, как в детстве; косы она не любит, вообще не любит всего, что мешает свободно и быстро работать. Мария всегда была немного деревянная, это особенно заметно сейчас, когда она стала матерью и хозяйкой в восемнадцать лет. И Придис не утерпел, чтобы не похвастать, что у него самая молодая жена в волости, так что невестка ей будет за младшую сестру. И насчет Лелле ему было что сказать: пусть Аннеле всего шестнадцать лет, но успех у парней, ух ты!
— Живем во! — заключил он и поддал пару, да еще как поддал. И когда мы с Ояром, отдуваясь, развалились на полке и заработали березовыми вениками, я уверился, что прибыл домой…
Как бы то ни было, настроение у меня было самое серьезное, если не торжественное, когда я очутился посреди Придисовой усадьбы. Глянь, вон и та школьница с «тугой головой». В простой юбке, босиком, в платке, она возилась у клети и на наше бодрое «Здравствуйте, хозяюшка!» ответила полной растерянностью. Как она выглядела? Выросла, но не окрепла, тоненькая, худенькая, с тонким личиком и плоской грудью. Не узнает или не хочет меня узнавать?
— Ой, господи! — вдруг воскликнула она и уткнулась лицом в платок. Не то засмущалась, не то растерялась от радости, хотя я совсем был не похож на знатного гостя, да и не так уж дорог ей был. Подав руку, она присела и бессвязно затвердила:
— А мы тут по дому возимся… Вот уж не думали, что гости пожалуют…
Придис добродушно посмеивался:
— Да что ты, мать! Чай, не бароны какие, и Улдис не граф. На одной ноге канадский ботинок латаный, на другой немецкий.
Послышалось звонкое:
— Улдис, Улдис! — и Лелле уже висела у меня на шее. Когда старшая сестра одернула ее, она сконфуженно отпрянула, смеясь и сверкая слезами в глазах. Даже Придис чуть не зашмыгал носом, хотел было что-то сказать, но лишь пробормотал нечто невразумительное.
— Ну вот мы и опять вместе, — сказала Мария. — Вот как Сергей Васильич помог. Я с самого начала говорила, что только ему одному это под силу…
— Да что там! — откликнулся Придис. — Все мы за нашего Улдиса стояли.
Мы дошли до жилого конца дома, где обитала семья моего друга. Мне все нравилось, в первую очередь полугодовалый крикун, о котором я убежденно заявил, что он весь «папин сын», хотя про себя подумал, что похож он единственно на себя самого. Но эта невинная ложь привела Придиса и Марию в восторг. Столь же лживо я подтвердил, что молодожены хорошо устроились, хотя всюду была видна голая нужда. Снова радостные улыбки. Радость жить и работать была главным богатством в этой половине дома, которую исполком сдал в пользование своему уполномоченному по заготовкам и новому земледельцу. В другой половине такая же голытьба. А наверху две комнаты. В одной из них я могу поселиться. Вторую занимает дорожный мастер. При упоминании этой личности в голосе Придиса каждый раз проявлялись почтительные нотки. Дорожный мастер — это мой будущий начальник.
Суп был уже готов и подан на стол, это была, как здесь называли, похлебка с убоиной. Крестьянское угощение, и я, схватив ложку, вступил в это землеройное сословие, как рыцарь с мечом и святитель с крестом вступают в свое. Наконец мне стало ясно, что я вернулся, все остальные чувства заглохли, и я с живым любопытством стал глядеть по сторонам, хлебал похлебку, услаждал и взор. Пол в кухне деревянный, не глинобитный, как в «Клигисах», плита с бетонной окантовкой, окна большие, светлые. Я знал, что эта усадьба была одной из самых зажиточных в волости. Стол, за которым мы сидели, тоже от старого хозяина, новыми были мы сами, а самой новой и молодой — Лелле. Она сидела против меня, ела как-то нехотя, выглядела радостно смятенной и, мне казалось, готова была попросить: «Улдис, расскажи что-нибудь», — если бы не опасалась, что старшая сестра одернет ее. Я позволил себе заметить, что хлеб чудесный. Это получилось само собой, потому что действительно со времени жизни в «Клигисах» ничего вкуснее не ел. И Мария пояснила, что пекла его Лелле. Тут и Придис похвалил ее:
— Аннеле у нас славный помощник. Уж и не знаю, как бы мы управились без нее, когда маленький появился.
И сама Лелле осмелилась тихо сказать, что хлебы печь научилась от бабушки. Ах, валльская аристократка, будничное прозябание в доме лесника таки гильотинировало ее благородство. Но «чистый, настоящий» немецкий язык бабушка не успела передать своей любимице, так как вскоре после моего исчезновения занемогла и отправилась на тот свет. За день до смерти она просила сына похоронить ее на Валльском кладбище с отцом и матерью. Сын пообещал, и, насколько я знаю Клигиса, обещание, данное им матери, было для него свято. Но старуха сама почувствовала себя несчастной, всю ночь проохала, проплакала и, словно беседуя с покойным мужем, громко воскликнула: «Я не жалею, так надо!» Заплакала и Лелле, не от страха, а от жалости. Под утро старая хозяйка снова позвала сына и изменила свое последнее решение. Нет, в Валле ее все же не везти, она хочет остаться на маленьком кладбище на берегу Виесите рядом с мужем. Сразу же после этого она успокоилась и легко отошла.
Ушла и теперь отдыхает. Оборвалась нить жизни, кончился старый любовный рассказ — графский лесник и красавица хозяйская дочь. Серебряные рубли закатились в небытие вместе с серебристыми и слезными днями и минутами, брусничник отцвел, спелые ягоды осыпались, остались только вечнозеленые ветки для венка. Полевица растет по валу вокруг кладбища, гряды облаков теснятся по небосводу, а внизу все так же виднеются замшелые крыши «Клигисов», гнутся на ветру вершины деревьев, зияют пустые окопы… Вот и первая мирная весна. Вооруженные люди ушли, оставив шелуху патронных гильз, неразорвавшиеся снаряды, ржавую колючую проволоку. Прошло первое мирное лето, пришли вторая мирная весна и второе лето. Все так же ветер трепал на кладбищенском валу метелки полевицы и облака орошали лес, поля, нивы… Пришло четвертое мирное лето, вот уже полных три года с той поры, когда отгромыхал победный салют и когда я получил бумажку, где говорилось, сколько мне дано лет. Могло ли быть еще большее чудо — вот опять я сижу против Лелле и вижу, как холмики ее наливающейся груди дерзко пробиваются под тонкой блузкой!
Придис с Марией поели и повеселели.
— Улдис, сегодня ты свои мечтанья брось! — заявила Мария. Мечтаньями они называли то состояние, в которое я погружался, глубоко задумавшись. Лелле убирала со стола и время от времени бросала на меня улыбчивый взгляд.
На лестнице послышались шаги, и в наше веселье вторгся молодой парень. Он старался делать серьезное взрослое лицо, но на нем помимо желания пробивалась улыбка, в которой тонула вся эта деланная серьезность.
— Наш дорожный мастер — представил его Придис таким голосом, как в старину произнес бы: «Господин лесничий».
— Ояр, — назвался молодой парень, и твердо пожал мою руку.
Я ответил с неожиданной для себя теплотой. Ояр мне понравился, более того, я почувствовал к нему какую-то родственную тягу. Он был примерно моего роста, года на два, на три моложе, а потому и с более взъерошенными настроениями и мнениями. Но этого хватало и у меня. Когда я разговаривал с ним, мне порой просто казалось, что я смотрюсь в зеркало, что он отражает меня; это не значит, что мы были двойниками. Внешнего сходства у нас было мало, зато внутренне мы порою просто дублировали друг друга. Разумеется, я не имел намерения углубляться во всякие душевные тонкости, но то, в чем мы сошлись, заставило нас довериться друг другу и в конце концов достигло невиданной остроты. Это было нечто вроде двойного выражения одного характера. Наверное, поэтому я никогда не придавал значения его наружности, даже не обращал внимания, потому что мы или понимали друг друга без малейшего старания проникнуть друг в друга, или нещадно ссорились.
Познакомившись, мы тут же договорились о работе, которую я должен был выполнять. Ояру это понравилось, а Придису понравилось болтать с нами. Строить придется большой мост. Придис обещал дать мне велосипед, собственность Марии. Это был мужской самокат, и она охотно предоставила его в мое пользование, дорожный мастер, в свою очередь, обещал достать для велосипеда новую резину, а для меня новые ботинки. Я смогу начать работать и зарабатывать, а то обносился уже до последнего. Заплакал Мариин малыш, Лелле заторопилась выгнать из хлева и привязать обеих коров и телку — вот и все, что было у новохозяев, а Придис стал искать припрятанную бутылку самогона. Ради такого дня, в честь такого знаменательного события надо ее поставить на стол. Вот и все богатство моего друга, да и Ояр не выглядел человеком, которого изобилье так и распирает. Позже Мария рассказала мне, что после техникума он явился на место работы в старой шинели, после старшего демобилизованного брата, и стоптанных ботинках, болтавшихся на его ногах. Но вот оправился малость, кое-что завел, даже в лице округлился. В целом Ояр выглядел человеком, который о жизни судит больше по заученному в школе. Но это пройдет…
Вечером затопили баню. Лелле подошла и, сунув мне белый сверток, тихо сказала:
— Это тебе чистое белье.
И покраснела. Я принял его с благодарностью, но тоже почувствовал смущение. Вот обо мне уже и заботятся. Заместительница хозяйки, но ведь это не игра в песочек, она работает как надо и выросла как надо, выглядит куда лучше своей поблекшей старшей сестры, светлая, звонкоголосая. Волосы все такие же коротко подрезанные, как в детстве; косы она не любит, вообще не любит всего, что мешает свободно и быстро работать. Мария всегда была немного деревянная, это особенно заметно сейчас, когда она стала матерью и хозяйкой в восемнадцать лет. И Придис не утерпел, чтобы не похвастать, что у него самая молодая жена в волости, так что невестка ей будет за младшую сестру. И насчет Лелле ему было что сказать: пусть Аннеле всего шестнадцать лет, но успех у парней, ух ты!
— Живем во! — заключил он и поддал пару, да еще как поддал. И когда мы с Ояром, отдуваясь, развалились на полке и заработали березовыми вениками, я уверился, что прибыл домой…
24
Несколько дней я прожил в свое удовольствие, занимаясь какими-то пустяковыми поделками, наконец получил от Ояра обещанную обувь — она показалась мне роскошной — и уселся на велосипед, чтобы ехать к строительству моста. Ехали мы вместе с мастером, по дороге к нам присоединился еще один рабочий, на месте стройки толпились остальные. Пока дорожный мастер набрасывал проект и вместе с бригадиром толковал о реперах, двойных опорах, штырях, я познакомился с остальными товарищами. Тут был один демобилизованный красноармеец, один бывший легионер, остальные ни то ни се. Мастер отдал меня под начало бригадира, который одновременно был и главным строителем. Никакого большого умения тут не надо было — пила, топор, иногда долото и рубанок. Мы стали тесать бревна, штырей у нас не было, поэтому решили поперечные брусья сажать на шипы. Это требовало больше работы, но никто здесь особенно не спешил, говорили, что закончить с мостом надо до сенокоса, потому что тогда дистанционные рабочие разбредутся кто куда и никакими средствами их на дорогу не заполучить. Как я заметил, все эти люди чувствовали себя настоящими сельскими жителями, которые считают постройку моста небольшим, не очень доходным побочным заработком. Бригадир открыто сказал — после того, как мастер угостил нас «Беломором» и уехал, — что он здесь только из жалости к этому молодому парню, чтобы тот мог хоть там писанину разводить и отчитываться, иначе начальство ему деньги платить не станет. Так же как дорожный мастер, я стал звать бригадира Эрнисом, сокращенное от Эрнест. Это был человек средних лет, с лысой макушкой и жуликоватыми глазами. Эрнис охотнее работал языком, чем руками, но все же дело свое знал. Он похвалил меня как усердного и толкового работника, и я стал стараться за обоих. Он указывал, куда сгружать привезенный материал, чертыхался, что доски из порченой древесины, что гвозди только круглые, а четырехгранных больше не делают. Чертыхался он много и из-за всего, но без особой злости, больше по долгу службы. Когда подводчики сделали две ездки, мы пообедали. Уселись на бревно, как скворцы на телефонном проводе, и жевали, что у кого было. Мария завернула мне щедро откромсанной копченой свинины, тогда как у демобилизованного солдата были одни вареные бобы. Он сказал, что с нетерпением ждет сенокоса: хозяева в страду помимо платы еще как следует кормят, а на этой работе больше трехсот в месяц не выколотишь. — Пока хоть те живут, у кого земля, а вот объявят колхозы, тогда всех прижмет, — угрюмо предсказал кто-то. Старые подводчики, которые все держались за свой кусок земли, за своих лошадей и скарб, только вздыхали: а может, у нас еще тот колхоз не учинят? Четыре года уже прошло с войны, а все пока без колхозов. Общее мнение было такое, что к тому дело идет, разве что какое послабление будет по сравнению с другими местами. Потому никто ничего в новые хозяйства не вкладывал — все равно отнимут, все равно с голой задницей ходить. Я сказал, что пересек весь Союз, но голых что-то не видал. — Стало быть, работай знай, — закончил Эрнис и стал искать топор. — Мой дед, пока жив был, говаривал, что барон ни одному крепостному не давал пропасть, каждому в богадельне место было. А вот карболина нет, чем мазать будем? — опять завздыхал он. — Что мазать? Твой язык или мой зад? — спросил я, все захохотали и все сошлись во мнении, что я умею сказануть. Эрнис не то надулся, не то нет, но стал объяснять, что пропитанный мост простоит втрое дольше, а этот быстро сгниет. Я возразил: — Новый построим, ты же сам сказал «работай знай». Смех исчез за рабочей воркотней. С закатом мы отправились домой. Уже стемнело, когда я загнал велосипед во двор Придисовой усадьбы и услышал звонкое «добрый вечер» от Лелле. На глазах у меня навернулись слезы от ощущения покоя и щемящей радости, я даже застыдился, хорошо, что никто не заметил. Так я ездил каждый день до Иванова дня…25
Зеленый лес и цветущий луг, казалось, явились в мужицкую усадьбу и натоптали своими духовитыми сапогами в просторном двухэтажном доме, и в клети, и даже в хлеву. Лелле каждой буренке надела цветочный венок на рога. Повсюду березки, повсюду зелень, пол устелен аиром и папоротником, двор чисто выметен, чище, чем в будни большая комната в самом доме. Как обычно со слегка взлохмаченными волосами, в желтеньком платьице, Лелле бабочкой летала повсюду и украшала и это, и это, и это. Отбиваясь от мух, коровы быстро скинули и растерзали свои украшения, чего еще ждать от рогатой скотины. Мы же, мужчины, ходим аккуратнее, чтобы чего-нибудь не помять, не опрокинуть, не сломать, и все же не можем уберечься от замечаний и упреков: — У, медведь неуклюжий! Лучше бы помог! Опять березку свалил! Лелле поручает мне какую-то мелкую работу, а Придиса хозяйка гонит в погреб за пивом. Ояр, которым никто не берется командовать, смущенно ерзает на скамейке перед клетью. Наконец огромный воз березок расставлен, пиво принесено. Начинает вопить младенец, сестры исчезают в доме, а мы, получив свободу от своих командиров, присоединяемся к Ояру. Придис благостно вытягивает ноги. — Ох уж этот Иванов день. Я так скажу, другого такого дня нету… Улыбка чуть не капает с его округлых щек. За эти годы, сделавшись женатым человеком, отцом, хозяином и советским работником волостного масштаба, Придис не особенно изменился, разве что больше налился, чем в ту пору, когда мы встретились с ним в подвале жестяной мастерской на Гертрудинской улице, но все такой же веселый, разговорчивый, твердо убежденный, что никакая работа не должна мешать хорошему разговору. За эти убеждения Мария не раз строго жучила его. — Наконец-то и ты к такому праздничку припожаловал, — дружески тычет он меня в бок. — Да, явился попраздновать, — я улыбаюсь Придису и в этот момент всем своим существом ощущаю то, что на человеческом языке называется «благодушие». Дом, хорошие, верные друзья, праздничное настроение — трудно сказать, чего еще желать человеку, который остался в мире совершенно один. Если бы только еще избавиться от тени, которая упала на меня с той минуты, когда отец на дворе сказал: «Ты маменькин сын, а не мой». Или когда следователь сказал: «Сознаешься, гад?» Или когда бывшие товарищи по оружию при встрече говорили: «Так тебя все-таки выпустили?!» Всю жизнь мне ходить под нею; не было чахотки, которая точила изнутри, нет, она донимала снаружи. Придис: — Охота нынче погулять по-настоящему, дело вроде к концу идет. Очень уж он вжился в роль самостоятельного, хотя и новоиспеченного хозяина, но Сергей Васильич побывал в волости и выступал перед ними, давал установку поднимать активную борьбу за коллективизацию… Придис был вне себя от злости, чуть не вопил: — Умников на нашу голову — и пишут, и говорят! Да мне-то что за дело, кто что пишет или говорит. Будто писаниями хоть один кусок хлеба вырастили. Меня Придис предостерег: — Поглядывай за Аннеле, как бы ее у тебя не увели, парни вокруг так крыльями и чертят, будто косачи на току. Лелле нравилась всем, но ухажеров было не так уж много, как звонил Придис, — война сожрала большинство молодых парней, остался только народ в летах или ее одногодки. Мой возраст сгорел будто лесная поросль в пожар. Начали подходить гости, Придис кинулся их встречать. Ояр пробормотал: — Человек честный, но с типичной частнособственнической психологией. Ход жизни и коллективизация перестроят его. Сколько раз возможно человеку начинать на общих правах? Когда я начал? Тогда, когда смеялся над колдуном и его словами, тогда, когда Придис сказал: «Надоело прятаться, бояться, пойдем в партизаны, будем вместе с ребятами», — а я отозвался: «Пошли, будем вместе с ребятами!» Это была шахматная игра, где ход — бой, а мат — смерть. Голос Лелле. Она нашла верхнюю мужскую рубаху побольше, можно будет надеть ее вместо надоевшей зеленой гимнастерки. Выгляжу я аккуратнее, чувствую себя по-воскресному. Всех зовут к накрытому в клети столу. Ели, пили, громко беседовали, жгли костер и что-то смолистое на шесте (только не бочку с дегтем) и опять пили и конечно же распевали песни «лиго»… В питье я соблюдал умеренность, петь пел, сколько глотки хватало, говорил мало, от споров уклонялся. Остальные опять завели про колхоз. Хозяйничавший во второй половине усадьбы старый Зентелис против него не возражал. — Можно и в колхоз, — медленно тянул он, — на нашем клочке мы все одно не разбогатеем, в коляске разъезжать в жизнь не будем, одно, что спину горбить. А если власть поможет с машинами, как Сергей Васильич сулит, так через это всем будет лучше и легче. Отцу поддакивал средний сын, который жил у тестя и работал вместе со мной на строительстве моста. — Так-то оно спокойней, чем ковыряться в этой вшивой грядке. Мука одна, — поддерживал он. Придис полагал, мучиться никому не охота, а белый хлеб есть все любят. Его дружно поддержали единомышленники, это были новохозяева еще с ульманисовских времен, по нынешней терминологии — середняки. Слишком уж измученными они не выглядели, не то что Придисова Мария. Старый Зентелис на это сказал: — Вам-то что тужить. При немцах айзсарги вас не тревожили, все же в хозяевах ходили. Фронт через вас быстро перекатился,успели в леса удрать и все сохранить. Советская власть опять же с вами за ручку: налогов мало, поставки всего ничего. Откормишь свинью, продашь в Риге и огребешь такой ворох денег, что рабочий в два года не заработает. А у нас продавать нечего, так и бьемся, даже праздник устроить поднатужишься. Потому у нас и песня другая. Придису поначалу еще тесть помогал, хоть у Клигиса у самого денег куры не клюют — сдохли. Вот где свара-то началась, порой это даже переходило во взаимное перемывание грязного белья. Более миролюбивые начали петь и приглушили страсти. Приближалась полночь, мы вышли и принялись отплясывать. Я все больше с Лелле; огонь на высоком бревне осыпался, но мы не торопились возвращаться к столу. Я еще не бывал в «Клигисах», можно и сейчас это сделать. Лелле обрадовалась, я потуже накачал шины, усадил девушку на раму, и мы поехали в ночь. Вокруг горели костры, звучали песни, белое шоссе было пустынно, я ехал по самой середине. Днем здесь издали видны ухабы, иногда мелкая щебенка, камни в кулак размером; сейчас ничего не было видно, поэтому мы и катили, как по ровной доске. Лелле распевала пичугой у меня за пазухой. Мы свернули с шоссе, и усеянный огнями гудящий мир потух за нами. Один лес. Потом усадьба лесника на берегу Виесите, она громыхала, как медные литавры самого мифического Яниса. Глубоко в долине урчала Виесите, мы повернули от нее и въехали в темноту леса вокруг «Клигисов». Ну, ей-богу, черная стена. Тут же колесо нырнуло в глубокую выбоину, мы свалились, и ночь была потрясена звоном наших голосов. Мы не ушиблись, и хотя в такой момент, да еще в Иванову ночь, маловероятно разжиться хорошими ушибами, все же дальше я катил велосипед, так что оставшиеся два с лишним километра мы прошли пешком. Ветки цеплялись за одежду, иногда шлепали, иногда ласково гладили, раза два мы заблудились, от росы промокли обувь и волосы. Вспомнился первый вечер, когда мы шли по этой дороге с Придисом. Там дальше должны быть бревенчатый дворец, черно-пестрые коровы и жрица в облике той девушки. Но со мною была Лелле, она радостно взвизгнула, когда свет, пробившись над крышами «Клигисов», расколол лесную тьму. Уже близок был солнечный восход. В «Клигисах» царил покой. Понятно было, что хозяева и молодая поросль спят. Мы и не думали их тревожить. Устроились на крыльце. На востоке уже багровел небосклон, а к нам сон даже и не являлся. Лелле сказала: — Теперь ты наконец вернулся? — Да. Из дальней дали. — Тебе приходилось тяжело? — Да. — И тогда ты думал обо мне? — Да. О тебе и вообще о здешних местах. — Теперь ты всегда останешься здесь? — Останусь. Лелле: — Я так горевала о тебе каждый день. Но раз уж все хорошо кончилось, немного и завидую тоже. И мне бы хотелось посмотреть мир. Не леса, леса и здесь есть, и уж конечно получше тайги. Я учила в школе, сколько есть всяких стран и городов… Я ведь, Улдис, знаю только Екабпилс да Яун-Елгаву, а уж в Елгаве и в Риге и не бывала даже. Так чудно, что мы — такой крохотный уголок, такая крошка, хоть здесь и простор и дороги, которые не исходить. В Америке есть такие высокие дома, что до облаков достают. Я всегда удивлялась, как это людям не страшно жить на такой высоте и качаться, когда ветер дует. Но уж вот что я хочу, это по морю плыть. Как это море выглядит и каково тебе, когда вокруг тебя одна вода, только вода? Чайки летают и жалобно кричат. Нет, нет, Улдис, и альбатросы, и дельфины, и море меняет цвета, и зеленое-то, и синее, а небо серое, а тучи черные… А на закате все небо красное? — Этого я не видал. Я был глубоко в трюме. — Бедный! Мир большой, красивый, богатый, почему же людям приходится так тяжело, почему так мало счастья, почему есть войны? — И, выбравшись в широкий мир, посмотрев на всю эту красоту, ты еще захочешь вернуться в эту лесную глушь? — спросил я. — Только сюда. Я хочу здесь жить до конца, как бабушка. Здесь хорошо, каждое дерево меня знает, каждая птица запевает, когда я иду. У Придиса и Марии не так, как здесь, и нигде так не может быть. Она и сама скакала непоседливой пичугой — когда человеку только шестнадцать лет, он не может долго усидеть на одном месте. Она решила, что надо сплести веночки для матери и сестренки, а для отца настоящий дубовый венок, И двери надо украсить, тогда можно и заводить величальные песни в честь Иванова дня. — Ступай, Улдис, за ветками! Она за руку потащила меня в заросший сад. Взобравшись на трухлявый столб изгороди, я ломал дубовые ветки и обливался ледяной росой. Под конец столб переломился, и я, сверзившись в густые заросли вдоль изгороди, вымок насквозь. Смеху было!.. Но в доме никто не проснулся, вот спят люди, как медведи в берлоге! Мы вернулись на крыльцо, и Лелле торопливо принялась вить венки. Я смотрел, как ее пальцы ловко сплетают цветок с цветком, так цепляются и отцветают день за днем, так цеплялись и уходили и те дни, но они не цвели и не приносили радости. Вы вздымайте меня, волны!.. Самого моря я не видел, но качку довелось изведать, порой всего выворачивало. Вечная полутьма, гул машин, вокруг все чужие. Эдгар, старый знакомый по прежним временам, неожиданно мы столкнулись нос к носу и тут же отвернулись, отдалились друг от друга. Я выбрал нары внизу, Эдгар устроился наверху. Наверняка все еще зол на меня за старое. Ох, вздымают меня волны! Мы томились, болтали, предавались всяким играм. Были великолепно сделанные карты из коричневого картона и самодельные резные шахматы, многие вырезали из чурбаков табачницы. Строго запрещенные ножи были почти у каждого. Звучала разноязычная речь, латышей было что-нибудь около сотни. Долго я не выдержу один, и тогда, хочешь не хочешь, придется общаться и с Эдгаром. Удивительно, Эдгар совсем не повесил нос, наоборот, держится этаким героем. Все время подчеркивает, что никогда не ронял офицерское достоинство, упоминает о железных крестах, боевых подвигах, о политических планах, которые были великолепны, только вот, к сожалению, не сбылись. Я слушал, пока не надоело. Не очень-то приятно наблюдать, как кто-то красуется сам перед собой, а остальным и слова не хочет дать. Я особенно хвастать не настроен, да и рассказывать здесь о своих военных похождениях — значит только выставлять себя на посмешище. Мне хотелось человеческого общения, а там сидел надутый оберштурмфюрер, точно индюк на куче, и остальные вторили его болботанью. Я вернулся на свое место, к эстонцу Кару, к шахматам. Машины мерно сотрясают корабль, приглушенное бормотание по деревянным клетушкам, тяжелый полумрак. Я склоняюсь над шахматами. У меня черные, обожженные раскаленной проволокой, но где какие, трудно разглядеть. Ферзевый гамбит, пешку вперед. — Кару, — спрашиваю я эстонца, — как ты сюда влип? Он не выглядит человеком, «никогда не ронявшим офицерское достоинство». — Сейчас моя кобыла тебя лягнет. — Скажи, Кару! — В начале войны меня судили, а потом мобилизовали. Я беру его коня. — Я попал в плен, меня судили эстонцы и мобилизовали немцы. «Вам предлагается вступить в латышский добровольческий легион СС! Извольте подписаться!» — И вот снова судили. — Что ты скажешь на это? — Это не угроза, это запугивание. — Нет, я не про это… а про то! — Друг мой дорогой, мир — это огромная навозная ванна, и ты сам видишь, что мы торчим в ней по уши. Бултыхайся, как умеешь. Для чего мы созданы? Мужчины, видимо, для того, чтобы судить и мобилизовывать или чтобы их судили и мобилизовывали, а женщины, чтобы их рожать. Так нас топчут и режут, но вот диво — размножаемся мы все же куда быстрее, чем успевает косить костлявая. «Всякая шваль слишком плодится!» — ясным, убежденным голосом провозгласил как-то оберштурмфюрер СД Осис. Он изведал пресловутую казарменную муштру, приобрел необходимую для парадов выправку, необходимую для убийства беспощадность, требуемый начальством казенный образ мысли. Он разбирался и в философии, во всяком случае, умел вырвать из некоторых мыслителей цитаты, отвечающие «текущему моменту». «Что хорошо? Все, что возвышает чувство силы, стремление к силе, свою силу в человеке. Что плохо? Все, что возникает из слабости. Трусы и слабые должны погибнуть, это первое условие нашей любви к человечеству, и в этом мы должны им еще помочь. Что пагубнее любого порока? Сочувствие ко всем хилым и немощным». Ницше, который провозгласил это, сам никогда не убивал, но те, кто пережевывал его цитату, стояли заедино с безжалостной, бездушной силой. Разве думалось, что слова могут стать палаческим топором? Кто же виноват? Тот, кто провозглашал, или те, кто делал, и понимали ли они, что именно провозглашается, оправдывали ли это, верили в это? Снова в памяти прозвучали слова отца: «Слишком много человекоподобного навоза расползлось по земле, его надо зарыть, в земле он полезнее, пусть питает корни трав. Человечность, гражданственность, истина, законность, между нами, не для недочеловеков, их надо уничтожать, и чем больше, тем лучше». Кем же по-настоящему был оберштурмфюрер СД Осис — в моей памяти и в действительности? Который из этих двоих настоящий: покорный силе каратель или служащий идее солдат? Разве на заре человечества не вырывали и не съедали кровоточащее сердце побежденного врага? Наши давние прославленные легендарные предки! Кару: — Осторожней, твой ферзь погибнет! Действительно, черный ферзь стоит под угрозой двойного удара. Тут же, на расстоянии плевка, болбочет другой оберштурмфюрер, офицер СС, он только что бросил презрительное замечание о войсках СД. Он же настоящий солдат, герой, он сражался за место для Латвии в новой Европе Гитлера. Ей-богу, цинизм Кару куда приятнее цветистого гребня на картонном солдатике. Я спросил: — А за что тебя судили коммунисты? Ведь ты же был рабочий? — Слишком много зарабатывал, в ресторане пропивал. В нашем городе имелось только одно такое место, где можно было гульнуть, и это заметили. По пьянке наболтал что-то… — Наш разговор идет на немецком, и Кару заканчивает изречением: — «Im Becher ertrinken mehr als im Meer»[11]. «Im Becher»! II мы тогда заглядывали в кубок… Это был кубок жизни и смерти, когда мы три дня дрались с немецким батальоном; горький кубок, когда кончаются силы и боеприпасы. В полночь командир приказал Густу, мне и Придису до утра доставить припасы из укрытия в «Налимах». Остальные могли хоть час-другой испить из кубка сна, а мы рысцой кинулись в хорошо знакомое место, выбившиеся из сил, настороженные, каждую минуту рискуя наткнуться на засаду. Наперегонки со смертью, на обратном пути будем еще навьючены, еще побредем, а короткая летняя ночь куда быстрее нас пробивается через заросли. И вот, сопя и отдуваясь, мы возвращаемся. Черт, там, где земля становится тяжелой, неровной, мы прямо как прилипаем к ней, путаемся, как в силках. В глазах рябило от усталости и натуги, они даже не различили вынырнувший из темноты немецкий патруль, и мы столкнулись с фрицами лоб в лоб, в буквальном смысле этого выражения. Выстрелить уже никто не успел, ни те, ни другие, мы даже звука не проронили, а кинулись друг на друга и впились когтями и зубами; я действовал приемами, усвоенными в свое время в драках на Гризинькалне. Придис бил наотмашь, по-деревенски. Густ валил патронным ящиком по прикрытым касками головам, и две арийские души, не успев сообразить, что тут на земле стряслось, быстро переселились в Валгалву. Оставив бездыханными двух гитлеровских завоевателей, мы взвалили свой груз и потащились дальше. Густ, назначенный старшим в нашей троице, нагрузился больше всех, я поражался его силе; ко всему он еще прихватил оружие убитых фрицев и сам сорвал «фельдфляши». Этим мы не интересовались, опасаясь, что вот-вот начнется огонь преследователей, но когда добрались до знакомого сенного сарая на лесном покосе и почувствовали себя почти в надежном месте, на минуту устроившись перевести дух, «откинув лапы» (мне казалось, что я уже никогда не смогу встать на ноги), Густ тут же попробовал содержимое фляги. Бог ты мой! Ароматный, награбленный во Франции коньяк! Стимулятор в самый подходящий момент. Если груз на себя Густ взвалил самый тяжелый, то содержимое фляги честно разделил на троих, до последней капельки. Настроение у нас сразу подпрыгнуло, но тут же в голову ударил дикий хмель. Мы же почти трое суток ничего не ели, почти совсем не спали… Ах, как бы я спал и спал, но по лугу уже разливался рассвет, надо было торопиться, товарищи ждали. Густ размяк, стал неуклюже добрый, видно было, что он испытывает почти то же, что и я, стал даже как-то дружелюбнее ко мне, — наверное, эти тяжелые дни и недавняя стычка сблизили нас. Встав за нуждой к углу сарая, он ткнул в меня через плечо пальцем и сказал: — А из тебя, глиста долговязая, может, еще и человек станет. Я вдруг разозлился, наверное, виновато было «im Becher», и выпалил в ответ: — А вот твоя бычья душа человеческой станет? Густа это задело, он свирепо переминался на месте. — Ишь, рижский гусь. Все ему смешочки… Умник! Этого я тебе не забуду… Еще три дня и три ночи мы так же не спали и не ели, еще три дня и три ночи мерялись силой с превосходящими силами. Под конец фрицам надоело проливать свою арийскую кровь, они убрались. Смерть не обошла и нас, мы стояли над могилой, отдавая последние почести товарищам, которые осушили кубок небытия. А Густ с той ночи глядел на меня еще угрюмее. Кару: — Сейчас, мой миленький дружок, сейчас твой король будет в ловушке! Ловушка захлопывается, когда ты совсем этого не ожидаешь. Кто мог это предвидеть в тот день, когда я шел по улицам Риги, дышал ноябрьским свежим, бодрящим воздухом и с любопытством глазел по сторонам? Вот ты какой, любимый мой город! Я знаю тебя, ты знаешь меня. Хоть и разрушенная, но все та же чудесная Рига. И я будто вновь возродился. Позади последний бой, ранение, госпиталь, предупредительные сестры, с которыми я объяснялся больше на бумаге, потому что только еще начинал калечить русский язык. Впереди новая жизнь с новыми надеждами, а может быть, снова пули и страх смерти — сила Гитлера еще не сломлена, в Курземе еще свирепо сопротивлялись. Что там в будущем, поди знай, пока что надо зайти узнать свои права, свои обязанности, а потом можно завернуть ненадолго к Янису, Лаймдоте. Уж они-то сидят на месте, они не дадут увлечь себя куда-то, угнать или сломить. Я был усталый, невыспавшийся, голодный, но в сумке было немного съестного, так что я не огорчался долгим ожиданием в приемной, перекусил и вздремнул. Прошло несколько часов, когда я призадумался — другие пришли после меня, а уже давно все выяснили. Или раненому партизану хотят какие-то почести оказать? Но тут за мной пришли, и я увидел, что всевышний комедиант снова выкинул коленце. «Говори все начистоту, остальные бандиты из вашей СД уже все выложили. У нас документы и показания есть… Все про вас, господа Осисы, знаем… (Я тебе не товарищ, я тебе гражданин следователь.) Когда последний раз виделся с отцом? С какой целью тебя заслали к партизанам? С какой целью сюда прибыл? Говори, если не хочешь неприятностей!..» «Советского человека нельзя бить!» «А ты не советский человек, ты гад!» Кару: — Мат! Да, мат. Грохотал салют победы, полоскались победные флаги, гремел марш на победном параде… Мат был побежденным. Почему же заматовали меня? Пятнадцать лет. А где же судьи, свидетели, защита, вещественные доказательства, права подсудимого? Вместо всего этого крохотный листок с количеством лет. Почему именно пятнадцать, а не десять, не пять? Цыган сказал: «Радуйся, что не сто, как бы ты их отсидел?» — Переиграем! Нет, братец, шалишь, мат! Какое там переиграем, сиди в своей верше, бейся там, можешь молчать, можешь индюком болты болтать — все равно… В то лето, когда я явился в «Клигисы», Лелле было одиннадцать лет. И вот ей уже шестнадцать, сельская девушка, как зеленая ветка, как трава росистым утром, когда далеко разносится звяканье бруска о косу. Округлые руки и ноги, встрепанные волосы, полная охапка венков и трав в подоле. Она приветствовала звонким смехом восход солнца и до тех пор звенела и смеялась, пока не подняла с постели младшую сестру, отца и мать, которая выглядела еще старее, чем пять лет назад. Круг замкнулся, сломать его уже нельзя. Ильза сейчас же: — Улдис, расскажи сказку! Для нас накрывают стол — сыр, молоко, лепешки, предлагают и пива, но мы от всего отказываемся. Мы пьяны усталостью от Ивановой ночи, от свежести природы. Только теперь я понимаю, как я истосковался именно по «Клигисам» — по этим замшелым крышам, запущенному яблоневому саду, придорожным дубам и зубчатой стене леса. Мы здесь, как на светло-зеленом блюде за стенами темно-зеленой хвои: кочет ублажает своих квочек, на заборе красуется сизоворонка, а вокруг снует с самыми свежими новостями сорока. Все как в то лето, только куда радостнее: одна Лелле внесла столько веселья, что с лихвой хватает на нас всех, да еще Ильза вторит ей своим задорным визгом… Она и сама не может сказать, отчего такая взбалмошная, из-за чего так смеется. Бабушки больше нет, меня донимают расспросами хозяин с хозяйкой, я, в свою очередь, стараюсь узнать, что нового в «Клигисах», и уже знаю, что мне хочется услышать — ничего не изменилось, ничто не изменится, здесь время стоит на месте, можно вернуться и все будет таким же мирным, как было. Но слышу я совсем другое. Я понимаю, что Придис по каким-то там причинам многое от меня скрыл, а Клигису и в голову это не приходит. Мы нарушили лесной покой, и зеленая чащоба уже не хочет успокаиваться: там скрываются люди с оружием; наверное, есть и такие, кто их поддерживает и кормит, без этого сколько можно продержаться под еловыми ветками. Клигису, как человеку, известному поддержкой красных партизан, доверяли, и все равно как-то ночью усадьбу окружили возглавляемые Густом истребители. В волости нападали на советских активистов, стреляли в парторга, где-то что-то горело, где-то дотлевало. Покоя не было нигде, и в «Клигисах» тоже. В тот же день я сбежал оттуда — здесь казалось опаснее, чем на забитом машинами шоссе. Лелле еще осталась на несколько дней, я один сел на велосипед. На полдороге между «Клигисами» и Виесите, где чаща тесно сжимает дорогу, словно подавая руки поверх нее, я увидел идущего навстречу долговязого парня с автоматом на шее. Я тут же узнал Талиса. Похоже было, что он в любой миг может открыть огонь, но у меня почему-то возникла уверенность, что он этого не сделает. Будь дорожка пошире, я бы поехал дальше, а тут пришлось придержать. — Наконец-то удалось тебя поймать, — сказал Талис. Значит, он знал обо мне, глаза его как будто были все такие же лихие и наглые. Одет он был по-деревенски и ничем не отличался от любого рабочего нашей дистанции. Оружие ему даже не шло. — Необычная встреча, — продолжал Талис после минутного ожидания. — В каком смысле необычная? — А в том, что мы поменялись ролями. Я пожал плечами. — Мне так не кажется. Как в первый, так и во второй раз ты с оружием, я без оружия, так что ты можешь стрелять без риска. Тьфу, дьявол! И что он так таращит свои дурацкие глаза! — На моей стороне тогда был закон, — это прозвучало почти как оправдание. — Ты признаешь только стрельбу по закону? — Хватит тебе ерунду пороть! — Талис стал еще тупее и вместе с тем злее. — Что это еще за первый да за второй раз? Я помню только зиму, когда тебя схватили, когда ты крутился около волостного правления. — Где ж тебе помнить, если ты был пьянее вина, тыкал мне пистолетом в нос, чтобы я быстрее починил развороченный сортир в твоей рижской квартире. — Гм, — проворчал Талис, — в рижской квартире? Наверное, это была Нормина… гм, квартира моей «раскладушки». Сортир? А ты что, золотарем работал? — Нет. Это ты… Я был слесарь. — Ну, знаешь! — О чем хочешь говорить? — Первым делом привет от твоего отца! — Какая радость, что папаша меня вспомнил! — Но у меня возникло ощущение, что Талис где-то подвирает. Талис продолжал: — В тот раз в волостном правлении я не дал тебе по морде только потому, что было какое-то предчувствие, словно ударишь кого-то из своих ребят. Не знал, что ты за птица, но почуял, что высокого полета. Ты ведь Осис. — В паспорте так написано. Талис достал папиросы. — Закурим и кончаем собачиться. Держа папиросу, я заметил, что у меня дрожат пальцы, я собрал всю волю и овладел собой. Но страх не уходил, он забился куда-то вглубь, чтобы в любую минуту всплыть наверх. Талис произнес: — Мы боремся, мы будем держаться, пока… не придет помощь. Коммунисты тебя хорошо отблагодарили за то, что ты путался с ними. Мы своих не кусаем. И это хорошо, что ты можешь жить легально, поезжай в Ригу, постарайся встретиться со своим отцом, у меня с ним связь. Будем держаться заодно! Талис даже собирался было дружески подать руку. Я оставался холоден. Что у него на уме? Явно дурацкое простодушие. Злой на весь ход разговора, сам на себя, я воскликнул: — Странно, что ты мне доверяешь! — Ты же сын своего отца. Видит бог, его лицо выражало глупейшую возвышенность (или, может быть, возвышеннейшую глупость). Вот тебе и миф двадцатого века! Где он его нахватался? Ведь он же учился в той же школе, что и я, пел утреннюю молитву «Как отчие божьи храмы», рассказывал на уроках истории о вторжении немецких крестоносцев в Латвию (битва у Сауле в 1236 году, битва под Дурбе в 1260 году), а в государственный праздник слышал, как подвыпивший отец с бывшими соратниками поет: «Грудью Бермонта банду встретить и за Латвию кровь пролить». Может быть, Талис дал себя оболванить оберштурмфюреру Осису под влиянием его личности, под влиянием безответственной власти? И вот он загнан в западню. Советские органы безопасности знают о всех его делах. Я рассвирепел. — Тогда тебе должно быть ясно, что Улдис Осис всегда идет своей дорогой. — Это значит… — Это значит, что изволь-ка убираться с дорожки! Талис зло засмеялся: — И все-то ты ерунду порешь! — Пусть будет так. Иметь дело с тобой мне и в голову не придет. — Почему? — Потому, что нет никакого опыта, да и умения. Он ощерился: — Собираешься донести? — Освободи дорогу. Талис рванул автомат, но слегка отступил с тропинки. Я сказал: — Привет! — спокойно сел на велосипед и поехал. Б голове мелькнуло: если он сейчас даст по мне очередь, я даже не успею сказать, что в спину стреляют только подлецы…26
Янис Смилтниек видел, как велосипед Улдиса катится по извилистой лесной дороге. Он знал, что Улдис не из трусливых, иногда даже до дерзости смелый, готовый шутки ради поиздеваться над опасным противником, почесать тигра за ухом. Но вот Улдис испугался, хотя и старался скрыть свой страх… Раза два-три ему даже пришлось притормозить и слезть с велосипеда — волнение мешало пробираться по узкой тропке, колесо все застревало в рытвинах. Видел Янис и Ояра, тот катил по своей пыльной дистанции. Дороги, белые латвийские дороги. Выгоревшей запутанной пряжей пролегли они по летней пестряди полей, под сенью лесных ветвей, по взгорьям. Выписывая разные петли, порой пересекаются, сливаются и снова сучатся вдаль: мимо мельничного пруда, дремлющего подле плотины, и бывшей помещичьей усадьбы, где ревут моторы и лязгают гусеницы тракторов; мимо заброшенного городища предков, поросшие деревьями валы которого хранят древние героические были, к синеющему вдали еловому лесу. И снова идут поля, серые мужицкие усадьбы с деревянным срубом колодца и покосившимся журавлем посреди двора. Возле дома замурзанный мальчонка, засунув палец в рот, глубокомысленно разглядывает каждого проезжего незнакомца. Дальше поднимается стройка красного кирпича, а перед нею тянутся липы. Невыносимый зной, но встречный ветер чудесно освежает раскаленную грудь. С необычайной силой Ояр сознает в себе чудесную, пьянящую радость жизни, переполняющую мир. А в чем, собственно, дело? И тут же понимает, что заставляет в этой горячке прислушиваться к птичьим голосам в зеленой листве, что заставляет кровь жарко гнать по его жилам, что, подобно золотистой дымке, трепещет над блекло-серой щебенкой дороги и пыльной придорожной травой — это его молодость, беспокойная, чудесная, несравненная. Местами у обочины высится свезенный гравий. Кое-где приходится ехать по нему, как по каменным кочкам. Надо бы побыстрей раскидать. Столб на развилке лежит в канаве, как пьяница, растопорщил размытые языки указателей, поди пойми, что на каждом написано. Какой черт укажет нужное направление, кто поручится, что старые надписи не врут? Все же заново оценивается и измеряется. У Талиса автомат, всыплет жаркую очередь — тр-р-р-р, — и конец. Он ведь не из тех, кто утруждает голову лишними раздумьями. Улдис выбрался из адского котла и понял, что здесь заварушка не хуже, ему не хочется угодить обратно, лучше уж подымать пыль, колобродя на этих перекрестках. Но Ояр парень уживчивый, деловой, предприимчивый. Таким Янис Смилтниек видел его и в студенческие годы — Ояр мог переносить самые черные часы в жизни и вновь обретать веселое или хотя бы сносное настроение. И дорожный мастер продолжает объезжать дистанцию, хозяйским глазом вглядываясь в профиль каждого участка, в состояние покрытия, гравия, бетонных труб и прочих мелочей, о которых обычный водитель даже и не думает. Водителя интересует только, можно ли дать подходящую скорость, не слишком ли кидает, не появилась ли на крутом повороте или во впадине опасная выбоина, которая заставит круто затормозить, иначе поломаешь рессоры, полуось, а то и вовсе завалишься вверх колесами. Грузовики, которые в первые послевоенные годы появились на сельских дорогах, были или трофейные, или бракованные армейские машины. Больше все ездили по-старому: мотор на овсе, в двух оглоблях, водитель трясется, покуривает, порой жмет на газ — берется за кнут. Сельские дороги еще не видали «ГАЗов» на две с половиной тонны, «Побед» и «Москвичей». Но не прошло и трех лет, как Янис Смилтниек по этой самой дороге на своем личном «Москвиче» прокатил бывшего дорожного мастера Ояра, который жил уже в Риге, в квартире Смилтниеков-Карклиней и учился в университете. При воспоминании об этом тепло, как от хорошего армянского коньяка, растеклось по телу Яниса Смилтниека. Улдис отдалился, уехал по извилистой, кочка на кочке, лесной тропе, а они сидели в «Москвиче» и мчались по шуршащему асфальту: Янис, Лаймдота с обоими малышами, теща и Ояр. Ничто еще не вызывало у них такую радость, каждая поездка была событием, ведь это же так чудесно — не зависеть от остановок и станций, от занятых или свободных мест, от времени и багажа. Они давно уже это поняли, еще с первой минуты, когда стали продавать машины в личное пользование, но по ряду обстоятельств все тянули с покупкой. Не из-за денег, господи, что там значат какие-то девять тысяч, если Янис иной раз приносил домой и выкладывал перед Лаймдотой пачку, в которой бывало по пятьдесят — шестьдесят сотенных. «А это не опасно?» — были первые слова Лаймдоты. А узнав, что все вполне надежно, она с чувством поцеловала мужа и добавила: — «Только не надрывайся!» Деньги были, но было и чувство неуверенности — а вдруг начнут допытываться, откуда взялась такая сумма на покупку машины? Лаймдота зарабатывала неполную тысячу, Янис по месту работы полторы-две в месяц; но зато мадам Карклинь не работала, потому что вела дом и воспитывала двоих малышей. Янис Смилтниек не крал, не занимался аферами, он работал, вкалывал в ремонтной бригаде, которая заключала договоры с предприятиями (черные бригады). Разумеется, вкалывая по вечерам, каждый хотел и получить прилично. У Яниса были знакомства — люди, составлявшие дефектные акты и принимавшие работу. Что-то приписывали, что-то наценивали, и счет всегда выходил как надо. Товарищи получали и делили две-три тысячи, доброжелательному начальнику тысчонку-полторы, а Янису все остальное. Он был главный мастер, он работал больше всех, к тому же никаких документов не подписывал. Самый строгий суд не мог бы ничего доказать, но он не хотел даже и самых легких подозрений. Всякое может случиться, осторожная мадам Карклинь, уже не ожидая ни англичан, ни шведов, не ждала и ничего хорошего, и главным образом из-за нее Смилтниеки упустили оказию купить «Москвич» без очереди, а когда решились, пришлось уже ждать. Но вот все-таки поехали. Лаймдота обычно сидела рядом с Янисом, на своем святом, неприкосновенном месте, а мать с детишками сзади. Но в этой поездке она проявила невиданное расположение, усевшись рядом с матерью и уступив свое место Ояру. Чтобы родственник мог быть проводником, чтобы мог своевременно разглядеть знакомые места, вспомнить, кое-что рассказать. Ояр был благодарен Лаймдоте, но разговорчив не слишком. Воспоминания делали его молчаливым, то ли слишком трогали, то ли угнетали. Асфальт давно уже кончился, пылил белый большак. Старые липы, строенный Ояром мост, спрямленный участок пути. Были и гребни, которые Янис звал лесенкой; «Москвич» запрыгал, Ояр просил придержать. Вышел и погрузился в тучу пыли и воспоминания; потом пошел по узкой тропинке, которой обычно пользуются велосипедисты. Он уже опять сидел на своем старом верном железном коне, жал педали и приближался к зданию исполкома. Там Ояр впервые встретил Норму. Тогда дорога не пылила. С утра прошел ливень, а вскоре после полудня небо снова затянуло. Крупные капли уже стучали по железной крыше красного здания, когда Ояр подкатил, загнал велосипед под навес и вбежал в дом. У него были тут кое-какие дела, самое время их уладить. Ояр бодро окинул взглядом канцелярию исполкома и громко поздоровался. Ояр вовсе не был таким уж смелым, но служба требует быть энергичным, деловым и дипломатичным; молодой неопытный дорожный мастер прикрывал свою робость наигранной развязностью, которая иной раз казалась разудалой, но никогда никого не задевала, как это обычно бывало с Улдисом. Ответ всей канцелярии был дружный, хотя дорожный мастер, непрестанно требующий от волости рабочей силы, а взамен ничего не дающий (кого интересует состояние дорог, когда столько серьезных вопросов), не был слишком уж желанным гостем. Но в исполкоме работали молодые девушки — секретарша, инструкторша, бухгалтерша, завклубом, — им очень даже нравился интересный парень, заготовитель был его друг, а открытых недругов просто не было. Помимо знакомых тут была сейчас одна незнакомая, которая сидела у столика, писала какой-то отчет и при появлении дорожного мастера подняла голову и с минуту глядела на него большими темно-голубыми глазами. Красивая, оценил Ояр, но это слово мало выражало чувство, охватившее его. Девушка встряхнула пышными волосами, несколько застрявших там капель скользнуло по ее лицу и упало на исписанную бумагу; Ояр тоже испытал это падение, он исчез в пропасти, стены которой воздвиглись за тысячелетия из жалоб и восторгов любящих. Янис Смилтниек не знал в ту поездку, какие стершиеся следы искал Ояр в этой гнусной пыли, в перемолотом шинами гравии, и вот теперь видел. Опять там был Улдис, который вышел из чужого, ирреального пространства и продолжал свое движение. И Ояр. И Норма…27
Улдис: — После Иванова дня дружина дорожного мастера разбрелась кто куда. У моста остались только мы с Эрнисом. Самое трудное уже сделано, можно было управиться и вдвоем, только дело шло медленно. Эрнис протестующе ворчал — не хочет он быть вьючным ослом, который всю дистанцию на себе тащит. И у Придиса в хозяйстве работа не ждала, я помогал, сколько мог. Сам хозяин, начисто забыв об обязанностях заготовителя, каждое утро до рассвета уже был на покосе. Я был с ним, когда подъехал дорожный мастер и голосом, где брюзгливое начальническое достоинство смешивалось с чувством неловкости, осведомился: — И сегодня нет? Мы посовещались, дорожный мастер сменил меня, взяв косу, я сел на велосипед и припустил к мосту. Эрнису я сообщил, что мастер обещал после обеда проверить нашу работу. — Пусть себе проверяет и благодарит бога, что хоть эти два дурака взялись, — буркнул в ответ Эрнис, но работал все же энергичнее обычного. Во мне была такая радость жизни, что я никаких трудностей не замечал, и что этот Эрнис все время буркотит. После обеда он решительно заявил, что завтра не выйдет. — Делай, как знаешь, инструмент я здесь оставлю, — сказал он и ехидно добавил: — Видать, ты довольно богат, если можешь держаться на государственной работе. У меня два рта есть просят, надо идти к хозяевам. Итак, Эрнис дезертировал, к тому же не совсем порядочно, хоть бы последний день отработал как положено, солнце еще высоко. Один я здесь не управлюсь, надо спешить домой, чтобы помочь на лугу. Но я ничуть не торопился, медленно крутил педали — если встреча с Талисом оставила страх, то воркотня и кислая рожа Эрниса просто удручали. До сих пор мне достаточно было сознания свободы, другие требовали больше; возможно, моя беззаботность в материальных вопросах была эгоцентризмом холостого одиночки или просто глупостью. Жалко Ояра, этот парень все слишком принимал к сердцу — так сказать, жил, страдал и любил всеми силами души. Так, ползя понемножку, я заметил в придорожной травке какую-то женщину, присевшую возле велосипеда и старающуюся надеть цепь. Я притормозил, поздоровался и даже вздрогнул, когда она подняла лицо, но тут же решительно перешагнул канаву. — Разрешите помочь… — Я ловко надел цепь и поставил колесо на место. Это была волисполкомовский инспектор-животновод, я узнал ее по виду и по описаниям Придиса. Мое появление она восприняла без особой радости, но от помощи не отказалась. — Спасибо, — наконец сказала она, — у вас это так быстро вышло. Я достал тряпку из инструментной сумки и стал вытирать пальцы. Они дрожали. Очень глупо. Я даже осмотрел их, черные, дрожащие и какие-то вдруг неловкие. — Я металлист, сейчас работаю на строительстве моста. — У Ояра? — Да. Она смотрела на меня очень внимательно, даже напряженно. Я заметил преждевременные следы увядания на ее молодом красивом лице. Почему она так насторожилась? Я двинулся к дороге, а она все стояла, такая же изумленная, даже рот как-то глуповато приоткрыт. — Что? — произнес я дружески. Выражение ее лица вызвало у меня какое-то нервное раздражение. — А мы… — замялась она. — Мы случайно не… Вы кажетесь мне очень знакомым. Сын своего отца, я уловил правду. Неужели сходство так велико? Этим вопросом я никогда раньше не задавался. — В одной волости живем, — резко ответил я и повернулся к ней спиной. — Даже голос и движения… Вот уж глупо! Во мне не было ни крохи казарменной муштры, офицерской властности. С чего она это взяла? Возможно, Талисова «раскладушка» знала оберштурмфюрера Осиса, но неужели он произвел на нее такое сильное впечатление? На миг у меня даже промелькнуло предположение, что за эти, такие мимолетные, встречи она все же заметила меня, так же как и я ее. Я уловил волнение и смятение. Наверное, поэтому и приказал: — Поезжайте вперед. Если цепь еще не в порядке, я смогу помочь. Проверим, как она работает. Она послушалась даже с какой-то робостью. Норма, Талисова «раскладушка»… Следуя за нею, я несколько раз повторил это имя. Машинально, как молитву. Это была не дурашливая издевка, а что-то смутное, где хорошее мешалось с дурным и некоторыми скупыми оценками Придиса, со всем, что я о ней знал еще раньше или, вернее, чего не знал. В конце концов, подобные суждения о человеке — это смесь нашей амбиции, незнания и различных предположений. Круто свернув влево, Норма перемахнула канаву и выехала на протоптанную лесную тропинку. Она не остановилась, чтобы осведомиться, хочу ли я следовать за нею, даже не глянула через плечо. Вообще-то мне надо было через несколько километров свернуть направо, но я поехал за нею. Вскоре мы подъехали к дому. Это был шикарный дом, обсаженный старыми деревьями, с ветряным движком на крыше хлева; я не знал, как называется эта усадьба, этих мест я вообще не знал. Норма остановилась, взглянула на меня и сказала: — Здесь я живу. Ну, спасибо, цепь, как видите, держится. — Хорошего хозяина усадьба, — кивнув на дом, сказал я. — Кулацкая, — отрезала она. — Дальше ехать запрещено? Она отвернулась, подумала, потом опять взглянула на меня; выражение ее лица явно изменилось, — к сожалению, я не мог его ни объяснить, ни охарактеризовать, я был не в таком состоянии, когда человек способен обо всем судить холодно, да и она, кажется, тоже. — Пожалуйста. Я могу угостить тебя забродившим березовым соком. — Спасибо, мне некогда. Но как-нибудь вечерком… Ты же вечерами дома?.. Я приду в гости, да? — Да, — ответила она. Она недоумевала, почему я отказываюсь сейчас, почему так быстро сыплю словами и собираюсь уехать. Выехав на шоссе, я не мог вспомнить, сказал ли я «до свидания» или «прощай» или вообще убрался не простившись. Я конечно же мог бы последовать за нею, и просто глупо было струсить и удрать. В душе я оправдывался тем, что сначала все должен обдумать… Я глотал дорожную пыль и неожиданно почувствовал страх, куда отвратительнее, унизительнее того страха, который принесла встреча с Талисом. Где-то поблизости должен быть оберштурмфюрер Осис. Кто этот Талис? Робот, которым управляет Осис? А Норма — хорошо сделанная кукла, вроде Олимпии из «Сказок Гофмана»? Лихой робот, который стреляет по команде, красивая куколка, которая поет по команде, а за их спиной злая сила, а между ними человек, которого эти автоматы разорвут в клочья. Что я действительно человек, это я понял по тому, какая горечь скопилась во рту, я глотал и не мог проглотить ее. Что останется от этой девушки, если отнять ее необычную красоту? Талисова «раскладушка»… Вторую половину дня парило, самая сенокосная пора, я крутил педали так, что весь обливался потом. Я свернул с шоссе на тропинку, ведущую через ольшаник, березняк и сырой осинник. Она была короче и тенистее, я чувствовал себя так, будто меня вынули из духовки. Влажные листья хлестали по лицу, и это как-то успокаивало. Приехав домой, я зачерпнул из колодца воды и хорошенько вымылся. Лицо горело, но мысли потекли спокойнее. Я уже многое повидал в жизни, знаю, что бытие начинается страданием и кончается бессильным ужасом перед смертью. А все, что посредине, надо считать благом.
Я пошел на луг к Придису, Марии и Лелле. Работа спорилась, я держался, как обычно, во всяком случае был в этом уверен.
Солнце уже заходило, когда мы сметали последний зарод. Мария убежала готовить ужин, Придис распряг лошадь, я собрал вилы, Лелле лихо перекинула через плечо грабли и неожиданно спросила:
— Улдис, что случилось? Нет, скажи мне.
Свободной рукой она сдернула головной платок, вытряхнула клеверные былинки. Казалось, она занята собой, но я понял, притворяется, все заметила, может быть, и все остальные заметили, только одна Лелле осмелилась спросить.
— Если бы я сам знал.
Я видел эту куклу, красивую заводную куклу, рядом с нею робот с автоматом в руках, а за этой парой тень зловещего Миракля. Не хватало только бравурных мелодий Оффенбаха, но из дурости я стал напевать их про себя.
Лелле бросила на меня быстрый недоверчивый и подозрительный взгляд. Неожиданно для самого себя я спросил:
— Кто это тебя назвал Куколка?
— Бабушка и папа, а потом все. Теперь-то уже все настоящим именем зовут, один только ты…
— Я уж так привык.
— Да, только ты, — подумала она. — Может быть, это и смешно звучит, но мне нравится.
— Так вот. Ничего страшного не случилось Я столкнулся со своим прошлым. Не понимаю, что все это значит… По правде говоря, я боюсь и… Не зря Густ окружал «Клигисы».
— Я понимаю. — При упоминании о Густе девушка быстро оживилась. Но мои слова она поняла совсем не так. — Я давно хотела тебе все сказать, но Придис был против. Он считает, что у тебя такой норов, что ты ничего не спустишь, а с Густом трудно ладить, он взъестся, будет худо. С Зентой там у них уже крест — он женился, она замужем. Сразу же, как немцев прогнали, он стал председателем исполкома. Как на грех, из Риги пришел запрос насчет твоего отца. Точно не знаю, но, в общем, он сказал, что ты всегда был подозрительный человек и он не станет из-за тебя на рожон переть. Председатель он был плохой, многие на него жаловались. Помню, как его скинули, я была в волости и слышала, как Сергей Васильич, злой такой, кричал: «Не думай, что советская власть на то и есть, чтобы волость твоим именьем стала». Тогда Густ стал командиром истребителей, на многих отыгрался, кто с ним цапался. В волости никто за тебя не заступился, очень уж ты многих на зуб брал. Никому такое не нравится, говорили, что ты барич, что бог весть чего из себя строишь, а других за дураков держишь. Комсорг сказал, что ты насквозь индивидуалист. А слово-то и выговорить не мог, получалось «индуалист». Так и тыкал везде это «индуалист»…
Я засмеялся, действительно смешно получалось. Густ? Ты гляди, какие секреты на белый свет выплывают! Будь сейчас Густ рядом, я бы дал ему по морде, нет, бил бы и бил, пока он с ног не повалится. Но мчаться к нему, чтобы подраться, это мне и в голову не приходило.
— Аннеле, Аннеле! — позвала из дома Мария. Лелле помахала ей рукой и подтолкнула меня: — Побежали, кто первый на дворе будет! Давай, давай! — Когда же я только покачал головой, она припустила одна. Но явно обиделась, хотя и сохранила легкий шаг и веселый голос. Обе с Марией они громко болтали и звенели посудой на кухне, я ушел наверх, повалился на кровать и закурил.
Первые дни дома были для меня праздничными днями, но праздник уже кончился.
Вспомнился вечер, когда мы с Ояром сидели, как скворцы, на перилах объездного моста. Вечер уходил по солнечному багрянцу, по грустным теням, по ржавым ольшаникам; вечер был в дорожной пыли, в цветочной пыльце, он жужжал шмелем, гудел машиной на дальнем повороте дороги. Синий вечер, теплый вечер, звонкий и тихий вечер. Я ощущал биение своего пульса, биение всего мира, чувствовал, что я не стар, а молод, молод… У Ояра это все время было с ним, а я где-то отстал в дороге и вот опять обрел это чувство…
Праздник кончился.
Мы плыли по морю. Качка, гул машин. Мы с Кару играем в шахматы, в игру неожиданно ворвалось десять тяжелых фигур — многолетний опыт насилия, длинные ножи, звериная алчность. Это были урки, которых в конце этапа сунули к нам. Потом их опять убрали. Сперва они держались дружелюбно, давали стоящие советы, старалисьподладиться к каждому, выведать, какие материальные ценности мы сохранили, выяснить, что мы за люди.
Они не читали многих книг, особенно исторических, но, оказывается, хорошо изучили всю суть механизма подчинения. Они начали с того, что вселили страх смерти в ближайшее окружение — вытащили спрятанные ножи и стали проверять вещи, присваивая все ценное. Кое-кто запротестовал, тех «вывели вперед» — вытащили на середину и зверски избили. Тысяча людей дрожала от ужаса, застыла, парализованная ими, так хищники гипнотизируют стаю кроликов. Странно, никому не пришло в голову, что если бы мы сообща бросились на эту десятку, то разорвали бы их в клочья, вернее сказать, всем это приходило в голову, но каждый думал только о себе. Психология толпы, психология жестокой силы.
Во время этого избиения я обратился к Эдгару.
— Неужели мы будем таким дерьмом и дадим вытворять с собой такое? — спросил я. Ох, до чего же гнусна человеческая трусость! Бравый оберштурмфюрер, который со своей ротой чуть ли не выиграл мировую войну, неожиданно из болбочущего индюка превратился в мокрую курицу. Он с жаром согласился, что надо сопротивляться, возмущался наглостью бандитов, но, когда рыцари финки объявились поблизости, первый поспешил предъявить свои шмотки. У кого была какая-нибудь стоящая вещь, тот дрожал от негодования, еще больше от страха и подчинялся силе. Эта десятка урок хорошо знала инертность человеческой природы и робость мысли, не бандитами им надо было быть, они были достойны титулов князей и герцогов.
Но, как сказано в писаниях, святых и несвятых, ничто под этим солнцем не совершенно. Самые железные режимы сталкиваются с протестом, и среди тысяч покорствующих рождается один бунтарь. Это был я. Трусость окружающих только вызвала во мне дух противоречия. Самое смешное, что мне-то не из-за чего было волноваться, меня взяли, в чем я был, и обношенные тряпки мои бандитам были не нужны. И все же я сказал себе: «Пусть только попробуют!» Мое место под нарами было далеко от гнезда владык, но вскоре и здесь появились два льва: рубаха нараспашку, в руке нож, изо рта похабщина. Кару равнодушно раскрыл свой мешок, я сидел, поглубже забившись под нары; «лев» заметил, что мое барахлишко не выложено.
— Эй ты! Давай сюда!
Он потянулся к мешку. А я приготовил обломок доски, им и треснул его. Доска угодила бандиту в висок, он упал на четвереньки и взревел:
— Полундра!
Второй выпустил свою добычу, кинулся сюда, но зубы его лязгнули впустую. Я быстро перебрался в другое место. Эдгар с друзьями потеснился, и я забился к ним.
Знаменитое сражение с ветряными мельницами. Кто потерпел в нем поражение, неужели мельницы? Какое там, они мололи и дальше, но уже на медленных оборотах, — во всяком случае, эти люди держались уже не так самоуверенно, свою бедность мне предъявлять не пришлось. Человек и судьба. Миллиарды бацилл, пули, тюрьмы, голод, побои. И все же брось один крохотный лучик света в царство тьмы, только брось! Бессмысленно тяжело влачится мое время, много рассветов загоралось на замшелых крышах «Клигисов», по вечерам зубчатые вершины елей перепиливают сумерки неба, зимы приходят в поскрипывающей обувке, и в метели трепетно шумят лесные чащобы; с перечной горечью пахнут под окном Зенты маттиолы многих ночей, а рассказанные мною сказки уводят Лелле в царство снов. Она уже стала женщиной, нянчит своих детей и рассказывает им все, что слышала от меня. А меня не будет в живых, я буду нести наказание за несвершенное преступление. «Ибо я господь, бог твой, бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого колена». Истинно. Так сказано в писании…
Вторую половину дня парило, самая сенокосная пора, я крутил педали так, что весь обливался потом. Я свернул с шоссе на тропинку, ведущую через ольшаник, березняк и сырой осинник. Она была короче и тенистее, я чувствовал себя так, будто меня вынули из духовки. Влажные листья хлестали по лицу, и это как-то успокаивало. Приехав домой, я зачерпнул из колодца воды и хорошенько вымылся. Лицо горело, но мысли потекли спокойнее. Я уже многое повидал в жизни, знаю, что бытие начинается страданием и кончается бессильным ужасом перед смертью. А все, что посредине, надо считать благом.
Я пошел на луг к Придису, Марии и Лелле. Работа спорилась, я держался, как обычно, во всяком случае был в этом уверен.
Солнце уже заходило, когда мы сметали последний зарод. Мария убежала готовить ужин, Придис распряг лошадь, я собрал вилы, Лелле лихо перекинула через плечо грабли и неожиданно спросила:
— Улдис, что случилось? Нет, скажи мне.
Свободной рукой она сдернула головной платок, вытряхнула клеверные былинки. Казалось, она занята собой, но я понял, притворяется, все заметила, может быть, и все остальные заметили, только одна Лелле осмелилась спросить.
— Если бы я сам знал.
Я видел эту куклу, красивую заводную куклу, рядом с нею робот с автоматом в руках, а за этой парой тень зловещего Миракля. Не хватало только бравурных мелодий Оффенбаха, но из дурости я стал напевать их про себя.
Лелле бросила на меня быстрый недоверчивый и подозрительный взгляд. Неожиданно для самого себя я спросил:
— Кто это тебя назвал Куколка?
— Бабушка и папа, а потом все. Теперь-то уже все настоящим именем зовут, один только ты…
— Я уж так привык.
— Да, только ты, — подумала она. — Может быть, это и смешно звучит, но мне нравится.
— Так вот. Ничего страшного не случилось Я столкнулся со своим прошлым. Не понимаю, что все это значит… По правде говоря, я боюсь и… Не зря Густ окружал «Клигисы».
— Я понимаю. — При упоминании о Густе девушка быстро оживилась. Но мои слова она поняла совсем не так. — Я давно хотела тебе все сказать, но Придис был против. Он считает, что у тебя такой норов, что ты ничего не спустишь, а с Густом трудно ладить, он взъестся, будет худо. С Зентой там у них уже крест — он женился, она замужем. Сразу же, как немцев прогнали, он стал председателем исполкома. Как на грех, из Риги пришел запрос насчет твоего отца. Точно не знаю, но, в общем, он сказал, что ты всегда был подозрительный человек и он не станет из-за тебя на рожон переть. Председатель он был плохой, многие на него жаловались. Помню, как его скинули, я была в волости и слышала, как Сергей Васильич, злой такой, кричал: «Не думай, что советская власть на то и есть, чтобы волость твоим именьем стала». Тогда Густ стал командиром истребителей, на многих отыгрался, кто с ним цапался. В волости никто за тебя не заступился, очень уж ты многих на зуб брал. Никому такое не нравится, говорили, что ты барич, что бог весть чего из себя строишь, а других за дураков держишь. Комсорг сказал, что ты насквозь индивидуалист. А слово-то и выговорить не мог, получалось «индуалист». Так и тыкал везде это «индуалист»…
Я засмеялся, действительно смешно получалось. Густ? Ты гляди, какие секреты на белый свет выплывают! Будь сейчас Густ рядом, я бы дал ему по морде, нет, бил бы и бил, пока он с ног не повалится. Но мчаться к нему, чтобы подраться, это мне и в голову не приходило.
— Аннеле, Аннеле! — позвала из дома Мария. Лелле помахала ей рукой и подтолкнула меня: — Побежали, кто первый на дворе будет! Давай, давай! — Когда же я только покачал головой, она припустила одна. Но явно обиделась, хотя и сохранила легкий шаг и веселый голос. Обе с Марией они громко болтали и звенели посудой на кухне, я ушел наверх, повалился на кровать и закурил.
Первые дни дома были для меня праздничными днями, но праздник уже кончился.
Вспомнился вечер, когда мы с Ояром сидели, как скворцы, на перилах объездного моста. Вечер уходил по солнечному багрянцу, по грустным теням, по ржавым ольшаникам; вечер был в дорожной пыли, в цветочной пыльце, он жужжал шмелем, гудел машиной на дальнем повороте дороги. Синий вечер, теплый вечер, звонкий и тихий вечер. Я ощущал биение своего пульса, биение всего мира, чувствовал, что я не стар, а молод, молод… У Ояра это все время было с ним, а я где-то отстал в дороге и вот опять обрел это чувство…
Праздник кончился.
Мы плыли по морю. Качка, гул машин. Мы с Кару играем в шахматы, в игру неожиданно ворвалось десять тяжелых фигур — многолетний опыт насилия, длинные ножи, звериная алчность. Это были урки, которых в конце этапа сунули к нам. Потом их опять убрали. Сперва они держались дружелюбно, давали стоящие советы, старалисьподладиться к каждому, выведать, какие материальные ценности мы сохранили, выяснить, что мы за люди.
Они не читали многих книг, особенно исторических, но, оказывается, хорошо изучили всю суть механизма подчинения. Они начали с того, что вселили страх смерти в ближайшее окружение — вытащили спрятанные ножи и стали проверять вещи, присваивая все ценное. Кое-кто запротестовал, тех «вывели вперед» — вытащили на середину и зверски избили. Тысяча людей дрожала от ужаса, застыла, парализованная ими, так хищники гипнотизируют стаю кроликов. Странно, никому не пришло в голову, что если бы мы сообща бросились на эту десятку, то разорвали бы их в клочья, вернее сказать, всем это приходило в голову, но каждый думал только о себе. Психология толпы, психология жестокой силы.
Во время этого избиения я обратился к Эдгару.
— Неужели мы будем таким дерьмом и дадим вытворять с собой такое? — спросил я. Ох, до чего же гнусна человеческая трусость! Бравый оберштурмфюрер, который со своей ротой чуть ли не выиграл мировую войну, неожиданно из болбочущего индюка превратился в мокрую курицу. Он с жаром согласился, что надо сопротивляться, возмущался наглостью бандитов, но, когда рыцари финки объявились поблизости, первый поспешил предъявить свои шмотки. У кого была какая-нибудь стоящая вещь, тот дрожал от негодования, еще больше от страха и подчинялся силе. Эта десятка урок хорошо знала инертность человеческой природы и робость мысли, не бандитами им надо было быть, они были достойны титулов князей и герцогов.
Но, как сказано в писаниях, святых и несвятых, ничто под этим солнцем не совершенно. Самые железные режимы сталкиваются с протестом, и среди тысяч покорствующих рождается один бунтарь. Это был я. Трусость окружающих только вызвала во мне дух противоречия. Самое смешное, что мне-то не из-за чего было волноваться, меня взяли, в чем я был, и обношенные тряпки мои бандитам были не нужны. И все же я сказал себе: «Пусть только попробуют!» Мое место под нарами было далеко от гнезда владык, но вскоре и здесь появились два льва: рубаха нараспашку, в руке нож, изо рта похабщина. Кару равнодушно раскрыл свой мешок, я сидел, поглубже забившись под нары; «лев» заметил, что мое барахлишко не выложено.
— Эй ты! Давай сюда!
Он потянулся к мешку. А я приготовил обломок доски, им и треснул его. Доска угодила бандиту в висок, он упал на четвереньки и взревел:
— Полундра!
Второй выпустил свою добычу, кинулся сюда, но зубы его лязгнули впустую. Я быстро перебрался в другое место. Эдгар с друзьями потеснился, и я забился к ним.
Знаменитое сражение с ветряными мельницами. Кто потерпел в нем поражение, неужели мельницы? Какое там, они мололи и дальше, но уже на медленных оборотах, — во всяком случае, эти люди держались уже не так самоуверенно, свою бедность мне предъявлять не пришлось. Человек и судьба. Миллиарды бацилл, пули, тюрьмы, голод, побои. И все же брось один крохотный лучик света в царство тьмы, только брось! Бессмысленно тяжело влачится мое время, много рассветов загоралось на замшелых крышах «Клигисов», по вечерам зубчатые вершины елей перепиливают сумерки неба, зимы приходят в поскрипывающей обувке, и в метели трепетно шумят лесные чащобы; с перечной горечью пахнут под окном Зенты маттиолы многих ночей, а рассказанные мною сказки уводят Лелле в царство снов. Она уже стала женщиной, нянчит своих детей и рассказывает им все, что слышала от меня. А меня не будет в живых, я буду нести наказание за несвершенное преступление. «Ибо я господь, бог твой, бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого колена». Истинно. Так сказано в писании…
28
После ужина мы устроили «совещание по вопросам дорожного и мостового строительства». Бросать работу незавершенной было нельзя, я решил стать вместо Эрниса плотником. Подписал трудовой наряд: бригадир Осис. Вся бригада состояла из бригадира и молодого (а вообще-то, в средних летах) Зентелиса, которого дорожный мастер обещал дать мне в помощники. Так мы вдвоем взялись шмыгать пилой и вгонять гвозди. Зентелис оказался хорошим и толковым подручным, деревенский парень, изуродованный на войне, с изорванным осколками лицом, отчего его левая щека порой нервно кривилась. Можно было подумать, что его вечно что-то раздражает, хотя он был сдержанный и очень даже уравновешенный человек. Мы понимали друг друга с полуслова, только в обед затевали долгие разговоры. Как-то жевали свою краюху, и вдруг Зентелис восторженно воскликнул: — Красиво! Не красиво, скажешь?! Чем он восхищается? Сиянием дня? Начинающей уже желтеть ржаной нивой у дороги? Ольхой, буйно зеленеющей в речной лощине? Нашей работой? Я согласно откликнулся: — Вся жизнь красива! — Ты знаешь, я часто об этом думаю. Как тебе, Улдис, кажется, человек радуется только тогда, когда ему что-то принадлежит? — У меня никогда никакой собственности не было. Были права на наследство, но я ими не воспользовался. — Хлеб для меня вырастет и на том поле, которое не мое, — продолжал Зентелис. — Вот потому-то я не в пример Придису, который другое гнет, согласен работать хоть в колхозе, хоть в совхозе, как их там зовут. Лишь бы чувствовать себя свободным и жить на своей земле со своими. А если иной раз подопрет, вспомню пору, когда я был далеко и не был свободен. И особенно приходит на память Волхов. Хочешь, расскажу? — Да, — согласился я. Я знал, что сын старого Зентелиса был призван в легион, но сам он об этом предпочитал помалкивать. Зентелис стал медленно-медленно рассказывать: — Все вроде просто, я часто об этом думаю, очень часто, а словами не передашь, наружу выйдет, ан не такое, как внутри, там я все вижу день за днем, как оно было и чего никогда не забуду. Что там было? Были совсем серое, будто грязное, небо и сырые леса. В том месте, где латышская бригада стояла, болота не было, эти болота в легионерских песнях сочинили. Укрепления были наземные, врыться в землю нельзя было — высокие грунтовые воды не давали. Сначала я служил в тыловой части, укладывали лежневки. Машины так разъездили земляные дороги, что приходилось настил из деревьев делать, и в Латвии немцы так делали еще в первую мировую войну. Деревня, большая деревня, больше Яун-Елгавы, находилась на покатом холме. Жителей всех вывезли куда-то, часть домов заняли военные, а остальные стояли пустые. Нет, кой-какие гражданские были: рабочие и девки, о которых говорили, что они обслуживают немецких солдат днем и ночью. Мы настилали лежневку, возили бочки с бензином с узкоколейной станции на склад на краю деревни. Вместо сигарет иногда пробовали русскую махорку, варили картошку, оставленную в подвалах. Были там и соленые огурцы в бочках. Такие соленые, что во рту сводило. У некоторых жителей были гармошки, пели, играли. Они пекут такие необычные пироги с капустой, где-то доставали муку, была и коза, она давала жирное молоко. А веселья все равно не было, даже когда просверливали винную бочку и надирались до одури. На другой день небо казалось еще серее, солнце холоднее и жизнь мрачнее тучи. Снежная крупа под ногами и колесами — едем на станцию за бензином. Похмелье, охаем, катаем тяжелые бочки. Единственный, кто еще пел, это мой дружок Платон. Я его звал философом, я слышал, что в старину был умный человек с таким именем. У него были светлые кудрявые волосы и очки на носу, такой мелковатый малый, а ведь в легион в ту пору брали высоких. Как его не отправили в вермахт, никто не понимал, даже он сам. Одному я и радовался, что он с нами. Первые дни, казалось, не выдержу того Волхова… Сил не было от тоски, за каким я тут дьяволом: и деревня мне эта чужая, и я для нее чужой, не нужна она мне! А уж хуже всего, что и форма на тебе чужая! И немцы чужие, сдохни они десять раз! Один Платон мне скрашивал все, светлая голова, шутник этакий… Может, из него и верно другой Платон вырос бы, родной земле на славу. И последний его день меня совсем в тоску вогнал. В дороге на нас навалились «ИЛы», груз-то целый остался, а одна пуля угодила Платону в спину. Небольшое красное пятнышко, а он уже и не дышит, пуля глубоко ушла. Ночью сколотили гроб, простой ящик из сырых досок. Тоскливые были похороны: никто не плакал, все стоим и глаза тупые. Человек двадцать нас было. Поле перед нами, сотни могил, на некоторых крестах пробитые каски. Когда-то здесь огороды были, да и теперь, верно, огороды. Опустили мы тяжелый ящик в могилу. Немец, обершарфюрер, речь стал говорить, как и все немцы, будто в нем пружина, потом латышский капрал выкинул этак коряво руку по-гитлеровски, еще раз пересказал речь немца, потому еще и глупее вышло. «Пал за прекрасную Латвию». Жуть! За что пал? За дерьмо собачье пал… Что нам здесь надо, ради чего мы здесь? Чтобы жрать картошку, которую другие вырастили? Так я могу ее честным трудом заработать. Небо было свинцовое, вот-вот придавит, а тут еще макет — железный крест над кладбищем, а на нем: «Unsere Ehre heiß Treue». Дерьмо собачье, говорю, а не честь и верность! Потом я многое повидал, и страшного и тяжелого, а все равно эти похороны занозой сидят в памяти. Глупо все… и тоска. В Латвии многие говорили: а вот теперь мы на своей земле, теперь есть за что воевать, и все равно Волхов у меня из памяти не шел. Потому я и согласен теперь жить по-всякому, как только можно жить. На хлеб я себе смогу заработать…29
К мосту притащился Эрнис. Работать он не думал, осмотрел нашу работу, немного похвалил, немного побранил. «Умельца из себя строит», — чертыхнулся я про себя. Держался он благодетелем, хоть советом готов помочь неумехам, но вскорости выболтал истинную цель: недалеко отсюда косил сено для своей коровенки, заодно помог одному хозяину, понятно, не даром. Заработал, угостили прилично, одну бутылку даже с собой дали. Может, она предназначалась и для чего другого, а не для того, чтобы торжественно водрузить ее на бревно, но Эрнис был не из тех, кто долго может удержать в кармане спиртное. Ну и мы были не святые, скинулись на вторую бутылку, я сел на велосипед и сгонял к ближайшему «шинкарю». Выпили. Захмелели. Эрнис бил меня по плечу и твердил, что я ему нравлюсь и той «мировой девке», инспекторше по животноводству, тоже нравлюсь. Я спросил, как она меня знает, как племенного бычка? И с чего он взял, что я ей нравлюсь? Эрнис сказал: — Неинтересного парня девчонка даже и не замечает, а тут вокруг да около тебя. Приспичило ей знать, как тебя зовут. Я говорю — Улдис, нет, подавай ей и фамилие. Даже обиделась, когда я не стал говорить. А как твое фамилие-то? Понятно, Эрнис только потому не сказал, что сам не знал. Для товарищей по работе я был Улдисом. Болтать надоело, Эрнис загорланил песню, мы подхватили. Ни голоса, ни слуха ни у кого из нас не было, но что это за выпивка, когда не поют. Пели мы с душой. Исполнили обычный репертуар, потом Эрнис завел: «Лишь раз бывает в жизни молодость». Это правда, это мы знали, только вот слов не знали, один припев могли подхватывать. Эрнис уже был хорош (он кружку каждый раз пустую ставил, когда мы с Зентелисом и половину не успевали отпить), вполне созрел для сольной партии. Иногда наш солист срывался и сипел, но не сдавался и последний куплет отхватил во всю мочь: «Начинается молодость, как волшебная сказка…» Он прокашлялся, промочил глотку и закончил: «И, как сказка, кончается словом: «Вот и конец!» Бутылки опустели, пришел конец и нашей маленькой пирушке. Наша с Зентелисом молодость еще не кончилась, а Эрнис держался так лихо, будто моложе нас обоих. Надо скинуться еще на бутылку, неужто так рано занавес опускать?! Мы на это не согласились, собрали инструмент, потому что о работе нечего было и думать. Ужас как недовольный, Эрнис собрался в дорогу, бросив на прощание: — Приезжай, Улдис, к нам. Она каждый вечер теперь дома сидит, тебя ждет. Девица в ажуре! Со стороны Эрниса это наверняка было трепотней «для поддержания разговора», но я-то знал, что он случайно ляпнул правду, знал, что она ждет. — Да уж понятно, — усмехнулся я с тайной мыслью. — Приезжай, как сядет солнце, постучи в мое оконце! — продекламировал Эрнис и неуклюже взгромоздился на свой заезженный дребезжащий «самокат». Я знал, что окно Нормы выходит в яблоневый сад. Мы отнесли инструмент, гвозди и мелкий материал в дровяник ближайшего дома, который был отведен нам для склада. На этом рабочий день закончился. Двигаясь домой, я взглянул на тропинку слева от большой дороги. Еще рано, да и глупо это — слушать нахальные советы Эрниса. Пьяная трепотня. Дома уже отполдничали, а ужина еще только ждали. Лелле, как обычно, поставила на стол кружку молока, творог и вкусный ржаной хлеб. Но есть не хотелось, молоко я выпил, а хлеб только пощипал. Лелле посмотрела, но ничего не сказала — вчера, позавчера она удивлялась, сегодня уже нет. Коротко сказала, что Придис занят по службе, Мария, слышно было, с маленьким. В этом хозяйстве все уже скошено, в копнах и по большей части свезено под крышу, в рабочей силе нужды не было. Я мог быть свободен. Я сказал «спасибо» и поднялся в свою комнату…30
Вошел Ояр. — Ну, что вы сегодня успели сделать на мосту? Я парировал: — Лучше скажи, как там делишки насчет любвишки? Он покраснел и смутился. Конечно, с моей стороны это было беспардонно — воспользоваться минутной слабостью ближнего. В тот вечер, когда мы с ним сидели на перилах объездного моста и когда надоело говорить о стройке, мы вдруг стали сентиментальными и разоткровенничались. Ведь мы же во всем были похожи, поэтому открывались друг другу. Он сказал достаточно много, чтобы я теперь мог подпустить ему шпильку. Он не сумел ответить тем же, для этого он был слишком порядочный человек, а стало быть, и беспомощный. Он только сказал: — Осенью я уматываю отсюда. В Ригу. — Учиться? — Да. Ну и… главное-то здесь уже сделано, все остальное мелочь. Хотелось бы работы посерьезнее. Подмывало спросить, уже не собирается ли он случайно заделаться начальником целого строительного управления. Но я сдержался, это было бы нечестно, потому что я-то знал, что именно Ояр думает. Он хотел сделать что-нибудь великое. К тому же он собирался бежать отсюда, он же не мог знать, что меня ждут, но зато знал, что его не ждут. — Рига все-таки манит, — сказал он, — а я дитя города. Я подумал, что лес в «Клигисах» мне милее городского камня и шума, но если сейчас не могу здесь, то в Риге, пожалуй, и вправду лучше, чем здесь. Праздник кончился, снова я видел жизнь, какой она есть. Я спросил: — А где ты в Риге жил? — На Артиллерийской улице. У парка Зиедоня. — А я против площади, где были казармы конной полиции. Мы же с одной улицы, Ояр, мы же по соседству выросли! Ну и что особенного? Но мы, как малые дети, обрадовались, закурили, стали засыпать друг друга вопросами, рассказами, возгласами. Наш разговор, начавшийся вяло, даже с нехорошей подковыркой, тлевший, как сырые дрова, вдруг затрещал. Ояр: — Ох, как мы в ту троицу лупцевались с ребятами с Латгальского предместья в парке! Скамейки попереворачивали, клумбы вытоптали. Одна тетка завопила: «Тьфу, хулиганье паршивое, чистые бандиты из таких повырастают!» Жуть что было. К Грунте, точно, к Грунте ходили покупать. Обе продавщицы были хорошие тетки, одна, правда, ворчливая, а другая душа человек. Да, да, и рожки, и «рундштюки», у них же своя пекарня была; мой дядя у Биркгана работал — была такая электромеханическая мастерская на Мариинской улице, недалеко от магазина Грунте, — он чинил эту «рундштюковую» машину. Жуть какая тяжелая, хоть и маленькая такая таратайка, работала она так: на чугунную плитку нальют тесто, ногой нажмут — бам! — и сразу не то двадцать, не то сорок штук вырубит и завернет… Не помню уж сколько. Да, кондитерскую Павасара помню, как же такое не помнить! Подвальчик недалеко от Таллинской улицы. Ломилась от пирожных, хорошие пирожные, это я знал, хоть мы и редко могли их покупать, больше в окно смотрели, как их укладывает в картонную коробку красивая продавщица. — Ояр засмеялся. — Все мы, наши ребята, в нее врезались, хоть никто и не проговаривался. «Пойдем поглядим, кто какое пирожное купил бы, если бы деньги были!» А сами больше на продавщицу пялились. Были бы деньги, каждый день бы там покупал, да вот не было их, в бедности росли. Когда еще отец был жив — он работал в чугунолитейной «Стелла» на Красильной улице, — тоже ничего хорошего не было, потому что он бутылочку любил. Я рано осиротел — отца по пьянке в трансмиссию затащило, так втянуло, что своим телом передачу заклинил, размололо, конечно, врачи зря старались. Старший брат уже работал, мать дворничихой была, тем на квартиру зарабатывала; жалованье было маленькое, но в деревню пастушить меня не посылала, не дам, говорит, своего ребенка заездить. Может, оно и не хорошо вовсе, что я все лето по улицам рыскал. После, когда подрос, сам вызвался в деревне подрабатывать, особенно в немецкое время. А в детстве об этом и не думал, шалопутничал, на пирожные и красивую продавщицу смотрел. — Меня тоже не посылали пастушить, хотя отца тоже не было, — вставил я. — В войну ты жил на Мариинской? Знаю, знаю… — А еще на углу Мариинской и Матвеевской был такой фруктовый киоск, — сказал я, — там продавали мороженое, только не между двумя круглыми вафельками, а в таком вафельном конусе, шесть сантимов порция. Мы же оба с трудом сшибали эти сантимы… Да, странно, что не встречались, хотя наверняка встречались, только не познакомились. Рядом было кино «Аполло», иногда можно было пройти и нам, вот мы, огольцы, и шныряли. А за Матвеевской кино «Скала». Ояр покачал головой. — Никогда там не бывал… наверное, молод еще был, все же на два года моложе тебя. В моей округе был «Ориент», туда пускали всех огольцов. Когда начинался контроль, мы выскакивали в запасный выход. Но, видно, владельцу все равно было выгодно — и риск и «подмазка» кого надо. Редко когда я забредал дальше, в «Южный полюс» на Столбовой улице, там был настоящий полярный холод — зимой этот сарай не отапливали, и если уж холодало, уши можно было обморозить. Как-то раз завалился и в «Прогресс» на углу Мариинской и Парковой… Ну, понятно, летом тридцать девятого, когда шла «Трагедия половой жизни». Ребята со всей Риги мчались туда, и каждый, как выходил, плевался — «выкинул свои деньги на такую дрянь»… Очень уж названье было зазывное… Он самозабвенно болтал и болтал, вспоминал имена кинозвезд и борцов, участвовавших в чемпионате в цирке Саламонского, свои и чужие проделки, любимые сорта конфет, школьных товарищей — он учился в «извозчичьей академии» на углу Кришьяна Барона и Таллинской, — похождения на Гризинькалне. В потоке его воспоминаний снова возникли «Белами, Белами», шлягер «Чужой мне была волшебная песня любви», красивые, бедно, но ярко одетые девушки на страницах иллюстрированных журналов и в витринах кинореклам, красавица с алыми губами, искусственной завивкой, с глубоким вырезом, обнажающим абрис груди, красавица, которая в белом халате продает вкусные пирожные за окном, над которым висит золотой крендель. Красавица оживляла серую улицу; мы были молодые ребята, наши души упали в переполненный звучанием, движением, соблазнами мир, точно куски сахара в дымящийся чай, мы жаждали впитать все, но сами растворились, растаяли. Жажда красоты заставила нас обоих тянуться к Норме — она красивая, стало быть, она идеал. Великое право молодости — знать без лицезрения, верить без сомнения, быть убежденным без понимания. — Молодой и дурной был ты, парень! — покатывался Ояр, а я вдруг помрачнел. Я уже потерял веру в красоту жизни, и не по своей воле. Ояр все еще молодой, дурной, у него этой веры хватает, а я не верю, со мной что-то неладно. Молодость золотая, дивное диво в цвету — серая роса, серая туманная дымка, куда закатилось мое солнце? Ояр говорил, а я даже не замечал, слушаю я или нет. Он дымил папиросой, пускал дым, мотался по небольшой комнатушке, иногда размахивал руками. Я сидел… Видел тянущееся мимо кладбище, под каждым холмиком там зарыта непрожитая жизнь. Сотни тысяч нерасцветших юностей — возле красной черепичной кровли, приплющенных немецких «дорфов», под головешками русских деревень, среди белых березовых курземских рощ, в таежной тени. Кто скажет, в какой братской могиле зарыта моя молодость? Но какой смысл дознаваться, подумал я, все равно же я на колени не кинусь, не заскулю. Ояр спохватился, выдернул черные карманные часы — отцовское наследство, как он говорил, и воскликнул: — Ну и проболтали! Мне же сегодня вечером обязательно надо к комсоргу заскочить. Он обещал в перерыв между сенокосом и жатвой сколотить молодежную группу и бросить ее на прорыв — на мост. Своими силами не справимся. — Время еще есть, — успокоил я свое начальство. — Рано, все равно никого дома не застанешь. Поедем вместе. — Ты со мной? — удивился Ояр. Ему было неловко, он же слышал, что я «индуалист», только думает, будто я этого не знаю. — По дороге… — Я сознаю, что Ояр мне нужен для маскировки. Если мы вместе уйдем, никто ничего не заподозрит…31
Я побарабанил в стекло. Ее руки распахнули окно, яблоневая ветка с суровой шутливостью похлопала меня по плечу, когда я влезал в комнату. Так парни лазают к девкам, так они испокон века делали: в народных песнях, в приличных и неприличных рассказах. Она села на кровать, постель была не разобрана, она склонила голову, сложила руки на груди. Я устроился рядом, кровать была белая, углы темные, роса в яблоневом саду горькая. — Я ждала тебя, Улдис, — сказала она. — Потому я и приехал. О чем мы могли говорить? Норма постелила постель, руки у нее были красивые, узкие, пальцы длинные. Я боялся нечаянно назвать Талиса, оберштурмфюрера Осиса, наверняка и она боялась. Лучше всего молчать и не дразнить судьбу, кричать можно потом. Появился лунный свет, постучал в оконное стекло. Белый поток, белая подушка, белые простыни, ее светлые волосы и мои руки. Идет тишина от прошлого к будущему, не в наших силах что-то остановить. Тишина идет по тропам вечности, скоро новое утро постучит в окно. Я люблю тебя, красивая кукла! — Я не кукла, я человек. Я хочу быть красивой, я хочу быть любимой, этого хочет каждый в такую белую ночь. Я знал только ее имя, и она не знала обо мне ничего больше. Ее дыхание скользило по моему лбу. — Мне страшно. Я боюсь… Мы были двумя световыми лучами, которые шли параллельно, но где-то в бесконечности времени и пространства пересеклись. И тут к нам привязался Талис. Отойди от меня, сатана! Но Талис был не сатана — жестокий человек, скудоумный, с тупой напористостью. Силы преисподней можно отгонять, комплекс бесчеловечности куда опаснее — он не нападает, он выползает из глубин, обвивается и душит. Демоны, стучащиеся изнутри. Талис с автоматом немецкого образца. Почему он всякий раз с огнестрельным оружием? — Не ори таким дурным голосом, — сказал Талис. — Мне не нравится огнестрельное оружие. — Ты же сам стрелял и убивал. И он говорит сущую правду. Для своих деяний человек всегда находит какое-то оправдание, в своих слабостях и преступлениях мы всегда норовим обвинить других. Старая, известная истина. Конечно, я рубил в ответ, но мясником никогда не был. Свежеватель людей! Ах, если бы Талис вдруг загорелся от ярости, но нет, он был и остался холоден, тупо самоуверен. Нужный труд, начальство приказывает, все происходит чисто автоматически, как на конвейере. Одна группа солдат (солдат?!) окружает деревню, очищает дом за домом, сгоняет в толпу. Аппарат работает примерно таким же образом, как колбасный цех при бойне: одни заготовляют материал, другие стучат ножами, стоят при машинах. — Я стрелял, — сказал Талис, как о чем-то нестоящем. Хорошо оплачиваемая работа, главный колбасный мастер. — Девки были голые, но даже у самых охочих из нас от этого не было удовольствия. Понятно, такая работа. — Он говорил о своей «работе», как плотник, укладывающий настил на строящийся мост. И еще раз: отойди от меня, сатана! Неужели в тебе нет ничего человеческого? Ты же уничтожал своих собратьев, будто у них не было права ходить под цветущими яблонями, гладить младенческие волосы, любить! Да ведь они были куда лучше, умнее, порядочнее тебя! Талис: — Это были неполноценные люди. Евреи. И я вспомнил день, час, минуту… Был полдень, июльский полдень, было такое яркое солнце, было так светло, была зеленая листва лип. И я шел по липовой аллее. Улица была тихая и пустынная, навстречу мне шел одинокий человек. Почему-то он держался обочины, суховатый сутулый человек. Я заметил на его груди желтую звезду. Аллея была для него запретной. Он вскинул на меня глаза, мы переглянулись… Усталость, горький упрек, растерянность, покорность выражали эти глаза — человеческие глаза! — и какой-то вопрос, на который я не мог ответить, от которого мне стало стыдно. Я споткнулся, шаги его стихли за моей спиной. Я пошел дальше, я забыл… Нет, вру, не забыл я, но ухитрился воздвигнуть в себе какой-то барьер, отделивший его от меня. А это больше, чем забыть. Днем позже я снова видел их. Это были несколько женщин, они шли спокойно, сдержанно и смело смотрели в глаза тем, кому разрешалось разгуливать по аллее, кому не надо было носить желтую звезду… Этих «счастливчиков» хоть и звали «унтерменш», но с аллеи не сгоняли покамест. Я поспешил отдалиться от них, я снова постарался забыть. Как легко мы забываем и как дешево — за чечевичную похлебку — продаем и продаемся. А они отказались быть забытыми. С голубого, солнечного, чудеснейшего рижского неба сыпались, сыпались, сыпались желтые звезды… Они прилипали к ребенку, женщине, отказывавшейся приниженно склоняться, к молодости, заставляли отступать к обочине, к краю улицы, к краю вырытой ямы… Желтая звезда обожгла Талиса, как головня шакала. Он втянул голову в плечи, он вдруг утратил самоуверенность и принялся оправдываться, словно мальчишка: — Ты читал «Протоколы сионских мудрецов»? Знаешь, какие они планы затевали против нас? Ага! И у него нашлись слова. И ведь не из «По ту сторону добра и зла» Ницше, не из «Моей борьбы» Гитлера, не из «Мифа 20-го столетия» Розенберга. Нет, «Протоколы сионских мудрецов»! Я-то его считал полной орясиной, а он себе слова нашел. Я закричал: — Ты не слова убивал, это были люди, пойми, люди! Талис: — Евреи — отбросы человечества, а их главари — ядовитые змеи. И славяне — тоже неполноценные люди… Я вспотел от ужаса, я вспотел и почувствовал тошноту. Сыпались эти желтые звезды; и люди, люди смотрели на меня: растерянно, вопрошающе, непокорно, недоуменно, укоризненно. Как ты мог забыть и отвернуться? Как ты мог быть безразличным? И в будущем отвернешься и забудешь? Всегда будешь равнодушным, пока тебя не тронут? Всегда и везде забывать, молчать, отворачиваться… Бежать, бежать от всего этого! Я ли кричал это про себя, или умоляюще шептала Норма? Мы бежали от Талиса. Мы бежали от всех, идем по пустоте и тишине, и все же по-прежнему откуда-то падает мрачная тень. — Норма, ты помнишь Приедкална? — Я его не видала. О нем рассказывали страшные вещи. Не вспоминай… — Во сне я столкнулся с Приедкалном… Это вовсе не казалось сном. Он передал мне свои слова; они были ужасны, эти слова, переданные мне, но я их забыл. — Нашел о чем говорить! Мне страшно. — Норма начинает плакать. — Потому и говорю, что мне самому страшно. Она плачет. Я спрашиваю: — Скажи, ты меня любишь? — Не знаю. Наверное, если ты здесь. — Ты всех любила, с кем спала? Она не отвечает…32
Строительство моста подходило к концу. Был уже последний срок, в уезде дорожному мастеру напоминали об этом каждый день, но у рабочих началась жатва. Солнце жарило в небе, рожь звенела, как полчище серебристых кузнечиков; иной раз я укладывался в тени густых колосьев, покусывал полевицу и думал о красоте мира, которая вся принадлежит мне, и об аромате свежего каравая. И если мне от этого каравая достался ломоть потоньше, то все же это ломоть жизни и силы. Как мало надо, чтобы человек чувствовал себя счастливым, а может быть, и много, очень-очень много: свобода, хлеб, здоровье, улыбка девушки. Небо было синее-синее, без единого облачка. Мы поставили и укрепили последнее звено перил, убрали щепу и остатки материала. Мост был готов. Зентелис пошутил, что дорожный мастер только потому не является, чтобы не ставить пол-литра; мы, конечно, знали, что Ояр занят в исполкоме, он был неподалеку, когда убили комсорга волости. Об этом событии ходили разные слухи, умы людей были в смятении, поэтому всяк добавлял что-нибудь от себя. Ко всему еще были такие, кто ручался, что этот молодой парень, не умея обращаться с оружием, сам убился, говорили и о драке из-за девицы. Придиса я эти дни не встречал, Ояра только на момент. Поди узнай, что там случилось, как случилось, ясно одно, что комсорга, который честил меня «индуалистом», больше нет в живых. Мне пришел на ум Талис, но это казалось невероятным, ведь он ошивался в дальнем конце волости, по сути дела даже в другой уже волости, потому что граница проходила по Клигисову лесу. Зентелис отнес инструмент, я сел верхом на перила и оценил наше старание. А что, ничего, мост почти в двадцать метров длины, речка куда уже; правда, у нее довольно широкие вымоины, вот мы и перекрыли их. Временный мост выглядел жалким и крохотным; конечно, по сравнению с сооружением из камня и металла и наша постройка чистая чепуха, но ведь своими руками… Я вскочил. Подкатил какой-то велосипед, и тихий голос произнес: — Здравствуй, Улдис. — Здравствуй… — Я растерянно спрыгнул с перил. Похоже, что последнее время Норма вновь расцвела — загорела, скрылись следы преждевременного увядания. Но сейчас она не выглядела радостной, наоборот, какая-то удрученная, смотрит так, будто ждет чего-то плохого. Я пошутил: — Ты первая, кто едет по новому мосту. Вот и ставь бутылку. — Уже ездили, — она показала на следы шин в песке. — Да. Мы уже погоняли перед тем, как ставить перила. Но после торжественного открытия ты первая. Она неожиданно: — Ты — Улдис Осис. — Да… — На миг мне показалось, что сейчас же из-за ее спины вынырнет Талис с чем-нибудь огнестрельным в руках. — Ты очень похож на своего отца. Я пожал плечами. Против моей воли лицо у меня стало злым. — Ты все знаешь обо мне? В голосе ее было что-то такое, что должно было бы тронуть, но я разозлился. — А что вообще можно знать?.. Я попросил бы больше никогда не упоминать… Осиса. Я случайно встретил его в немецкое время, но лучше бы не встречать. А что, он тут где-нибудь хоронится? — Кажется, в Риге, но точно не знаю. И я его после ухода немцев не видала, но боюсь… Улдис, хоть бы мне больше не бояться! Мне кажется, что он и после смерти будет моим мучением. Я смотрел на нее и думал о Талисе. Почему Талис хотел сделать меня своим связным, когда есть Норма? Может быть, у них действительно больше нет ничего общего? Талис же шастает где-то совсем в другом месте. Но у Нормы есть все возможности ездить повсюду, многое знать — например, то, что происходит в волостном центре, — и сообщать Талису. — Почему ты так смотришь на меня? Вопрос донесся как-то издалека. Я встряхнулся и вернулся к Норме. — У тебя был такой же взгляд, как у Осиса… — Хватит! Норма опустила голову и торопливо принялась рассказывать: — Может быть, ты поймешь, что я была жуткая дура, шестнадцать лет — это же не мудрая старость. Сельская девчонка в рижской гимназии, и блестящий учитель, воплощение мужественности, которому все мальчишки подражали, которого обожали все девчонки… И вот он осыпает тебя красивыми словами, обещаниями, подарками… Улдис, я рассказываю это потому, что мне надо высказаться, я не хочу врать, я… — она заметила приближающегося Зентелиса и замолкла. Голова ее все так же оставалась склоненной. Какие красивые у нее волосы, — право, Норма в избытке наделена наружной красотой, о которой мечтает каждая девушка, но дается она только редкой. Я знаю, какое волшебное у нее тело… Я закусил губу. Что она мне тут рассказывает о своем учителе-соблазнителе, как будто мне это надо знать, как будто я верю в сказочки о демонических казановах. Небось был последний пьяница, но, ты гляди, мы уже умеем подать это… Дура, кукла заводная! Она быстро и тихо попросила: — Ты будь сегодня. Приезжай, пожалуйста. Я жду… — И она повернулась от меня. — До свидания! Мне даже самому стало как-то неприятно от неестественной резкости своего голоса. Зентелис уже был рядом. Она уехала. И мы вскоре двинулись в дорогу. В том месте я, как обычно, посмотрел налево: Норму, разумеется, не увидел, но в мои лета знать, что тебя ждет такая красивая девушка, это уже значит, что нет никакой возможности не поехать. Талис совсем выскользнул у меня из головы, и величайшей неожиданностью была встреча с ним здесь, где это и представить было невозможно. Он возник на обочной тропинке, ведущей от шоссе к усадьбе Придиса, и встретил меня направленным автоматом. Будто будет стрелять, если я не остановлюсь. Я неохотно притормозил и уперся левой ногой в землю. — Чего опять надо? — Охота тебе или неохота, а разговор будет большой, — сердито сказал он. — Решительно неохота. — Сойдя с велосипеда, я двинулся вперед. — Освободи дорогу! — Я почувствовал, как в грудь мою ткнулось что-то твердое, это был ствол автомата. — Не дури, шальной! — крикнул Талис. — Бывает, и нечаянно курок нажмешь. Мы стояли вплотную и смотрели друг на друга. Пес с ним! Я пер дальше, ствол автомата все больнее упирался мне в ребра. Талис был послабее меня, он невольно отшатнулся. — Дай дорогу! — Не лезь! Он шипел от злости и усилия, я позволил велосипеду упасть, рванул левой рукой за ствол, а правой дал Талису под ложечку. Очереди я не услышал, но точно железные когти рванули рубаху на боку, резанули по коже… Талис выпустил автомат, упал на колени и стал ловить воздух. Я поднял велосипед, закинул автомат за плечо, посмотрел, как Талис отползает от тропинки, и сказал: — На прощанье прими совет. Гляди, как бы самому выкарабкаться, а не тяни с собой других. Когда убиваешь, самое страшное не то, что сокращаешь жизнь каких-то людей. В конце концов все умрут, может, даже от такой нелепой болезни, как рак. Куда страшнее то, что теряешь уважение к человеческой жизни. Талис простонал: — Скотина, что ты дерешься! Я сел на велосипед, а он умоляюще закричал: — Эй, погоди, ну, на минутку! Я придержал, обернулся через плечо. Талис встал, вытер с губ слюну. — Отдай оружие! — Иди!.. Я уехал. Сзади зашлепали выстрелы. Но мимо меня пули не просвистели. Неподалеку за березняком было болотистое место, я высмотрел озерко с чистыми оконцами. В одно из них закинул Талисов автомат. Плюх! Он погрузился и исчез на вечные времена. Хорошо бы закинуть сюда и все остальное оружие, утопить лживых пророков, политиков-пустобрехов. Но ведь, как известно, у каждой бездны, вопреки ее названию, имеется дно… Просто не хватило бы места, а оружия наготовлено выше головы…33
Придис у конюшни запрягал лошадь; Мария, Лелле и малыш в поле. Я поздоровался, вытащил из колодца ведро, напился, сполоснул лицо. Придис подвел напоить лошадь и удивленно воззрился на меня. — Ух ты, кто это тебе рубаху так? — На работе располосовал, — буркнул я и собрался улизнуть, но он схватил меня за рукав: — Не валяй дурака. На какой это работе тебя порох так обожжет? — Слушай, Придис, — сказал я. — Случается человеку обжечься. Хорошо, что только так. Придис не отступался: — Я слышал в исполкоме, будто бывший унтерфюрер СД Таливалд шляется поблизости. — В исполкоме? Придис уклонился от моего взгляда. — Будь осторожен. Мы за тебя тревожимся. Больше он ничего не мог мне сказать. Я привел в порядок свои ободранные ребра, надел другую рубашку, решив было, что все в полном порядке, но вечером Лелле с Марией принялись врачевать меня, я с неохотой уступил. Мне положили на ребра какую-то мазь и всего обмотали кругом. Я не слышал ни единого вопроса, как и что случилось, и был за это благодарен — рассказать я бы все равно не рассказал, отпали ненужные увертки и отговорки. Я поблагодарил и поспешил укрыться в своей комнате, я хотел поехать только с сумерками. Я сознавал, что последнее время слишком обособился: понятно, нехорошо, ну а что другой делал бы на моем месте? Женщины меня не тревожили. А вот Ояр — да. — Придис сказал… — неуверенно начал он, входя в комнату, уже заготовленную заранее, как я понял, окольную речь, но потом замялся, сунул руки в карманы штанов и спросил прямо: — Насколько я понимаю, и тебя хотели ликвидировать? Лежа поперек кровати, я смотрел, как он стоит, долгий, тощий, насупленный. — Там вон стул, — сказал я. Ояр сел, и тут получилось так, что я рассказал о своих встречах с Талисом, о первой, второй и третьей, последней. Весь рассказ Ояр просидел, как приклеенный к стулу, только насупленность сначала сменилась любопытством, потом настороженностью, сочувствием и наконец возмущением. — Что ты натворил? — почти театрально воскликнул он и именно этим благородным пафосом и разозлил меня. — Отпустить восвояси такого! Ты знаешь, сколько людей уже убито, безоружных людей! Единственная их вина была в том, что они выступали за коллективное ведение хозяйства или носили комсомольский значок на груди. — И это непременно Талис… — сердито, но растерянно буркнул я. — А ты знаешь, что было в ту ночь, когда мы поехали вместе и когда я был у комсорга? — Его убили в ту ночь? Ояр передернулся. — Ту проклятую ночь я не забуду никогда… Ты, может, не знаешь, что он честил тебя индуалистом, парень любил умные слова — есть у людей такая слабость, — только не каждый раз умел их правильно выговаривать, не всегда знал их истинный смысл. Но разве он виноват, что тебе нравится подмечать чужие слабости? Вообще-то был он хороший парень, вроде Придиса, только свое хозяйство не так у него к сердцу прикипело, за колхозы целиком стоял, потому его и ненавидели. Мы за всякими разговорами задержались, туда да сюда заезжали… Уже темно было, когда я до его усадьбы добрался. А там уже все… Бедная мама воет, пес недобитый визжит!.. Отец от битья не в себе, оглушенный. А сын… Говорить страшно. Мать в меня вцепилась, кричит, что за помощью надо ехать, а как это сделать, сама же меня не выпускает. Те с первыми сумерками явились, несколько человек с оружием, собаку пристрелили, мать с ног сшибли, отца били и кричали, что и родителей этого змееныша жалеть нечего. Так себя вели, будто им весь мир принадлежит. Какие-то остервенелые. Сына за волосы вытащили на середину, поставили на колени и говорят: «Молись, комсопля». А он им: «Не бейте мать, она вам ничего не сделала». Молиться так и не стал. «Ах, не станешь?» Все лицо ему разбили. Мать вопила, умоляла, а ей только пинки да брань. «Молись или…» А он: «Нет!..» «Вот дуло, понюхай! Пули не боишься?» «Да стреляй, стреляй, убийца!» «Ты и патрона-то не стоишь!» Улдис, если бы я появился раньше… они бы и меня не пожалели. Но будь у меня тот автомат, который ты закинул… Я бы не раздумывал, я бы, знаешь как стрелял! Я бы убивал! Бесчеловечность — это тебе не черная туча на чистом небе, бесчеловечность — это жестокие, кровожадные люди. А таких уничтожать надо!.. «Ты и патрона не стоишь!» Мать волосы рвала. В истерике каталась. Хоть наши сельские женщины привычны сдерживаться, от боли не кричат, но тут сама боль в ней кричала… Она уже не в своем уме была, ведь у нее на глазах сына убивали, единственного сына. Суковатым березовым поленом — только стук стоял!.. Я как увидел его, мне худо сделалось. Всю ночь глаз не мог сомкнуть, и заснуть страшно — привидится все это и к горлу подкатывает… Не будет он тебя больше индуалистом звать. Березовое полено — и вместо головы какая-то каша. А ты автомат закидываешь в болото… Обычно Ояр в минуты возбуждения сновал по комнате. Но в этот раз просидел на месте, только иногда взмахивал руками. Вот он опять вспыхнул: — Разве Талис не один из тех, кто его убил? Наверняка… За что они дерутся, против чего? Они хвалятся своим истинным латышским нутром и уничтожают латышей! Тут и и подал голос: — Я за то, чтобы всех убийц судили по закону, по совести, по тем принципам, которые признают на Нюрнбергском процессе английские, американские, французские, советские судьи. Всех убийц, больших и малых; всех предателей, больших и малых; всех мучителей и истязателей в рабских лагерях, больших и малых. В таком случае я отправлюсь в лес и притащу Талиса на суд, живого или мертвого. Ояр: — Не требуй невозможного, держа руки в карманах, а борись за человечество, которому единственно это под силу. Это иезуитство — не делать ничего только потому, что не в твоих силах совершить все. Еще раз спрашиваю, по какому праву отпустил убийцу? Он будет продолжать свое, и с каждой новой жертвой соучастником будешь ты. Ты уже не сможешь ссылаться на грехи отца. Я отрезал: — Стало быть, мне надо было с оружием пригнать его к Густу? Нет, друг, этого ты от меня не требуй. Ояр: — На месте его пристрелить! — Стрелять в безоружного? Я знаю, убийца… Но выполнять смертный приговор — это дело палача, а я не палач. Ояр: — Зато он палачествует спокойно… с твоего великодушного попущения. — Ладно, Ояр, — сказал я, — мы можем в таком случае разработать разные варианты. Пусть будет так: я Талиса разоружил, но в какой-то момент не мог перебороть себя — поднять оружие и уничтожить его. Талис воспользовался моим минутным колебанием, забежал за березу и выстрелил из своего парабеллума; я ответил, но ни тот, ни другой не попали. Отстреливаясь, он убежал, а я, расстреляв обойму, уже не рискнул гнаться за опасным преступником. Он будет продолжать зверствовать? Да, и при первом удобном случае выследит меня. За ошибку, за минутное мягкодушие я расплачусь с лихвой. Ты доволен? Таким образом, мягкотелые скоро выведутся в мире, останутся только настоящие смельчаки, у этих не дрогнет ни рука, ни сердце. Ояр был сбит с толку, прокурорский запал его угас, рот только раскрывался, но ничего произнести не мог. Только спустя какое-то время он растерянно и зло рассмеялся: — Ха! В конце концов, ты это серьезно или дурака валяешь? — Когда я валял дурака, меня чуть не подстрелили. Бывает, что стреляют с величайшейсерьезностью, это уж как когда. — Я хочу не обсуждать варианты, а говорить именно о том, что имело место в жизни. — В том-то и дело, что в жизни возможны всяческие варианты. Если бы, например, Талис сегодня выстрелил быстрее или в тот вечер… Ояр резко прервал меня: — Да, в тот вечер! Если уж тебя интересуют варианты… Незадолго до меня у комсорга была инспекторша, та красивая девушка… — Его голос взволнованно дрогнул. — И если бы те появились чуть раньше, то и не только я, а и она, она… — Ояр замялся, голос его вновь сорвался. — Послушай, что с тобой, почему ты такой странный? — Она… Норма была у комсорга до тебя? — промямлил я, хотя и старался держаться твердо. То-то она и расхлюпалась ночью. — Я же тебе сказал. — А по какому делу? Что я так много болтаю? Ясно же, разведывала, чтобы Талису не пришлось зря прогуляться, — комсорг часто задерживался в волостном центре за полночь. Ояр пожал плечами, на лице его полнейшее недоумение. А в моей башке вспыхнула еще одна гнусная догадка: так вот почему она понесла свою исповедь насчет мужественного учителя! Как же я мог забыть, что в той гимназии до своей карьеры в гитлеровской службе безопасности работал учителем мой отец! Мать уже ничего о нем не говорила, не разрешала даже имя произносить, но все же в какой-то связи я слышал об этом. О господи, какой я болван!.. Сегодня вечером ома ждет меня — до Талиса, после Талиса, вместе с Талисом… Осис в Риге? Когда она лжет и когда говорит правду? Может, и сама того не знает, какая пластинка вложена в куклу. Я вздрогнул, нервы были натянуты так, что казалось, сейчас дверь распахнется, уже распахивается и войдут Талис с Осисом. Я так таращился на дверь, что заставил и Ояра кинуть быстрый взгляд через плечо. — Все сказано, — заявил я. — Прошу тебя убраться, я хочу быть один. Ояр покраснел и вскочил. Было ясно, что в своей комнате я его больше не увижу. Почему такая тишина? Дом как вымер. И я понял — Лелле больше не веселилась, не смеялась. Лелле замолкла…34
И снова мы работали. Недалеко от волисполкома на крутом повороте дороги врывали предохранительные столбики. Я и Зентелис, как обычно. Столбики делали из бракованных бревен, ставили их только для того, чтобы списать нехватку материала. И не хотелось дорожному мастеру идти на это, но как-то же надо выкручиваться, для себя он посовестился взять даже остатки старого моста. Да и дрова ему зимой не понадобятся, он уже нацелился на Ригу. Именно поэтому дистанцию надо привести в полный порядок, чтобы значащееся на бумаге тютелька в тютельку совпало с действительностью (выражаясь канцелярским языком, чтобы зафиксированное в документах соответствовало положению вещей). Сам дорожный мастер с горечью называл это бумажной войной; я хорошо понимал его недовольство: после убийства комсорга сорвалась обещанная помощь комсомольской бригады, прорыв надо было ликвидировать силами самой дистанции, а мы теряем время, занимаясь сущими пустяками. Что делать, сюда везти стройматериал, туда везти, часть бракованная, что-то наверняка пропадет из неохраняемых складов (тут уж где-то промашка и самого Ояра), вот тебе и недостача. Начальство было не в очень дружеских отношениях с нашим мастером, поэтому он не рассчитывал на то, что удастся поладить со своим преемником. До того как он явится, надо, чтобы все было в ажуре; и Ояр разъезжал по округе с потемневшим лицом, в разговоре был краток, раздражен и даже несколько патетичен. Со мной он держался подчеркнуто холодно и официально вежливо. Я бы охотно поговорил с ним непринужденно, дружески, как тогда, когда он, смеясь и размахивая руками, вспоминал былые годы и проделки на улице нашего общего детства. Тогда он был настоящий, отбросил усвоенный тон и самим им созданную скорлупу, положенную «товарищу дорожному мастеру». Несколько раз я мысленно говорил ему: «Ояр, у тебя, наверное, как и у меня, осталась манера всех мальчишек — спрыгивать с трамвая до остановки. Как это было здорово: выбросишь ноги немного вперед и, ударившись подошвами о мостовую, семенишь вперед по инерции. Раз я покатился кубарем и потом с разбитыми коленками неделю пролежал в постели. Хорошо хоть то, что за эту неделю материн гнев прошел и я избежал порки, которую она посулила и на которую вообще-то не скупилась. Бывали случаи, когда она колошматила меня чем подвернется, вопя при этом: «Я из тебя выбью отцовскую пакость!» Так и получилось… А ты, Ояр, брал книги в детском отделении пятой городской библиотеки? Я прочитал все, что там было, Купера, Майн-Рида, Лондона, Жюль Верна, Сенкевича… А вот на детских утренниках в «Палладиуме» ты, наверное, не бывал. Это было шикарное кино, где подростки напрасно канючили у кассы, да они и к кассе-то не попадали, швейцар не пускал. Но по воскресеньям там бывали так называемые утренники, на них показывали культурфильмы для маленьких; я иногда доставал контрамарки и, приплатив двадцать сантимов, мог гордо сидеть на балконе. Утреннее представление уносило в сказочные сады, впоследствии я водил по ним маленькую Лелле. Гидроплан поднимался с прибрежных вод и летел высоко над джунглями Борнео; потом был остров Бали с красивыми островитянками, которые и не думали прикрывать свою красивую грудь, только непонятным образом она производила меньший эффект, чем глубокое декольте белой кинозвезды; снова шли джунгли на Индокитайском полуострове, и в глубине их раскиданные красочные храмы и огромные города, потом было течение Амазонки, пампа, плавучие торосы, сквозь которые с пронзительным шуршанием пробивался ледокол, и еще много всего. Открывался весь мир, яркий, красочный, широкий, и заставлял почувствовать его заманчивость, которая веками увлекала смельчаков за моря и океаны. Шагая из кино домой, я торжественно клялся себе, что, когда вырасту, поеду в прерии, пустыни и джунгли и в Заполярье тоже. И вспомни, Ояр, что мы все были за абиссинцев и надеялись, что итальянские захватчики получат по шее. В газете «Яунакас Зиняс» печатался роман Рутку Тева «Потомок царицы Савской». А потом сенсация с королем, который не пережил «своего» рождества — он должен был стать королем после рождества и, не дождавшись коронации и будущего рождества, вынужден был отречься от престола, потому что полюбил уже дважды разведенную, а этого желудки английских консерваторов не могли переварить. Господи ты мой! О чем только тогда газеты не писали: о Бедфордском епископе, который, отчитывая короля в своей проповеди, показал всю эту катавасию, а сам потом делал невинное лицо, о брате престолонаследника, какой он застенчивый тюфяк, даже своей жене не решался сделать предложение, и за это взялся бывший король, но зато эта жена была не меняющей мужей американкой, а настоящей английской леди, о старшей дочери брата престолонаследника, которой предстоит со временем стать королевой и имя которой напоминает о славном периоде царствования — наивысшем периоде (скептики, правда, полагали, что может произойти поворот в другую сторону и обе тезки станут как бы символами расцвета и заката империи). Потом уже изредка упоминали о дважды разведенной, которая вынуждена была вместо королевской короны довольствоваться званием герцогини. Все знают известное выражение: «Так проходит мирская слава». Эта слава прошла, даже не начавшись. А мы, Ояр, смотрели на лакомства и славу через стекло». Право, так хотелось от души поговорить, но Ояр молчал, а мне упрямство мешало первым протянуть руку. Может, даже и не упрямство, между нами что-то встало, выросло что-то вроде стены, которую я не мог ни перешагнуть, ни свалить. С Лелле это еще возможно, она молодая, гибкая, а Ояр уже закостенел, и такие переломы заживают плохо или совсем не заживают. Дорожный мастер появлялся у нас, кратко разговаривал и опять уезжал. Он много колесил по округе, казенный велосипед кряхтел и часто ломался, он чинил его на свои деньги; я не сомневаюсь, что если бы он мог купить недостающие бревна, то незамедлительно вытянул бы кошелек, а не сомнительные акты о списании. Возникшая в силу обстоятельств смесь порядочности и непорядочности в другой раз меня бы позабавила, но сейчас даже дружеское расположение Зентелиса раздражало. Тут еще ко всему к нам подъехал на своей телеге один старикан. Я помнил его по той поре, когда мы строили мост, он возил пиломатериалы. Работящий человек, хорошо заработал, а налоги с него содрали непомерные. Старик собрался ехать в Ригу искать правду — как они смеют считать его частным предпринимателем, когда он работал на своей лошади и своими руками? — Ну, скажите, — прицепился он к нам. — Советская Конституция запрещает использовать людей, но не лошадей. У моего гнедка права голоса нет, кулаком он меня еще никогда не честил. Зентелис поддакивал, я молчал. Но, оказывается, старик ждал ответа именно от меня. — Говорят, что ты, Улдис, парень с головой. Скажи, что делать? У меня есть тысчонка наличными, смогу пожить в Риге, пока не пробьюсь к начальству. Расскажу, что в волости и уезде меня не захотели выслушать. Говорят, теперь всем по справедливости. А какая же это справедливость, если власть велит человеку работать, а потом обкладывает человека налогом, как предпринимателя? Он теребил меня за рукав, я рассеянно смотрел на седую щетину искателя справедливости и неохотно переспрашивал: — Так у тебя есть лишняя тысяча? — Да, и рожь убрал. Поживу в Риге, покамест не пробьюсь к начальству. Что ты на это? — Что я? — Один совет, один только толковый совет! А кто даст совет мне? Я готов заплатить за него не сорок, а девяносто процентов от зарплаты. Опустив голову, я смотрел, как дождевой червяк ползет по вывороченному дерну. Я показал на червяка и пробурчал: — Раз у тебя есть лишняя тысяча и время, чтобы оставить хозяйство, делай так — три раза поклонись этому червяку, выложи все, что у тебя на сердце, потом мы найдем поблизости, где тут хорошую самогонку варят, и будем пить, пока тебя время не начнет поджимать и денег уже не останется. Старик захохотал, его седая челюсть задергалась. — Хе-хе, ну ты и шутник. Все говорят, что язык у тебя бритва, хе-хе! — Потом рассердился: — Мне ведь не до шуточек, поеду в Ригу правду искать! Остались мы с Зентелисом и стали дело делать. Даже столб врыли с предупреждающим знаком и холмик выложили галькой. Сверкали белые камешки, белые столбики. Пройдут осенние ливни, и станут они серыми и прелыми…35
Небо было какое-то потускнелое. Паутина путалась по стерне, завывание молотилки напоминало похоронные причитания. Я лежал в канаве, курил и смотрел, как листья уже начинают желтеть. Придут осень и вой ветра, дожди, грязь. Пение молотилки захлебнулось, перешло в тяжелый стон; снова просто вой и снова глухое порыкивание. Куда бежать от этого тусклого солнца, потускнелого неба, причитаний, от самого себя? День за днем я работал на дороге — прокладывали трубы. Придис иногда заглядывал ко мне наверх, больше всего мы говорили об организации колхоза. Сергей Васильич побывал в волисполкоме и отчитал и Придиса и кое-кого еще за врастание в частное хозяйство. Большинство присоединилось к секретарю укома, и Придис подчинился. — Один против течения не поплывешь, — признал он. — Сергей Васильич говорит, что с врагами надо бороться. А вдруг это меня сочтут врагом? Тут уж не до шуток, что-то готовится. — Вряд ли, — возразил я, успокаивая больше самого себя. — Тогда готовились к войне, а теперь, когда Советская Армия стоит на Эльбе, когда весь мир устал, Германия вдрызг разбита… — Надо и непослушных вдрызг разбить, — сердито бросил Придис. Он рассказал, как сверкали глаза у Сергей Васильича, когда тот говорил, разъяснял, призывал и грозил. Я знаю, знаю, какой он. И меня в тот раз, когда я явился в уком, он обругал не как невинно пострадавшего, а как поделом выпоротого грешника. — Ох, как тебе надо бы дать по затылку, ох как надо! Если бы тебе уже не всыпали, ей-богу, я бы не удержался. Такие неприятности и хлопоты нам всем доставить! Ты же знаешь, туда, где ты был, легко попасть, но легче из ада вырваться, чем оттуда. Почему ты не рассказал нам, коммунистам, про своего отца? Остолбенев от такого приема, я только и смог пробурчать, что не считал это существенным и стеснялся об этом говорить. Мои ответы Сергей Васильича просто разъярили. — Ну вот! — закричал он. — Какая нежная мелкобуржуазная барышня! В бою, помню, ты был смелый парень, фашистам стыдливо спину не показывал. Какой только мусор у тебя в голове оставили эта гимназия и богатый отчимов дом! Барчук, барчук… Так вот, знай, что никаких секретов у тебя от нас не должно быть. И учись, друг, учись! Тогда увидишь, что в жизни творится. Беспощадная классовая борьба. В зубы тут никому не смотрят — кто не с нами, тот против нас… Это была моя последняя встреча с Сергей Васильичем. Так мы и не могли понять друг друга, все не могли найти общей струны. Он был хороший солдат, убежденный, целеустремленный, хорошо знал все сказанное вождем. Все его слова. И они были ключом ко всем сегодняшним проблемам, к завоеванию будущего, ко всему. Я-то знал, что с этими словами он кидался под пули. Но неужели так всегда будет? Сергей Васильич сказал: — Конечно, всегда! Его карие глаза сверкали, лицо живое, жесты резкие, порой несдержанные. Было и будет. Он умел убеждать других, а может быть, и себя. Но истинная сущность его осталась для меня сокрытой. Между прочим, все, кто знал Сергей Васильича близко, считали его отзывчивым, простым, готовым прийти на помощь человеком. По-латышски он говорил уже здорово. Мне вдруг подумалось: а как у него с анкетой? На бумаге все можно, это я слыхал. А может, здесь был как раз тот случай, когда написанное на бумаге совпадало с истинной сущностью человека? Тогда это и был настоящий человек… Как бы то ни было, потом он не раз вспоминался мне, часто довольно неожиданно и даже необъяснимо. Примерялся я, что ли, к нему? Или просто все еще пытался вникнуть в него? Я успокоил Придиса, что, по-моему, совместное ведение хозяйства само по себе вовсе не плохое дело. В принципе трудно возразить против того, что на всех полях кончится гнусное сосуществование хозяина и батрака, землевладельца и безземельного. — В принципе! — вскипел Придис. — В принципе ты как Сергей Васильич, только неизвестно, что из этого принципа вырастет. Я с детских лет много всяких принципов слыхивал: пастор с амвона, учитель с кафедры все то же долдонили, что писал один такой сладкопевец, Апсишу Ешка. Любите, любите, будьте как братья! Да только с любовью этой каждый больше к девкам норовил лезть, а братья друг другу глотку рвали. Красивые слова — это одно, а вот когда ты потом исходишь и мозоли пузырями, так станешь смотреть, что заработал. — Все вы будете хозяевами, сообща станете решать, — сказал я, как Ояр. Придис полагал, что это решение сообща довольно сомнительная штука, уже сейчас по любому пустяку тычут всякие предписания и умные наставления, да еще учат такие люди, которые про земледелие только из газет и знают что-то. — И чем он дурее, тем у него рот шире, глотка громче, кулаком отважней машет. Как сядут они на должности, да как начнут командовать, так одно болото здесь останется. — Болота осушают, — возразил я. Придис разозлился, — если я ему друг, так нечего и зубоскалить. Гнев он не умел долго держать, хороший парень, но надуться надулся. С Ояром я боролся в себе, тогда как Придис стоял снаружи, примерно там, где я тогда, когда мы оба явились в «Клигисы», слушали рассказы про колдовские шутки Приедкална, бродили по синефиолетовым вересковым холмам. Это время ушло, никто его не вернет, никогда нам туда не вернуться. Придис въелся, зубами и ногтями въелся в «хозяйское звание»; хозяин своей земли, он свои десять гектаров даже окрестить не успел, как Клигис или Налим, а они уже готовы были исчезнуть. За несколько лет произошли вековые изменения, и неведомо еще, куда они приведут, а он держался за прошлый век. Дорогой друг, Апситов Ешка и Матеров Юрис[12] здорово засели в тебе! А ты этого не сознаешь и даже не хочешь сознавать. Мы еще о том о сем потолковали и дружески расстались. Спустя несколько дней Придис опять был здесь и протянул пачку «Беломора». — Говорят, что дымок взбадривает, потому и купил. Затянемся! Я вскрыл пачку. Придис сунул папиросу в зубы, но после первой же затяжки скривился и отбросил ее. — Не для меня. Слушай, что сегодня было. Ты где работал? — Дорожный мастер услал меня в тот конец дистанции. — А меня Густ погнал километров за десять в другую сторону. — Густ? — Так вот, Талис крутился возле лесника, но последнее время туда не показывался, решили, что он что-то пронюхал и умотал в Ригу. Но сегодня одна особа (кто это, Густ не сказал) уведомила, что видела вооруженных людей в сарае на покосах у Виесите. Этот сарай удобное место — недалеко шоссе и опять же чащоба, кто в нее нырнул, тот без следа пропал. Густ наскоро собрал нас, сделали мы крюк, обошли сарай. Дозорный нас заметил, но бежать им было уже некуда, а сдаваться они не хотели. Мы через сто шагов друг от друга на опушке, им до зарослей один хороший рывок, но мы садили так, что и мышь не пробежит, головы нельзя поднять. Те забились в сено, редко отстреливались из автоматов, видно, патроны берегли. Густ, он юркий, что твоя куница, подобрался к самому сараю и дает из ручного! Задымился сарай. Тогда они дали оттуда не хуже нашего, но что делать, если огонь со всех сторон. Мы перестали бить, кричим, чтобы выскакивали и сдавались. Потом редкие выстрелы, видно, сами в себя, и сгорела эта развалюха, сено еще и сейчас дымит. Из уезда примчался врач, порылись мы в этой адской жаровне, а там четыре черных головешки… — Придис брезгливо скривился. — Одного опознали — Таливалд… — А лесникова семья? — спросил я.
— Отца тут же взяли, — впервые за долгие годы Придис вновь назвал своего отца отцом. — Худо будет старику, — добавил еще Придис…
— А лесникова семья? — спросил я.
— Отца тут же взяли, — впервые за долгие годы Придис вновь назвал своего отца отцом. — Худо будет старику, — добавил еще Придис…
36
Сегодня прокладывали последнюю трубу. Топтались в вонючей грязи. Был и дорожный мастер, разговаривал с Зентелисом, был даже немного болтлив, этот Ояр, — мужчины не болтают, а дело делают. Когда Зентелис этак в шуточку проехался насчет «рабского труда», дорожный мастер торжественно порекомендовал ему прочитать книгу про Спартака, она даст истинное представление о том, что такое рабство. — Да, — продолжал он, — когда-то история вся была заполнена прославлением королей и тиранов, я еще мальчишкой читал про Наполеона. Как его славословили! А ведь настоящие выдающиеся исторические личности совсем другие люди… Я смахнул пот, посмотрел на мастера, — взобравшись на камень, он заливался петухом, — и сказал: — А мне больше всего нравятся фараон Тутанхамон и ассирийский владыка Сарданапал, их знаменитые деяния протекали в давно ушедшие времена. Ояр сделал вид, что не слышал, и продолжал свое. Видно было, что обиделся, но не очень переживал, для него все неприятности кончились: по материалу отчитался, квартальный план выполнен, даже эта злополучная канава, на которую Ояр уже перестал возлагать надежды, и та проложена. Уездное начальство вынуждено было даже отметить в приказе нашу дистанцию как самую передовую. В какой-то мере это была компенсация за тот месяц, когда Ояр упрямо отказывался сделать «самые необходимые» приписки (на языке дорожных работников это называлось «дать припек»), В тот раз Ояр жаловался, что в уезде на него обрушивались главным образом с таким аргументом: по данным республиканской печати все дорожно-эксплуатационные участки свои планы уже выполнили. Я посоветовал ему ответить начальству, что печати не известно, с каким процентом «припека» выполнены эти планы. Разумеется, я мыслил это как злую шутку. Если бы мне самому надо было это сказать, то поди знай… А может, и сказал бы. Как бы то ни было, но Ояр оторвал этот номер, и эффект был еще тот! Остальные мастера давились от смеха, а недавно назначенный начальник стал мрачнее тучи. Ояру тут же пришили какие-то грехи, чуть ли не антигосударственную пропаганду. Поносили устно и письменно и вот теперь вынуждены хвалить. Хорошее завершение, хоть и уезжал он с горечью, виновата в этом была Норма, но он это умело скрывал. Мне пришло в голову, а не прослышал ли чего-нибудь Ояр или сам, может, учуял, и это главная причина, почему мы не можем больше ладить. Несчастливо счастливый и счастливо несчастливый. Где тут различие? Одна игра слов. Ояр вновь разговорился с Зентелисом. На сей раз они стали обсуждать недавно показанный в волостном Доме культуры фильм. Фильм был не о современности, когда любовь показывают как добродетельный придаток к благородному процессу строительства, это была экранизация классики, в которой представала суверенная любовь, чем особенно восхищался Зентелис, который этой весной женился и все еще чувствовал себя так, словно только что вылез из теплой супружеской постели. Он торжественно заявлял, что в жизни человека может быть только одна настоящая любовь, а дорожный мастер сладостноскорбным голосом, интонацию которого мог понять только я, поддакивал: — А как же! Любовь, она проходит через всю жизнь. Я снова почувствовал необходимость вмешаться. — Поди знай. В жизни, как известно, у некоторых бывало несколько любовей, но еще не слыхано было, чтобы одна любовь могла охватить несколько жизней. Люди посмеялись, наверное, не столько над моими словами, сколько над оскорбленным видом Ояра. Похоже было, что на сей раз он уже достаточно раздражен и охотно бы уехал, но все же оставался до конца. Подводчики еще сыпали щебенку (шустрого старичка я не видел, — наверное, уехал в Ригу), мы еще укладывали на откос дерн. Потом я немного сполоснулся в той же канаве и сел на велосипед, чтобы ехать вовсе не к дому. Ояр проводил меня задумчивым взглядом, наверняка ему хотелось знать, куда я направился. И если бы он спросил, мне этого даже хотелось, ответ у меня уже был готов: «Последний раз к этой «красивой девушке», а потом можешь ты, если только она тебя пустит. Постучи в мое оконце!..» Но Ояр не спросил. Может быть, в моей поездке уже не было никакого смысла, может быть, это было неумно и даже бестактно. Но в моей природе есть что-то педантическое, ко всему прочему меня угнетало сознание, что я не поставил точку; мне необходимо было воздвигнуть непреодолимый рубеж между собой и тем, что я считал невозвратимым прошлым. Злости у меня не было, только горечь и тяжесть, такая, что мне стало почти безразлично, что переживает Норма. Возможно, что в некотором отношении я сын своего отца, но теперь и это безразлично. Я заметил Норму у ручья на лугу. Она задумчиво мыла ноги. Никого она не ждала, моих шагов не слышала и даже вздрогнула от приветствия. Она встала, вся такая стройная, вся как натянутая струна. Босиком стояла она на зеленой луговой траве, в легком платьице, обрисовывающем тело, со светлыми волосами, красивая, очень, очень красивая. — Довелось вот заехать, — сказал я и с неудовольствием заметил, что прозвучало это ужасно глупо. — Я надеялась, что ты приедешь, — ответила она без деланной приниженности. Нет, черт подери, тяжело быть таким, каким хотелось бы. — А вот Талис, наверное, нет… — Я это знаю, я сама выдала его Густу. Он меня использовал, мне это надоело. Только Осиса я еще боюсь… А вдруг он явится? Я смотрел на нее и думал: «Нет, это чертовски тяжело, и все же надо кончать. Крутиться на такой карусели — одни вопят, чтобы придержали, другие блюют, а я спрыгну, у меня кости крепкие». Норма: — Осис несколько раз поминал тебя, теперь я понимаю, что он думал именно о тебе. Он говорил: это замес мой, пусть у него чахотка, но такие твердые, упрямые глаза. У кого, спрашиваю я. А он заставил меня замолчать своим взглядом. Мой отец, наверное, уже вошел в те годы, когда мужчины начинают заботиться о продолжении «своего рода». Я сказал: — А ты удачно отделалась от Талиса и переметнулась к Густу. У него есть все возможности охранить тебя от Осиса. — Не говори так! — воскликнула Норма. — Ты не смеешь говорить такие слова… — В глазах у нее были слезы, но голос звучал твердо, почти зло. — Густ не думает сделать меня тряпкой, чтобы вытирать свои сапоги. Я знаю все, что у тебя против него, и все же ты не прав в своей правоте. Густ, может, и плохой человек, но он человек. Осис — не человек, у него нет совести. Норма дрогнула, словно собираясь протянуть мне руки. — Улдис, ведь я же тебе нужна? — Нет, ты мне не нужна, — сказал я. — А зачем ты можешь быть мне нужна? Как тебе такое могло прийти в голову? Тогда что же тебе надо? Ее голос так же, как и лицо, утратил всякое выражение. Наверное, это было очень гнусно, но я чувствовал удовлетворение, что могу ей сказать: — Я приехал сказать, что тебя никто ни в чем подозревать не будет. Талис с прочими мертвецами, разумеется, будет молчать. Знаю только я, а я не скажу, можешь быть спокойна. Будь счастлива! Я поднял брошенный велосипед и уехал. Как это в тот вечер, хрипя и задыхаясь, пел Эрнис? Началось, как сказка, и кончилось, как сказка, словами: «Вот и конец!» Бедная вечная любовь, ты как смородина, пропущенная через соковыжималку, весь красный цвет пропал, осталось чистое удобрение. Талисова компания тогда в школе орала: «Не при на рожон, пусть ноги скользят, зато об дерьмо расшибиться нельзя!» Дерьма вокруг Талиса стало уже выше головы, оставалось только утонуть. Магазин. Люди облепили прилавок, как мухи сироп. Продавщица еле успевала срывать пробки. Горечь пива в моей глотке, хмель в голове. Бутылка, вторая, третья, кто-то схватил меня за плечо. Густ! Совсем такой же, как несколько лет назад: плечистый, суровое лицо, угрюмый. В голове мелькнуло — шарахнуть его бутылкой по голове! Удержал меня не страх, озарение, приходящее именно в минуты опьянения. Ну ладно, справедливость как будто на моей стороне, именно как будто. Допустим, что в человеческие руки попали бы весы, безошибочно показывающие справедливость и несправедливость каждого. И вот стрелка показывает: у этого подлости пятьдесят процентов, голову ему долой! И этому, и этому, и многим другим. В этих добра больше пятидесяти, оставить в живых, так сказать, «на семя». Чистая работа, после этого на свете остаются только паиньки, всех плохих вывели под корень. Нет, зло и добро созданы самим человеком, это вовсе не, как сказал бы философ, извечно существующие категории. «Человек — мера всех вещей». Нас тут было две меры, и третья — пустая бутылка, которая сейчас гулко разобьется о Густову, о мою или еще чью-то голову… Густ сказал: — Выйди, мне надо тебе что-то сказать. Я еще подумал было, какой прок выслушивать каждого, но все же пошел за ним. Так получилось, что стали мы как раз в том самом месте, где когда-то я на краткий миг встретился с Нормой. Воспоминание это как будто впилось в меня железными зубами. Густ бросил по сторонам настороженный взгляд, а я не мог высвободиться из этих железных зубов. — Ты опять заварил хорошую кашу, потому прими мой совет. Какой совет? Очень мне нужны всякие советы! — Этот бандит рассказал жене лесника про тебя. Дурень ты! — В голосе и лице Густа чувствовалось удивление. — Голыми руками скрутить такого! — И опять промолчал. — Если мой начальник узнает про это, тебя никто не спасет. Пивной хмель вдруг рассеялся, но окружающий мир был все такой же странный, размытый. Густ продолжал: — Я сам насчет этого — могила. Но вот та сучка… У нас ведь не шутят. Поди знай, кому поверят, кому нет. Ты парень правильный, и ты промолчишь. Послушай меня, сматывайся поживей отсюда, поживи в Риге с годик без прописки. Там много таких ошивается. — Отсюда?! — Тебе же все равно куда. Это я тебе как человек говорю. Все равно? А может, и впрямь все равно. Свободный человек… Голос Густа: — Я тебя честно предупреждаю, знаешь, что мне будет, если ты проболтаешься. Но я не могу иначе… Это не шутка. Еще есть время спастись, самое время.37
В памяти Яниса Смилтниека рисуется день, когда Ояр появился в его квартире. Янис, взобравшись на стул, вешал выстиранные шторы на окно в большой комнате. Лаймдота командовала: — Этот угол повыше, здесь зажми, здесь прихвати… Звонок в дверь, и высокий парень неуклюже топчется в передней. — Ояр поживет у нас, пока получит место в общежитии. Парень бросил быстрый взгляд на хозяина квартиры. Что скажет тот? Но видно было, что Ояр не думает проявлять робости. Глаза у него были смелые, открытые. На столе дымилось картофельное пюре, благоухала жареная свинина — семейная трапеза, семейный уют. Семейная опора, отец семейства — небольшой животик, размеренная речь, рассудительность. Человек научился жить, умеет жить, учит жить. Он не был жестокосердным, понимал и других. Старший брат Ояра женился и ждал третьего наследника, в его однокомнатной квартире уже негде повернуться, тогда как Смилтниеки-Карклини свою обширную квартиру сохраняли только благодаря особым отношениям Яниса с домоуправом. Сейчас у них двое детей, но не помешает и жилец, который не будет претендовать на часть жилплощади по ордеру. Бывают же случаи, когда такие временные жильцы становятся потом чуждым телом, в жизни всякое бывает, но этот женин родич выглядел честным парнем. Янис Смилтниек понимал, что от него ждут решающего слова, и был уже готов доставить удовольствие женщинам, отнесясь к Ояру благожелательно. Он согласился. Лаймдота пригласила всех к столу, и, вкушая ужин, они продолжали взаимное знакомство. Ояр учится, борется за будущее — свое и всех народов, много уже сделал в области сельского дорожного строительства, в восстановлении разрушенных мостов. Нелады с начальством? Гм, вот это уже никуда не годится, можно ведь и ладить, с каждым можно договориться, если только захотеть. Человек, который с умом, делает, как велит начальство, и своего не упустит. Янис Смилтниек не сказал этого Ояру, свою мудрость он никогда не выкладывал открыто, отвлеченные разглагольствования были не в его духе, к тому же здесь все относится к прошлому, исправить и повернуть уже ничего нельзя. К тому же и Ояр о многом промолчал, ни словом не упомянул Улдиса, и, таким образом, в семье Яниса Смилтниека о возвращении Улдиса было не известно до поздней осени, когда об этом рассказал приехавший Придис. Но тогда Улдиса Осиса в тех местах уже не встречали. Да и потом Ояр неохотно говорил об этом бывшем своем работнике, и не ненависть замкнула его рот, тут было что-то другое, но Янис этого не понимал. Летом Ояр куда-то уехал на практику, осенью вернулся, и его опять прописали временно. Янису женин родич уже совсем понравился: тихий, приличный, без претензий, всегда старается уладить все сам, очень самостоятельный и, главное, честный. С таким нечего бояться, что начнет ловчить, добиваясь ордера. Студенческая стипендия была не бог весть какая большая, но он умел откладывать из зарплаты про запас, летом нашел хорошо оплачиваемую работу, был бережливый, непьющий и никогда не просил родичей дать ему в долг. На предпоследнем курсе поступил на работу в мосто-дорожное управление. Факультетское начальство не разрешало студентам работать, теперь это смешно выглядит, когда везде стараются сочетать обучение с работой, а тогда строительные инженеры учились только на стационаре и боже упаси, если кто-нибудь из-за работы пропускал лекции! Многие студенты в таких условиях были вынуждены отчислиться и получить дипломы позже, уже в других вузах. Но Ояр бросил работу и факультет окончил все-таки в Риге. Потом он снова уехал в провинцию (теперь говорят «периферия»). О себе Ояр оставил наилучшие воспоминания не только в семье Смилтниеков, но и на работе, и в университете. Писал, но все реже и реже. В последний год учения и в письмах Ояр несколько раз упоминал Улдиса, а ведь вначале этого не делал. Можно было понять, что с этими воспоминаниями связано что-то неприятное. И Янис Смилтниек вспоминал о нем, хоть не с такой яростью, как в сегодняшний вечер. Только что полученное от Ояра письмо отравило его болезненным ядом сожаления. Нежность овевала все, что он думал об Улдисе, и даже чувство утраты. Молодость его прошла, друг пропал без вести. Только имя осталось… И вот это ирреальное пространство, из которого выходит Улдис, костлявый, усталый, с язвительной усмешкой в краешке рта…38
Улдис: — Сегодня наша бригада всего только маленькую крышу просмолила, у ребят свирепая жажда; судьба бригады зависит полностью от меня, а я за всех работать не хочу. Это мое дневное задание, когда бригаду представляю только я. Другие появляются вечером, все они рижане и работают в каком-то строительном управлении. Сам начальник — маленький черный человечек, по-русски он говорит с жутким акцентом; как-то я произнес французскую фразу, которую помнил еще с гимназических лет, он радостно откликнулся, видно, что его французский куда лучше моего. Как-то на улице мне показалось, что я заметил отца, я поспешил к нему, но это был не он. А если бы был он? Ах, в жизни каждая человеческая личность сталкивается со многими неизвестными. Ты, человек, никогда не можешь быть уверен, что тебя не переедет пьяный шофер. Недели две назад я шел мимо вокзала, меня задержали два милиционера и третий в штатском. «Предъяви документы!» — потребовал лейтенант. Я достал паспорт, лейтенант поизучал фотографию, уставился на мое лицо, штатский был неподвижной маской. Они перелистали все странички. «Как давно в Риге?» — спросил милиционер. Волнение сковало мне язык, они решили, что я плохо понимаю по-русски, штатский переспросил по-латышски. Я сказал, что сегодня приехал, и сообразил, что выгляжу я не таким. Им некогда было долго со мной возиться, отдали паспорт — иди. Опомнился я только перед дверью своей квартиры. Я приготовил ужин, но так и не поел, завалился на кровать и все курил. Ночь. Вокруг меня тьма. Нормы больше нет со мной, остались только воспоминания о ней и ее страхе. Утром звонок, железное дребезжанье будильника. На работу, получай свою пайку. Человек хочет жить, в этом его сила и его слабость. Но чтобы начать новое, подведем черту под старым, приговор прошлому пусть будет пропуском в будущее. Пусть! И я созываю всех людей, которые были со мной последний год. Идите как судьи, или как свидетели, или как обвинители, а может, просто как хорошие товарищи. Один не может жить, один человек не может работать, один человек не может и оценить жизнь. И они появляются на мой призыв; я снова вижу спокойное выражение лица того молчаливого партизана. Он не говорит — у человека, который давал показания своей жизнью, все права не повторяться. Я говорю: — Товарищ, я помянул тебя в День Победы; Сергей Васильича я не мог поздравить в этот день, потому что находился в таком месте, где меня не особенно-то хотели выслушивать. Слова я передал, и я был с другими, Сергей Васильич вручил мне твой автомат. Слева на его прикладе были три зарубки, Сергей Васильич сказал, что я должен вырезать не меньше справа. И впрямь, с полным правом я мог бы сделать еще больше зарубок, я просто этого не делал. В одинаковых обстоятельствах люди поступают одинаково, да вот не совсем. Идет Сергей Васильич. Он суров. — Улдис, ты все не перестанешь дурить! Я говорю открыто, если ты еще раз влезешь в историю, я тебя выручу, как только могу, но потом надаю по шее, прямо кулаком вколочу в твою упрямую башку правильные установки. Что это за философия! Человек — кукла в руках судьбы, может быть, даже в руках бога?! Смех один… Сам ты был куклой, попадавшей сломя голову из истории в историю. Но я возражу ему: — Во-первых, философия куклы и комедианта не моя, ее придумал не то Тоцис, не то Коцис, не помню, как точно звали это баптистское ботало. Я нередко дурачил этой философией, вы же знаете, что у меня такой нрав, только бы подразнить других. Куклой была она — Норма. Ояр видел, как она в последний момент напоминала смятую куклу. Я шутник и комедиант, таким меня звали многие, если не ошибаюсь, и вы тоже. А если я часто поминал судьбу, то потому — и этого никто не оспорит, — что в жизни многое от нашей воли не зависит. Например? Рождение человека определяется не его волей и желанием так же как в большинстве случаев и его смерть. Я мог бы назвать болезни, против которых мы полностью бессильны, и явления природы, и пульсацию всей вселенной. И я никогда не бывал куклой в те минуты, когда дело зависело от моей воли. То, что я передал вам слова, было не игрой судьбы, а сознательным решением; я сознательно взял и оружие партизана, а ведь Зента обещала прятать меня до конца войны, я бы легко укрылся. Я шутник и комедиант, поэтому меня не любила святая, ограниченная простота, я часто просто дразнил ее своей волей, хотя это и было опасно. В своей жизни я допускал немало оплошностей, не всегда мне все было ясно и сейчас не все ясно, но зато я видел, как этот всемудрый философ и проповедник теории куклы и комедианта Тоцис, для которого не было ничего неясного, для которого все вещицы были разложены по своим местам и полочкам, остался в дураках. Сергей Васильич, вы слышали, что Сократ сказал: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Да, Сергей Васильич никогда не поддавался обстоятельствам, а хотел преображать обстоятельства на основе правильных идей. Я это признаю без насмешки; в бою он был смел, в поединке с нежеланием Придиса вступать в колхоз неотступен, и он победил по всем линиям. Придис впоследствии признавался: «А чем мне плохо в бригадирах? И Марите больше не надо надрываться, растит сына, нянчит девочку. Дуролом я был, за свои гужи держался». В жизни есть своя логика. Но знал ли Придис значение ученого слова «логика»? Это мне неясно. С Ояром мы поссорились, мы знали, что каждый думает о другом, поэтому держались на приличном расстоянии. Но если бы произошло неожиданное — в жизни бывают всякие сюрпризы, — пришли бы представители закона и юстиции и официально спросили: — Подсудимый Улдис Осис, вам инкриминируется соучастие в убийстве комсорга. Вы отпустили убийцу, когда он был в ваших руках. Отвечайте по совести всю правду: правдив ли тот вариант событий, который вы изложили свидетелю Янису Смилтниеку, будто совершили это сознательно, или вариант номер два, изложенный свидетелю Ояру Виганту, что убийца от вас сбежал? — А какая разница? Только в первом случае мне грозила статья, а во втором общественное порицание. Но ведь, уважаемые судьи, вы спрашиваете о фактах. Комсорга убили не после, а до моей последней встречи с Талисом, так что… — Итак, вы встретили его после убийства и не задержали его? — Но я же не знал, что он до этого убил… — Итак, который из вариантов? Это следствие, а не шутки. — К сожалению, я люблю шутки, хотя они не всегда мне удаются. — Я вспоминаю, что для Клигисовой бабушки божий храм это было такое место, где царит священная серьезность, я же такого места еще не нашел. Мой отец говорил: «У каждого своя природа, и против нее не попрешь». Отсюда упрямые глаза и усмешливая морда. Но пусть он исчезнет, во мне нет ужаса, только большая тяжесть, когда вспоминается отец. — Видите ли, судьи, оба эти варианта справедливы, потому что, по сути дела, это один вариант: я не довел дело до конца, потому что просто не продумал все до конца. А в жизни надо думать вперед. Хорошее слово «вперед», его пишут на плакатах и в стенгазетах, в призывах и воззваниях, его без устали твердят положительные герои на подмостках и громкие репродукторы на углах… И все же солнце каждый день всходит, и жизнь движется вперед, и, как люди ни стараются, не могут затаскать и замызгать великий смысл этого слова. И я повторяю: «Человек хочет жить, в этом его сила и его слабость». В эти чертовски тяжелые дни я отрубил от себя все прошлое. Репродуктор кончил бубнить, послышалась музыка, мелодичная, немного щемящая. А раз щемит, — значит, это жизнь, мертвому, тому безразлично. И вдруг я почувствовал, как дыхание наполняет мои легкие, как сердечная мышца гонит кровь. Я живу, и мой дальнейший путь проходит по этой жизни, какая она есть, и это и есть вперед. На перекрестке громыхает трамвай, гудит автомашина, щемит эта странная музыка, на дворе визжат дети, и где-то в пыльной путанице улиц девичья улыбка. Как все просто, как все удивительно сложно. Что мы упрощаем, что мы усложняем? Скажи мне ты, тогда я скажу тебе! Я сознаю, что стою накануне тех дней, которые начну заново, — веди меня дальше, я хочу жить! Что это значит? Я хочу еще многое узнать, я хочу учиться… Это в каком же вузе, уважаемый гражданин, а документы какие представите? Хватит тебе зубоскалить. Придет время, и узнаем! Хочу работать, что-то сделать… На творческой или на руководящей работе? А рекомендации, а какую анкету и автобиографию представите? А я тебе еще раз говорю, хватит зубы скалить! Комедиант-то я, а не ты! Я шутник! Я хочу вобрать полной грудью этот мой город с его дымами, я люблю его, люблю и то неведомое, что несет будущее и на которое у меня такие же права, как у любого. Человеческая жизнь — это движение от прошлого к будущему. Но двигаться — это не значит двигаться любым образом. Ползком я не пробирался никогда и в лимузине никогда не поеду. А почему никогда? Такси стоит рубль с полтиной километр. А во что ценишь то, что повезешь с собой как неотвязный багаж? Э, его я брошу на первой развилке, так тому и быть. Так хочется жить, когда тебе всего четверть века! И постигать хочется уже не конструкции, а жизнь в целом. Отрезать прошлое, пробить брешь в давящей стене и уйти в толчею жизни. И вдруг Улдис в упор взглянул на Яниса Смилтниека: — Ну, дружище! Стало быть, ты на прежнем месте? Крепко держишься! И создал себе жизнь по своему желанию. Ты хотел не воевать, а наслаждаться уютом, в лоне семьи. И преуспел: в пороховом дыму тебе не пришлось закоптиться, комфорт у тебя, положение, любящая жена. И, значит, ты не кукла в руках судьбы?! Ха! Ну, не кривись, будто вместо моего лица личина комедианта… Лелле проводила меня до машины. Это был не рейсовый автобус, а просто обтянутый брезентом грузовик. Она уже не была светлой, не была звонкоголосой. Утро было светлым, утро было звонким, утро как будто издевалось над нами. — Ты вернешься, Улдис. Ты должен вернуться! — Не знаю, — сказал я. Конечно же, я не знал, смогу ли когда-нибудь вернуться, а еще меньше знал, желаю ли вообще вернуться. Лелле, видимо, поняла это. Тихо, но решительно она сказала: — Я буду ждать тебя. Долго… Она не обещала ждать меня вечно. Она будет ждать только долго, пока жизнь не превратит ее в другого человека, наполнив новым содержанием. Я это понимаю, все мы становимся не такими, меняемся; это происходит незаметно, зато неотвратимо. Откуда у нее это понимание, кто ее этому научил? Наверное, страдание, которое я невольно внес на заре девичьей жизни. И все же туча, хоть и черная, не смогла затмить солнце. Это ее утро. А мое? Вперед, к будущему! Долгоиграющая пластинка, вечно крутящаяся пластинка, остановки нет, заднего хода тоже нет. А впереди? Тоже новое утро? Кладбищенская яма? Я уезжал от Лелле. Сел в этот закрытый кузов, мотор взревел, зафыркал, машину затрясло на ухабах. «Не смотри назад, тебе надо смотреть, куда едешь», — приказал я себе и припал лицом к прорези в брезенте. Так получилось, что взгляд мой упал на зеркальце сбоку от кабины водителя. В нем были придорожные деревья, они хранили воспоминания о Норме, о моем отце, Придисе, Марии; там были мои исхоженные шаги, моя дорога, Лелле под хлещущим лицо ветром. Я стремился к ней, к будущему, но оно убегало. Это было ужасно — машина увлекала меня вперед, но то, к чему я стремился, отступало все быстрее. Лелле поглотило облако пыли…Улдис уехал по шоссе, хорошо знакомому Янису Смилтниеку. Но это была не Янисова дорога. Клубилась дорожная пыль, грохотала трудовая жизнь, как молот по огромной наковальне, где куют и перековывают все: мысли, взгляды, оценки, самих людей. Улдис обретался где-то в том же самом городе, делал свое дело, думал свои мысли, но к Янису Смилтниеку больше не возвращался, словно его никогда не было, словно он даже отпечатка следа не оставил после себя. Время все смывает, сглаживает, как морская вода стирает каждую надпись на прибрежном песке. Был, и больше нет. Глубокая ночь. Снаружи темнота, суровое дыхание ветра, и снова тишина, тишина — до самой бесконечности, до вселенских глубин. «Все течет», — сказал эллинский философ. Куда, почему? Из-за той высокой звезды, которая сияет в чернейшей ночи на небе? Янис лег на кровать, закинув руки за голову. Ночь стояла на страже возле него, и думы шли беспокойной чередой…
1970
… и все равно — вперед… повесть
 Было промозглое, туманное утро. Над мшарником тянулся косяк журавлей. Резкие голоса… как в мучительном сне, наполненном страхом. Ничуть не похоже на далеко разносящиеся клики, как бывало раньше осенью, — так казалось Янису Цабулису, который, устремив в небо посиневший от холода нос, следил за птицами. Журавли скрылись. Цабулис потер кончик носа тыльной стороной ладони и вжался в воротник. Весь он был волглый и прозябший. Ладно еще, что ночью не было заморозка, что есть спички, есть полкаравая хлеба и немного курева. Голодный пост по сравнению с теми давними временами, когда, послушав журавлиные клики, Цабулис возвращался в теплую кухню, впивался зубами в обильно намазанный жирным творогом ломоть и, отхлебнув дымящегося кофе, торжественно провозглашал: «Журавли улетели — и день на полдник короче».
От приятного воспоминания рот наполнился пресной слюной. Он сплюнул и той же тыльной стороной ладони вытер рот.
Все время державшись с усталым упрямством, Цабулис вдруг почувствовал, что сдает. Оборванные жалобные клики журавлей почему-то привели его в отчаяние. Птицы выглядели всполошенными беглецами из того мира, где все отчетливее слышалось артиллерийское громыханье. Все время устремлявшийся туда, Цабулис уже не верил, что в этом есть смысл. А вдруг неизменно являющаяся ему в снах родная сторона уже вся в развалинах! Он горестно вздохнул…
В минуты отчаяния человек отрешается от окружающего. Раненая душа страдает в одиночестве — все равно, устремлены ли на тебя сочувствующие или равнодушные взгляды. Цабулис забыл о примостившихся на соседних кочках товарищах, с которыми проделал долгий путь от подножья Альп. Они ухитрились пройти всю Германию, переплыли Вислу, потом еще какие-то реки, три дня назад перебрались через Неман, и теперь вот, когда уже достигли границ Латвии, ноги Цабулиса отказывались шагать. Он словно увяз в эту мокрую землю.
Молчание нарушил резкий, но с хрипотцой голос:
— Только по куску.
Двое повернулись, протянули руки. Цабулис сидел все так же, вжав голову в плечи. А тот, кто произнес эти слова, раскрыл нож и откромсал четыре более или менее одинаковых ломтя хлеба. Он положил их на заплечный мешок и выждал, когда останется кусок, который никому не приглянулся. Так уж оно повелось в течение всего пути, и именно потому остальные доверяли этому человеку. По внешности он не казался сильнее прочих. Фамилия — Гринис, а имени товарищи и не знали. Самый суровый и жилистый, он постепенно взял на себя самое тяжелое. Слова его слушались, наверное, потому, что он никогда не говорил попусту. Двое, схвативших, как им казалось, кусок побольше, были из другой глины. Модрис — и его имени никто не знал — был высокий парень с пышными кудрявыми волосами. В общем-то неотесанный, но красивый. Пацан еще — пренебрежительно аттестовал его Альфонс Клуцис, который хоть и был немногим старше, но от чрезмерной приверженности к самогону рано обрюзг. Клуцису не нравилась ни забота Модриса о своей внешности, ни постоянное охорашивание волос — одна эта красота теперь и осталась, — ни хвастовство успехами у девиц. Хотя скитания по лесам и замызгали Модрисову форму, все же она выглядела куда чище одежки Клуциса — остатки шуцманского величия и тюремные штатские обноски. Цабулис с Гринисом были в куртках и штанах из самотканого сукна. Жизнь по кустам, роса и речная вода изгваздали их почти одинаково. И что этот Модрис вечно охорашивается — будто петух на столбе свиного загона!
Было промозглое, туманное утро. Над мшарником тянулся косяк журавлей. Резкие голоса… как в мучительном сне, наполненном страхом. Ничуть не похоже на далеко разносящиеся клики, как бывало раньше осенью, — так казалось Янису Цабулису, который, устремив в небо посиневший от холода нос, следил за птицами. Журавли скрылись. Цабулис потер кончик носа тыльной стороной ладони и вжался в воротник. Весь он был волглый и прозябший. Ладно еще, что ночью не было заморозка, что есть спички, есть полкаравая хлеба и немного курева. Голодный пост по сравнению с теми давними временами, когда, послушав журавлиные клики, Цабулис возвращался в теплую кухню, впивался зубами в обильно намазанный жирным творогом ломоть и, отхлебнув дымящегося кофе, торжественно провозглашал: «Журавли улетели — и день на полдник короче».
От приятного воспоминания рот наполнился пресной слюной. Он сплюнул и той же тыльной стороной ладони вытер рот.
Все время державшись с усталым упрямством, Цабулис вдруг почувствовал, что сдает. Оборванные жалобные клики журавлей почему-то привели его в отчаяние. Птицы выглядели всполошенными беглецами из того мира, где все отчетливее слышалось артиллерийское громыханье. Все время устремлявшийся туда, Цабулис уже не верил, что в этом есть смысл. А вдруг неизменно являющаяся ему в снах родная сторона уже вся в развалинах! Он горестно вздохнул…
В минуты отчаяния человек отрешается от окружающего. Раненая душа страдает в одиночестве — все равно, устремлены ли на тебя сочувствующие или равнодушные взгляды. Цабулис забыл о примостившихся на соседних кочках товарищах, с которыми проделал долгий путь от подножья Альп. Они ухитрились пройти всю Германию, переплыли Вислу, потом еще какие-то реки, три дня назад перебрались через Неман, и теперь вот, когда уже достигли границ Латвии, ноги Цабулиса отказывались шагать. Он словно увяз в эту мокрую землю.
Молчание нарушил резкий, но с хрипотцой голос:
— Только по куску.
Двое повернулись, протянули руки. Цабулис сидел все так же, вжав голову в плечи. А тот, кто произнес эти слова, раскрыл нож и откромсал четыре более или менее одинаковых ломтя хлеба. Он положил их на заплечный мешок и выждал, когда останется кусок, который никому не приглянулся. Так уж оно повелось в течение всего пути, и именно потому остальные доверяли этому человеку. По внешности он не казался сильнее прочих. Фамилия — Гринис, а имени товарищи и не знали. Самый суровый и жилистый, он постепенно взял на себя самое тяжелое. Слова его слушались, наверное, потому, что он никогда не говорил попусту. Двое, схвативших, как им казалось, кусок побольше, были из другой глины. Модрис — и его имени никто не знал — был высокий парень с пышными кудрявыми волосами. В общем-то неотесанный, но красивый. Пацан еще — пренебрежительно аттестовал его Альфонс Клуцис, который хоть и был немногим старше, но от чрезмерной приверженности к самогону рано обрюзг. Клуцису не нравилась ни забота Модриса о своей внешности, ни постоянное охорашивание волос — одна эта красота теперь и осталась, — ни хвастовство успехами у девиц. Хотя скитания по лесам и замызгали Модрисову форму, все же она выглядела куда чище одежки Клуциса — остатки шуцманского величия и тюремные штатские обноски. Цабулис с Гринисом были в куртках и штанах из самотканого сукна. Жизнь по кустам, роса и речная вода изгваздали их почти одинаково. И что этот Модрис вечно охорашивается — будто петух на столбе свиного загона!
 Клуцис был вечно зол, этот крупнокостный и крупнотелый трус. Может быть, ему было еще труднее, чем Цабулису, но злость делала его сильнее. Обильная желчь заменяла ему кровь. Одна беда, Клуцис не знал толком, на что ему злиться, кто виновен в его невезении. Именно поэтому он и не ладил ни с кем, а больше всего схватывался с Модрисом, потому что это был самый мягкий кусок для его ядовитых зубов.
Но пока что и Клуцисовы и Модрисовы зубы были заняты хлебом. Еще два ломтя лежали на мешке: Цабулис все еще плутал где-то в чаще своего отчаяния, а Гринис спокойно ждал. Нельзя сказать, чтобы взгляду Гриниса была присуща особая сила, глаза у него были спокойные и самого обычного цвета — что-то среднее между синим и серым, необычными были лишь густые, кустистые брови, нависающие над веками. От дорожных тягот и вечной голодовки глаза запали еще глубже. Гринис смотрел и молчал. Щуплое тело Цабулиса время от времени вздрагивало. Модрис с Клуцисом жадно ели. Клуцис вдруг покосился на нетронутый хлеб… а вдруг… Проглотив пережеванный кусок, он проворчал:
— Ишь, неженка!
Модрис ухмыльнулся. Гринис продолжал смотреть на Цабулиса. Самый сильный и самый слабый, самый молчаливый и самый болтливый. А ведь еще совсем недавно Цабулис выглядел и самым расторопным и кое-где доказал это на деле, тогда он был заводилой, а не болтливым нытиком. И Гринис был благодушнее: во время опасного следования из Мюнхена в Бреслау безмятежно болтал в вагоне с жандармами и спас всех от провала. Гринис здорово лопочет по-немецки и по-польски соображает, так что он и был главным переводчиком. Вначале он много рассуждал, что будут делать, когда дойдут до Латвии. Вот тут-то и возник холодок между ним и товарищами. Остальные не очень ломали себе голову, рассуждения Гриниса казались им умствованиями. Они просто хотели укрыться и спастись. У Альфонса Клуциса весь Чиекуркалн — сплошные дружки-собутыльники, уж кто-нибудь да спрячет у себя на чердаке, где можно переждать, пока прокатится военная гроза. «Да хоть в конюшне у моего прежнего хозяина, там я на самого черта-дьявола плевал», — заключал он свои соображения. Модрис уверял, что уж ему-то насчет убежища меньше всего придется заботиться. Да если дзегужкалнские девицы узнают про его возвращение, они друг дружке юбки обдерут за право его опекать.
— Чего ж ты тогда дал себя упечь в строительную часть? — спросил сердито Гринис.
— На мир поглядеть была охота, — глупо ухмыльнулся Модрис. Нагляделся теперь, вот и по дому стосковался. Цабулис слово «дом» только и твердил, но для него «дом» был нечто иное, чем для Модриса или Альфонса, которому лишь бы укрыться в конюшне и пить самогонку. Но как бы ни были различны их желания, что-то все же единило их, это «что-то» и охладило Гриниса. Он замкнулся, уже не участвовал в разговорах, становился все угрюмее и молчаливее. В мыслях у него было только одно — как бы побыстрее сказать «Ну, дай бог не свидеться» — и повернуть в свою сторону. Но то, что Цабулис сник, как-то взволновало его. Переждав еще минуту, Гринис наклонился вперед и положил руку на вздрагивающее, покатое плечо:
— Тебе нехорошо?
Цабулис облизал губы. Какое-то время растерянно смотрел на Гриниса, потом заметил хлеб и, не выбирая, взял кусок.
Клуцис со своим уже управился.
— Нечего мыслями заноситься, того и гляди уведут твой кусок. — Чувствовалось, что слова эти были не только шуткой. И это заставило Гриниса отломить от своего ломтя и добавить Цабулису.
— Что ты… — даже смутился тот. — Ну, если уступаешь, тогда…
— Не хочется мне, — прервал его Гринис. Поймав взгляд Модриса, он без промедления переломил и остаток. Этот не стал особенно ломаться, буркнул: «…сибо!» — и жадно впился в корку. Гринис, точно оправдываясь, добавил: — Еще по такому есть. Но я думаю, надо приберечь на ужин, чтобы были силы для перехода.
— Найти бы какого-нибудь литовца и выпросить у него «айн кляйн бисхен дуонас», — хмыкнул Клуцис.
— А как нарвешься на фрицев и схватишь айн кляйн бисхен свинцового гороха? — бросил Модрис и взъерошил свою роскошную шевелюру.
Цабулис ел без всякой охоты. Гринис молчал. Что зря пустое молоть. Им это нравится, а его уже мутит. Какой прок тарахтеть о поисках хлеба, когда вся округа забита солдатами, и в эту поросшую кустами болотину они забились на рассвете, после тяжелого ночного перехода, не найдя более надежного места. Фронт уже близко, поэтому идти здесь куда опаснее, чем по лесам западной Польши или Восточной Пруссии, где можно смело шагать среди бела дня. В Литве лесов не так много, как в Латвии, но, может быть, они уже достигли границ Курземе? Пышные брови Гриниса сдвинулись и еще ниже опустились на глаза. Ну и что, если они действительно уже в Латвии? Там, в Австрии, или, как гитлеровцы называли ее, в Остмарке, далекая родина казалась им прибранной комнатой с накрытым праздничным столом, а Литва только порогом, который можно переступить в один шаг. Но последний день показал, что «порог» довольно широкий, да и на каждом шагу угроза — солдаты. А родина — она встречала пугающим гулом. Как там найти — не праздничный стол, а хоть бы почву под ногами? Эти… Модрис спрячется за юбку, Клуцис нырнет в бутылку, Цабулев Янис, опасливо дрожа, схоронится в кустах подле своей семьи. А может быть, все же поступят по-иному? Странно, как плохо мы знаем своих ближайших товарищей, хотя и пройдешь с ними сотни километров и всякого натерпишься.
Клуцис произнес:
— Закурить бы…
И здесь опять пришлось действовать Гринису. Ни слова не сказав, он достал жестянку с табаком и бумагу. Должность «хранителя табака» Гринис получил так же незаметно, как и «хранителя хлебных запасов», — так сказать, с ходом событий. Сначала у каждого припасы были свои, кто чем разжился. Гринис был даже беднее всех. Клуцис с Модрисом никакой экономии не признавали и дымили беспрестанно. У Цабулиса имелись сигареты, он был из «куряк по воскресным дням», которые охотно угощают других. Так и выкурили его «Königin von Saba»[13], «Schwarze Staffa»[14], потом принялись за трубочный табак, потом за толстые сигары… Вскрывая последнюю пачку, Альфонс Клуцис таким похоронным голосом, будто читал некролог по любимому другу, произнес рекламный текст «Юно»: «Warum «Juno» ist rund? Auf dem guten Grund «Juno» ist rund…»[15] Гринис курил гораздо реже. Бывали моменты, когда он чувствовал, как словно крысы скребутся возле сердца, и сознавал, что табачный дым — вредная штука. А разве война, тюрьма, грозящий смертью побег — это что-то здоровое? И каким бы тяжелым ни было время, проведенное в неволе, он все еще крепкий человек, будто кремневый. Внутрь залезть никто не может, а снаружи ничего не заметишь. От этого бережного курения его небольшие запасы не очень убывали, а остальные свои уже извели. Тогда Гринис безо всяких стал по-братски делиться с товарищами по несчастью. Оделял он их скупо, но и себе брал не больше. Так и на этот раз. Каждому протянул по бумажке, — Цабулис отрицательно покачал головой, это уже не первый раз, но впервые этот пустобрех перешел на язык жестов, — и каждому насыпал по щепотке. Дух у немецкого табака был хороший, и клубы дыма вокруг голов курильщиков на миг создали настроение какого-то даже уюта…
Клуцис был вечно зол, этот крупнокостный и крупнотелый трус. Может быть, ему было еще труднее, чем Цабулису, но злость делала его сильнее. Обильная желчь заменяла ему кровь. Одна беда, Клуцис не знал толком, на что ему злиться, кто виновен в его невезении. Именно поэтому он и не ладил ни с кем, а больше всего схватывался с Модрисом, потому что это был самый мягкий кусок для его ядовитых зубов.
Но пока что и Клуцисовы и Модрисовы зубы были заняты хлебом. Еще два ломтя лежали на мешке: Цабулис все еще плутал где-то в чаще своего отчаяния, а Гринис спокойно ждал. Нельзя сказать, чтобы взгляду Гриниса была присуща особая сила, глаза у него были спокойные и самого обычного цвета — что-то среднее между синим и серым, необычными были лишь густые, кустистые брови, нависающие над веками. От дорожных тягот и вечной голодовки глаза запали еще глубже. Гринис смотрел и молчал. Щуплое тело Цабулиса время от времени вздрагивало. Модрис с Клуцисом жадно ели. Клуцис вдруг покосился на нетронутый хлеб… а вдруг… Проглотив пережеванный кусок, он проворчал:
— Ишь, неженка!
Модрис ухмыльнулся. Гринис продолжал смотреть на Цабулиса. Самый сильный и самый слабый, самый молчаливый и самый болтливый. А ведь еще совсем недавно Цабулис выглядел и самым расторопным и кое-где доказал это на деле, тогда он был заводилой, а не болтливым нытиком. И Гринис был благодушнее: во время опасного следования из Мюнхена в Бреслау безмятежно болтал в вагоне с жандармами и спас всех от провала. Гринис здорово лопочет по-немецки и по-польски соображает, так что он и был главным переводчиком. Вначале он много рассуждал, что будут делать, когда дойдут до Латвии. Вот тут-то и возник холодок между ним и товарищами. Остальные не очень ломали себе голову, рассуждения Гриниса казались им умствованиями. Они просто хотели укрыться и спастись. У Альфонса Клуциса весь Чиекуркалн — сплошные дружки-собутыльники, уж кто-нибудь да спрячет у себя на чердаке, где можно переждать, пока прокатится военная гроза. «Да хоть в конюшне у моего прежнего хозяина, там я на самого черта-дьявола плевал», — заключал он свои соображения. Модрис уверял, что уж ему-то насчет убежища меньше всего придется заботиться. Да если дзегужкалнские девицы узнают про его возвращение, они друг дружке юбки обдерут за право его опекать.
— Чего ж ты тогда дал себя упечь в строительную часть? — спросил сердито Гринис.
— На мир поглядеть была охота, — глупо ухмыльнулся Модрис. Нагляделся теперь, вот и по дому стосковался. Цабулис слово «дом» только и твердил, но для него «дом» был нечто иное, чем для Модриса или Альфонса, которому лишь бы укрыться в конюшне и пить самогонку. Но как бы ни были различны их желания, что-то все же единило их, это «что-то» и охладило Гриниса. Он замкнулся, уже не участвовал в разговорах, становился все угрюмее и молчаливее. В мыслях у него было только одно — как бы побыстрее сказать «Ну, дай бог не свидеться» — и повернуть в свою сторону. Но то, что Цабулис сник, как-то взволновало его. Переждав еще минуту, Гринис наклонился вперед и положил руку на вздрагивающее, покатое плечо:
— Тебе нехорошо?
Цабулис облизал губы. Какое-то время растерянно смотрел на Гриниса, потом заметил хлеб и, не выбирая, взял кусок.
Клуцис со своим уже управился.
— Нечего мыслями заноситься, того и гляди уведут твой кусок. — Чувствовалось, что слова эти были не только шуткой. И это заставило Гриниса отломить от своего ломтя и добавить Цабулису.
— Что ты… — даже смутился тот. — Ну, если уступаешь, тогда…
— Не хочется мне, — прервал его Гринис. Поймав взгляд Модриса, он без промедления переломил и остаток. Этот не стал особенно ломаться, буркнул: «…сибо!» — и жадно впился в корку. Гринис, точно оправдываясь, добавил: — Еще по такому есть. Но я думаю, надо приберечь на ужин, чтобы были силы для перехода.
— Найти бы какого-нибудь литовца и выпросить у него «айн кляйн бисхен дуонас», — хмыкнул Клуцис.
— А как нарвешься на фрицев и схватишь айн кляйн бисхен свинцового гороха? — бросил Модрис и взъерошил свою роскошную шевелюру.
Цабулис ел без всякой охоты. Гринис молчал. Что зря пустое молоть. Им это нравится, а его уже мутит. Какой прок тарахтеть о поисках хлеба, когда вся округа забита солдатами, и в эту поросшую кустами болотину они забились на рассвете, после тяжелого ночного перехода, не найдя более надежного места. Фронт уже близко, поэтому идти здесь куда опаснее, чем по лесам западной Польши или Восточной Пруссии, где можно смело шагать среди бела дня. В Литве лесов не так много, как в Латвии, но, может быть, они уже достигли границ Курземе? Пышные брови Гриниса сдвинулись и еще ниже опустились на глаза. Ну и что, если они действительно уже в Латвии? Там, в Австрии, или, как гитлеровцы называли ее, в Остмарке, далекая родина казалась им прибранной комнатой с накрытым праздничным столом, а Литва только порогом, который можно переступить в один шаг. Но последний день показал, что «порог» довольно широкий, да и на каждом шагу угроза — солдаты. А родина — она встречала пугающим гулом. Как там найти — не праздничный стол, а хоть бы почву под ногами? Эти… Модрис спрячется за юбку, Клуцис нырнет в бутылку, Цабулев Янис, опасливо дрожа, схоронится в кустах подле своей семьи. А может быть, все же поступят по-иному? Странно, как плохо мы знаем своих ближайших товарищей, хотя и пройдешь с ними сотни километров и всякого натерпишься.
Клуцис произнес:
— Закурить бы…
И здесь опять пришлось действовать Гринису. Ни слова не сказав, он достал жестянку с табаком и бумагу. Должность «хранителя табака» Гринис получил так же незаметно, как и «хранителя хлебных запасов», — так сказать, с ходом событий. Сначала у каждого припасы были свои, кто чем разжился. Гринис был даже беднее всех. Клуцис с Модрисом никакой экономии не признавали и дымили беспрестанно. У Цабулиса имелись сигареты, он был из «куряк по воскресным дням», которые охотно угощают других. Так и выкурили его «Königin von Saba»[13], «Schwarze Staffa»[14], потом принялись за трубочный табак, потом за толстые сигары… Вскрывая последнюю пачку, Альфонс Клуцис таким похоронным голосом, будто читал некролог по любимому другу, произнес рекламный текст «Юно»: «Warum «Juno» ist rund? Auf dem guten Grund «Juno» ist rund…»[15] Гринис курил гораздо реже. Бывали моменты, когда он чувствовал, как словно крысы скребутся возле сердца, и сознавал, что табачный дым — вредная штука. А разве война, тюрьма, грозящий смертью побег — это что-то здоровое? И каким бы тяжелым ни было время, проведенное в неволе, он все еще крепкий человек, будто кремневый. Внутрь залезть никто не может, а снаружи ничего не заметишь. От этого бережного курения его небольшие запасы не очень убывали, а остальные свои уже извели. Тогда Гринис безо всяких стал по-братски делиться с товарищами по несчастью. Оделял он их скупо, но и себе брал не больше. Так и на этот раз. Каждому протянул по бумажке, — Цабулис отрицательно покачал головой, это уже не первый раз, но впервые этот пустобрех перешел на язык жестов, — и каждому насыпал по щепотке. Дух у немецкого табака был хороший, и клубы дыма вокруг голов курильщиков на миг создали настроение какого-то даже уюта…
Четверка пристроилась на самом сухом месте мшарника. Вокруг чавкала вода, и набухшие кочки выглядели чисто гадючьими гнездами. Здесь хоть вздулся небольшой желвак — песчаный взгорок с тремя сосенками. Можно хотя бы сидеть на сухом. Ноги у всех промокли, и все, кроме Цабулиса, поспешили переобуться. Ночной переход был тяжелый, но заснуть в этой сырости никто не мог. Может быть, потом туман разойдется и пригреет солнце. Костер зажигать опасно… того и гляди, появятся вооруженные люди. Любой куст, любой шум — опасность. Утро светлело и наполнялось звуками. Болото было такое же тихое, но вокруг, за кустами, кипела жизнь. Донеслась петушиная песня, явно недалеко усадьба; еще ближе где-то брехал пес. Со стороны шоссе доносился гул моторов, с противоположной стороны взревел локомотив и лязгнул состав. Как в окружении. Клуцис кончил переобуваться. Досасывая окурок, поглядел на отставшего от него Модриса и спросил: — Где это ты такие шикарные носки отхватил? Тот самодовольно усмехнулся: — Хе-хе! И у немцев в сундуках хорошие вещички хранятся. — Гордо вздернув обтянутую тонкой шерстью ногу, Модрис ударился в воспоминания: — Уже не молодая, правда, солидная такая дама, какого-то вахмистра жена. Муж, понятное дело, на фронте. А тут я подвернулся, сам понимаешь. Домик у ней… Зазвала меня, сам понимаешь, обедать, яичницу с грудинкой на стол поставила, у фрицев это дорогая штука считается, сам понимаешь. А сама все уговаривает — ешь, дескать. На стол этак навалилась, а верхние пуговки расстегнуты. Сам понимаешь, еще тот вид! Ну, я ведь не больной какой, сам понимаешь. Подзаправился той грудинкой как надо и, сам понимаешь, на кровать!.. — Все на кровать!.. — Клуцис сплюнул. — Вот же телок, бес его задери! О чем ни заговори, как ни заговори, а Модрис тебе обратно на баб свернет — и на кровать. И долдонит, и долдонит, уши вянут. Хвастун — мочи нет. И вот такие девкам нравятся — бараны кучерявые. Пока они плели свое, Гринис все наблюдал за Цабулисом. Неладно с ним. Нельзя давать ему сломиться именно сейчас, когда дальний путь уже за спиной, а опасности, которые требуют собрать все силы, еще впереди. Море переплыли, а теперь только переправиться через реку с горящим по ней маслом. На это нужны силы. Гринис еще раз встряхнул Цабулиса: — Переобуться надо! — Ох… бог с ним… — закряхтел Цабулис. — Потом… — будто спросонья от мухи отмахнулся. — Что значит потом? Ноги сопреют, — Гринис принялся помогать ему, расшнуровал и стащил ботинки, нашел сухие портянки — перепеленал ноги, как младенцев. Модрис глядел и ухмылялся обычной дурацкой ухмылкой. Клуцис презрительно скривился, но промолчал. Над Гринисом не позубоскалишь, а Цабулис сейчас под его опекой. Быстро приведя в порядок снулого Цабулиса, Гринис раскурил свою потухшую самокрутку и сунул ему в рот. — Затянись! Бывает, что и помогает. Цабулис вяло почмокал и проскрипел: — Голова кружится. — Лежи. Чтобы уберечь Цабулиса от холодной сырости, Гринис прислонил его обмякшее тело к корявой сосне. Сам пристроился рядом, поднял ворот и вобрал голову в плечи. Глаза закрыты, а сон не идет. По спине пробегали мурашки — солнце хоть и поднялось выше, но нисколько не грело. Те двое опять завели разговор. На сей раз говорил Клуцис, а Модрис слушал. — Как мы ее жрали! К обеду полбанки — это уж законно, а иной раз и пивца пару бутылочек примешь. Немецкая эта водчонка, ею только нутро полоскать. Раз поймали одного спекулянта с бидоном самогона. Я его добром предупреждаю: не мути. Говори, сколько у тебя там, и я тебе скажу, сколько нам причитается. А тот хреновину порет. Дураком прикидывается! Думает, на таковских напал. Я и говорю: «Раз так — конфискуем весь бидон за твое вранье. А еще будешь мошенничать, все добро отнимем и протокол составим. Учти, и дальше по-честному орудуй!» Тот только белеет, пот утирает. А уж нам было что пожрать. Как купорос крепкая и горит, будто бензин! У кого нутро слабое — не принимает… Клуцис даже облизнулся от полноты чувств. Гринис почувствовал, как в нем все переворачивается от злости. Еще тогда, во время отчаянного побега, Клуцис показался ему не особенно симпатичным. Никого близко не зная, он и не возражал, что делать — случай свел. Времени не было, приходилось полагаться только на доверие к человеку, на то, что все-таки это соотечественник. Уже в дороге Гринис узнал, что Клуцис служил шуцманом, хотя только, как он сам поспешил объяснить, всего лишь спекулянтов на Рижском вокзале ловил. «Помогал фрицам народ голодом морить», — зло отрезал Гринис. Клуцис продолжал оправдываться, что он всех отпускал, «попугав», только пустяковую пошлину взимал. Дружок его туда затянул, рассказав, что водки там хоть залейся. А в возчиках ходить уже никакого расчета не было. Клуцис до пятнадцати лет проторчал в четырехлетней школе, потом ограничился этим образовательным цензом, уйдя в ломовики. Вот была житуха — заработок десять латов в день, каждый вечер выпиваешь самое малое поллитровку. И по сей день бы еще честно правил своим овсяным мотором, не начнись эта «заваруха». Прельстившись шуцманской должностью с возможностью нить водку, «вляпался, как телок в дерьмо». Спустя год немцы его и еще таких же, повинных в подрыве экономики, посадили. Может быть, Клуцис и впрямь был не таким уж строгим «грозой спекулянтов». Из тюрьмы его отправили на работы в Германию, где он встретился с Цабулисом, который и привел его потом к Гринису. Нельзя сказать, чтобы проштрафившийся шуцман был злой человек, но порой в нем проступала явная подловатость. Немцев он ненавидел, но и о советской власти был не лучшего мнения. Вообще задушевным тоном он говорил только о довоенной водочной бутылке и папиросах «Спорт». В начале побега оружие было у одного Гриниса — сумел разжиться парабеллумом. В Польше наткнулись на немецкий караул. Одного солдата Гринис застрелил, другому Клуцис размозжил голову. Происшествие это укрепило их в сознании, что попадаться гитлеровцам они не смеют, но никак не уменьшило неприязни Гриниса к Клуцису. Захваченное оружие распределили так, что Клуцис завладел автоматом, тогда как Модрис с явной неохотой закинул за плечо винтовку. Волоки этакую железяку! Цабулис остался без оружия. Но он по нему и не тосковал. «Какой уж я воитель!..» «Самому-то себя дай бог до дому дотащить, без фузеи», — подумал Гринис. И тут снова в ушах его загудели голоса собеседников. Клуцис: — Эта дурость никогда добром не кончается. Ребята говорили — все к дьяволу идет, и нам туда же дорога. Зато хоть погуляем. Один начисто сгорел. Говорю тебе, дым изо рта, из носа пошел, весь синий сделался и дух вон. Смотреть муторно было, будто говяжьи легкие… Модрис тянул свое: — И девок можно по вагонам щупать. Клуцис презрительно: — Которые так в мыле даже ходили. Меня на это бабье с самого начала не больно тянуло. Ну их к бесу. Я уж два года в ломовиках проработал, водку пил и курил не хуже других взрослых, а с бабами еще не знался. Только начни за юбку хвататься, оглянешься — уже жена на шее и поганец орет всю ночь. А старшие дружки все меня обхохатывают: «Дитеночек ты еще, да как тебя за мужика считать, если ты еще ни с одной не спал». Ну, коли такое дело, надо сделать все как положено. Пошли как-то вечером с дружком Густом, он вдвое старше меня был, закатились на Кузнечную. Подцепили двух. Одна старуха, другая смазливая. Я говорю, заплачу, сколько надо, но чтобы молоденькая была моя. Густ молчит, у него карман тощий, жена все выскребает. Купили по бутылке и айда в заезжий двор. Взяли комнату. Для начала, понятно, дернуть надо. Ну и дернули, так что все туманом подернулось. Такой туман, ничего не соображаю. Наутро голова болит, мутит. Весь день езжу и думаю: «Ну, правильный я теперь мужик или еще нет?» Ничего вспомнить не могу, что было, как было. Целую неделю голову ломал, а потом как начало резать! Побежал к доктору. Тот и запел: «Да как тебе не стыдно, такой молодой и уже такую болезнь схватил!» Тут я и понял, что, стало быть, уже не невинный, если больной. Старики меня хвалить, молодец, малый, говорят! Густу завидно стало, он смеется — подпоил меня, говорит, и подсунул старую ведьму, а сам за мои денежки с молоденькой. Уж и хороша, говорит, была. Ну, думаю, такое дело, надо одному распробовать, в трезвом виде. Вылечился, пошел и в точности такую же молоденькую сговорил. — Ну, и как эта понравилась? — жадно спросил Модрис. Клуцис понес похабщину. Гринису хотелось заорать: «Да заткнись ты, боров!» Но он молчал, столько уж пакости навидался. Но свет ведь и в глубокой тьме пробивается, и человек, он нечто выше какого-то жалкого насекомого. Какие необъяснимые противоречия сплетаются в ходе жизни! Будто клубок разматывается день за днем, глядишь — в привычной серой пряже вдруг яркий гарус сверкает. Глаза обращены к солнцу, а ноги часто по топкой грязи бредут. А если человек совсем увязает, если душа его уже не взыскует света? Аристотель вон считал, что чувство прекрасного главное, что отличает человека от животного. Неужели в этом словесном потоке, в этом извержении нечистот, можно различить хоть крупицу прекрасного? А еще был философ, француз Блез Паскаль, так тот сказал, что человек немыслим без мысли — иначе это уже камень или скот. А может быть, все же в этих разговорах пробивается какая-то мысль — крошечная, чуть заметная, хоть вонючая, но мыслишка? Тогда они все же не камни, не животные, а люди. Он вздохнул. В сердце что-то встрепенулось. Слух уловил и донес до сознания какие-то слова Клуциса: — Ну, тут мы поддали… Где-то поблизости замычала корова. — Ух ты! — прервал свой треп Клуцис. — Если тут пастухи… так они на нас могут выйти!
 Никто ему не ответил. Клуцису уже не хотелось громко балабонить, да и Модрис побелел от страха. Цабулис пребывал все в той же полудреме, полубеспамятстве, тогда как Гринис блуждал где-то в своих мыслях. Дни, годы, смена времен, идет к закату человеческая жизнь. И он когда-то видел рогатое стадо на краю болота, слушал, как журавли уносят и приносят полдник. Дни и годы — вёсны, лета, осени. Сияющим цветком расцветало солнце на тусклом сером небе, и с сырых лугов навстречу ему сияло золото калужниц. Одуванчики лезли из земли, наливались белым соком, задорно обнажали свою золотистую головку, седели и рассевали по ветру пушистые семена. Они летели высоко над полем и заносили жизнь далеко-далеко. Куковала кукушка, и пахло навозом. Как счастлив он был, когда ему доверили воз. Из хлева выехал так осторожно, что ступица телеги ни за что не задела, доехал до поля, а возвращаясь, пустил коня рысью, стоя в телеге. Так здорово, так лихо, будто пребывал на ристалище в древнеримском цирке, даже смех разбирал, когда взрослые кричали: «Эй, парнишка, упадешь под колеса!» Ах эти дни! Запах хлева, ноги вечно в цыпках, мыканье стада, и как трудно вставать рано утром! Любая мелочь казалась целым событием, любая песенка заполняла весь мир. Было нелегко, но было много солнца, много смеха и веселья почти из-за ничего. Маленький рижанин у большого хозяина. Первые тяжелые послевоенные годы, а в деревне уже белели стропила в усадьбах новохозяев. Старый Гринис был железнодорожным машинистом, зарабатывал прилично, но милее всего была ему бутылочка. Сначала пил, оплакивая жену, потом тоскуя, что сын не ухожен как надо бы, потом от обиды, получив от какой-то красавицы отказ, не захотела стать мачехой его наследнику, а под конец — по любому поводу; маленький Гринис рос сам по себе, а там пошла школа, а там пастушить. Определили его к настоящему серому барону. Человек это был богатый, но без часто встречающегося в деревне порока: владелец усадьбы «Малые Камуры» не был скупым. Кормил хорошо, но и работать заставлял. Масло всегда стояло на столе, по субботам пекли пшеничный хлеб. Парное молоко Гринис мог пить сколько влезет. Хозяйка была строгая, но спокойная, зря не бранилась. Сам хозяин разговаривал только со взрослыми работниками. Грузный, самоуважительный, резкий в разговоре. Маленький Гринис трепетал перед ним! Это был не просто страх, а нечто большее — хозяин казался воплощением мудрости, всезнания и всеведения, что он сказал, то было неоспоримо. Посреди своего двора он стоял во всем величии, как Цезарь в центре своей империи, это он был солью земли.
Одно-единственное горе угнетало этого почти совершенного человека — с детьми было плохо. Бренного богатства хватало, можно хоть полдюжины пустить по свету не с голой задницей гулять, а седьмому, который лучше всех себя в хозяйстве проявит, усадьбу оставить. Земли было с триста пурвиет, и земля-то какая, будто сало. Женился хозяин на своей двоюродной сестре с другого конца волости, тоже единственной наследнице большого хозяйства, и смог ее приданое обменять на хорошую землю подле себя. Так что у него было что-то вроде целого имения. С большой радостью ждали первенца. Вроде как появления престолонаследника, ведь со временем ему предстояло владеть просторами «Малых Камуров». Соседи из усадьбы на взгорье были голодранцы. «Большие Камуры»? Одно название, что большие. Владелец «Малых Камуров» переплюнуть мог через их владения. Потому-то в округе и перешептывались злорадно, что у гордеца с сынишкой не все ладно. «Не задался, умом тронутый». Хозяин знал, что люди болтают, хотя в глаза ему сказать этого никто бы не осмелился. Он ждал второго сына. У того была «водянка в голове», и врачи ничем не могли помочь. Хозяин привез доктора из дальних мест, — этот был широко известен, на язык и поступки несдержанный, но врач толковый. Вдруг поможет, хоть совет даст, чтобы с третьим все ладно получилось. И вот с этим доктором хозяин на своей половине жуть как повздорил. Гринис в саду яблоки собирал и слышал, как выскочивший на веранду врач еще обернулся и крикнул: «Скоты, выродки чертовы! Ради богатства кровосмесительствуете, а потом удивляетесь, что вместо детей крокодилы родятся!» Гринису показалось, что в этих Докторовых словах прозвучало что-то такое неприличное, что только рижские уличные мальчишки себе позволяли, но слова эти запомнились. Хозяйская половина показалась ему вдруг покойницкой, откуда в самый жаркий полдень веет холодом смерти и тлением. Он старался держаться от нее как можно дальше. До самого отъезда в Ригу спал в клети, хотя все уже перебрались в теплое помещение. Как-то в молотьбу, повозившись со снопами, он увидел ночью во сне, что из хозяйской половины вылезает страшный крокодил и хочет сожрать его. Вопя дурным голосом, Гринис вскочил и в страхе не знал, куда ему кинуться. Хозяин не утратил своей величественной выдержки, но на доктора подал в суд. Что это еще за слова! Он, владелец «Малых Камуров», не прелюбодействует, а живет в законном браке, священником венчанный. А если врач не большой умелец, чтобы вылечить несчастного ребенка, то и не смеет честить его крокодилом. Что там с этим судом было, Гринис не узнал, уехал в Ригу. Но он уже сумел заглянуть в самые темные глубины жизни — и получил отвращение к тому, что там таится…
Солнце уже било в лицо. Гринис встряхнулся. Стало теплее. Болтуны угомонились и задремали. Спокойно дышал и Цабулис, хотя время от времени постанывал. И Клуцис покряхтывал… знать, дорвался во сне до желанной бутылки. А Модрис блаженно улыбался. Странно, во сне с него как будто спадало все пакостное, лицо обретало дурашливое выражение — просто добродушный парнишка. На губе его пристроилась какая-то букашка. Модрис заморгал и вытянул пухлые губы, будто собираясь послать воздушный поцелуй. Гринис вздохнул. Что ему сейчас снится? Может быть, вновь переживает томление первой любви, бурный трепет молодого сердца? А у него сердце щемит. Но это не было болезненным. Бодрящий осенний воздух легко вливался в грудь, и мысли снова улетели куда-то далеко. Душа стала легкой, отрешенной, сладкая усталость охватила все суставы, но уснуть он так и не смог…
Никто ему не ответил. Клуцису уже не хотелось громко балабонить, да и Модрис побелел от страха. Цабулис пребывал все в той же полудреме, полубеспамятстве, тогда как Гринис блуждал где-то в своих мыслях. Дни, годы, смена времен, идет к закату человеческая жизнь. И он когда-то видел рогатое стадо на краю болота, слушал, как журавли уносят и приносят полдник. Дни и годы — вёсны, лета, осени. Сияющим цветком расцветало солнце на тусклом сером небе, и с сырых лугов навстречу ему сияло золото калужниц. Одуванчики лезли из земли, наливались белым соком, задорно обнажали свою золотистую головку, седели и рассевали по ветру пушистые семена. Они летели высоко над полем и заносили жизнь далеко-далеко. Куковала кукушка, и пахло навозом. Как счастлив он был, когда ему доверили воз. Из хлева выехал так осторожно, что ступица телеги ни за что не задела, доехал до поля, а возвращаясь, пустил коня рысью, стоя в телеге. Так здорово, так лихо, будто пребывал на ристалище в древнеримском цирке, даже смех разбирал, когда взрослые кричали: «Эй, парнишка, упадешь под колеса!» Ах эти дни! Запах хлева, ноги вечно в цыпках, мыканье стада, и как трудно вставать рано утром! Любая мелочь казалась целым событием, любая песенка заполняла весь мир. Было нелегко, но было много солнца, много смеха и веселья почти из-за ничего. Маленький рижанин у большого хозяина. Первые тяжелые послевоенные годы, а в деревне уже белели стропила в усадьбах новохозяев. Старый Гринис был железнодорожным машинистом, зарабатывал прилично, но милее всего была ему бутылочка. Сначала пил, оплакивая жену, потом тоскуя, что сын не ухожен как надо бы, потом от обиды, получив от какой-то красавицы отказ, не захотела стать мачехой его наследнику, а под конец — по любому поводу; маленький Гринис рос сам по себе, а там пошла школа, а там пастушить. Определили его к настоящему серому барону. Человек это был богатый, но без часто встречающегося в деревне порока: владелец усадьбы «Малые Камуры» не был скупым. Кормил хорошо, но и работать заставлял. Масло всегда стояло на столе, по субботам пекли пшеничный хлеб. Парное молоко Гринис мог пить сколько влезет. Хозяйка была строгая, но спокойная, зря не бранилась. Сам хозяин разговаривал только со взрослыми работниками. Грузный, самоуважительный, резкий в разговоре. Маленький Гринис трепетал перед ним! Это был не просто страх, а нечто большее — хозяин казался воплощением мудрости, всезнания и всеведения, что он сказал, то было неоспоримо. Посреди своего двора он стоял во всем величии, как Цезарь в центре своей империи, это он был солью земли.
Одно-единственное горе угнетало этого почти совершенного человека — с детьми было плохо. Бренного богатства хватало, можно хоть полдюжины пустить по свету не с голой задницей гулять, а седьмому, который лучше всех себя в хозяйстве проявит, усадьбу оставить. Земли было с триста пурвиет, и земля-то какая, будто сало. Женился хозяин на своей двоюродной сестре с другого конца волости, тоже единственной наследнице большого хозяйства, и смог ее приданое обменять на хорошую землю подле себя. Так что у него было что-то вроде целого имения. С большой радостью ждали первенца. Вроде как появления престолонаследника, ведь со временем ему предстояло владеть просторами «Малых Камуров». Соседи из усадьбы на взгорье были голодранцы. «Большие Камуры»? Одно название, что большие. Владелец «Малых Камуров» переплюнуть мог через их владения. Потому-то в округе и перешептывались злорадно, что у гордеца с сынишкой не все ладно. «Не задался, умом тронутый». Хозяин знал, что люди болтают, хотя в глаза ему сказать этого никто бы не осмелился. Он ждал второго сына. У того была «водянка в голове», и врачи ничем не могли помочь. Хозяин привез доктора из дальних мест, — этот был широко известен, на язык и поступки несдержанный, но врач толковый. Вдруг поможет, хоть совет даст, чтобы с третьим все ладно получилось. И вот с этим доктором хозяин на своей половине жуть как повздорил. Гринис в саду яблоки собирал и слышал, как выскочивший на веранду врач еще обернулся и крикнул: «Скоты, выродки чертовы! Ради богатства кровосмесительствуете, а потом удивляетесь, что вместо детей крокодилы родятся!» Гринису показалось, что в этих Докторовых словах прозвучало что-то такое неприличное, что только рижские уличные мальчишки себе позволяли, но слова эти запомнились. Хозяйская половина показалась ему вдруг покойницкой, откуда в самый жаркий полдень веет холодом смерти и тлением. Он старался держаться от нее как можно дальше. До самого отъезда в Ригу спал в клети, хотя все уже перебрались в теплое помещение. Как-то в молотьбу, повозившись со снопами, он увидел ночью во сне, что из хозяйской половины вылезает страшный крокодил и хочет сожрать его. Вопя дурным голосом, Гринис вскочил и в страхе не знал, куда ему кинуться. Хозяин не утратил своей величественной выдержки, но на доктора подал в суд. Что это еще за слова! Он, владелец «Малых Камуров», не прелюбодействует, а живет в законном браке, священником венчанный. А если врач не большой умелец, чтобы вылечить несчастного ребенка, то и не смеет честить его крокодилом. Что там с этим судом было, Гринис не узнал, уехал в Ригу. Но он уже сумел заглянуть в самые темные глубины жизни — и получил отвращение к тому, что там таится…
Солнце уже било в лицо. Гринис встряхнулся. Стало теплее. Болтуны угомонились и задремали. Спокойно дышал и Цабулис, хотя время от времени постанывал. И Клуцис покряхтывал… знать, дорвался во сне до желанной бутылки. А Модрис блаженно улыбался. Странно, во сне с него как будто спадало все пакостное, лицо обретало дурашливое выражение — просто добродушный парнишка. На губе его пристроилась какая-то букашка. Модрис заморгал и вытянул пухлые губы, будто собираясь послать воздушный поцелуй. Гринис вздохнул. Что ему сейчас снится? Может быть, вновь переживает томление первой любви, бурный трепет молодого сердца? А у него сердце щемит. Но это не было болезненным. Бодрящий осенний воздух легко вливался в грудь, и мысли снова улетели куда-то далеко. Душа стала легкой, отрешенной, сладкая усталость охватила все суставы, но уснуть он так и не смог…
В такой вот полудреме Гринис пробыл несколько часов, пока не погрузился в глубокий сон и не проснулся от вечерней прохлады. Кусты уже отбрасывали длинные тени. Скоро закат, впереди новый тяжелый переход. Гринис принялся расталкивать товарищей. Те просыпались, дрожа от холода, злые. По-настоящему не отдохнули ни Модрис, ни Клуцис, но торчать в этом болоте радости мало, и они с готовностью стали собираться. Цабулис все был какой-то странный. Вот он скрючился и закряхтел, как это делают пожилые люди, когда надсядутся от тяжелой работы. Гринис стал делить хлеб, Модрис внимательно глядел на его руки, сразу видно, есть парню охота. Клуцис, позевывая, потянулся всем своим громадным телом. — Ух, как кости затекли! Сейчас бы косушку и краковской колбаски кружок. — Потом повернулся к Гринису: — Что ты крошками да щепотками, будто в аптеке снадобье готовишь? Хлеб лучше в брюхе нести, чем на спине. — А что завтра есть? — Да тут и есть нечего! Ночью на какую-нибудь усадьбу выйдем, разживемся, уж будто литовец корки пожалеет. А может, мы уже и в Латвии. Сейчас подзаправимся — и порядок. — Клуцис снял с пояса флягу. — Вместо водки придется водой запить. Заметив радостное выражение лица, с которым Модрис воспринял предложение Клуциса, Гринис решил, что на сей раз надо высказаться решительнее. — Не знаю, где мы находимся, но ясно, что вокруг армейские части. Может быть, фрицы отступают, и мы угодили в самую мешанину, неделя пройдет, пока выкарабкаемся. Если будет что в рот положить, то перебьемся. А если голод заставит побираться, то под самый занавес петлю на шею заработаем. Клуцис запыхтел. Он даже не вник в смысл сказанного, уцепился лишь за то, что не понравилось. — Ну и трус же ты! Через Германию, через Польшу прошли… а теперь… — Сейчас опасности больше, чем раньше. — Ерунда! — А вот и не ерунда, — твердо отрезал Гринис и старательно разделил хлеб. — Коли так, думай о себе одном. А мне мою долю подай всю! Это было первое возражение против добровольно взятой Гринисом на себя обязанности провиантмейстера. От неожиданности у него даже руки замерли, пришлось помедлить с ответом. — Нет! Это единственное слово резко щелкнуло и еще больше подхлестнуло самолюбие Клуциса. — Как это нет, мать твою так?! А если я того требую? И ночью сам разживусь харчем — во! — Сам попадешься и нас погубишь, — возразил Гринис. — Что остальные думают? — Он повернулся к Модрису и Цабулису. Парня явно соблазняло предложение Клуциса, но он уже привык считаться с Гринисом. Во всяком случае, память у него была не такая короткая, помнил и то, как Гринис совсем недавно разделил с ним свой завтрак, и пережитые опасности, когда именно он находил выход. Модрис несмело произнес: — Да вроде поберечь бы надо. — Мне все одно неохота есть, — прохрипел Цабулис. Клуцис стоял на своем: — А какое мне дело до остальных? Берегите, пока с голоду не сдохнете. Я свое требую! — А мы не можем так делить: свое, мое. — Ишь что выдумал! — А потому, что ты сейчас сожрешь все, ночью ничего не достанешь, фрицы тебе хлеба не дадут. А завтра будешь глядеть, как мы едим. А мы не свиньи, которые… — А кто это тут свинья, мать твою..? — угрожающе осведомился Клуцис. — Уж не я ли? Гринис отрезал все тем же тоном: — Ты не свинья. Ты прожорливый боров. Дальше идти было уже некуда. Теперь или решиться на что-то, или идти на попятный. Клуцис крутил кулаком и взирал на Гриниса, как роющий землю бык. Посмотрел, посмотрел и… сник. Из-под кустистых, нависающих бровей на него было направлено что-то колючее, что-то сильнее его ярости — нет, не злость, не тупая ненависть, а сила. У Клуциса были дюжие ручищи, огромное тело и тяжелый кулак, он мог лить в глотку водку, как воду, кусищами глотать мясо, ворочать тяжелые ящики и мешки, но ему недоставало той силы, которая проявляется во взгляде, в воле, в выдержке… силы, которая у настоящего мужчины в сердце, а не в кулаке. По сути дела, Клуцис был труслив. — Вот, стало быть, как, — буркнул он, отвернулся от Гриниса и уставился на кончики своих сапог. — Возьми хлеб и заткни свою паршивую глотку, — окликнул его Гринис, и тот послушался. — И вы тоже! Модрис схватил так же жадно, как Клуцис, зато Цабулис даже не шелохнулся. Нет, дело явно неладно. Заболел? На отсутствие аппетита до сих пор никто еще не жаловался. — Берн и ешь. А то не выдержишь. — Не знаю, смогу ли идти. — Да что с тобой? — Не знаю. В разговор вмешался Клуцис, но не с тем, чтобы подбодрить сникшего Цабулиса, а лишь бы выплеснуть часть своего раздражения: — Придется тебя в какую-нибудь мочажину окунуть, чтобы взбодрить! — Возьми себя в руки, поешь! — повторил Гринис. То ли от Клуцисовой угрозы, то ли от сильного голоса Гриниса, Цабулис немного ожил и довольно быстро съел свой хлеб. Запили водой, свернули по самокрутке. Уже смеркалось, пора собирать нехитрый груз, а там и в дорогу. Обычно во время этих сборов шла немолчная болтовня. На сей раз молчали — на всех подействовали неожиданная стычка и недомогание Цабулиса. Было такое ощущение, что все до сих пор пережитое — чистый пустяк, что теперь только и начинаются настоящие трудности, что впереди уже зловеще глядится несчастье. Ночь сулила быть чернее черного; и уже темнее становились лица, и темно делалось на сердце. Только Гринис держался крепко. — Моросить начинает. Промокнем, — зарычал Клуцис. — Легче пробраться, — бросил Гринис. Модрис встряхнулся и произнес: — Сейчас бы да под теплое одеяло, да к теплой девке! Он уже настроился на треп и думал, что Клуцис подхватит, но тот все еще исходил злостью: — А ну тебя… Может, ночную рубашку еще тебе? Разговор сник. Пора в дорогу. Цабулис с усилием приподнялся с насиженного места. — С чего бы это, ноги будто затекли, не чую больше, — пожаловался он. — Разойдешься, — подбодрил его Гринис. Чавкающие шаги наполнили темноту и исчезли в ней. Хотя ночь и приостановила движение войск, но шоссе было не совсем пустынным. Время от времени проносился грузовик, тарахтели запоздалые повозки. Здесь легко было наткнуться на что-нибудь нежелательное. К тому же Гринис считал, что надо забирать влево — к северу, так быстрее можно войти в Курземе. Артиллерийская канонада слышалась восточнее. Лучше не пытаться перейти фронт, а найти надежное укрытие, фронт же прокатится через него. Немцы долго не устоят, а уж как покатятся, так быстро уйдут. Это поддержали остальные, потому и свернули с шоссе в лес. Там идти хоть и труднее, зато надежнее. Литовские леса довольно жиденькие, часто встречаются обжитые места, и как будто везде натыкано войско. Гринис совсем не хотел рисковать, да и Клуцис больше не заикался насчет того, чтобы где-то выпросить съестного. На протест его толкнул голод, но так же как трусость заставила его подчиниться воле Гриниса, эта же трусость не позволяла предпринять что-то на свой страх и риск. Предосторожность вещь хорошая, но она не помогает понять, где же они находятся. Звезд не видно, компаса нет, и выдерживать определенное направление почти невозможно. Порой казалось, что гул близкого фронта остается чуть ли не за спиной. Иди они по дороге, так там хоть деревянное распятие на обочине даст понять, что они еще в Литве, а здесь только сырые кусты хлещут по лицу, и ничего по ним не определишь. Дождь становился все сильнее. Порой начинало казаться, что они, будто их нечистый водит, топчутся на одном месте. Идти было тяжело. Верхняя одежда мокла от влаги с неба, а нижняя рубаха — от пота. Обломанные сучья, густая трава, сама земля, казалось, цеплялась за сапоги; ноги становились все тяжелее, груз не было мочи нести, усталость нарастала, и все внутри стервенело. Обычно Модрис во время этих переходов напевал какую-нибудь песенку, но нынче молчал. Клуцис то и дело оступался, и каждый раз из него, точно вонючий ком, шмякался сгусток похабщины. Цабулис поминутно приглушенно постанывал. И все же именно Модрис первый открыто выказал слабость — подобрался поближе к Гринису и сказал: — А может, бросить эту заразу? Тяжелая, — он имел в виду винтовку. — Все равно, случись что, проку от нее немного. — Давай я понесу, — и Гринис повесил на шею добавочный груз, хотя уже был занят Цабулисом. Тот все чаще спотыкался, не в силах держаться на ногах. Гринис тут же спешил его поднять и поддержать. На момент Цабулис собирался с силами и отстранялся от Гринисовой руки, но через несколько шагов снова падал. «Да, влопались мы, положеньице не из приятных. Холод, дождь, вокруг опасность, голодно… — думал Гринис. — Но именно поэтому и нельзя бросать оружие, терять смелость, сжирать оставшийся хлеб и грызться друг с другом. Наоборот, взбодриться надо от сознания, что сейчас через нас перекатывается сокрушительная армия Гитлера. Что дальше будет — и представить нельзя, во всяком случае будет светлее, веселее… ведь мы же изо всех сил стремимся туда, откуда долетает гул пушек, на родину, куда уже вошли советские части». Гринис вновь прислушался к оханью Цабулиса, гнусной ругани Клуциса и не мог понять, почему они стали уставать, почти сдавать. Выносливости маловато? Наверное, плохо все же, что он держался наособицу и не сумел понять, что скрывается в глубинной сущности его товарищей… Хотя что касается Клуциса, то сомнительно, чтобы там была какая-то глубина. В темноте, пропитанной дождем, они вышли к какому-то перекрестку. Еще издалека слышен был шум повозок и голоса ездовых. Это что же, немецкие тылы всю ночь мотаются? Передвижение войск в широком масштабе? Они поспешно юркнули в чащу леса. Направление было уже совсем потеряно. Надо подумать, стоит ли вообще дальше идти. Начался сосняк. Это пробудило надежду, что вот и Курземе, хотя такой лес мог быть и в Литве, а в теперешнем положении все равно, туда они прошли несколько километров или сюда. И все же сердце твердило — не все равно, нет! Точку поставил Цабулис. Они уже дошли до старой вырубки, где теперь грудилась молодая поросль, и замялись, не желая нырять в эту набухшую хвою, когда Цабулис опустился на пень и надломленно сказал: — Больше не могу. Точно команду услышав, Модрис тут же отыскал другой пень. Гринис снял с плеча винтовку и привалился к стволу сосны. Клуцис остался стоять. В темноте казалось, что его огромная фигура призрачно расплывается. Он сердито буркнул: — Что еще за «не могу», идти надо! — Куда теперь? — осведомился Гринис. — В ту чащу? Вымокнем там, как в речке. Направо? Или налево? — А пес его знает куда! — А раз не знаешь, значит, до утра переждем. Дождь тем временем перестанет. Округу надо узнать. — И с голоду помирать! — Перекурим. Все сбились теснее и, прикрывая огонек, закурили. Надо быть осторожным, возможно, что они приблизились к какой-нибудь части, вставшей в лесу. И совсем не сказано, что через десяток метров в ту или другую сторону лес не обрывается. А на опушке могут быть дома. В такой темноте легко наступить на мозоль немецкому часовому. Клуцис сплюнул: — Тьфу! На пустое брюхо и дым противный. Гринис не ответил. А это означало, что, по его разумению, еще не настало время выдавать очередной голодный паек. Цабулис отказался от предложения сделать затяжку. — С сердцем худо. Гринис попытался найти у него пульс. Он еле прощупывался, порой казалось, что совсем пропадает. Что бы это с Цабулисом? Говорят, что скрипучая осина долго стоит. Скрипел Цабулис, скрипел, а вот и сломился. За прошлый переход. Интересно, как медицина объясняет такой душевный и физический надлом, когда трудно установить определенную причину? Сердечная слабость или какой-нибудь скрытый недуг? Гринис, как и Клуцис, средней школы не кончил, зато много читал и посещал Народный университет. Кое-что знал о философии и искусстве, о строении человека, о чудесных возможностях йоги и о том, что многие процессы в организме еще темное дело для медицины. Поди знай, помог ли бы врач Цабулису, как и птице, у которой крыло не сломано, а желания лететь нет. Тут нужен иной вид помощи, но единственное, что Гринис мог сделать, — это дать лишний кусок хлеба или сказать теплое слово. — Слушай, Янис, — впервые назвал он Цабулиса по имени. — А может, вместо табаку хлебца ломоть? — Нет, неохота, — вздохнул Цабулис и чуть слышно добавил: — Молочка бы холодного… хоть кружечку. Гринис понял, что ему нужно хоть что-нибудь из прежней жизни, что-нибудь такое, что исходило от его усадьбы, от жены, от детей, от того, что связано с конским ржанием, запахом хлева и теплом домашнего очага. Даже у него самого, хотя он всегда был довольно одинок и на родине его не ждала ни одна женщина, это все равно вызывало волнение в душе. А может быть, он держался с товарищами слишком отчужденно… ведь у него довольно неприятный характер, только бы уколоть кого. Нередко приходилось это слышать. Вот он видит дурные стороны своих товарищей. А каким сам выглядит в их глазах? Наверное, несправедливым и черствым. Да, себя знать легко, вот судить трудно, и наоборот — трудно узнать и легко судить других, что-то в этом роде сказал Рейнис Каудзит, этот философ в мужицкой одежде… Размышления его прервало ворчание Клуциса: — Видали! Чего захотел! Может, тебе заодно и соску подать, а может, на закорках понести? — Просто он разозлился на Гриниса из-за того, что тот «своему дружку» и хлеба готов дать и все прочее, а на других плюет — пусть лапу сосут. Цабулис дышал тяжело, точно вздымающийся и опадающий от ветра бор. — Я уж… не ходок больше. Так сердце жмет, так жмет… видать, судьба здесь остаться. Гринис, щупавший в это время лоб Цабулиса, почувствовал, как отсырело его лицо. Плохо. И лоб весь в липком лихорадочном поту. Что бы это значило: руки ледяные, пульса почтинет, лоб горячий и упадок духа? Врач, может быть, и разобрался бы, а вот он не может. В темноте ничего нельзя было различить, но будь и яркий дневной свет, Клуцис продолжал бы свое — душа его была слепа: — Коль тебе так распрекрасно, устраивайся здесь на вечное житье. Я утречком дальше двину. — Один? — угрюмо спросил Гринис. — На руках никого не понесу. — У нас не только хлеб и табак общие, но и судьба. Все. — Хе. Русские еще далеко, а ты уж коммуну ладишь. Чего же тогда ему одному хлеб суешь? А мы что, «товарищи» похуже сортом? — Все мы одинаковые, — холодно отрезал Гринис. — И потому каждому надо давать то, что ему сейчас нужнее всего. У кого силы кончаются, тому надо хлеба дать, а кто сволочь — тому по морде. Клуцис унялся, продолжая бурчать под нос, что последнее больше полагается тому, кто очень к чужой морде тянется. Опять он уступил силе Гриниса, но внутри истекал желчью. Староста нашелся! Сидит на хлебе, будто только он ему хозяин! А втихомолку небось давится им. И хоть протестовал внутренний голос, что неправда это, что Гринис человек справедливый и о себе заботится меньше всего, но злость приглушила его. Доведись только поймать его на этом деле, уж тогда-то он ему врежет! А Гринис еще добавил: — И нечего на коммунистов собак вешать, коли идем к ним. Если тебе коричневый цвет милей красного, то вовремя заворачивай назад и по той же дороге дуй отсюда. — Я не к коммунистам иду, а в Ригу, — буркнул Клуцис. — И не собираюсь у них разрешения просить. Будто уж ты от них что хорошего ждешь? — Мы же народ рабочий, — коротко ответил Гринис. — Вот-вот. Коммуну не рабочие придумали, а бумагомараки. Будто при Ульманисе ломовики не жили? И еще как! Это конторские всякие сморчки нос воротили — ломовик, грязная работа. Да ты меня хоть золотарем зови, только плати десять латов в день! Им, телигентишкам этим, потому и на свете все неправильно, что в заднице легковаты! Ну так привяжи к ней кирпич, а не мути про кысплутацию, — в иностранных словах Клуцис был не силен. — Одни прохиндеи и подняли шум, когда русские пришли. Мне вот тоже, — зло хохотнул он, — одна такая кабыздошка затеяла лекцию читать. Да почему я газеты не читаю, да чего я в политкружок не хожу, да чего образование не продолжаю? А когда мне водку пить? Она голос повышает: да понимаю ли я смысл жизни, да зачем и почему я на свете живу? А я говорю, знаю, знаю — потому что папаня мой тогда пьяный был. Так и захлопнулась. — Что ж, — зло усмехнулся Гринис, — хоть один раз верно про себя сказал. А теперь прикрыли рты до света, пока не разузнаем, что вокруг. Не то накличем беду. — Хорошо, что ветер поднимается. Прояснится — и увидим, где солнце встает, — неожиданно вставил Модрис. Потом все замолкли и настроились на долгое ожидание. Осторожности ради костер развести не осмелились. Сырость все глубже впитывалась в одежду. Всех знобило, но идти же все равно нельзя. Фронт приблизился, к тому же потерян последний ориентир. Ветер время от времени усиливался, и тогда бор глухо гудел. Так же тяжело гудел Цабулис — только по этому звуку и можно было понять, что в нем еще держится жизнь. Ночь была бескрайняя, как бездна вечности…
Долгожданное утро явилось в виде серой дымки. Оно вливалось между стволами сосен, ложилось на промокшие от дождя плечи и липло к коже. Всех колотил озноб, только Цабулис лежал как замороженный. Гринис нагнулся и внимательно вгляделся в его лицо. Последний раз они брились позавчера — из экономии, берегли мыло, и только у Клуциса в ранце еще хранилось несколько использованных лезвий. У Цабулиса борода росла быстро, и выглядел он сейчас щетинистым и серым, как это утро. Все лицо в морщинах. А ведь еще к четвертому десятку не подступил. Глазные яблоки желто-красные. С минуту твердый взгляд Гриниса тревожил мертвенный покой поблекших зрачков. Цабулис попытался поднять голову, но тут же беспомощно припал к стволу. Модрис придвинулся ближе и робко смотрел то на Цабулиса, то на Гриниса. — Он что, заболел? Ну и что теперь? Гринис перевел взгляд на парня. В глазах того округлился страх, подбородок в длинном, редком пуху. Есть ли еще в Модрисе резервы мужественности, или все уже истрепалось и измызгалось, как казенный мундир? Гринису понравилось, что тот все еще заботится о своих пышных волосах. Стало быть, не хочет совсем опускаться. — Первым делом пойдем на разведку. Узнаем, что тут за место, а там видно будет. — Это можно, — сказал Клуцис. В голосе его было: сейчас-то я с тобой согласен, а свое всегда при мне. — Вы меня не кинете? — тихо произнес Цабулис. Взгляд Гриниса заставил его поежиться. — Как ты можешь такое говорить! За полчаса главное было установлено. Бор уходит довольно далеко, его пересекает узкая речонка и извилистая дорога, через несколько километров начинается низина и смешанный лес. Невозможно определить, куда же они угодили. Гринис попытался установить стороны света по природным данным, но тогда выходило, что гул фронта слышится на юге… вот и пойми. Какая-то уверенность все же есть — вот только было бы чем набить урчащие животы. Когда все собрались вместе, Гринис как-то странно спросил Клуциса: — Ну, что теперь? Тот озадаченно заерзал. А ведь верно, прав-то оказался Гринис, больше всех ломавший голову, пока они мололи всякую плешь про свое прошлое житье. Клуцис больше привык зло фыркать, а не думать. Разумеется, признаться в этом он не мог, но чувствовал себя так, будто его взяли за горло. — Э-э… я… Да что тут будешь делать, когда совсем жрать нечего. — Как это понять? — не отступался Гринис. — Вообще ничего делать не будем? — Разведем костер! — быстро предложил Модрис. — Да, да, — обалдело подхватил Клуцис. Гринис согласно кивнул: — Хорошо, просушимся, сварим горячего, побреемся и обсудим дальнейшее. Работа отогнала дурное настроение, даже притупила чувство голода. Скоро все чувствовали себя довольно уютно, почти безмятежно. Гринис, правда, то и дело предостерегал не доверяться кажущейся надежности укрытия. — Лес небольшой, и нас легко заметить. Так что будем готовы ко всему. — Да кому тут искать, — возразил Клуцис, но автомат пристроил поближе. Одежда начала просыхать, вода вскипела, можно было побриться и погреть нутро. Гринис извлек оставшуюся краюху, взвесил ее, покрутил и сказал: — А может быть, только по маленькому кусочку? — Да уж и сейчас еле ноги тащим! — воскликнул Клуцис. Гринис внимательно посмотрел на него: — Тяжело быть вечно голодным. Но если голод и вовсе глотку перехватит, тогда и шагать не сможем. — Съедим столько же, сколько вчера, — возразил и Модрис. — С тем, что у нас есть, все равно до Риги не дотянем. Рано или поздно придется заходить в какую-то усадьбу. Лучше это сделать сегодня вечером, чем тянуть еще день-два и вовсе из сил выбиться, — на сей раз Клуцис постарался обойтись без резкостей. Так и решили, что сегодня ночью пойдут на «провиантские заготовки». Может быть, это действительно лучше, чем переть наугад и терпеть голод. В конце концов, риск есть во всем. Гринис хоть и считал, что в забитой немцами округе они вместо хлеба скорее найдут смерть, но все же уступил. Может быть, потому, что ум его занимали сказанные Клуцисом слова: «дотянуть до Риги». Почему именно до Риги? Ну да, это Модрису и Клуцису. Цабулис хотел пробираться дальше, в Видземе, а он, Гринис? Кто его там, в Риге, ждет, и вообще кто его ждет где бы то ни было? Уже два с половиной года прошло с той поры, как он «смазал по личности» немецкого офицера и сначала валялся по тюрьмам, а потом по чистой случайности, да еще потому, что хороший металлист, вместо концлагеря попал на оружейный завод. Может быть, надо было найти таких друзей, товарищей, которые не бегут от гитлеровских солдат, а сами ищут их, чтобы разговаривать языком оружия? Но весной 1942 года и на Даугаве, и на Гауе, и на Венте царил железный оккупационный порядок. А что сегодня? Двинуться прямо туда, где гудит фронт? А сможет ли он его пройти? К тому же сегодня канонада как будто заглохла. Может быть, лихорадочное движение войск означает не отступление, а подтягивание сил, контрнаступление и удаление фронта. Вполне возможно, что, блуждая наугад, они сами отдаляются от фронта. И бросить беспомощного Цабулиса? Да, нелегко на что-то решиться в таких условиях: голодный, плохо вооружен, потерял верное направление и связь с окружающим миром. Верный путь? Все пути ведут к опасности, но ведь настоящие люди всегда идут только вперед. Ледяные пальцы Цабулиса прикоснулись к его руке: — У меня руки дрожат, тяжело бриться. Не поможешь? Такая мольба в глазах, что и не откажешь. Гринис кивнул: — Выскоблю получше, чем в любой цирюльне. Первым делом он разделил хлеб. Умяли его, запивая брусничным наваром, и пошли дымить, так что туча повисла. После выпитого кипятку, побритый Гринисом, Цабулис уже не выглядел таким изможденным. Начал заговаривать и вскоре согласился с требованием Клуциса — через два-три часа пойти дальше. — На опушке присмотрим какую-нибудь усадьбу, и будь там даже немцы, я один в темноте слазаю и все обделаю, — похвалился Клуцис. — А с полным брюхом мы до рассвета уже далеко уйдем, туда, где понадежнее. Гринис согласился, что примерно в этом роде что-то надо сделать, только на Клуцисову храбрость он полагался меньше всего. Язык-то у него долгий, да дела короткие. В стычке в Польше не бог весть какое геройство было двинуть по голове того, кто руки поднял. И сокровенные свои мысли Клуцис выразил уже в следующей фразе: — Как только точно узнаем, что уже в Латвии, тут же все эти самопалы в пруд или в речку. — Гм… ангелы нас, что ли, хранить будут? — осведомился Гринис. — Харч у любого мужика раздобудем, а с ружьишком этим все одно мировую войну не выиграем. Только лишний груз. И если фрицы нас с оружием схватят, то уж точно к стенке. — А без оружия? По плечу похлопают и коньяком угостят? — Скажем, что мы дезертиры, заблудились. — И дезертиров стреляют. — Да уж не так они и стреляют, как про них сказывают, — и Клуцис принялся рассказывать историю, которая, по его мнению, доказывала, что с немцами можно ужиться. Не желая и слушать его, Гринис повернулся к Цабулису: — Ну, смотри, как я тебя обработал — вон какой благообразный, С таким портретом не страшно и жену целовать. На лице Цабулиса появилась улыбка — грустная и тусклая, как этот осенний день. Но все же опять может улыбаться. Даже разговаривать. И тут же обратился к семье, там, в видземской усадьбе, которая, в окружении яблонь, лежит у подножия пологого холма. Неподалеку вьется столь характерная для латвийского пейзажа белая песчаная дорога с бело-черными стволами берез в придорожных рощицах. Вдали простираются поля, которые многие годы знали Цабулева Яниса, ходившего по ним с плугом, хотя они и не принадлежали ему, так же как не его была крыша, прикрывавшая арендаторов угол с кухней и комнатой. Зато у него была хорошая жена, шустрая дочка, парнишка, уже научился ходить, и третий ребенок, только что появился на свет, а тут его, Цабулиса, и угнали в Германию. Об этих маленьких человечках, занимавших большую часть Цабулисовых мыслей, Гринис слышал уже не раз, но впервые слушал с таким вниманием, точно уловив новые звучания в старой песне. — Скайдрита, она так: к завтраку отгонит коров к березняку, уложит и — юрк домой. Быстро пожует, поможет матери со стола убрать и опять к стаду. Мать только смеется — девчонка работу до рожденья научилась любить. Мы тогда только-только эту аренду получили, туго жилось, жена до последнего со мной на поле держалась, а после родов то в хлев, то в кухню, то хворост рубит. Потому-то, я думаю, и Скайдрита такая шустрая выдалась. Как подросла, так только: Скайдра, сюда, Скайдра, туда! Все бегом, только бегом. Ко вторым родам я уж успел доктора привезти, и отдыху жене больше было. Ребята мне удались, можно бы жить, если бы не худые времена эти… От бессилия, что ли, но Цабулис говорил чуть не шепотом. Гринис спросил о том, что ему еще не было ясно: — А почему тебя в Германию загнали? — По злобе людской. Десять гектаров мне дали. В той же усадьбе, где я половину арендовал, вторую половину сам хозяин обрабатывал. В собственность-то мне поменьше досталось, чем я арендовал, но уж коли дают, да еще задаром… А я ведь только с землей всю жизнь. С хозяином я и потом ладил, как до того. Мужик он толковый был: «Что нам из-за земли вздорить, вон и в церкви твердят, каждый свои семь футов на вечные владения получит. Будем жить по-хорошему, на наш век хватит, а молодые пусть сами знают, как им быть». Нет, право, толковый человек был, с умом в голове. Кой-какую скотину пришлось мне забить, выгона мало осталось, зато своя земля, свой хлев задумал строить. А тут тебе немцы явились, и все пошло наперекосяк. И что ни день, то хуже. Перед самой войной в наших краях кое-кого выслали, сказывали, что всех подряд станут высылать, что в новых паспортах такие печати есть, по которым видно, кого куда. Бог его знает, как там на самом-то деле, только кто высылки боялся, тот зверел потом ух как!.. А уж больше их всех Брестов Элмар. Диву я давался — Бресте, эту семью в тот советский год красной семьей считали. Сам-то, старый Бресте, при Стучке волостным старшиной был, тут его опять норовили поставить, но он старостью отговорился. Домишко у них был и пять гектаров землишки, ну им еще пять прикинули. Старший сын такой же арендатор был, как я. Элмар, как со службы пришел, зиму в лесу проработал. Парень собой видный был, веселый, и никто такого зверства от него не ожидал. С первых же дней к немцам прибился и давай всем себя показывать. Другие еще стыд не теряли, а Элмар чисто дикий какой… Поймали там одного чужого, привели в волостное допрашивать. Спрашивают, откуда да что, а Элмар уж тут — раз по зубам, два, у того кровь хлещет. И ржет: «Да ты же красный, сразу видно!» Какой раз и вовсе невиновных убивал. Волостному старшине, говорят, больно не нравилось это, но он сам Элмара боялся — тот в уездной полиции большим человеком считался сразу на несколько волостей. Старую айзсаргскую форму носил, только без дубовых листьев и на рукаве зеленая повязка с немецким шпентелем. Мы его все боялись. Я уж пытался волостным втолковать, каждому поодиночке плакался, что советская власть меня обидела, урезала мою землю, так что пришлось скотину резать. Да разве словами утихомиришь псов, коли они с цепи сорвались. Вскорости требуют меня в волость. Так и так — будто я в советский год высказывался, что, мол, спасибо за счастливую жизнь, так, мол, черным по белому в коммунистической газете значится. Я и вспомнил, когда землей наделяли, там один из газеты был, и я что-то такое говорил. А что, я каждое слово помнить буду? Элмар орет: «Ну да, кому землю давали, а кого в тундру ссылали!» Я говорю: «Давали, говорю, а как ты не возьмешь, коли дают, только не свои же волостные давали, и твоему отцу вон прирезали!» А он, чистый зверь, ты, говорит, советских солдат кормил и всякое такое. А солдат тогда каждый кормил. И заставил Элмар послать меня в Германию. А кто ему поперек скажет? Старшина ворчал было, что и на месте рабочих рук не хватает, а Элмар свое: я, говорит, для хозяев русских пленных достану, а этих учить надо. Ребятишки мои для него — тьфу! — И вот ты теперь здесь, — сказал Гринис. — Да, вот этак… Оба замолкли. Согревшись, обсушившись и слегка обманув голод, все почувствовали власть сна и один за другим заснули. На этот раз первым встрепенулся Клуцис. — Не большая радость лежать с пустым брюхом, — заявил он. — Двинулись! — Сможешь, Янис? — озабоченно спросил Гринис. Цабулис, пошатываясь, поднялся на ноги. Но удержался и заверил, что чувствует себя совсем хорошо. — Похоже, что и часу еще не прошло, — сказал Гринис. Часов ни у кого не было. — Так что, опять станем ждать ночи, дождя и голода? По такому лесу можно с песнями ходить. Надоело мне хорониться и голодать. Что-то делать надо! — захорохорился Клуцис. Затушили костер и двинулись…
Направление, как обычно, взяли такое, чтобы артиллерийский гул слышался справа. Это заменяло компас, карту и затерявшееся в тучах солнце. Уверенности не было — какое-то время далекая канонада слышалась и слева. Только и попетляли по наезженной лесной дороге. Похоже, все к черту перепуталось — и тут пальба, и в другой стороне. — Уж не угодили ли эти мастера окружать сами в мешок к русским? — высказал догадку Клуцис. А что, если окружающие их войска действительно сами окружены? Тогда их дело гроб. По мере того как окружение будет сжиматься, все кусты будут забиты немцами, и их или схватят, или заставят прятаться и издыхать от голода в какой-нибудь норе. Какое же сейчас положение на Балтийском фронте? По последним сводкам, перед самым побегом, получалось, что Рига все еще в немецких руках, а в Курземе и в Литве началось успешное контрнаступление. Прошло какое-то время, и возможно, что в контрнаступление, в свою очередь, перешла Красная Армия. В том, что перевес сил на советской стороне, ни один из них не сомневался. Может быть, обстоятельства так изменились, что и представить нельзя. Самое скверное, что такая солнечная погода сменилась вдруг дождями. Может, это знак, что хорошие дни кончились и осень мрачно объявляет о своем приходе. Долго вслушивались, потом единогласно решили, что фронт все же в одной стороне. Надо идти дальше. Серая дымка, клубившаяся над вершинами сосен, сделалась темнее и плотнее — может, дело к вечеру, а может быть, и к дождю. Эти «может быть» окружали их со всех сторон. И на все предположения не было ни одного ясного ответа. Покамест устанавливали, где какая сторона света, Цабулис, не выбирая места, поспешил опуститься на мокрый мох. Гринис тут же заметил это, заметил и то, с каким усилием тому пришлось оторваться от земли. Будто муха прилипла к клейкой бумаге. Как долго он продержится, что скажут парни, когда он совсем сдаст? Действительность становилась все угрюмее, но идти вперед надо, настоящие люди всегда идут только вперед. Но Цабулев Янис сдал. Это случилось так скоро, что ошеломило всех. Только что они спокойно шагали по ровному месту, как вдруг Цабулис упал ничком. Остальные с минуту глупо смотрели на него, а он лежал, как колода. Как обычно, Гринис опомнился первым, бросился к лежащему и повернул его навзничь. Глаза открытые и какие-то мутные, дыхание прерывистое. И, к удивлению всех, он связно сказал: — Сейчас встану и пойду. — Похоже, ты на вечный покой настраиваешься, — ответил дубовой шуткой Клуцис. Цабулис обвел мутным взглядом товарищей и сказал: — Это уже Курземе? Нашел когда гадать об этом! Клуцис от злости даже сплюнул: — То-то ты и мордой ткнулся, чтобы дорогую отчую землю поцеловать! Цабулис вздохнул: — Все легче в своей земле лежать. Стоящие переглянулись. Уже начало конца? Цабулису… и им? Голод гнал дальше, а это несчастье путало им ноги. Но даже Клуцис не мог бросить упавшего на произвол судьбы. Какой ни есть, а все же за рабочую свою жизнь привык к чувству общности — и оно пересиливало всю его густую гнусь. — Может, за меня держаться сможешь? — спросил Гринис. И вот чудо — Цабулис вновь встал на ноги. — И своими силами пойду, — сказал он, но тут же вынужден был ухватить Гриниса за руку. Наконец устроились так, что Гринис взял его под одну, Клуцис под другую руку. Ноги Цабулиса подгибались, но он хотя бы пытался подлаживаться к помощникам. Ни ему, ни помощникам это легко не давалось. Сначала Клуцис старался не уступать Гринису, довольно дружески подбадривал Цабулиса: — Держись, старик, рано сдаваться! — но уже через несколько сот метров запел по-другому: — Да держись ты хоть немного на собственных ногах! Не девчоночка ведь, что в коленках слаба, вон борода уже. — Потом опять: — Тяжелый, как куль с мукой, болтается, что твое ботало! Да как же тебя такого до ямы доволочь?! Цабулис совсем не был тяжелый, просто Клуцис устал. Гринис окликнул Модриса, чтобы он сменил товарища. А кто же сменит его? Порой ему казалось, что мягкий мох становится топким и липнет к ногам, как смола. Даже для его прямой воли и жилистости становился непосильным взятый на себя груз. Да и Модрис, паршивец, только делает вид, будто поддерживает Цабулиса. И еще не стыдно ему жаловаться: — Ты знаешь, мочи больше нет. Столько отмахали. Альфонс, может, сменишь? Клуцис все делал вид, что не слышит, а когда нытье Модрисово стало назойливым, отрезал: — Надоели вы мне оба, паралитики. Лес кончился. Между сосен проступило ровное поле. Сипя от задышки, Гринис оттащил Цабулиса к группке сосенок на опушке. Модрис даже вид не делал, что помогает, совсем отстранился. Пусть уж этот кусочек вдвоем протащатся. Но кусочек потребовал от Гриниса много. Горло просто перехватило, руки и ноги дрожат, желудок дерет острое чувство голода. Открутив пробку на бутылке, он отпил глоток воды и достал табак. — Перекурим. Тут уж оба оказались рядом. Гринис проглотил горечь и честно поделил табак. Такие уж они есть, никакой проповедью их не переделаешь. Могло быть и хуже. Руки все еще так трясутся, что папироску не свернуть. Именно от этой дрожи в руках и явилась неладная мысль: да что он с этими слизняками… плюнуть, сказать: «Прощайте!» — и пойти своей дорогой!.. Но тут же стало стыдно — уж какие ни есть товарищи, а предавать нельзя. Худо, когда теряешь уважение к другому, но настоящая трагедия, когда и себя не можешь уважать.
 Лес огибала речушка с лугами вдоль нее, дальше, наверное, дорога — там виднелись телефонные столбы и фыркали машины. Возле дороги кучка строений. Клуцис вышел на самую опушку и, встав за ствол, внимательно оглядел местность. Пустая пожня, убранное картофельное поле и выгон с ольховыми кустами. Вернувшись, он сказал:
— Похоже, что немцев тут пропасть.
Видно, что бахвал уже утратил прежнюю смелость. Гринис не напомнил ему о недавнем поведении и черт те каких посулах, только сказал:
— Что ж делать, раз запас подчистили, придется ночью еду добывать. Где-нибудь в поле картошка осталась.
Модрис сказал:
— Выйдем за сосны. Может, в той стороне дом поближе к лесу есть.
— Да, местность надо разведать, — согласился Гринис и встал. Совсем неожиданно рядом с ним очутился Цабулис.
— Я опять могу идти, — упрямо прохрипел он.
Ну, что ты скажешь — без пяти двенадцать Цабулев Янис начал учиться упрямству и настойчивости. А может, это просто отчаянье?
Сосенки здесь стояли густо, хвоя царапала лицо, идти было трудно. Впереди ничего не видно, и, когда через несколько десятков метров молодая поросль вдруг резко кончилась, они увидели, на что нарвались: на опушке находилась стоянка немецких машин. Минутная растерянность. Хорошо еще, что всего несколько солдат, да и те возятся с отдаленной машиной. Но какой-то унтер все же заметил движение в поросли.
— Wer ist da?[16]
В этот момент Клуцис сделал глупость — от растерянности нажал крючок. Он не стрелял в немцев, даже не думал это делать, потому что ствол автомата был направлен в сторону, только вызвал ненужный шум. И тут же вся округа была поднята на ноги. Будто осиное гнездо растревожили. Провожаемые свистом пуль, они кинулись обратно в гущу поросли. Клуцис исчез с такой быстротой, что не то в землю врылся, не то по воздуху промелькнул. На миг Гринис заметил Модриса — бросив винтовку, вжав голову в плечи, мчался он, как вспугнутый заяц. Цабулис жался к Гринису, и они не могли быстро уйти. По соснам уже бил свинцовый град. Цабулис ойкнул и повалился. Ранен, обессилел? Гринис не успел это выяснить.
— Halt![17]
Выхватив пистолет, Гринис выстрелил в кричавшего. Потом он так и не мог понять, как удалось ему оторваться от преследователей, но, когда после дикого рывка сквозь огонь он остановился, чтобы сменить пустую обойму, немцы порядком отстали. Зафырчал бронетранспортер, ведя свирепый огонь, — от сплошной очереди его даже сосенка повалилась. К счастью, чудище это полезло в гущу леса, а Гринис остался на опушке. Еще на миг он увидел Клуциса. Видимо, ранен. Держась за тонкую сосенку, он встал во весь рост и закричал:
— Nicht schießen, Kameraden! Nicht schießen![18]
Огненная пила срезала его вместе с сосенкой.
Гринис выстрелил еще несколько раз, но немцы были уже далеко, и надо было беречь патроны. Единственный выход — бежать, пока есть силы. Сердце уже надрывалось. Но он сумел уйти из глаз, — человек, спасающий свою жизнь, может гораздо больше того, кто покушается на его жизнь. Теперь можно хоть отдышаться. По-прежнему он держался опушки и, тяжело дыша, брел вперед. Немецкие солдаты ушли глубоко в лес и палили там как оголтелые. Гринис не мог понять, с чего они так стараются, может быть, сами не чувствуют себя в безопасности.
Бор перешел в смешанный лес, сюда сворачивала та самая речушка, что протекала через луг. Местами лес был довольно густой, надо выбрать место, где бы укрыться и переждать, когда уляжется суматоха.
И тут произошло нечто неожиданное. Точно алмазное острие пронзило густой покров туч. Хлынул ослепительный солнечный свет, и сумрачный лес ожил от сияния. Ага, уже за полдень. Гринис почувствовал, как у него сделалось легче и радостнее на сердце. Ну, уничтожили их, ну, он теперь загнанный зверь, изнуренный и голодный, но ведь он еще может видеть солнце, бороться за жизнь. Сейчас он двигается на запад, остальные пути перерезали солдаты Гитлера, безумствующие в бору. Но он еще свернет и снова пойдет на восток.
Гринис вздрогнул и поднял пистолет. Кто-то идет…
— Модрис! — приглушенно воскликнул он.
Парень был вне себя от страха. Точно не сознавая, что происходит, он воздевал вверх обе руки.
— Что ты в небе шаришь?
Модрис продолжал стоять в этом столбняке. В глазах ужас и недоумение, пальцы дрожат.
— Ну, ты хорош! Бросил винтовку, а теперь… — зло фыркнул Гринис.
— Пропали мы! — застонал Модрис. — Немцев в лесу тьма. И с той стороны идут. По лугу, я сам видел.
Глаза Гриниса сузились.
— Тогда нечего мешкать. Пошли!
Вышли к берегу. Здесь росли довольно высокие кусты, но не такие, чтобы надежно укрыться. К тому же с той стороны, куда указал Модрис, послышались не только выстрелы, но и собачий лай. Вот и затравят их, как зайцев! Только речка могла сбить со следа, и Гринис забрел в мелкое русло. Модрис последовал за ним. Гринис вдруг заметил, что парень хромает.
— Что с тобой?
— Да, видно, задело. Ляжка болит.
Шум стремительно приближался, а укрытия они так и не высмотрели. В сердце закрался холодный страх, — стало быть, суждено погибнуть, не видеть больше никогда солнечного восхода и свободы? Еще несколько минут — и конец.
И тут он заметил, что речка разделяется на два рукава, которые через несколько метров опять сливаются. Маленький, но густо заросший островок. Надо запрятаться в его кустах. Только быстрее, пока их не заметили! Гринис потащил Модриса вперед:
— Давай, давай! Не копайся!
Они достигли островка, довольно высоко вздымающегося над водой. Упав на живот, Гринис ловко вполз в густую зелень, спешивший за ним Модрис неуклюже зашлепал по воде и поднял шум, но тут сильные руки схватили его за плечи и выдернули на берег.
— А теперь тише! Слышишь, чтобы ни звука! — выдохнул Гринис.
Высокая трава и низкие кусты как будто хорошо укрывали их, но вместе с тем закрывали окрестность. Ничего больше не видать. Даже солнце сюда не пробивалось.
Несколько близких выстрелов. Громкие голоса, перекличка. Язык не немецкий и не какой-то другой знакомый Гринису язык, совсем неведомая речь. Но люди эти были в мундирах армии Гитлера, вооружены автоматами, данными им Гитлером.
Затрещали сучья, снова выстрелы. Перекликаясь, солдаты забрели в речку, забурлила вода. Гринис стиснул пистолет и прикинул, сколько же патронов у него осталось. Такое чувство, что вот-вот солдат встанет им на голову… тогда он выстрелит себе в рот, и всему будет конец.
Но ни один из гитлеровцев не захотел карабкаться за крутой берег только для того, чтобы оглядеть крохотный островок. Шаги зашлепали дальше, солдаты нырнули в лес, и слышалось только журчание потока. Даже ни одного выстрела больше. Гринис осторожно поднял голову. Солнечный свет оживлял угрюмую чащу — светло-зеленая листва, светло-синее небо, как в старом шлягере «Шумит зеленый лес». Обретенная жизнь на миг опьянила радостью. Но тут Модрис пожаловался:
— Жуть как начало болеть, верно, кровь идет.
Как перевязать рану, если нечем и если даже шевелиться как следует нельзя? Гринис действовал осторожно: повернул Модриса раной кверху и стянул штаны. На вид не бог весть что… даже не очень кровоточит… небольшая грязноватая ранка. Где же пуля? Не видно, чтобы прошла насквозь. Модрис боязливо спросил:
— Жуткая дыра?
Смешной вопрос, но Гринису стало не по себе. Рана, кажется, опасная, довольно опасная. Сможет ли Модрис идти?
— Сам погляди.
— Смелости не хватает… худо. Ты знаешь, я никогда не мог на кровь смотреть. Когда вы с Альфонсом тех фрицев пришибли, меня потом три дня выворачивало.
— Маленькая, хорошенькая дырка, — успокоил его Гринис, — никакой крови. Перевяжу, — он оторвал рукав рубахи и перевязал, как мог.
Модрис заныл:
— Ну и как же теперь? Я… не хочу умирать… не хочу…
— До смерти тебе еще далеко! — прикрикнул Гринис.
— Ты думаешь? — Модрис на минуту успокоился, но тут же вновь захлюпал: — Где же я теперь укроюсь?
— Когда через Вислу переправлялись, ты без малого не утонул, а теперь забыл о том. Выкарабкались и здесь как-нибудь выкарабкаемся.
Внимательно осмотрев окрестность, Гринис махнул рукой на лишнюю предосторожность и, действуя смелее, помог Модрису устроиться поудобнее.
— Идти сможешь?
— Не знаю. Больно… но пойду.
— Только так. Надо собраться с силами. Солдаты с ранеными ногами иной раз по десятку километров проходили. И нам надо двигать вперед.
— Куда?
Гринис погрузился в размышления. Потом сказал:
— Сейчас нам наобум Лазаря идти нельзя. Выход один. Помнишь хуторок, куда мы последний раз заворачивали, где хозяин нам от своей бедности целую ковригу отвалил?
— А чем же он поможет? — вздохнул Модрис.
— Поможет. Ты ведь не понял, о чем мы с ним по-русски говорили. Литовец сказал, чтобы мы подождали, тогда он еще еды достанет, а один человек нам надежную дорогу в Курземе покажет. Да ведь Клуцису приспичило вперед, вот мы и не остановились там. Придется теперь к нему возвращаться.
— Это же вон какая даль. И дороги не знаем.
— Не такая уж даль. От болота, где переночевали, один большой переход. Здесь мы больше на месте топтались. Погода ночью будет хорошая, а верное направление определим по железной дороге. Если поднатужимся, завтра будем там. Разживемся едой, может, и доктора найдем.
Вот это Модрису было понятно: его рана требует скорой помощи. За мысль о добром литовце он ухватился так же, как узник в темном подвале последние надежды связывает с пробивающимся в щель лучиком. Тогда, не понимая, о чем Гринис и Цабулис говорят с этим нищим мужиком, Модрис разглядел только ужасную закопченную комнатенку и стайку полуголых ребятишек. Теперь же казалось, что жалкая лачуга чуть ли не волшебный дворец или преддверие к светлой больнице, где пользуют хорошенькие сестрички, а в приемные часы навещают любящая мать и заботливый отец. Да, он хочет туда. Только надо подождать, пока стемнеет, да еще вот… есть ужасно хочется.
— У тебя там осталась корка, — смущенно произнес он. — Может, поделим…
— Бери всю, я не хочу, — твердо сказал Гринис; твердо именно потому, чтобы заглушить внутренний голос.
Модрис жадно впился в черствую корку. Гринис свернул папироску.
Чтобы подбодрить парня, Гринис добавил:
— Потом сможешь девчонкам мозги заправлять своими похождениями.
У Модриса кусок застрял в горле.
— Ты не смейся, — конфузливо сказал он, — я ведь там наплел о себе много. Само с языка прет. У меня ведь только и была невеста, Расма, но она мне не нравилась. Некрасивая. С красивыми-то ничего не получалось. И в Германии тоже. Немецкого не знаю, и вообще… Вахмистерша пригласила к себе, это точно, да я не знал, как подступиться, стыдился все. Она меня кормит, подкладывает, а я все об этом думаю… в глотке стоит… Так и удрал. И не поел толком, и не спал с ней.
— Тогда хвастать нечего, — сказал Гринис. — И вообще это не мужчина, если треплется про такие дела.
Модрис ничего не сказал, догрызая корку. Молчал и Гринис. От далеких воспоминаний защемило на душе. Они замерцали на горизонте прошедших дней, точно закатное солнце над вершинами леса. Скоро погаснут, опустится темнота, ночь без утра…
Лес огибала речушка с лугами вдоль нее, дальше, наверное, дорога — там виднелись телефонные столбы и фыркали машины. Возле дороги кучка строений. Клуцис вышел на самую опушку и, встав за ствол, внимательно оглядел местность. Пустая пожня, убранное картофельное поле и выгон с ольховыми кустами. Вернувшись, он сказал:
— Похоже, что немцев тут пропасть.
Видно, что бахвал уже утратил прежнюю смелость. Гринис не напомнил ему о недавнем поведении и черт те каких посулах, только сказал:
— Что ж делать, раз запас подчистили, придется ночью еду добывать. Где-нибудь в поле картошка осталась.
Модрис сказал:
— Выйдем за сосны. Может, в той стороне дом поближе к лесу есть.
— Да, местность надо разведать, — согласился Гринис и встал. Совсем неожиданно рядом с ним очутился Цабулис.
— Я опять могу идти, — упрямо прохрипел он.
Ну, что ты скажешь — без пяти двенадцать Цабулев Янис начал учиться упрямству и настойчивости. А может, это просто отчаянье?
Сосенки здесь стояли густо, хвоя царапала лицо, идти было трудно. Впереди ничего не видно, и, когда через несколько десятков метров молодая поросль вдруг резко кончилась, они увидели, на что нарвались: на опушке находилась стоянка немецких машин. Минутная растерянность. Хорошо еще, что всего несколько солдат, да и те возятся с отдаленной машиной. Но какой-то унтер все же заметил движение в поросли.
— Wer ist da?[16]
В этот момент Клуцис сделал глупость — от растерянности нажал крючок. Он не стрелял в немцев, даже не думал это делать, потому что ствол автомата был направлен в сторону, только вызвал ненужный шум. И тут же вся округа была поднята на ноги. Будто осиное гнездо растревожили. Провожаемые свистом пуль, они кинулись обратно в гущу поросли. Клуцис исчез с такой быстротой, что не то в землю врылся, не то по воздуху промелькнул. На миг Гринис заметил Модриса — бросив винтовку, вжав голову в плечи, мчался он, как вспугнутый заяц. Цабулис жался к Гринису, и они не могли быстро уйти. По соснам уже бил свинцовый град. Цабулис ойкнул и повалился. Ранен, обессилел? Гринис не успел это выяснить.
— Halt![17]
Выхватив пистолет, Гринис выстрелил в кричавшего. Потом он так и не мог понять, как удалось ему оторваться от преследователей, но, когда после дикого рывка сквозь огонь он остановился, чтобы сменить пустую обойму, немцы порядком отстали. Зафырчал бронетранспортер, ведя свирепый огонь, — от сплошной очереди его даже сосенка повалилась. К счастью, чудище это полезло в гущу леса, а Гринис остался на опушке. Еще на миг он увидел Клуциса. Видимо, ранен. Держась за тонкую сосенку, он встал во весь рост и закричал:
— Nicht schießen, Kameraden! Nicht schießen![18]
Огненная пила срезала его вместе с сосенкой.
Гринис выстрелил еще несколько раз, но немцы были уже далеко, и надо было беречь патроны. Единственный выход — бежать, пока есть силы. Сердце уже надрывалось. Но он сумел уйти из глаз, — человек, спасающий свою жизнь, может гораздо больше того, кто покушается на его жизнь. Теперь можно хоть отдышаться. По-прежнему он держался опушки и, тяжело дыша, брел вперед. Немецкие солдаты ушли глубоко в лес и палили там как оголтелые. Гринис не мог понять, с чего они так стараются, может быть, сами не чувствуют себя в безопасности.
Бор перешел в смешанный лес, сюда сворачивала та самая речушка, что протекала через луг. Местами лес был довольно густой, надо выбрать место, где бы укрыться и переждать, когда уляжется суматоха.
И тут произошло нечто неожиданное. Точно алмазное острие пронзило густой покров туч. Хлынул ослепительный солнечный свет, и сумрачный лес ожил от сияния. Ага, уже за полдень. Гринис почувствовал, как у него сделалось легче и радостнее на сердце. Ну, уничтожили их, ну, он теперь загнанный зверь, изнуренный и голодный, но ведь он еще может видеть солнце, бороться за жизнь. Сейчас он двигается на запад, остальные пути перерезали солдаты Гитлера, безумствующие в бору. Но он еще свернет и снова пойдет на восток.
Гринис вздрогнул и поднял пистолет. Кто-то идет…
— Модрис! — приглушенно воскликнул он.
Парень был вне себя от страха. Точно не сознавая, что происходит, он воздевал вверх обе руки.
— Что ты в небе шаришь?
Модрис продолжал стоять в этом столбняке. В глазах ужас и недоумение, пальцы дрожат.
— Ну, ты хорош! Бросил винтовку, а теперь… — зло фыркнул Гринис.
— Пропали мы! — застонал Модрис. — Немцев в лесу тьма. И с той стороны идут. По лугу, я сам видел.
Глаза Гриниса сузились.
— Тогда нечего мешкать. Пошли!
Вышли к берегу. Здесь росли довольно высокие кусты, но не такие, чтобы надежно укрыться. К тому же с той стороны, куда указал Модрис, послышались не только выстрелы, но и собачий лай. Вот и затравят их, как зайцев! Только речка могла сбить со следа, и Гринис забрел в мелкое русло. Модрис последовал за ним. Гринис вдруг заметил, что парень хромает.
— Что с тобой?
— Да, видно, задело. Ляжка болит.
Шум стремительно приближался, а укрытия они так и не высмотрели. В сердце закрался холодный страх, — стало быть, суждено погибнуть, не видеть больше никогда солнечного восхода и свободы? Еще несколько минут — и конец.
И тут он заметил, что речка разделяется на два рукава, которые через несколько метров опять сливаются. Маленький, но густо заросший островок. Надо запрятаться в его кустах. Только быстрее, пока их не заметили! Гринис потащил Модриса вперед:
— Давай, давай! Не копайся!
Они достигли островка, довольно высоко вздымающегося над водой. Упав на живот, Гринис ловко вполз в густую зелень, спешивший за ним Модрис неуклюже зашлепал по воде и поднял шум, но тут сильные руки схватили его за плечи и выдернули на берег.
— А теперь тише! Слышишь, чтобы ни звука! — выдохнул Гринис.
Высокая трава и низкие кусты как будто хорошо укрывали их, но вместе с тем закрывали окрестность. Ничего больше не видать. Даже солнце сюда не пробивалось.
Несколько близких выстрелов. Громкие голоса, перекличка. Язык не немецкий и не какой-то другой знакомый Гринису язык, совсем неведомая речь. Но люди эти были в мундирах армии Гитлера, вооружены автоматами, данными им Гитлером.
Затрещали сучья, снова выстрелы. Перекликаясь, солдаты забрели в речку, забурлила вода. Гринис стиснул пистолет и прикинул, сколько же патронов у него осталось. Такое чувство, что вот-вот солдат встанет им на голову… тогда он выстрелит себе в рот, и всему будет конец.
Но ни один из гитлеровцев не захотел карабкаться за крутой берег только для того, чтобы оглядеть крохотный островок. Шаги зашлепали дальше, солдаты нырнули в лес, и слышалось только журчание потока. Даже ни одного выстрела больше. Гринис осторожно поднял голову. Солнечный свет оживлял угрюмую чащу — светло-зеленая листва, светло-синее небо, как в старом шлягере «Шумит зеленый лес». Обретенная жизнь на миг опьянила радостью. Но тут Модрис пожаловался:
— Жуть как начало болеть, верно, кровь идет.
Как перевязать рану, если нечем и если даже шевелиться как следует нельзя? Гринис действовал осторожно: повернул Модриса раной кверху и стянул штаны. На вид не бог весть что… даже не очень кровоточит… небольшая грязноватая ранка. Где же пуля? Не видно, чтобы прошла насквозь. Модрис боязливо спросил:
— Жуткая дыра?
Смешной вопрос, но Гринису стало не по себе. Рана, кажется, опасная, довольно опасная. Сможет ли Модрис идти?
— Сам погляди.
— Смелости не хватает… худо. Ты знаешь, я никогда не мог на кровь смотреть. Когда вы с Альфонсом тех фрицев пришибли, меня потом три дня выворачивало.
— Маленькая, хорошенькая дырка, — успокоил его Гринис, — никакой крови. Перевяжу, — он оторвал рукав рубахи и перевязал, как мог.
Модрис заныл:
— Ну и как же теперь? Я… не хочу умирать… не хочу…
— До смерти тебе еще далеко! — прикрикнул Гринис.
— Ты думаешь? — Модрис на минуту успокоился, но тут же вновь захлюпал: — Где же я теперь укроюсь?
— Когда через Вислу переправлялись, ты без малого не утонул, а теперь забыл о том. Выкарабкались и здесь как-нибудь выкарабкаемся.
Внимательно осмотрев окрестность, Гринис махнул рукой на лишнюю предосторожность и, действуя смелее, помог Модрису устроиться поудобнее.
— Идти сможешь?
— Не знаю. Больно… но пойду.
— Только так. Надо собраться с силами. Солдаты с ранеными ногами иной раз по десятку километров проходили. И нам надо двигать вперед.
— Куда?
Гринис погрузился в размышления. Потом сказал:
— Сейчас нам наобум Лазаря идти нельзя. Выход один. Помнишь хуторок, куда мы последний раз заворачивали, где хозяин нам от своей бедности целую ковригу отвалил?
— А чем же он поможет? — вздохнул Модрис.
— Поможет. Ты ведь не понял, о чем мы с ним по-русски говорили. Литовец сказал, чтобы мы подождали, тогда он еще еды достанет, а один человек нам надежную дорогу в Курземе покажет. Да ведь Клуцису приспичило вперед, вот мы и не остановились там. Придется теперь к нему возвращаться.
— Это же вон какая даль. И дороги не знаем.
— Не такая уж даль. От болота, где переночевали, один большой переход. Здесь мы больше на месте топтались. Погода ночью будет хорошая, а верное направление определим по железной дороге. Если поднатужимся, завтра будем там. Разживемся едой, может, и доктора найдем.
Вот это Модрису было понятно: его рана требует скорой помощи. За мысль о добром литовце он ухватился так же, как узник в темном подвале последние надежды связывает с пробивающимся в щель лучиком. Тогда, не понимая, о чем Гринис и Цабулис говорят с этим нищим мужиком, Модрис разглядел только ужасную закопченную комнатенку и стайку полуголых ребятишек. Теперь же казалось, что жалкая лачуга чуть ли не волшебный дворец или преддверие к светлой больнице, где пользуют хорошенькие сестрички, а в приемные часы навещают любящая мать и заботливый отец. Да, он хочет туда. Только надо подождать, пока стемнеет, да еще вот… есть ужасно хочется.
— У тебя там осталась корка, — смущенно произнес он. — Может, поделим…
— Бери всю, я не хочу, — твердо сказал Гринис; твердо именно потому, чтобы заглушить внутренний голос.
Модрис жадно впился в черствую корку. Гринис свернул папироску.
Чтобы подбодрить парня, Гринис добавил:
— Потом сможешь девчонкам мозги заправлять своими похождениями.
У Модриса кусок застрял в горле.
— Ты не смейся, — конфузливо сказал он, — я ведь там наплел о себе много. Само с языка прет. У меня ведь только и была невеста, Расма, но она мне не нравилась. Некрасивая. С красивыми-то ничего не получалось. И в Германии тоже. Немецкого не знаю, и вообще… Вахмистерша пригласила к себе, это точно, да я не знал, как подступиться, стыдился все. Она меня кормит, подкладывает, а я все об этом думаю… в глотке стоит… Так и удрал. И не поел толком, и не спал с ней.
— Тогда хвастать нечего, — сказал Гринис. — И вообще это не мужчина, если треплется про такие дела.
Модрис ничего не сказал, догрызая корку. Молчал и Гринис. От далеких воспоминаний защемило на душе. Они замерцали на горизонте прошедших дней, точно закатное солнце над вершинами леса. Скоро погаснут, опустится темнота, ночь без утра…
Закончив ученичество, Гринис стал полноправным механиком, специалистом по автогенной и электрической сварке. «Обмывая» его вступление в профессию, все мастера здорово напились. Даже Гринис: так уж принято было, хотя молодой подмастерье никогда не тянулся к горькой водке и столь же несладкому похмелью. Его тянуло другое: побродить по свету, посмотреть, как люди живут, поучиться жизни не только по книгам. Так в неполных двадцать лет он очутился в Германии, недолгое время побыл в городах Голландии и Дании. У него были бумаги от Гильдии ремесленников, а по ним работу можно было получить даже в те годы страшного кризиса и безработицы — слава рижских мастеровых забегала далеко вперед, да и требования таких «странствующих мастеров» были куда скромнее. К призыву Гринис вернулся в Латвию и по пути в Ригу нанялся на стройку в одном из железнодорожных узлов. Заработок здесь был обеспечен на все лето. Больше года Гринис слышал только чужой язык и теперь с жадностью прислушивался к латышскому, к песням дорожных рабочих на особом латгальском диалекте, когда по субботам они устраивали веселые вечеринки. Местные крестьяне смотрели на латгальцев свысока. Гриниса они считали существом высшего порядка — человек с профессией, одет хорошо и обхождение знает. К тому же одинокий — за такого и до военной службы можно отдать свою дочь, чтобы человек знал, что есть на свете место, которое принадлежит ему и которому он принадлежит. Комнату Гринис снимал у некоего деятеля партии малоземельных, который кроме земледелия был занят только своей партией. Жена его, наоборот, занята была только брачными партиями. У них были три дочери, старшей уже за четверть века. Младшая, Инесса, материна любимица, разбитная и озорная девчонка. То, что на старшую, работящую, послушную и наделенную всеми прочими добродетелями невесту никто не зарился легко было понять — внешность у нее была не очень соблазнительная. Младшая, наоборот, пьянила, как черемуха в цвету, и не удивительно, что глазастая мать скоро поймала младшенькую целующейся с заезжим механиком. Это вызвало ее праведный гнев: «Как вам не стыдно? Инесса еще совсем ребенок. Много ли у нее ума, а вы-то, уже взрослый человек!» Лишнего шума умная мать поднимать не стала, корила ровно столько, чтобы не вспугнуть возможного жениха, чтобы призвать его к порядку и пробудить в нем чувство ответственности. Что поделаешь, она готова выдавать дочерей в обратном порядке, чем заведено. Что поделаешь, такие времена, кризис, привередничать не будешь, иначе все в девках останутся. И Гринис, опьяненный встречей с родиной, ароматом черемухи, весной, своей и Инессиной молодостью, с готовностью полез в уготованную ему вершу. Разговор он повел серьезный. Это поняла вся семья, даже полные гневной зависти старшие сестры. Он уже считался женихом, и мать поспешила по секрету разгласить это всей округе. Гринису она строго наказала: «Дружить можете, но ничего такого, что себе позволяют венчаные люди. Она у нас нетронутая, как бутончик нераспустившийся, уж это вы поверьте». Конечно же, заезжий механик был не из святых — молодой мужчина, и мать это хорошо понимала. Ну да пусть только заглотит крючок, и если его возвращения со службы будут ждать не одна, а двое, так никуда не денется. Надо скорей окрутить, поди знай, что там за год мужчине взбредет, — кризис же нынче!.. Все бы наверняка пошло как надо, не вмешайся величайший дуропляс и блистательный мудрец Случай, который не раз перечеркивал не только планы матерей с дочерьми на выданье и политические комбинации малоземельных деятелей, но и мудрые прогнозы деятелей государственного масштаба и прославленных полководцев. Случаю было угодно, чтобы Гринис со своими товарищами по работе на троицу забрел на гулянье на лоне природы, и этот же Случай заступил ему дорогу, когда он, протанцевав несколько раз и выпив бутылку пива, собирался пойти к Инессе. Молодая женщина подошла к буфету и крикнула буфетчику: «Я хочу лемонады!» Нелатышский выговор обратил на нее внимание Гриниса. Немножко знакомая, так сказать, шапочное знакомство — жена богатого хозяина, полька Ванда. Видимо, только бегство из нищей Виленщины загнало молодую девушку в брачную постель к пожилому хозяину. Теперь ее муж неизлечимо болен, первый сын его ненавидит молодую, красивую мачеху и как только может отравляет ей жизнь. Есть у нее маленький сынишка, непохожий на того крокодила… Детские воспоминания и всякие местные слухи всколыхнулись в сознании Гриниса, и тут же развеялись, словно поднятая ветром мякина. Темные зрачки ее замерцали фиолетовым светом. Все остальное провалилось куда-то, остались только эти глаза — не дьявольски соблазняющие, сулящие какую-то страсть, которую обычно бабьи языки и жестокие стишки приписывают темноволосым женщинам, а что-то в них щемящее, какая-то тоска. Гринис подошел к ней и пригласил танцевать. Ванда ответила что-то неразборчивое, скоро они были уже на танцевальной площадке. Разговор не вязался — молодая полька латышским владела плохо, а Гринису тогда незнаком был польский. Может быть, это и хорошо было, избавило их от многого лишнего, внешнего, когда женская стыдливость запрещает немедленно откликнуться на зов, а мужчина, не желая раскрыться, уходит за наружную грубость. Говорили взгляды, поэтому отпали недоразумения, вызываемые словами. Они не мудрствовали, не прикидывали, не страшились, а, как крылатые семена, подчинялись порывам ветра. После нескольких танцев пошли бродить по березовым рощицам, по полям, по пустынным тропинкам. От росы промокли их ноги и одежда, ночь была прохладная, а они трепетали от внутреннего жара. Ветви гладили их по голове, украшая волосы свежей зеленью, во ржи кричал коростель, и соловьиная песня взлетала выше самых высоких вершин. В книгах Гринис читал про волшебство такой ночи; теперь он знал, как тусклы все книги по сравнению с первобытной радостью, которая кипит внутри и оглашает природу бурным криком. Они обменивались редкими словами, льнули друг к другу и как будто целиком слились с этой непередаваемо волшебной ночью. Он вынул шпильки из волос Ванды, и они разлились темным пологом, совлек с нее одежду, припал лицом к теплым плечам. Он чувствовал, как дико колотится сердце, только не мог понять чье. Ванда что-то говорила на своем языке, потом Гринис узнал, что она высказывала свою жажду любви, желание хотя бы на несколько минут забыть об адском мирке, в который превратилась ее повседневная жизнь. Гринис не думал, любит он или нет, вообще ни о чем не думал. Душа его пылала, и огонь унялся только тогда, когда в груди все превратилось в пепел… После этой ночи они встречались, как только была возможность, но на слова были все так же сдержанны, обходились без «сердечных излияний». Для них как будто не было ни прошлого, ни будущего — да и настоящего тоже. Были только минуты, когда оба оказывались вместе и чувствовали себя удивительно хорошо. Никогда ни один ничего не требовал, не утверждал, не клялся и не заверял… только любил. Может быть, завтра уже суждено расстаться. Нашли друг друга только затем, чтобы вновь потерять, — об этом не говорили, так же как не говорят о смерти, зная, что ее все равно не избегнешь. Все, что находилось в окружающем мире, для них было безразлично. Но окружающие были далеко не безразличны к любящим, более того — проявляли чрезмерный интерес. В первую очередь мать Инессы, потом муж Ванды, хоть и больной, но страшно ревнивый, прочие родственники и, наконец, все, кто считал себя порядочными людьми. Ведь самое чудовищное, что эти бесстыдники держатся открыто, так нагло, точно бросая вызов обществу, в котором находятся. Кто бы мог ожидать от молодого парня, что он такой развратник! А эта черномазая цыганка, побродяжка приблудная, невесть откуда, навязалась добропорядочному вдовцу, а теперь в открытую подолом крутит! А Инесса, бедненькая, сама добродетель… мошенник рижанин соблазнил, совратил и бросил. Мать рьяно доказывала, что дочь ее осталась добродетельной, но, понося Гриниса, сама же себе противоречила. Сороки со всей волости все языки оббили, парни из любителей оскоромиться, доселе безрезультатно подъезжавшие к вдове при живом муже, с жаром вторили им. А их любовь, вызывающе бурная, непристойная, безнравственная, — точно наглый колючий репейник вторгся в гущу пристойных семейных клумб, возвышался поверх петуньи, настурций и бархатцев и колол каждому глаза. Это было не счастье, а отчаянье, вопль о счастье, который прозвучал и, не найдя отклика, заглох в летней ночи. И все. И этому суждено было кончиться… — Чего не отвечаешь? Скоро потопаем? — ворвался в его сознание голос Модриса. Он глубоко перевел дух, расстегнул пуговицы, сунул руку под куртку и прижал к тому месту, где колотилось сердце. Как будто притихло. — Темнеет, — пробормотал он. — Но вот скоро… да, скоро… — Как есть охота! — вздохнул Модрис. — Потерпи, — каким-то странно приглушенным голосом произнес Гринис. — Все проходит… все опять вернется, и радость явится, и миг, когда поверишь в счастье. И он начал верить в него, когда с того благословенного и проклятого лета прошло восемь лет. Да, время идет, Гринис отслужил, работал в Риге, зарабатывал хорошо, слушал лекции в Народном университете и много читал. В советский год он стал техническим руководителем предприятия средних размеров; когда пришли немцы, его, конечно, вышвырнули за дверь, но в общем-то оставили в покое. Гринис устроился электросварщиком на заводе сельскохозяйственных машин «Стар». Там встретился с другим бывшим начальником — с директором чугунолитейного, работавшим здесь формовщиком. Тоже молчаливый и спокойный, вроде Гриниса. Всюду голод, холод, насилие, каждый норовит только урвать и обеспечить себе дневное пропитание…
 И вот в этих-то условиях сердце Гриниса заволновалось вновь. Виновата была конторщица Инесса — не та обесславленная Инесса, которую он бросил в далекой волости. Тут уж было простофатальное совпадение, так как этой Инессе суждено было отомстить за обиду, нанесенную ее тезке. Была она стройная, высокая, светловолосая, чуть ли даже не выше Гриниса. Раньше Гринис, бывало, с усмешкой поглядывал на пары, где об одном можно было сказать — взять бы за уши да вытянуть немножко. А сейчас ничего смешного в этом не видел, все казалось слишком серьезным. На фабрике они не встречались, а после работы на улице. Сначала Инесса как будто замедляла шаг, чтобы он мог ее догнать, но потом что-то задерживалась в конторе, и Гринису приходилось ждать. Договоренности никакой не было, а как-то так получалось. Говорили о разном, но обычно о всяких умных вещах, не припутывая ничего личного. То есть Инесса иногда намечала что-то в этом направлении, но Гринис каждый раз смущенно уходил от этого. Ну что такое его одинокая, пустая жизнь рядом с этой изумительной женщиной! Да, именно так он и рассуждал. Инесса какое-то время училась, была знакома с художниками, актерами. Один поэт поднес ей книжечку с изумительной надписью. Инесса гордо вскидывала голову, наизусть читая эти строки. Слов Гринис как будто не слышал, видел только ее, чувствовал, как трепещет сердце от этого голоса, от ослепительного сияния женских глаз. Вечером после встречи как будто яркий свет и аромат цветов заполняли всю его комнатушку. На работе, где царил огонь и лязг железа, он двигался почти неосознанно, все окружающее было как будто подбито ватой. Все мысли были обращены к Инессе, и Гринис не переставал бормотать какие-то давно слышанные стихи:
И вот в этих-то условиях сердце Гриниса заволновалось вновь. Виновата была конторщица Инесса — не та обесславленная Инесса, которую он бросил в далекой волости. Тут уж было простофатальное совпадение, так как этой Инессе суждено было отомстить за обиду, нанесенную ее тезке. Была она стройная, высокая, светловолосая, чуть ли даже не выше Гриниса. Раньше Гринис, бывало, с усмешкой поглядывал на пары, где об одном можно было сказать — взять бы за уши да вытянуть немножко. А сейчас ничего смешного в этом не видел, все казалось слишком серьезным. На фабрике они не встречались, а после работы на улице. Сначала Инесса как будто замедляла шаг, чтобы он мог ее догнать, но потом что-то задерживалась в конторе, и Гринису приходилось ждать. Договоренности никакой не было, а как-то так получалось. Говорили о разном, но обычно о всяких умных вещах, не припутывая ничего личного. То есть Инесса иногда намечала что-то в этом направлении, но Гринис каждый раз смущенно уходил от этого. Ну что такое его одинокая, пустая жизнь рядом с этой изумительной женщиной! Да, именно так он и рассуждал. Инесса какое-то время училась, была знакома с художниками, актерами. Один поэт поднес ей книжечку с изумительной надписью. Инесса гордо вскидывала голову, наизусть читая эти строки. Слов Гринис как будто не слышал, видел только ее, чувствовал, как трепещет сердце от этого голоса, от ослепительного сияния женских глаз. Вечером после встречи как будто яркий свет и аромат цветов заполняли всю его комнатушку. На работе, где царил огонь и лязг железа, он двигался почти неосознанно, все окружающее было как будто подбито ватой. Все мысли были обращены к Инессе, и Гринис не переставал бормотать какие-то давно слышанные стихи:
С темнотой они двинулись. Направление Гринис определил довольно надежно. На небе замерцали звезды, а он в них разбирался. Север оставался за спиной, далекую линию фронта отмечали одиночные орудийные выстрелы. Только надо как можно меньше петлять. Прошлой ночью черт знает какие вензеля выписывали. Двинулись со всей решимостью. Модрис, опираясь на костыль, ковылял так энергично, что Гринису даже не приходилось помогать. Видимо, молодость и жажда жизни превозмогли усталость, голод и ранение, а может быть, и ранение-то не очень тяжелое. С темнотой преследователи вернулись в свое расположение, и можно было чувствовать себя довольно спокойно. Растительность здесь была не густая, и идти было легко. Скоро вышли на опушку, и Гринис с радостью увидел, что здесь в нужном направлении идет наезженная дорога. На юг, к юго-западу. Несколько раз во тьме мелькнули очертания строений, тогда они плотнее прибивались к спасительной стене леса. Ночь была беспокойная, но не для них. Над самыми вершинами елей спокойно протарахтел самолет. Гул пропеллера ушел к полям, там послышались одиночные выстрелы. Потом самолет — это был советский ночной бомбардировщик — сбросил осветительные ракеты на парашютах, и тут же яростно взвыли немецкие автоматические зенитки. Светящиеся трассы снарядов производили впечатление убийственного огня, но тарахтение самолета не заглушалось даже этой остервенелой пальбой. Как будто кто-то ухнул тяжелым пестом в землю, еще и еще… Бомбит! И тут же за небольшим взгорком вспыхнуло зарево. Взгорье мешало разглядеть, что же именно горит, но Гринис испытал дьявольское злорадство. Ему хотелось заорать: «Давай, приятель, сади, сади! Пусть эти хорьки узнают, каково по чужим домам смердеть!» И летчик, точно почувствовав этот призыв, сбросил еще бомбу. — Шикарная ночь. Фейерверки, салюты. Одно удовольствие пройтись! — нарушив обычную неразговорчивость, сказал вдруг весело Гринис. — Болит, — откликнулся единственным словом Модрис. Гринис тут же смолк. Начало пути. Конец тонет во тьме и неизвестности. Модрису больно, но парень все же держится. Рана, сразу видно, не пустяковая, но что же еще сейчас делать, как не стиснуть зубы и не продолжать путь? Так они прошагали еще с километр. Погода стояла ясная и прохладная, небо становилось все темнее, звезды усеивали его все чаще. Ночь выглядела величественной, а человек — с его храбростью и ненавистью, злом, чаяниями и болью — казался совсем ничтожным. Ну что такое полет самолета или высота, которой достигает снаряд, по сравнению со звездными далями? И что для бесконечной вселенной два человека, которые ковыляют к какой-то жалкой цели? Две неприметные жизни, но для них-то эта жизнь самое дорогое. Наезженная лесная дорога слилась с шоссе, стена леса свернула влево, и, перейдя шоссе, беглецы вошли в какие-то паршивые заросли. Уж не здесь ли они провели прошлую ночь? Кусты такие же мокрые от росы, как тогда, от дождя, ноги цепляются за низкие ветви и уходят в раскисшую землю. Уже через сотню метров Модрис глухо застонал. Гринис ответил на это: — Свернем правее, авось выберемся из этих джунглей. Действительно, там вроде луга, хоть и кочковатый и кустами поросший, но не такой топкий. Про себя Гринис удивлялся Модрисовой выдержке. У него уже пар от головы валил. А ночь холодная, сразу видно, что к утру иней ляжет. Но вот парень все тяжелее начал наваливаться на его руку. Хоть бы еще продержался, а то Гринис уже не чувствует в себе сил. Модрис остановился и, застонав, навалился на костыль. — Тяжело, малый, но ты держись, — дружески подбодрил его Гринис. Модрис выдохнул: — Ноги больше не слушаются. «Ну, такая же штука, как с Цабулисом», — промелькнуло у Гриниса. Похоже, что подобная мысль возникла и у Модриса: — А я еще злился на Яниса, что он не может идти. Помочь не хотел, все на тебя спихнул… вот теперь отместка. Никогда больше не буду так, никогда… «Не хватало еще, чтобы он запричитал о наказанье господнем», — ужаснулся про себя Гринис. — Это хорошо, что признаешь свою неправоту. Порядочнее себя в жизни вести будешь. А теперь дальше надо идти. Модрис мызгнул рукавом по лицу и, вцепившись в Гриниса, потащился снова. Ясно видно, что у парня кончаются силы, уже сомнительно, удастся ли дойти до цели? А там как? В воспоминании всплыла последняя минута вместе с Цабулисом. Действительно Яниса ударила пуля, как это тогда выглядело, или он от бессилия свалился? Бросил товарища… Но ведь минутная задержка, и он бы неминуемо погиб. По правде говоря, это сущее чудо, что он прорвался сквозь огонь. Угрызений совести Гринис не испытывал, так только — щемило. И тогда и сейчас он делал все возможное. А вот с Модрисом та же беда, что и с Цабулисом, — воля слабовата. Вот он вновь остановился и жалобно протянул: — Хоть минуточку отдохнем. Гринис сказал, что они прошли слишком мало, чтобы отдыхать. Он боялся, что, присев, Модрис уже не захочет подняться. Но нет, хоть и постанывая, Модрис вскоре поднялся на ноги. А там не прошли и полкилометра, как снова ему надо было посидеть. С этой минуты Гринису все время приходилось поднимать Модриса, а переходы сократились до сотни метров. Гринис не возражал — видно, что парень стиснул зубы, да и ему самому все труднее. Наконец настал момент, когда Модрис на слова: «Ну, пошли дальше» — хоть и приподнялся, но тут же рухнул. Весь стал такой, как без костей, — дряблый, пустой. — Модрис, держись! — Не бросай меня! — жалобно проскулил Модрис. — Не бросай! — Не брошу! Но и ты сам должен себе помочь, иначе застрянем здесь. Сюда никто помогать не придет. Еды нет, тебе нужен врач. И я ведь отощал, уже нет той силы, что раньше. — Я есть не хочу, — наивно как-то ответил Модрис. О Гринисе он не очень-то заботился. — Худо мне… — он осекся, начал вдруг икать, потом его вырвало. Плохо дело, ох как плохо! А идти дальше надо, больше ничего не придумаешь. Гринис вновь вздернул Модриса на ноги, и они поковыляли дальше. Кустистый луг кончился, дальше тянулось широкое, совершенно ровное поле. Куда они вышли? Если Гринис рассчитал правильно, то впереди должна быть железная дорога. Если держаться ее, то до знакомого литовца идти еще целую ночь. Невозможно… и все же надо. Но как бы разведать округу? Словно отвечая мыслям Гриниса, свистнул паровоз, и по горизонту пробежал состав. Стало быть, верно. Держаться взятого направления, пересечь эту равнину, дальше пойдет болото с их предпоследней стоянкой, где занемог Цабулис. Хорошенько отдохнуть и к утру уйти в заросли. Вокруг висела угрюмая тьма, и, если не считать промчавшегося поезда, ночь была такой пустынной, словно они вдвоем очутились в этом мире. Сидеть на одном месте было холодно. Дыхание осени леденило траву и пробиралось сквозь изодранную одежду. Гринис решил проверить, не кровоточит ли Модрисова рана, — разглядеть что-то в темноте было невозможно, разве что проверить на ощупь. Модрис отстранил его руку. — Жуть как болит. Одно понял, что ляжка горит. Спустя некоторое время Гринис почувствовал, как его трясет, и решил, что отдыхать хватит. — Теперь поднатужимся, чтобы скорей открытое место перейти. Хоть и ночь, а в лесу надежней. Модрис согласился и своими силами поднялся на ноги. Пошло еще не распаханное жнивье, и идти было бы не тяжело, если бы Модрис не поддавался усталости. Ладно, что еще так держался. Охая почти от каждого шага, ковыляет и ковыляет. Когда соберется с силами, то видно, как мало опирается на Гриниса, но вот опять обмякнет и набухнет тяжестью, а там опять откуда-то силы берутся… Но тут под ноги подвернулся камень или простой ком земли. Модрис свалился на колени, потом упал плашмя. — Ну и отдохнем, — Гринис устроился рядом с ним. — Лес уже недалеко. Парень заплакал: — Боже ты мой, стало быть, помирать… Пойдем лучше к немцам. Они накажут, заставят работать, но хоть вылечат. Только бы в живых остаться! — Не будь дураком! — угрюмо буркнул Гринис. — Они нас тут же прихлопнут. Мы же стреляли! — И зачем вы с Альфонсом стреляли? Я вот винтовку бросил. Модрис заплакал еще отчаяннее. Гринис молчал. Странно звучало отчаянное рыданье в темной, холодной ночи. А трусоват оказался этот молодой, лихой парень. Никто им здесь не мог помочь и не поможет. — Идти надо! — Не пойду я больше… никуда. Гринис вспыхнул: — Ты, юбочник, слизень сопливый! У любой девки больше сил, чем у тебя. Единственное спасение — собраться с силами и идти. Понял? — Куда идти?! — прохлюпал Модрис. — Смерти навстречу? — А хоть бы и так… хоть бы и навстречу смерти! Но не корчиться на месте, не хныкать! Модрис замолк и вытер лицо. Гринис отчеканил: — Всю жизнь ты был кисель-размазня. Так хоть раз стань мужчиной, хоть за пять минут до смерти. Борись, поднимайся на ноги! Модрис не поднялся. Гринис вздернул его, тогда он как-то удержался. Они пошли, и Гринис все подбадривал, что скоро будет лес, что там можно будет по-настоящему отдохнуть. Лес действительно как будто был недалек, но если так ковылять, то вряд ли доберутся до него к рассвету. Модрис уже не владел своим телом. И для Гриниса этот груз становился уже слишком тяжелым. Ноги подгибались от натуги, сердце ныло, а дыхание было такое рваное, что воздуха почти нет. И все же он держался и Модриса тянул за собой. Тут еще Модрис вздумал причитать и каяться в грехах. — Ох ты, господи, и на кой ляд мне это надо было! Расма так хорошо ко мне относилась, а я… всяко измывался над ней, ребятам рассказывал, что… И опять: — И на кой мне понадобилось в Германию ехать? Мама плакала, молила, не пускала… а я самоволкой. Никогда, никогда больше так не буду!.. «Да не ной ты, тошно слушать!» — вопил какой-то голос у Гриниса внутри. Но сам он молчал, даже говорить-то не смог бы — так перехватило горло. Неотступно он продолжал бороться с утомлением и расстоянием. Силы иссякли, и оба повалились на землю. Гринис все хватал и хватал воздух — будто пилу заело, не продернешь. Модрис обливался слезами и ревел в полный голос, точно мокрый младенец. Он не хотел умирать, он жаждал жить, вернуться домой, вымолить у матери и Расмы прощение, быть любимым и любящим сыном. Только вставать он больше не хотел, может быть, и впрямь уже не мог. И Гринис, собрав последние силы, поволок за собой этот мокрый причитающий куль. «Тяжелый, как кабан, вот бросить — пусть валяется!» И все же тянул. Зачем? Гринис не чувствовал чрезмерной дрожи перед косой костлявой старухи, не ждал благодарности и похвалы. Он только делал то, что считал своим долгом, оставался верен себе, таким, каким был везде и всюду. Отовсюду грозила гибель, он был не на сцене, где тысячи восторженных глаз видят подвиги героя, его отчаянную борьбу и смертный путь видели только звезды, равнодушно мигавшие в бесконечных далях. А он уже не хотел больше ничего — только держаться, пока он может дышать… Призрачные искры заплясали перед его глазами. Стоны Модриса куда-то уплыли и исчезли в ночной тьме, земля странно заколыхалась. Какая-то ветка ударила его по лицу, и он опомнился. Поляна осталась позади, здесь началась чащоба, под ногами хлюпало. Та же самая мшарина? Ничего не видя в темноте, больше инстинктом, Гринис отыскал небольшое возвышение, на котором они вчетвером провели позавчерашнюю ночь. Уложив все еще причитающего Модриса, он упал рядом с ним. Силы кончились: сердце уже не колотилось, а только тяжело ворочалось в груди. Изнеможение, вялость. Он погрузился в подобный бесчувствию сон…
Разбудил Гриниса тяжкий грохот. Как будто он заснул у подножия огромной наковальни, и вот по ней принялись колотить тысячи молотов. Земля дрожала, воздух трепетал, и толчки его отдавались где-то под прозрачным сводом неба. Гринис пошевелился и застонал. Болели все суставы. Самочувствие поганое, и сил уже нет. Глаза будто льдом подернулись. С усилием он сделал все, чтобы к нему вернулось ясное зрение, и понял, какие сильные заморозки были ночью. Не только трава замерзла, но и одежда и волосы заиндевели. Солнце уже высоко вынырнуло из своего темного убежища и освещало все болото, но оттаивало оно медленно. А на горизонте кипело извержение вулкана. В голове беспокойно крутились обрывки мыслей, но суставы все еще были окоченелые. Глаза его обратились к холодно-серому небу: неожиданно появились самолеты. Эскадрилья за эскадрильей со свистом и ревом проносились как раз над болотом. Возле самолетов распускалось множество мелких круглых облачков. И все равно пальбы зениток не было слышно — их заглушало орудийное безумие близкого фронта. Наконец Гринис понял: советские части пошли на штурм. Началось большое сражение. Застонав от боли, Гринис сел и вновь почувствовал себя хозяином своей воли и суставов. Болело и ныло все. Измотался, волоча этого дюжего парня. А как там Модрис? Все еще лежит, неужели ничего не слышит? Гринис повернулся к Модрису и тут же понял: да, Модрис уже ничего не слышит. На сей раз это было не так страшно, как обычно… болото заледенело от заморозка, и вместе с ним закоченел и Модрис. Он лежал в ледяном гробу, покрытый саваном инея. «Прости, парень, я прошлой ночью был чересчур суров. В человеке сидит такое, что только кнутом можно вышибить. И мне ведь было не легче. А ты оказался сильнее, чем я думал, ты держался, несмотря на свое бессилие, пока тебя не доконала рана. Понятно, теперь-то тебе все равно, но не все равно мне и всем другим живущим. Должен же человек знать, что мужество пересиливает и низменность и трусость». Гринис попытался встать на ноги. Это далось нелегко. Ничего, сейчас он вырежет себе костыль — вроде того, на который опирался Модрис и который пропал ночью уже в самом конце. Но куда же он пойдет? Не остаться ли здесь в болоте, хоть темноты дождаться? Зарыть Модриса, чтобы бедняге вороны глаза не выклевали. А как это сделаешь, ни лопаты нет, ни сил. На взгорке должен быть хороший, желтый песок. Покойнику все одно. Вновь, опустившись на кочку, Гринис продолжал размышлять. Как с патронами? Вынув обойму, он насчитал три патрона, еще три нашел в кармане. Заполнил обойму, вставил в пистолет и подал патрон в ствол. Пять врагу, шестой себе. Число это надо накрепко вбить в голову, чтобы в роковой момент не забыть. Вторая обойма пустая. Выбросить? Железо, лишняя тяжесть. Эта мысль напомнила Гринису, насколько же он ослабел, если не хочет нести даже такую легкую жестянку. Разозлившись на себя, сунул обойму в карман. А как быть с товарищем? Далеким воспоминанием о школьных годах прозвучали слова: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди…» Так, наверное, и надо сделать. И ждать уже больше не хотелось. Отсиживаться в болоте с мертвым, вместо хлеба — запах тления? Нет, надо к людям, к жизни. На таких кочках клюква растет, да вот ягодники ее всю подчистили. И все же Гринис нашел несколько ягодок, бросил их в рот, освежило, но желудок тут же свело от боли. Нечего мешкать. Прощай, Модрис! Вырезав костыль, Гринис побрел по болоту. Выйдя на обочину, он выбрал направление — к солнцу, высмотрел надежную дорогу и нащупал рукоятку пистолета. Не стоит жаться к земле, лежать и выжидать. Все равно надо идти, и все равно — вперед…
Апрель — май 1964
Одну лишь каплю даруй, источник повесть
 Человеку, за долгие годы привыкшему слышать слово «долговязый», странно вспоминать себя малышом, который был ниже своих сверстников.
Не поручусь, что все было именно так, а не иначе; может быть, я иной раз совру невольно, а может быть, умышленно давая волю воображению, скажу что-нибудь и правдивое. Знаю, что Гауя там текла точно так же, как и ныне. Были поперек Гауи заколы для ловли миноги и лосося, поэтому обжарочную и селение вокруг нее именовали Закольем. Были люди, многие из них уже умерли, другие еще живут — там же или где-то в иных местах. Были дома, дороги, мосты, теперь их настроено куда больше, и во все ускоряющемся темпе строят еще и еще. Было…
Воспоминание уводит меня к парку вокруг имения: там пасутся гуси, и семилетняя девочка с шестилетним мальчиком надзирают за этим крылатым стадом — гусь взмывает в воздух и исчезает. Сколько волнения и слез! Что еще? Колючая изгородь: кучка простолюдинов с любопытством разглядывает скопление лимузинов. Генерал торжественно выдает замуж свою дочь — настоящий генерал в полной форме, с орденской лентой через плечо, с аксельбантами, витыми золотыми погонами, с оправленным в золото козырьком фуражки. К тому же генерал этот военный министр. На дворе имения пестрят розы, яркие наряды дам, шапочки корпорантов…
Алмазная гора вечности — у подножия ее струится источник мудрости; мне бы хоть каплю, одну-единственную, волшебной влаги этого источника.
«Ты увидишь все, узнаешь все, ты поймешь прошедшее, настоящее, будущее!»
Значит, стать подобным великим бессмертным умам? Я человек, я не хочу дремать под сенью вечности и время от времени освежаться напитком богов, я хочу жить, испытывая неутолимую жажду стремиться, думать, осознавать и преодолевать. Одну каплю из источника, одну-единственную!
Я сную под небом, по которому в белой пуховой ладье колышется солнце и ниспосылает теплый привет; сную среди развалин замка, я испачкал все лицо, ободрал коленки, поранил пятку и нашел необычный черепок — а вдруг драгоценный? Труба сгоревшего здания упрямо вонзается в небо, облако цепляется за нее и отбрасывает зловещую тень на полузаваленный вход в погреба под замком. Там держали и мучили людей, утверждает моя мать. Я испуганно улепетываю оттуда…
Прошли годы, я далеко от берегов Гауи. Перед тем как заснуть, думаю о намытой весенним разливом песчаной косе, о зарослях ольхи, о кувшинках, о розовой колюшке, аромате черемухи — и цветов ее и ягод, от которых вяжет рот. Хотя бы во сне вернуться туда! И я возвращаюсь: я играю в развалинах замка, вдруг открывается засыпанный вход, застенок, черная, жадная пасть, какая-то сила увлекает меня туда, там ждет что-то страшное — неведомое, непостижимое, страх, который будет леденить до самой смерти… Я сопротивляюсь, кричу, кричу… Просыпаюсь, товарищи спрашивают: «Что с тобой?» — а я какой-то одурелый от стыда, боли, страха…
Мать сказала: «Никакой этот черепок не драгоценный, обломок изразца. Стены им выкладывали».
Дочери «дышлера» — столяра при имении — в барские хоромы вход был заказан, мать говорила про стены коридора или кухни. Но и эти помещения слепили глаза обитателей батрацкой усадьбы Тамажа. Стройная, высокомерная, шествовала супруга владельца замка барона фон Пандера; все сгибались перед нею, те, кто поближе, целовали край платья, какой-то простоватый мужик приложился губами к ее пальцам — баронесса резко повернулась и протянула руку своей камеристке: «Вымой, Мария! Этот мужик слюнавить мой рука!»
Замок лежал в развалинах. Имение уже не принадлежало Гёгингеру — остзейскому немцу, без матрикула и без «фона» — он купил его у перепуганного событиями 1905 года фон Пандера; аграрная реформа оставила небольшую усадьбу семье прежнего владельца. Гёгингеры — в особенности молодое поколение — отлично говорили по-латышски, но все равно не жаловали этот народ с трудолюбивыми крестьянами, смутьянистыми рабочими и смелыми солдатами…
Замок превратился в развалины. Имение разделили бывшие работники, бывшие владельцы назвали это грабежом. В центре его, кроме развалин, оказалось двухэтажное здание, где раньше жили работники при имении, — Белый дом, парк, фруктовый сад, амбары и конюшенный дом. В Белом доме утвердился заместитель инспектора артиллерии — полковник, вскорости ставший генералом, а потом и военным министром. Странно было бы, если бы простой рабочий человек получил такие же права и владения, как полковники и генералы.
Министр натянул изгородь из колючей проволоки, все устраивал и перестраивал Белый дом, разбил клумбы с розами, усыпал гравием дорожки, отпраздновал свадьбу дочери. Уцепившись за руку супруга, вся в белом, вылезла она из лимузина; ее худобу, непривлекательность, чахоточную бледность прикрывали аршины белого атласа, приданое, положение отца, корпорантские цвета, зависть бедных. Естественное явление: вместо изгнанной аристократии вылупилась новая, из своей же среды — хоть и без сословной узости, зато с широтой размаха по части бражничества. И пришло время, когда царникавцы, говоря о Белом доме, называли его имение, хотя правительство Ульманиса начало изгонять это слово с карт, из книг и разговорной речи. Вместе с грибком, который без устали разъедал стены нового имения, так что все время надо было ремонтировать и латать, забота о декоративности истощала генеральский карман. Работников он уже не держал, землю распродал, большой каменный амбар сделался собственностью благотворительного общества, оно соорудило там роскошное помещение с залом и сценой. Конюшенный дом и часть фруктового сада перешли в руки лавочницы-еврейки. Точно в прорву уходили генеральская пенсия, министерское жалованье, ежемесячные дивиденды из рыболовецкого общества.
До положения герцога латвийскому генералу подняться не удалось, зато было имение, балюстрада, гравиевые дорожки, аксельбанты, лимузины и высокопоставленные гости — была изгородь, которая отделяла от низших…
Человеку, за долгие годы привыкшему слышать слово «долговязый», странно вспоминать себя малышом, который был ниже своих сверстников.
Не поручусь, что все было именно так, а не иначе; может быть, я иной раз совру невольно, а может быть, умышленно давая волю воображению, скажу что-нибудь и правдивое. Знаю, что Гауя там текла точно так же, как и ныне. Были поперек Гауи заколы для ловли миноги и лосося, поэтому обжарочную и селение вокруг нее именовали Закольем. Были люди, многие из них уже умерли, другие еще живут — там же или где-то в иных местах. Были дома, дороги, мосты, теперь их настроено куда больше, и во все ускоряющемся темпе строят еще и еще. Было…
Воспоминание уводит меня к парку вокруг имения: там пасутся гуси, и семилетняя девочка с шестилетним мальчиком надзирают за этим крылатым стадом — гусь взмывает в воздух и исчезает. Сколько волнения и слез! Что еще? Колючая изгородь: кучка простолюдинов с любопытством разглядывает скопление лимузинов. Генерал торжественно выдает замуж свою дочь — настоящий генерал в полной форме, с орденской лентой через плечо, с аксельбантами, витыми золотыми погонами, с оправленным в золото козырьком фуражки. К тому же генерал этот военный министр. На дворе имения пестрят розы, яркие наряды дам, шапочки корпорантов…
Алмазная гора вечности — у подножия ее струится источник мудрости; мне бы хоть каплю, одну-единственную, волшебной влаги этого источника.
«Ты увидишь все, узнаешь все, ты поймешь прошедшее, настоящее, будущее!»
Значит, стать подобным великим бессмертным умам? Я человек, я не хочу дремать под сенью вечности и время от времени освежаться напитком богов, я хочу жить, испытывая неутолимую жажду стремиться, думать, осознавать и преодолевать. Одну каплю из источника, одну-единственную!
Я сную под небом, по которому в белой пуховой ладье колышется солнце и ниспосылает теплый привет; сную среди развалин замка, я испачкал все лицо, ободрал коленки, поранил пятку и нашел необычный черепок — а вдруг драгоценный? Труба сгоревшего здания упрямо вонзается в небо, облако цепляется за нее и отбрасывает зловещую тень на полузаваленный вход в погреба под замком. Там держали и мучили людей, утверждает моя мать. Я испуганно улепетываю оттуда…
Прошли годы, я далеко от берегов Гауи. Перед тем как заснуть, думаю о намытой весенним разливом песчаной косе, о зарослях ольхи, о кувшинках, о розовой колюшке, аромате черемухи — и цветов ее и ягод, от которых вяжет рот. Хотя бы во сне вернуться туда! И я возвращаюсь: я играю в развалинах замка, вдруг открывается засыпанный вход, застенок, черная, жадная пасть, какая-то сила увлекает меня туда, там ждет что-то страшное — неведомое, непостижимое, страх, который будет леденить до самой смерти… Я сопротивляюсь, кричу, кричу… Просыпаюсь, товарищи спрашивают: «Что с тобой?» — а я какой-то одурелый от стыда, боли, страха…
Мать сказала: «Никакой этот черепок не драгоценный, обломок изразца. Стены им выкладывали».
Дочери «дышлера» — столяра при имении — в барские хоромы вход был заказан, мать говорила про стены коридора или кухни. Но и эти помещения слепили глаза обитателей батрацкой усадьбы Тамажа. Стройная, высокомерная, шествовала супруга владельца замка барона фон Пандера; все сгибались перед нею, те, кто поближе, целовали край платья, какой-то простоватый мужик приложился губами к ее пальцам — баронесса резко повернулась и протянула руку своей камеристке: «Вымой, Мария! Этот мужик слюнавить мой рука!»
Замок лежал в развалинах. Имение уже не принадлежало Гёгингеру — остзейскому немцу, без матрикула и без «фона» — он купил его у перепуганного событиями 1905 года фон Пандера; аграрная реформа оставила небольшую усадьбу семье прежнего владельца. Гёгингеры — в особенности молодое поколение — отлично говорили по-латышски, но все равно не жаловали этот народ с трудолюбивыми крестьянами, смутьянистыми рабочими и смелыми солдатами…
Замок превратился в развалины. Имение разделили бывшие работники, бывшие владельцы назвали это грабежом. В центре его, кроме развалин, оказалось двухэтажное здание, где раньше жили работники при имении, — Белый дом, парк, фруктовый сад, амбары и конюшенный дом. В Белом доме утвердился заместитель инспектора артиллерии — полковник, вскорости ставший генералом, а потом и военным министром. Странно было бы, если бы простой рабочий человек получил такие же права и владения, как полковники и генералы.
Министр натянул изгородь из колючей проволоки, все устраивал и перестраивал Белый дом, разбил клумбы с розами, усыпал гравием дорожки, отпраздновал свадьбу дочери. Уцепившись за руку супруга, вся в белом, вылезла она из лимузина; ее худобу, непривлекательность, чахоточную бледность прикрывали аршины белого атласа, приданое, положение отца, корпорантские цвета, зависть бедных. Естественное явление: вместо изгнанной аристократии вылупилась новая, из своей же среды — хоть и без сословной узости, зато с широтой размаха по части бражничества. И пришло время, когда царникавцы, говоря о Белом доме, называли его имение, хотя правительство Ульманиса начало изгонять это слово с карт, из книг и разговорной речи. Вместе с грибком, который без устали разъедал стены нового имения, так что все время надо было ремонтировать и латать, забота о декоративности истощала генеральский карман. Работников он уже не держал, землю распродал, большой каменный амбар сделался собственностью благотворительного общества, оно соорудило там роскошное помещение с залом и сценой. Конюшенный дом и часть фруктового сада перешли в руки лавочницы-еврейки. Точно в прорву уходили генеральская пенсия, министерское жалованье, ежемесячные дивиденды из рыболовецкого общества.
До положения герцога латвийскому генералу подняться не удалось, зато было имение, балюстрада, гравиевые дорожки, аксельбанты, лимузины и высокопоставленные гости — была изгородь, которая отделяла от низших…
Гауя. Царникава. Люди. Большая комната с низким, закопченным потолком. Я забился в угол, сейчас для детей места у стола нет, там восседают труженики мужчины. Керосиновая лампа стоит на глиняном горшке, красноватый огонек отражается на длинных горлышках пивных бутылок, на водочных поллитровках; хлеб, масло, минога. Пиво пенится, вылезает из стаканов, заливает пробки, хлебные крошки, миножьи головы. Окошко о шести стеклах полощет мелкий дождик. Мужчины затягивают:
Я встретился с Книгой. Она сама вышла из чердачной темноты Конюшенного дома и коварно предложила: — Загляни в меня! Я тогда еще не ходил в школу, ничего не знал о грамматике, о женском роде, жизнь не научила меня тому, какой вес имеет женский род, а книга женского рода — я позволил увлечь себя этому коварству, хотя книга была облачена в потрепанный переплет и изъяснялась по сложной старой орфографии. Я пристроился на балке там, где проломанная крыша пропускала сноп света, и погиб — погиб на всю жизнь. В промежутках я ем, пью, сплю, работаю слесарем, землекопом, в районном мостодорожном строительном управлении — начальником (а если без хвастовства — то всего лишь исполняющим обязанности), каменщиком четвертого разряда, техником, стекольщиком и бетонщиком, шофером и лаборантом в вузе, делаю еще многое другое, воюю, учусь, пашу землю, пилю в лесу деревья, плаваю в океане, летаю в самолете, совершаю кое-какие прегрешения, но всегда остаюсь верным книге. Свою судьбу я понял тогда же, на сумрачном чердаке Конюшенного дома, — печатное слово уводило меня от приключения к приключению, давало представление о том, как широк мир, как причудлива и сложна жизнь. Потревожила меня мать — что я там застрял? Она полистала книжку и сказала, что Андрей Пумпур — знаменитый поэт. Тут и я взглянул на обложку — «От Даугавы до Дуная». Книга находилась в тесной связи с автором и названием, это мне было ясно. Ясно было и то, что есть такой народ сербы (про турок и русских я знал уже раньше), есть такая река Дунай… Дунай — название звучало гулко, широко. Да, у меня же где-то есть «Географический атлас для начальной школы». Я полез под кровать, вытащил ящик со своим имуществом и «ушел» в карту. Моря я сразу же увидел — синие поля, которые бороздит ветер, режут кили кораблей; когда собираешь ягоды в лесу у дюн, то слышны пугающие завывания даугавгривских ревущих бакенов; тонкие голубые жилки питают большую синеву, это понятно. Которая же из этих жилок Ду-най? Я пропутешествовал по страницам атласа «Латвия и соседние государства» — но Дунай так и не нашел, а путешествовать понравилось. Точно ведя самолет, я плыл над обширными полями, перемахивал горные хребты, видел лес высоких труб — совсем как на рекламе «Глез унд Флентье», — залетел в красивый город Гельсингфорс, который я уже видел на почтовой открытке; откуда-то взялась огнедышащая гора с ярким пламенем на фоне такого же яркого неба — в этой стране жили людоеды и обезьяны. Дуная не нашел. Взгляд мой наткнулся на название в нижнем углу: По-до-лия. Как это звучит! Подолия, Подолия… Я снова задвинул свое имущество под кровать, встал, вооружился винтовкой, сел в автомашину и поехал в Подолию: красивая страна — даже смородина растет по южную сторону густого ивняка. Я ел ягоды и убил несколько львов. Книгу я уже стал искать. На чердаке нашлись еще. Одна называлась «Черные алмазы», у другой была оторвана обложка и самое начало — эта была про войну, а стало быть, можно обойтись и без начала. Воевали русские с французами, Наполеон занял Москву, но в конце концов вынужден был бежать. Русский офицер Рославлев отыскал свою неверную невесту в Данциге; я отыскал Данциг в атласе и был горд этим, только не перед кем было гордиться.
 Я сказал Жанису:
— Я читал про французского императора Наполеона.
Жанис был работник при имении — ветреный парень лет шестнадцати. У него был пробочный пугач, поэтому он высоко стоял в моих глазах. Он ответил:
— А у меня есть книжка про французского короля Людовика, я тебе ее дам.
Жанис был скупой и нескупой: он угощал меня яблоками, но не давал хоть на минутку подержать пугач — еще застрелюсь, а что он тогда матери скажет. Книжку он все же принес.
«Квентин Дорвард» Вальтера Скотта. Ух, какие там были чудеса! Почему я не встречал ни одного закованного в железо рыцаря? Видно, они живут и сражаются только в Бургундии и во Фландрии. Только что я видел запряженного в водовозную бочку мерина Ансиса — в мире книг лошадей облачали в доспехи, седлали, приучали к сражениям. А мне что-то больше нравятся автомашины…
Я завел машину — и снова поехал в Подолию, напевая часто слышанную от матери песню: «Уехал латыш далеко на чужбину». С винтовкой за плечами я постучал в железные ворота. Они открылись, оттуда вышел Подольский принц.
— Что угодно чужеземному рыцарю?
— Ваше величество, — сказал я учтиво, как учил Квентин Дорвард, — я явился, чтобы посетить ваше царство. Я бы прилетел самолетом, но не знаю, найдется ли подходящее место для посадки.
— Ага! — высказал догадку принц. — Вы хотите мне служить?
— Я свободный человек и никому не служу.
Такой ответ чужеземному принцу не понравился, и он нахмурился.
— Тогда что же вам нужно?
— Я хочу повидать прекрасную принцессу Изабеллу…
Не успел я произнести имя принцессы, как принц страшно рассердился.
— Как ты, бродяга, осмелился! Сюда, слуги, отведите его в застенок, уложите на раскаленную решетку, пусть извивается, как минога!
Подбежали слуги: черные, как черти, хвостатые, рогатые. Но я не стоял раскрыв рот, я выстрелил, и эти подручные повалились вокруг меня. Принц ухитрился куда-то спрятаться; я знал, что если у холопов душа безжалостная, то у знати трусливая. Горделивой поступью победителя я шествовал по широким залам дворца. И вот я возликовал: принцесса, точно водяная лилия, расцвела среди зеленых листьев. Белая-белая, с золотистой улыбкой в глазах. Но как до нее добраться, если в этом месте этакая топь? Я не мог отступить, раз уж одолел целую рать, геройски подвернул свои штанцы и забрел в тину. Вскорости я был уже по пояс в воде, а от лилии меня отделял целый метр. Я подтянул ее к себе ружьем, уже хотел было сорвать, но передумал. Я знал, как быстро вянут сорванные цветы, пусть она колышется на воде и цветет для меня одного. С чувством гордости и с мокрыми штанами я пошел к берегу, но вдруг отчаянно завопил — в ногу мне воткнулось что-то острое. Одним прыжком я вымахнул на берег — в пятке зияла глубокая рана, из которой текла кровь. Ага, понял я, это трусливый принц нанес подлый удар мечом. От такого всего можно ожидать. В другой раз я приеду сюда на танке и разнесу весь этот дворец из пушки.
Я поковылял домой — перевязать рану и выслушать от матери нотацию…
Я сказал Жанису:
— Я читал про французского императора Наполеона.
Жанис был работник при имении — ветреный парень лет шестнадцати. У него был пробочный пугач, поэтому он высоко стоял в моих глазах. Он ответил:
— А у меня есть книжка про французского короля Людовика, я тебе ее дам.
Жанис был скупой и нескупой: он угощал меня яблоками, но не давал хоть на минутку подержать пугач — еще застрелюсь, а что он тогда матери скажет. Книжку он все же принес.
«Квентин Дорвард» Вальтера Скотта. Ух, какие там были чудеса! Почему я не встречал ни одного закованного в железо рыцаря? Видно, они живут и сражаются только в Бургундии и во Фландрии. Только что я видел запряженного в водовозную бочку мерина Ансиса — в мире книг лошадей облачали в доспехи, седлали, приучали к сражениям. А мне что-то больше нравятся автомашины…
Я завел машину — и снова поехал в Подолию, напевая часто слышанную от матери песню: «Уехал латыш далеко на чужбину». С винтовкой за плечами я постучал в железные ворота. Они открылись, оттуда вышел Подольский принц.
— Что угодно чужеземному рыцарю?
— Ваше величество, — сказал я учтиво, как учил Квентин Дорвард, — я явился, чтобы посетить ваше царство. Я бы прилетел самолетом, но не знаю, найдется ли подходящее место для посадки.
— Ага! — высказал догадку принц. — Вы хотите мне служить?
— Я свободный человек и никому не служу.
Такой ответ чужеземному принцу не понравился, и он нахмурился.
— Тогда что же вам нужно?
— Я хочу повидать прекрасную принцессу Изабеллу…
Не успел я произнести имя принцессы, как принц страшно рассердился.
— Как ты, бродяга, осмелился! Сюда, слуги, отведите его в застенок, уложите на раскаленную решетку, пусть извивается, как минога!
Подбежали слуги: черные, как черти, хвостатые, рогатые. Но я не стоял раскрыв рот, я выстрелил, и эти подручные повалились вокруг меня. Принц ухитрился куда-то спрятаться; я знал, что если у холопов душа безжалостная, то у знати трусливая. Горделивой поступью победителя я шествовал по широким залам дворца. И вот я возликовал: принцесса, точно водяная лилия, расцвела среди зеленых листьев. Белая-белая, с золотистой улыбкой в глазах. Но как до нее добраться, если в этом месте этакая топь? Я не мог отступить, раз уж одолел целую рать, геройски подвернул свои штанцы и забрел в тину. Вскорости я был уже по пояс в воде, а от лилии меня отделял целый метр. Я подтянул ее к себе ружьем, уже хотел было сорвать, но передумал. Я знал, как быстро вянут сорванные цветы, пусть она колышется на воде и цветет для меня одного. С чувством гордости и с мокрыми штанами я пошел к берегу, но вдруг отчаянно завопил — в ногу мне воткнулось что-то острое. Одним прыжком я вымахнул на берег — в пятке зияла глубокая рана, из которой текла кровь. Ага, понял я, это трусливый принц нанес подлый удар мечом. От такого всего можно ожидать. В другой раз я приеду сюда на танке и разнесу весь этот дворец из пушки.
Я поковылял домой — перевязать рану и выслушать от матери нотацию…
Суровый дед-ноябрь дохнул ночью на берега Гауи — будто дверь ледника распахнулась. А я и представлял, что там, на севере, есть огромные-преогромные завалы льда, — спустя несколько лет прочитав книгу о Северном полюсе и Ледовитом океане, я был в восторге, что сам «сообразил», как оно на самом деле. Ну и холод! Белая трава свалялась под беспощадным холодным солнцем, голые деревья съежились, песок смерзся в корочку и на берегу протоки подернулся льдистой пленкой. Никакого желания выходить на улицу, а надо. Под присмотром матери одеваемся потеплее — насколько нужда позволяет, обуваемся в прорезиненные башмачки и отправляемся на картофельное поле. Работник Казимир ходит с мерином Ансисом, запряженным в пружинную борону — то и дело из-под нее выкатывается картофелина и тут же переселяется в наши корзины. Зимой пригодится. Старшая сестра Мирдза привезла меру свежей салаки для засола; сама она уже лежит в Детской больнице в Риге. У нас есть несколько борозд картошки, небольшой огородик и вот это право проходить потом еще раз по всему полю. Свой урожай был небогатый, мы больше рассчитываем на собранное за эти дни. Пригодится, пригодится, пригодится зимой… Я твердил это как молитву. Препаршивое занятие — пальцы на ногах мерзнут, а ты все кружишь и кружишь по истоптанному полю. Казимиру хорошо, у него кожаные сапоги, а мои прорезиненные ботиночки так и липнут к бумажным чулкам — липнут и обжигают. Картофелина — одна, другая, третья. Зимой с салакой… Как-то там Мирдзе в больнице? Наверное, не так холодно, как мне здесь, все белое, чистое, врачи, сестры, вежливые сиделки, палаты белые, еда вкусная. Меня чуть не зависть берет. Будь бы еще хоть сапоги, как у Казимира! Казимир мне друг. Прошлой осенью, когда он колол большие чурки, я крутился, помогал находить клин, давал умные советы, надувал щеки, когда он бил — «бах, бах». Мать выбранила меня: что я путаюсь у человека под ногами, но Казимир заступился — это я ему работать помогаю. А как же другу не помочь! Я следую за другом, ему некогда мною заниматься, разве что порой бросит ласковый взгляд через плечо. Казимиру тепло. Ансису тоже. Казимир из далекой Латгалии, пришел к местным «господам» заработать, потому что сам стал новохозяином; к сожалению, надел он получил без белых барских строений и яблоневого сада, без генеральской пенсии, без паев в рыболовецком обществе, но и без расточительной супруги. Да, нет на свете равноправия — у меня мерзнут ноги, у Ансиса нет, у Казимира нет. У генерала расточительная супруга — от этого и Казимиру худо: никогда в срок не получает заработанное. А как же человеку разжиться инвентарем и начать хозяйствовать самому? Ужасно мерзнут ноги. Казимир вскрикивает, останавливает Ансиса, кнутовищем ковыряет в земле, бьет, снова роется. Что это там? — Крот! — отвечает Казимир. Это еще что за зверь? Впервые слышу, ни разу не видел. Казимир бьет кнутовищем. Забыв о мерзнущих ногах, я подлетаю чуть ли не под кнут. Айна держится в сторонке. В земле что-то блестяще-черное, юркое-юркое. Казимир бьет по нему, это черное покрывается кровью; охваченный страхом и отвращением, я отступаю. Когда любопытство вновь притягивает меня, Казимир уже обдирает крота. Хоть и противно, но не настолько, чтобы нельзя было смотреть. Чудесная шуба, только почему ее надо сдирать? Казимир объясняет, что он хочет сшить шубу себе. Ух ты, из такой маленькой?! А он наберет побольше, кроты, они вредные, их уничтожать надо. Может быть, все может быть. И опять Ансис тащит борону, опять выкатываются редкие картофелины, и у меня так зябнут ноги. Айна уговаривает потерпеть; но сколько же можно терпеть, хоть бы костер развести. Но не из чего, да и ктобудет разводить. Казимир только погоняет Ансиса. У меня кривятся губы. «Я пойду», — с какой-то угрозой говорю я Айне, которая на год старше меня и потому здесь, на поле, замещает мать. «Я на тебя пожалуюсь!» — говорит сестра, наверное думает, что я притворяюсь, что хочу бросить ее одну. Ну и жалуйся… Но все же не ухожу. Подошвы будто заледенели, совсем не чувствую их. Увидев мои слезы, Айна сжалилась и заторопилась домой. Мать растерла мне ноги, натянула две пары носков, дала горячего чаю и уложила в постель. Я заснул и видел страшные сны. Казимир распилил на чурбаны и переколол на толстые поленья весь барский парк — всё до последнего дерева. И вот он принялся всю эту уйму дров и сучьев сжигать; я заблудился где-то в середине парка, никак не выбраться. Вокруг шипит пламя, мне жарко, ужасно жарко; я прыгаю со ствола на ствол, они горят и обжигают подошвы. Я кричу, бегу, перекатываюсь через угли и пламя… Очнувшись, жалуюсь матери. — Это у тебя горячка, пройдет, — успокаивает она. Горячка прошла, это правда. Но на пальцах ног и на подошвах вздулись черные пузыри, вроде чирьев; они набухали, лопались, нарывали, ужасно зудели, наконец покрывались струпьями, но появились новые в другом месте, и жизни мне от них не было. И так весь ноябрь, декабрь, январь… Только в феврале, в Карлинин день, я впервые обулся в новенькие ботинки со шнуровкой и вышел во двор. Дорога вела в Заколье — мы с Айной спешили поздравить бабушку с именинами. Бабушка работает у обжарочных печей, сейчас, как говорят царникавцы, самая «рыбная пора», но нас принимают радушно, мы, главным образом, сидим дома, едим сладости и играем. Я чувствую себя отъевшимся зайчонком в занесенном мягким снегом лесу. В ту зиму, мучаясь с отмороженными ногами, я начал читать газеты.
Во время немецкой оккупации один человек на набережной Даугавы вопил от радости: «Ура! Война кончилась! Радуйтесь, люди!» Собрались все пешеходы, подлетели шуцманы и стали спрашивать, откуда такие сведения. Человек достал из-за пазухи груду газетных вырезок: «Прочитайте, прикиньте, сосчитайте! Общий довоенный тоннаж во всем мире был такой-то, мощность верфей такая-то, по сводкам немецкого главного командования каждый день утоплено столько-то… Вчера отправлен на дно последний корабль, даже десяток сверх того — и война кончилась. Германия победила!..» Улыбался рассказчик анекдота, хохотали слушатели. Я не смеялся — и не смеялся потому, что уже давно, еще с детства, знал лживую природу газет. Если книга казалась воплощением мудрости, то газета — жуликоватой девчонкой, которая всегда готова заморочить тебе голову. Достаточно было почитать, что об одном и том же событии сообщали в «Яунакас зиняс» английское агентство Рейтер, французское Гавас, итальянское Стефани… Факт признавали (от Жаниса я узнал, что факт — это что-то вроде как кулаком в глаз), но факт этот гнули, мяли, крутили, растягивали и в результате выпекали совсем разные калачи. Вот и пойми, которым питаться. Мне было одиннадцать лет, когда «доктор гонорис кауза» Карлис Ульманис основательно сузил этот выбор. Изведал я и то время, когда газета пекла один-единственный каравай. И все же не могла ни мне, ни другим втолковать, что людей надо ненавидеть только потому, что они другой расы, или потому, что они думают иначе, чем издатели газет; не смогла втолковать, что для маленьких народов величайшее счастье впрячься в чужеземное иго, что предатели — благороднейшие представители народа; мы не верили, что миром должна править ненависть, а нам надлежит только тупо подчиниться, не верили, что жестокий тиран — символ свободы и что беззаконная расправа с человеком — это высочайший гуманизм. Я учился читать газеты и учился не верить. Я думал — потом, когда вырасту, выдеру у этой подлянки настоящую правду. Тогда мне было шесть лет, я еще не знал, что и те, кому в десять раз больше, все равно не умнее в этом отношении. Газеты нравились особенно потому, что рисовали картину мира. ТАСС рассказывал, что русские построили гигантский самолет — самый большой в мире — вот гляньте, какой он; американцам принадлежал величайший воздушный корабль (писали «дирижабль», а в народе еще со времен войны говорили «цеппелин») — совсем как гигантский огурец, под брюхом моторная гондола; французы строили величайший корабль «Нормандия»; японцы устроили величайшее кровопускание в Шанхае, а английский величайший дредноут «Худ» вытягивал самые толстые стволы. В каждом номере газеты сталкивались поезда, тонули корабли, падали и разбивались самолеты. С помощью газет и атласа Дебеса я познакомился с Латвией, Европой и всем миром; я узнал, что есть сказочная Америка с нью-йоркскими небоскребами, и еще более сказочный Китай, и страна восходящего солнца — Япония; что есть бескрайние океаны и пустыни, прерии, пампы, сельвы, льяносы, джунгли, саванны, тундра, тайга, гейзеры, бумеранги, слоны, верблюды, джонки, бамбуковые заросли, юрты, кокосы, эскимосы, кашалоты, ананасы… Голова от всего этого шла кругом. Мать ворчала, что я до тех пор буду сидеть, уткнувшись в книжку, пока глаза не испорчу и умом не тронусь. Спрятавшись на чердаке, я избавлялся от ее ворчания. Тут же я садился в аэростат и поднимался на такую высоту, где вечный холод, потом перебирался в другую корзину — на спине слона, заряжал ружье, стрелял в полосатых ревущих тигров; спустя минуту волны южных морей несли меня к цветущему коралловому острову, заманчиво восстающему из вод: рифы атолла вспарывают белые валы, лагуна зеркально гладкая, кувыркаются золотисто-красные рыбы. Кокосовые пальмы, финиковые… Арабы зовут финиковую пальму королевой пустыни… Верблюжьи вопли, шуршание гонимого самумом песка, где-то вдали фата-моргана, словно недостижимое, влекущее к себе, сказочное царство. Я ежусь — ветер нещадно хлещет сквозь трухлявую гонтовую крышу Конюшенного дома, мелкий, сыпучий снег бьет в многочисленные щели. Зима — суровая, нещадная мачеха — пробирает до костей. Я сжимаюсь в комок — как промокший кутенок, приваливаюсь к плите. В плите шипят сырые дрова, они нисколько не греют. Мать подбрасывает несколько сухих поленец, надевает очки и шелестит лживыми страницами газеты. Керосиновая лампа мигает, сестра рассказывает, что шофер автобуса в лавке любезничал с обеими продавщицами — Мильдой и Малдой. Вот и мне достается газетный лист. «Яунакас зиняс» — пухлая пачка бумаги, так что один может читать, не мешая другому. И мне становится тепло от чтения, я только что обнаружил, что в газете печатают роман. Нет, вы оцените название — «Страшные тайны султанского дворца»! Преданный слуга приводит прекрасную рабыню в спальню, где ждет султан, сам слуга, трепеща, остается за дверью. Я тоже взволнован — такое предчувствие, что ужасный султан посадит несчастную на вертел, поджарит и съест полусырой или сделает что-нибудь еще более ужасное. К сожалению — «Продолжение следует». Жди теперь до завтрашнего вечера. Может быть, мама знает, что будет дальше, к кому же мне еще обратиться? В тот момент, когда мама переворачивает страницу, я спрашиваю: — Мама, а что султан сделает с этой рабыней? Мамины глаза делаются такими, как стекла ее очков. — Что ты там еще вычитал? — Вот, — я с детской непосредственностью тычу в роман. Газету тут же вырывают из моих рук. Мать разгневана: — Кто тебе разрешил?! Это не для детей! Вот тебе раз! Материн гнев холоднее зимы. А что я плохого сделал, я ведь уже давно читаю газету. На другой вечер я осторожно подбираюсь к продолжению. К сожалению, мать не забыла, лист с романом не дала. Забыла она только через неделю, и я вновь читаю роман, но «то» продолжение уже пропущено. Что сделал султан с прекрасной невольницей, я и сейчас могу только предполагать. Зато я узнал, что лишние вопросы до добра не доводят.
Я склонился над газетной страницей, которая вся занята королевской четой — изображениями Георга и Мэри; золоченая карета, средневековые костюмы, блеск, почести, слава. Посередине страницы лежит маленькая потрепанная книжка «Принц и нищий» Марка Твена. Как странно переселиться из грязи Двора отбросов, из мира лохмотьев, вечного голода в блистательный мир королевского дворца с его изобилием. Может ли человек, по ошибке попавший с нищей улицы во дворец и по недоразумению сочтенный принцем, просто так вот скинуть вонючие лохмотья, а с ними отбросить и воспоминания: холодная ночь, скудный кусок хлеба, истязающие душу побои, людское бездушие. И ведь те подонки, которые считают настоящего короля человеком не в своем уме, они-то самые несчастные — это тяжесть гнета ожесточила их. Но какая низость время от времени предстает в роскошных облачениях вельмож! Еще до того, как жизнь научила меня этому, я узнал от писателя, как тираны и их слуги не знают жалости к человеку. Грязь Двора отбросов! Ну, знаете, есть грязь куда похуже, поэтому воспоминания можно быстро смыть — многие к этому привыкли, — так же как отмахнуться от напоминаний тех, кто не сумел вскарабкаться «наверх», так же как стереть то, что было запечатлено в душе. Грязь лицемерного прославления, рабского служения, мнимого величия и иудиных сребреников — эта грязь похуже, она пристает так, что ее и стальным скребком не счистить. Вовсе не нужны золотой дворец и прекрасная принцесса, чтобы человек забыл все, что причиняло боль ему и по-прежнему причиняет боль другим: порой достаточно удобной квартиры, лимузина, хорошего жалованья, достаточно просто жирного куска с королевского стола. Мирская слава. Я спрашиваю себя: «Если ты завтра станешь принцем, сможешь забыть все?» И отвечаю: «Я не забуду! Никогда! Ничего!» Долгие годы я наизусть помнил многие страницы этой повести. Поток времени унес почти все, но одна фраза навсегда засела в моем мозгу, наверное потому, что она горит во мне каждый раз, когда приходится слышать умные рассуждения преуспевающего лица о жизни «маленьких людей»: «Что ты знаешь об угнетенных и муках! Об этом знаю я, знает мой народ, но не ты!»
Граф — повелитель Фландрии — устраивает рыцарский турнир — зван был и я. Я получил учтивое письмо, на шелковой бумаге, с золотым гербом, с обращением «Ваша светлость», с присовокуплением титулов, которых у меня никогда не было и которые я не стремился заполучить. Я покрутил шелестящую бумагу и решил, что отказываться неудобно, могут счесть малодушным, может быть даже высокомерным, а я — можете верить, можете нет — чувствовал в себе столько отваги и благородства, как никогда потом, даже сейчас. Я решил явиться. И телеграфировал: «Благодарю за приглашение тчк Прибуду в срок тчк До свидания тчк». Я полагал, что ответил с достоинством и без ошибок. Потом я пошел за патронами для своего ружья, потом покрутил ручку автомашины (у меня был четырехместный кабриолет) и, удобно усевшись на кожаное сиденье, взялся за руль. Мотор зарычал, флажок на радиаторе затрепыхался, за мною потянулась белая полоса пыли и дыма. У государственной границы путь преграждал шлагбаум.
 Пограничный офицер:
— Вы куда? Заграничный паспорт имеете?
Я достаю паспорт (я его сам смастерил — с разными записями, чинами и даже вырезанный из газеты портрет офицера в мундире), предъявляю. Офицер тут же салютует саблей, я же отправляюсь на опасное дело — защищать честь Латвии. Границу Фландрии открывает приглашение графа.
Сам граф ожидает меня, сойдя с коня, окруженный мужественными рыцарями и разодетыми в шелк и бархат придворными дамами. Пажи несут графский щит, меч, перчатки, подол мантии.
Граф спрашивает:
— Почему у латвийского рыцаря нет оружия, лат, коня?
— Вот мое оружие, — поднимаю я ружье. — Вот конь, — я указываю на автомашину. — А латами мне служит отвага.
— Как благородно! — перешептываются дамы.
Я от гордости и довольства собой краснею.
Графский паж:
— Какой у вас герб, кавалер?
— Я представляю герб своей страны!
Паж не отступается:
— А ваш личный герб — из какого вы рода?
— Из рода портовых грузчиков, — отвечаю я.
Самая изящная дама фыркает:
— Фуй, какой мужлан! — и падает в обморок.
Все остальные морщат носы; я сам кажусь себе ужасным «мужланом», но тем не менее оскорбленно осведомляюсь:
— Кто-нибудь осмелится выйти против меня?
Рыцарь — сверкающий, разряженный, гордый, как павлин (павлинов я никогда не видывал, но знал, что такие есть), — хватает меч, садится на коня и восклицает:
— Я вызываю тебя, хвастун!
Паж излагает мне правила поединка: надо сесть на своего моторизованного коня, выехать навстречу вооруженному всаднику, обнажить оружие и укрыться щитом.
— Вы же вместо щита держите перед собой отвагу, — насмешливо добавляет он.
Я возражаю, мне же трудно вести машину и сражаться, я лучше останусь на месте, но паж неумолим — надо соблюдать правила игры. Герольды уже дуют в трубы, они звенят, звенят — над старицей, над Гауей, над лесными вершинами, над всей Фландрией. Птицы щебечут, мотор фырчит, земля загудела под копытами рыцарского коня. Я стреляю, я сшибаю его молнией из ствола, пулей. Трубы смолкают, мотор замирает, я вылезаю, подхожу к лежащему. Птицы больше не поют, вода застыла, вершины деревьев склонились. Убит, мертв. Я поднимаю забрало — лицо белое, неживое. Надо соблюдать правила игры… Это уже не игра, это смерть, меня охватывает холод. Зловещая музыка, она исходит из подземелья — глухая, мрачная. Я слышал ее на похоронах моего отца, я уже не помню того дня, не помню самих похорон, но погребальная музыка часто преследовала меня в кошмарных снах. Тогда я просыпался весь в поту, охваченный безумным страхом. И вот эта ужасная, наводящая страх музыка звучит среди белого дня; мир безмолвствует, а музыка звучит. Ружье падает из моих рук, я покидаю поле сражения — побежденный победитель. Я влезаю на склонившееся над протокой дерево и вглядываюсь в темную, затянутую водорослями глубину. Что там таится — сказочные чудеса, замок русалок, сокровища или гибель? Зачем я стрелял, ведь он же человек. Сними с него латы, меч — и будет такой же славный парень, как Жанис: немного хвастун, немного враль и трепач, немного скуповат, немного тороват, но все же живой человек, человек… И зачем мне надо было стрелять? Смерть, темная яма, тление, ничто, страшная музыка. Зачем же было стрелять?
Мир постепенно оживает. Птицы щебечут, сине-зеленые стрекозы снуют над водой, скользят по глади какие-то пауки, плеснулась беспечальная рыба, ветер заколыхал вершины деревьев, где-то крикнул кичливый петух. Мир опять такой же, как до поединка, но уже не такой. Что-то исчезло. Где это найти?..
Пограничный офицер:
— Вы куда? Заграничный паспорт имеете?
Я достаю паспорт (я его сам смастерил — с разными записями, чинами и даже вырезанный из газеты портрет офицера в мундире), предъявляю. Офицер тут же салютует саблей, я же отправляюсь на опасное дело — защищать честь Латвии. Границу Фландрии открывает приглашение графа.
Сам граф ожидает меня, сойдя с коня, окруженный мужественными рыцарями и разодетыми в шелк и бархат придворными дамами. Пажи несут графский щит, меч, перчатки, подол мантии.
Граф спрашивает:
— Почему у латвийского рыцаря нет оружия, лат, коня?
— Вот мое оружие, — поднимаю я ружье. — Вот конь, — я указываю на автомашину. — А латами мне служит отвага.
— Как благородно! — перешептываются дамы.
Я от гордости и довольства собой краснею.
Графский паж:
— Какой у вас герб, кавалер?
— Я представляю герб своей страны!
Паж не отступается:
— А ваш личный герб — из какого вы рода?
— Из рода портовых грузчиков, — отвечаю я.
Самая изящная дама фыркает:
— Фуй, какой мужлан! — и падает в обморок.
Все остальные морщат носы; я сам кажусь себе ужасным «мужланом», но тем не менее оскорбленно осведомляюсь:
— Кто-нибудь осмелится выйти против меня?
Рыцарь — сверкающий, разряженный, гордый, как павлин (павлинов я никогда не видывал, но знал, что такие есть), — хватает меч, садится на коня и восклицает:
— Я вызываю тебя, хвастун!
Паж излагает мне правила поединка: надо сесть на своего моторизованного коня, выехать навстречу вооруженному всаднику, обнажить оружие и укрыться щитом.
— Вы же вместо щита держите перед собой отвагу, — насмешливо добавляет он.
Я возражаю, мне же трудно вести машину и сражаться, я лучше останусь на месте, но паж неумолим — надо соблюдать правила игры. Герольды уже дуют в трубы, они звенят, звенят — над старицей, над Гауей, над лесными вершинами, над всей Фландрией. Птицы щебечут, мотор фырчит, земля загудела под копытами рыцарского коня. Я стреляю, я сшибаю его молнией из ствола, пулей. Трубы смолкают, мотор замирает, я вылезаю, подхожу к лежащему. Птицы больше не поют, вода застыла, вершины деревьев склонились. Убит, мертв. Я поднимаю забрало — лицо белое, неживое. Надо соблюдать правила игры… Это уже не игра, это смерть, меня охватывает холод. Зловещая музыка, она исходит из подземелья — глухая, мрачная. Я слышал ее на похоронах моего отца, я уже не помню того дня, не помню самих похорон, но погребальная музыка часто преследовала меня в кошмарных снах. Тогда я просыпался весь в поту, охваченный безумным страхом. И вот эта ужасная, наводящая страх музыка звучит среди белого дня; мир безмолвствует, а музыка звучит. Ружье падает из моих рук, я покидаю поле сражения — побежденный победитель. Я влезаю на склонившееся над протокой дерево и вглядываюсь в темную, затянутую водорослями глубину. Что там таится — сказочные чудеса, замок русалок, сокровища или гибель? Зачем я стрелял, ведь он же человек. Сними с него латы, меч — и будет такой же славный парень, как Жанис: немного хвастун, немного враль и трепач, немного скуповат, немного тороват, но все же живой человек, человек… И зачем мне надо было стрелять? Смерть, темная яма, тление, ничто, страшная музыка. Зачем же было стрелять?
Мир постепенно оживает. Птицы щебечут, сине-зеленые стрекозы снуют над водой, скользят по глади какие-то пауки, плеснулась беспечальная рыба, ветер заколыхал вершины деревьев, где-то крикнул кичливый петух. Мир опять такой же, как до поединка, но уже не такой. Что-то исчезло. Где это найти?..
Надо же — я раздобыл книжку Яниса Порука «Искатель жемчуга» и предвкушаю чтение о далеком Цейлоне, о ныряльщиках в подводное царство, а может быть, даже о морских разбойниках. Сначала я был разочарован, злился, потом стало любопытно, хотя в некоторых местах книга казалась скучной — но это я быстро пробегал глазами. Я шел домой из Заколья, со мной была мама, сестра, еще какая-то тетушка; из-за горизонта выкатился круг луны, тусклый свет растекался по извилистой дороге, с серебристым звоном пели телефонные провода. Звезды призрачно мерцали в воздушном океане — будто жемчужины, — и мне хотелось закинуть платиновую лесу телефонного провода, чтобы выхватить этот жемчуг из глубин неба. Каким богатством наполнил бы я свои карманы, завтра обошел бы всю Царникаву и всем подносил в подарок по жемчужине. Жемчуг, наверное, красивый-красивый, даже представить себе трудно, сверкает ярче звезд. Мне еще помнится горькое разочарование, когда я впервые увидел настоящий жемчуг в витрине ювелирного магазина на Известковой и горестно воскликнул: «Тьфу, дерьмо какое!» В ту ночь столбы покачивались, как гигантские удилища, закинувшие в вечность свои платиновые крючки; на крючке ничего не было, но я мог себе представить, понимаете, представить, — и первая жемчужина уже плясала перед глазами, как взметнувшийся над гладью Гауи лещик. Вершины деревьев колыхались, как водоросли в море при лунном свете, и звучал струнный концерт, и дорожная щебенка хрустела под нашими ногами. Мне уже было известно, что многообразие мира можно заключить в узкое помещение, можно перевести на рисовальную бумагу, на грифельную доску, выразить словами на листочках писчей бумаги. К сожалению, я этого не мог — а вот Мирдза могла. Мне было ровно пять лет, я научился читать и начал выводить и буквы — грифелем на доске. В ту осень Мирдза на том же черном кусочке нарисовала автомашину. Когда рисунок стерся, я попытался сделать его сам, но у меня ничего не получилось. Я снова попросил Мирдзу, она взяла мел, но сказала, что нарисует уже не машину. Я возроптал. «Ну, посмотри», — сказала она и быстро-быстро набросала крышу дома, трубу, высокие сугробы, очертания занесенного снегом берега реки. Я сдержал протест, придвинулся ближе, чтобы вникать в каждую деталь. В том углу заснеженные кусты, проткнувший облако рог месяца, падает одинокая снежинка, в окне зажегся свет, и луч света упал на замерзшего длинноухого зайца, дрожащего под кустом. Я смотрел на Мирдзины пальцы, которые, зажав кусочек мела, возводили в пустоте целый мир. Настоящее волшебство творили Мирдзины руки на рождество. Она слегла после далекой поездки в суровый мороз, расстроенная тем, что бессовестный хозяин не подумал везти заработанные ею продукты, а когда настойчивая пастушка приехала сама, дал ей то, что похуже. Но вот она опять пришла в себя и принялась творить яркую сказку в углу нашего бедного жилья. В ее распоряжении были еловые и сосновые ветки, мох, вата, креповая бумага и станиоль; она поставила в самый сумеречный угол комнаты стул, укрыла его хвоей и бумагой, вата создала картину заснеженного леса, станиоль сверкал, точно кристаллики в морозную ночь. Тут же послышалась песня бубенцов, возникла запряжка рождественского Деда Мороза. Сказка кончилась после крещения: осыпавшаяся хвоя, голые засохшие ветки, смятая бумага и потрескавшаяся фанера стула. Как просто рассыпается такая красота — меловой рисунок стерся, лунная ночь погрузилась в тучи, прервалась нить жизни какого-то человека. А разве это так просто? Для нас? И для того, кто ушел? Мирдза все следующее лето кашляла, но все равно опять пастушила. Для нужды нет отдела кадров, который строго требует представить документы о состоянии здоровья. Хозяин зимой дал лошадь — хороший хозяин, не жульничал с заработанным; Мирдза пасла, кашляла, рисовала акварели и писала стихи. Ее учитель в Адажской школе считал, что она будет художницей, но сама Мирдза больше тянулась к литературе. Она уже писала нечто вроде очерков — на пастбище, дома, уже лежа в постели и в Детской больнице. Стихи аккуратно переписывала в маленькую тетрадь, которую хотела послать Яунсудрабиню. Еще до болезни решив это, она писала:
Вы видели, как буйвол идет по водной глади? А индусская священная корова? Даже у нее наверняка это не получится, какой священной она ни будь, — а вот человек мог. Человек этот выглядел необычайно: в длинном одеянии, с пышной бородой и волосами, вокруг головы светящийся круг — позднее я узнал, что этот круг зовут нимбом. Таким он стоял на обложке книги «История царства божия», которая была Мирдзиной собственностью. Что-то необычное, к тому же страшное, мрачное, кровавое — совершенно отличное от того, что я представлял себе о жизни на белом свете. Не очень-то веселым был рассказ о принце и Томе Кенти, но он хоть был правдоподобным, его можно было понять и пережить, а эта книга была слишком тяжела для моего восприятия. Такая зловещая — нечто похожее рассказывают осенними вечерами, когда на дворе моросит дождь, воет ветер, а рассказчику и слушателям приятно сознавать, что они сидят в светлой, теплой, сухой комнате. Бог, церковь. Трогали светлые летние утра, когда колокольный звон долетал к нам за четыре километра с далекого холма, возвещая воскресенье и напоминая, что сегодня утром запахнет кофе «Вега» и можно будет поесть вкусного молочного белого хлеба. Я смогу надеть новые штаны и резиновые сапоги, в будни я шлепаю в залатанных штанах и босиком. Таким образом, все церковное и божественное сводилось к воскресному. Мать моя в церковь не ходила. В обсуждение некоторых книг моя мать не пускалась, к экскурсам моим в «Историю царства божия» относилась сдержанно, наказав только, что напечатанную там молитву «Отче наш» надо выучить и произносить каждый вечер перед сном. Устроившись с коленями на стул, я погрузился в книгу, именно «погрузился» — как смеялись мать и Айна. Я умел отключаться от всего мира. Айна стала трясти меня: «Отдай стул, мне шерсть мотать надо, возьми этот, старый», — я, продолжая читать, машинально встал и остался стоять. Айна подвинула стул, через минуту я сел и — бах! — очутился на полу. А уж если исчезла книга, то и я «проснулся». Айна захихикала, мать, хоть и сама большая книжница, рассердилась: «День-деньской читает, читает, все бубнит про себя — право, рехнется. Уже и сейчас тронутый!» Я грустно вышел из дому и побрел к протоке. Порок дотошной любознательности я сумел преодолеть или хотя бы скрывать, а вот с этим: «Спит среди книг, все бубнит про себя» — не под силу. Уже сейчас мать говорит: «Тронутый». Вечером я все же решил про себя прочитать «Отче наш». Я уже забрался было под одеяло, но тут откинул его, добрался до «…яко твое есть царствие…» и застрял совсем в другом царстве: ревущий бакен остался в устье реки, по берегам росли апельсиновые деревья с сочными плодами (я сглотнул слюну), бесстыдные обезьяны показывали голый зад, вдали виднелся портовый город, совсем как силуэт родного Милгрависа с фабричными трубами, садами, с бетонным дворцом в гуще домишек. Звенела якорная цепь, я, в капитанском мундире с золотыми галунами, схожу на берег и отбываю в «сонное царство»… С утра я взял «Историю царства божия», полистал и засунул подальше под кровать. Отыскал «Черные алмазы» — описываемое там царство выглядело куда интереснее, к тому же там была любовь, призраки, которых можно было разгонять дубинкой, вообще все было интереснее. Бог творил свой мир, Мавр Йокай — свой, я тоже мог создавать свой и стремился — как нынче говорится — к мирному сосуществованию. В школе я опять столкнулся с библейскими сказаниями и учил их так же вяло и послушно, как все остальное. Только в четвертом классе во мне проснулся строптивый дух безбожия, но он никогда не принимал активно-злобный, оскорбительный для других характер. Как-то быстро сложилось убеждение, что величайшее право человека — свобода убеждений и верований, а величайшая обязанность — не навязывать другим своих богов и святынь.
Туманное утро глядится в окна — каждое о шести стеклах — чердачной комнаты Конюшенного дома. Мать уехала в Ригу, покой, тишина — можно дремать сколько хочешь. Неожиданный гул сотрясает чуть не весь мир, я вырван из сна, я подскакиваю к окну. Над моей головой, как будто даже касаясь шасси каштанов, проносится самолет воздушной линии «Дерулюфт» — большой, с гофрированным фюзеляжем, трехмоторный. Вот он уже исчез за Блусукрогским лесом; там идет дорога на Яунциемс, на Милгравис, на Ригу. Дорога эта так и петляет, огибает Киш-озеро, а самолет летит прямо, поверх зарослей, болот, дюн, озер, моря. Сказочный ковер-самолет — вот бы и мне на нем полетать. Видеть такой большой самолет так близко! Это что-то особенное. Маленькие самолеты на большом расстоянии я видел часто: военные бипланы. Посеребренные, с черной свастикой на крыльях и фюзеляже, одномоторные, со сверкающим кругом пропеллера спереди, они почти ежедневно гудели, трещали, выли в царникавском небе, крутились, описывали широкие круги, стремительно падали вниз и вновь взмывали почти вертикально. Довольно часто они гнались за увлекаемой другим самолетом «колбасой» и, треща пулеметом, обстреливали эту «колбасу», только клочья летели. Вот это игра! И меня невольно подмывало на такое же! Я ищу самолет. Нахожу. Из газет я знал, что в самолете сидят пилот и наблюдатель. Кого позвать в наблюдатели? Я подумал и решил, что самым надежным товарищем был бы Квентин Дорвард. — Залезем в самолет и займем места! Ободрав щиколотку, я вскарабкался на ясень, добрался до первых ветвей — дальше пошло легче. Наконец я на верхушке, откуда отличный вид на окрестные кусты, заросли аира и трясину. Только раскидистая боковая ветвь старой, корявой, рассевшейся ивы поднимается над нами, закрывая воздушный путь в Ригу. Я говорю Квентину: — Знаешь что, вызовем ее на воздушный бой и собьем в протоку. Квентин вставляет в пулемет ленту, я заставляю крутиться пропеллер. Гул увлекает нас в воздух. Самолет кренится, падает в воздушную яму. Я выравниваю его, листья шуршат и осыпаются, крылья скрипят и гнутся. Я прибавляю скорость. — Огонь! Тр-р-р-р… сверкает конец ствола, сыплются пустые гильзы. Квентин кричит: «Давай ле-ве-е! Теперь правей!» Я закладываю такие крутые виражи, что чуть не вываливаюсь из кабины. Мертвая петля. На миг земля мелькнула перед моими глазами. «Давай новую ленту, Квентин! Мы на него спикируем!» Я прибавляю газ. Корпус самолета кряхтит на большой скорости. Стреляет и противник, я ловко ухожу в разворот. Трещит перебитый лонжерон. Квентин сваливается в бездну, я хватаюсь за ручки пулемета, даю еще несколько очередей и планирую сквозь густые ветви клена. Треск, визг, плеск… Господи, мои штаны! Нет, штаны выдержали, а вот ляжка — наверное, эти негодяи стреляли пулями дум-дум. Ну конечно — вон как рвануло, словно собака хватила. И не так больно, как страшно матери. Что делать? Врать я не умел, а правду говорить не хотел. К счастью, кровь текла не очень, я залепил рану куском газеты и геройски не хромал, делал «бесстрастное лицо». А вдруг Айна узнает? Пожалуется, не пожалуется? Рана болела несколько дней, потом горела и страшно зудилась. Ничего, перетерпим — ладно еще, что штаны не пострадали, вот уж тогда крику не оберешься. Прошла неделя, и остался только некрасивый струп, который я радостно сковырнул; синеватое пятно держалось еще с месяц. Но величайший сюрприз поджидал меня спустя день после аварии, когда рана ужасно болела. Я пошел к клену, чтобы отыскать потерянный вчера пулемет, и увидел чудо: раскидистая ветвь ивы отломилась от трухлявого ствола и перекинулась через протоку, которая была здесь узкая. Образовались естественные мостки, которыми я в то лето пользовался. Я стоял, смотрел, раскрыв рот и вытаращив глаза. Право, я готов был поверить, что это сделали точно посланные пули Квентина.
За Конюшенным домом росли высокие каштаны — они вымерзли суровой зимой 1939–1940 года; вдоль дороги высились дубы, клены, ясени, густые заросли акации — их уничтожила людская безжалостность и равнодушие. Неужели те, кто дал погибнуть этой красоте, не подумали, что они обворовали детство своих детей? Наши деяния следуют за нами всегда и повсюду. А на берегах старицы цвела черемуха и заливались соловьи, потом поднимали свечи своих цветов каштаны и желтели кусты акации. Все лето представало сказочным садом и площадкой для игр; я подвешивал качели к ветви каштана, из ветки акации делал лук, из дранки — стрелы. Сначала я не мог далеко пускать стрелу — лук слабоват, стрелы тяжелые. Но луки мои возрастали по силе и размерам, вскоре они уже сравнялись со мной в высоте, а стрелы были все еще тяжелые и кувыркались. Меллаусис научил меня: — Черенок стрелы делай тонкий, вроде как спичку с концом потяжелее. Перья пристрой на другой конец, чтобы прямо летела. Меллаусис — это был мастеровой, занятый на ремонте имения, и мой друг. Я послушал его — и стрелы стали летать по-всамделишному. Я послушал, когда Меллаусис сказал: «Не играй в войну, не стреляй в людей», — а если мать что-то внушала, бранясь, я и ухом не вел. Каждому поколению мужчин на этой земле доводится играть в войну и стрелять в людей. Довелось и Меллаусису. Шесть лет подряд. Он носил офицерский мундир и звался капитан Меллавс; потом он носил сшитый по моде костюм и звался бухгалтер господин Меллаус — до войны он учился в коммерческом училище Рижского биржевого комитета и знал немецкий, русский, английский и французский языки. А теперь вот он был всего-навсего строительный рабочий Меллаусис, который даже по воскресеньям ходил в рабочей одежде и каждый заработанный лат вкладывал в кассу государственной водочной монополии. Он говорил: «Малыш, пей лимонад, водка нисколько не лучше. В человека не стреляй, не смей никого убивать!» Сам-то он, несомненно, убил многих и водки пил ужас как много. Мать с сестрой собирали ягоды в лесу за Гауей, я, как неисправимый лентяй, был оставлен дома. Меллаусис помог мне сбегать в лавочку, принести яиц и грудинки, мы изжарили ее на костре; я бегал вокруг костра, яростно пнул какую-то бумагу и разбил яйцо. — Вот видишь, как получилось, — с упреком сказал Меллаусис. — Зачем яйцо-то разбил? Я смущенно объяснил, что играл в войну. — Ты лучше не воюй, — сказал Меллаусис, — войны нужны только правителям да генералам. — Я и буду генералом! — Ты погляди вон на того генерала! Им жена командует. — Я никогда не женюсь! — Женишься! А генералом все равно не станешь. Ты вон еще в школу не пошел, а сколько уже книжек прочитал, думаешь все время. А генерал должен быть тупой, бессердечный. Я этого не мог понять, но Меллаусис по-братски разделил оставшиеся яйца, и я ел так, что за ушами трещало. Потом я сел в танк, поехал в Подолию к королевскому дворцу и разнес его начисто; королевича я схватил за уши, и, вспомнив, что ливы делали с принявшими веру крестоносцев, приказал омыть его в старой протоке. Королевич сопротивлялся — он хотел жить и умереть в вере предков. Я обдумал этот вопрос и великодушно разрешил ему жить и верить в угодного ему бога. Меллаусис на этот счет полагал так: — Каждый пусть делает, что ему хочется, только другим не во зло, пусть даже птиц не трогает. Можешь охотиться на медведей и львов. — Птицы хорошо поют, — согласился я. — Кто птиц убивает, тот в себе человека убивает, безжалостный становится. Я подумал — может, Меллаусис и прав. Птиц я не хотел убивать. Я стал стрелять львов и крокодилов; мои стрелы уже перелетали Конюшенный дом, ужасно зля пекариху, — еще глаз кому-нибудь выбьют! Как она не понимала, что я в людей не стреляю. А Меллаусис все пил и пил. Уже до того допился, что приходил выпрашивать денег у матери — а где ей было взять, когда мы сами в лавочке задолжали! Квартирные, тут особое дело — мадам генеральша первого числа каждого месяца навещала наш чердак; мать знала, что тут никуда не денешься, потому и квартирные деньги никуда не могли деваться. Мадам генеральша приходилась мачехой дочери, которую с такой помпой выдали замуж. Первая жена, покойная, была благородная дама, русская княгиня; а эта, как говаривали царникавцы, «простая баба», но насчет того, как просаживать деньги, могла кого хочешь обставить. Выдирать заработанное приходилось с трудом. А жажда у Меллаусиса была страшная, утолить ее было нечем, и все же он опять ухитрился напиться, — в первый школьный день, вернувшись домой, я нашел его в сарае на сене. Он корчился, странно хрипел, на губах черная пена, меня не узнавал. «Меллаусис, Меллаусис!» — испуганно закричал я и побежал звать взрослых. Пекариха тут же прибежала с теплым молоком — безотказным средством от всего, по ее мнению; сам пекарь поспешил в имение к телефону. Через полчаса на машине приехал адажский волостной врач. Ничто не помогло, Меллаусис умер; мне было всего семь лет, и я впервые видел, как умирает человек… Его похоронили на церковном холме, у самого края, неподалеку от изгороди, и могилу предали забвению. Не то что спустя два года, когда при неудачном полете разбился сын местного хозяина Фейзака — студент. Айзсарги внесли его на плечах по самой круче холма к церкви, а не по петляющей дороге; винтовки с примкнутыми штыками поднялись в небо, резко хлестнул прощальный залп. Люди долго говорили об этих похоронах. О Меллаусисе после смерти говорили только потому, что его мастер нашел досуха выпитую бутылку из-под политуры — последний смертельный глоток. Но ведь и так называемый питьевой спирт — яд, метил лишь ускоряет неотвратимый конец. Я часто приезжал на берега Гауи, проходил мимо кладбищенской изгороди, но сквозь нее прошел только спустя тридцать восемь лет. Совсем иное время: Царникаву решили превратить в приморский город-курорт, отмели Гауи разбили на участки под застройку, выросли кварталы домиков, цвели яблони… Где же моя Фландрия, Подолия? Соловьи еще были, разливались так же, как и десятки лет назад, заросли ольхи погибли, кое-где еще торчит куст, но и он загажен. Вместо могилы Фейзака ровное место, но кусты зеленеют вокруг глыбы гранита, в ней виден портрет красивого парня-корпоранта; дальше к изгороди только трава, зеленая-зеленая от праха. Меллаусис стоял возле Конюшенного дома, в поношенной одежде — рабочий человек, манишку и галстук он не носил — и говорил мне: — Людей не стреляй, птиц не убивай!..
Школа. Светлый дворец. Еще с самого раннего детства у меня была привычка кружить по комнате — руки за спиной, хожу и напеваю какую-нибудь песенку. «Вот еще певец-то будет», — говорила мать, полагая, что я выдался в музыкальных Киршфельдов. В школе выяснилось, что музыкальный слух у меня равен нулю. «Блеешь по-козлиному!» — одергивали меня в молодости, когда я, в веселой компании, закрыв глаза, увлекался и не только сам бог весть куда уводил мелодию, но и других сбивал. Но разве я когда-нибудь думал о мелодии? Думал, конечно, но вовсе не так, когда возился с Кантом или переворачивал Гегеля с ног на голову и обратно, мои размышления меньше поддавались словесному выражению, процесс заключался в потоке картин и настроений, вызываемых текстом песни. Гарцуя по длинной чердачной комнате, которая была одновременно и кухней и жильем, я чаще всего пел (читай: «блеял») две песни: «Год идет за годом, все трудней в пути…» и «Сшей мне, батюшка, обувку…» «Год идет за годом». Я видел, как они идут — вереницы месяцев. Май идет по ольшанику вдоль Гауи: распущенные волосы полощутся, жужжит совсем как жук. Нет, это не юноша и не девушка, это май, а апрель ему еще подбросил черемуховой белизны; потом июнь устилает одуванчиковым пухом приречные луга, приносит белые ночи и веселье, веселье… Июль дарит мне карманный нож, который вскорости я потерял, конфеты, поздравления — я же в июле рожден, под созвездием Льва, как Наполеон и другие великие люди. Август звенел серебром и обливался потом и, непонятно почему, хитро подмигивал зимним месяцам, обутым в валенки, о которых я мечтал, но так никогда не приобрел, в огромных ушанках (тоже предмет мечтаний, так и не обретенный), из-под которых торчит заиндевелая щетина и виднеются красные носы пьяниц. Летние месяцы приносили и бури, они ломали нераспустившиеся бутоны гвоздики, трепали и валили георгины, сбивали недозрелые яблоки, зато резеда пахла сладко, как одеколон, а на другое утро после непогоды водяная лилия нежно и коварно улыбалась из темной глубины. Порывы бури ее не трогали, она оставалась холодной, бездыханной, недосягаемой. Червяк высовывал черную голову из упавшего яблока и думал, как бы ему перебраться в другое. Я кружил по длинной комнате-кухне, и месяцы кружили в вечно повторяющемся коловращении лет. Годы приходили и уходили, у них ноги не уставали, и у меня тоже, но я знал, что чем ближе к страшной яме, тем ноги тяжелее, тело слушается все хуже, взор затуманивается… Передо мной еще дальняя дорога, для меня еще надо справить обувку — отца у меня уже не было, мать купила шнурованные ботинки. Конечно же мне хочется «в учение идти». Какое-то представление о школе у меня было. В Милгравский детский сад (подготовительная дошкольная группа) я ходил примерно полтора года. Там мы учились рисовать, раскрашивать цветными карандашами, вырезать фигурки из цветной меловой бумаги и наклеивать вырезки на простую бумагу. На пасху мы рисовали зайцев и яйца. На рождество зажигали елку и получали подарки; вместе с нами в хороводе ходил Домбровский-отец. В центральном рижском детском саду на улице Кришьяна Барона я пробыл всего несколько месяцев; тогда я часто являлся домой голодным — старшие ребята бессовестно обирали маленьких. Какой-то будет Царникавская школа, настоящая школа? «Вот я вырасту и стану…» Нет, нет, не пахарем. Я видел Казимира за плугом, эта неинтересная работа не по мне. «А не стать ли мореходом?» Любому понравится! Косые потолки чердачной комнаты сразу исчезают, перед моими глазами волшебно высокий свод, такой чистый, синий-синий, невиданный… И теплое море, коралловое море, волны колышутся, с зеленоватым отливом, в белой пене, острова со стройными пальмами, яркие цветы, среди которых поют и танцуют шоколадной красоты девушки. Буду моряком! На это у меня имеется, так сказать, моральное право — мать из рода знаменитейшего в Латвии моряка. Двоюродный брат дедушки капитан дальнего плавания Альфред Киршфельд считался лучшим навигатором в Латвии — недавно он получил золотой венок за сотый переход Атлантического океана. И материны дядья и кузены — капитаны, но уже не такие прославленные — такой мог быть только один. И другие материны родичи, с другими фамилиями, судовые механики, штурманы, матросы — моряки, моряки. Чего только они не повидали, где только не побывали, чего не переживали! В Атлантике столкнулись с огромным морским змеем, который вот уже столетия является сказкой и пугалом моряков всех народов, в Порт-оф-Спейне разгромили «под чистую» кабак, в Тель-Авиве «разживались апельсинами» в цитрусовых рощах, в Бискайском заливе чуть не пошли на дно, а там, где Берег Слоновой Кости, без малого не изжарились. Где-то на берегах реки Святого Лаврентия курили трубку мира с краснокожими, где-то в Девисовом проливе взяли на борт эскимосов — женщины уж такие пахучие были! Они рассказывали, что устья Амазонки даже увидеть нельзя — такое оно широкое, а Суэцкий канал такой извилистый, что встречный корабль издали кажется идущим по песчаной пустыне. Хватает у них рассказов и о недалеких английских угольных портах и французской стороне, где вино пьют как воду, а все девушки красивые, одни красотки. Да, моряки! «Конным воином лихим»? Гм… уж воевать так воевать, только вот верхом мне не нравится. Кони эти кусаются, лягаются, копытом землю роют, иной раз понесут, а другой раз вдруг упрутся и стоят, и всаднику и тем, кого лошадь везет, приходится терпеливо ждать, пока это животное не справит нужду. То ли дело железный конь — его не надо особо кормить, ходить за ним, он полностью послушен воле человека. Рванул рукоятку — трах! — и пошла; если у тебя сильная рука и надежный глазомер, то нечего бояться, что мотор поскачет через канавы или вдруг из него повалятся «яблоки». Еще лучше в самолете — поверх всех этих дорог и канав. Правда, в газетах часто пишут про летчиков, что они бьются, но ведь разбиваются на автомобилях и на лошадях, даже на велосипедах, и, в конце концов, почему это именно я должен разбиться?
 Стало быть, дело только за школой?
А какая же в Царникаве школа?
Стало быть, дело только за школой?
А какая же в Царникаве школа?
Длинное-длинное, на высоком кирпичном фундаменте и все равно приземистое, припало к земле это бревенчатое сооружение. Расползающаяся, почернелая дубовая крыша, окошки о шести стеклах, две чердачные комнаты — одну занимает учительница, в другой спальня девочек. Вот такой была Адажская школа первой ступени в Царникаве. Светлый дворец. На холме церковь, у подножия школа. Дорога огибала кладбищенский склон и приводила к школе. Три комнаты заведующего, кухня с плитой для заведующего, с плитой для школьников — для тех, кому приходится здесь ночевать, столярная мастерская, по замыслу — класс ручного труда, и два классных помещения: в одном занимались подготовительный и первый класс, а второй, третий и четвертый классы — в несколько меньшем. Всего было около сорока учащихся. В ненастное время дождевые капли весело стучали по полу. Были там черные большие доски и цветная географическая карта — я был удивлен, что школа такая пустая, бедная. Был заведующий, настоящий мужчина: с фельдфебельским лицом, щеточка под носом, как у Гитлера, который в то время еще не был ни канцлером, ни фюрером, ни даже политиком, с которым кто-то считался, так, просто дерьмо собачье; заведующий был при крахмальной манишке и черном галстуке бабочкой; заведующему принадлежало целое стадо, пасека, лошадь для обработки земли, — вероятно, в душе этот настоящий мужчина был больше «народным хозяином», чем народным учителем. Школа, школа… Похоже, что в этом старомодном строении материализовалась вся история латышской народной школы: постоянный надзор священника, целование рук и «Бой у Книпски»[19], сказки поздним вечером, розги. Но нас вместо священнослужителя посещал инспектор, целование руки было отменено, катехизис, по требованию родителей, можно не учить, не разрешается применять розги, и этот старого замеса заведующий мужественно сдерживался, разве что потрясет согрешившего и пообещает вздуть. Но уж на уроках пения мера его переполнялась, и смычок заведующего больно тюкал того, кто не мог «держать голос». Мне сколько раз доводилось отведать его. «Земледел отеческий…» Нет, я не испытывал желания после школы пахать землю. Машина — да, лошадь — нет. Даже если мне дадут центр имения или равную имению усадьбу, например Вилкатирели (как в книге Пурапуке). Не надо! Всю жизнь этот Зелменис, точно крот, рылся в своем углу, на своем лоскутке, чтобы потом лечь в яму на орешниковом холме и оставить это «счастье» своим внукам-правнукам. Не надо! Вот ведь совсем по-иному смотрел на это лорд из рассказаГарольда Элдгаста. Из сословия земледельцев, а поднимался на самолете выше туч, разбивался черт знает как и наконец-таки разбился. И уж бросили-то его не в яму к червям, а в пламя, чтобы потом — под залпы английских крейсеров у скал Нордкапа — утопить пепел в водах полярного моря. Жажда просторов, простор и жажда. Так с вечеринки на вечеринку, от кружки к кружке бродили вдоль видземского взморья мой дед с его отцом, музыкантами, по всем эстонским и латышским простонародным свадьбам: вдохновенно рвали струны, одерживали верх над батареями бутылок, закруживали девиц. Они томились жаждой. Младшие братья ходили в постолах, бились впроголодь, но осилили мореходную школу, а потом чужеземным коньяком возмещали возвышенное воздержание молодости; эти скоро вошли во вкус обеспеченного преуспеяния, женились на немках и отращивали животики. Одаренный, но без большого душевного горения, без сильных чувств и жизненного упорства — вот какой был этот род. Помощницей учителя работала приветливая и милая барышня. Она даже отчитывала без злости. С первых же дней она расхваливала мое умение читать, только заметила, чтобы я не торопился, а старался отчетливее выговаривать слова; очень внимательно оценивала написанное мной, хотя буквы у меня были корявые, и в счете я был признан весьма преуспевающим. Ее оценка повлияла на решение заведующего: меня тут же вместе с сестрой, которая была на год старше, приняли в первый класс.
И вот я сижу за партой в первом классе (большой разницы нет — длинная парта, на восемь человек, за которой примостились и «приготовишки» и первоклассники) и уношусь через годы сначала к дедовским музыкальным странствиям, потом на корабль, где я буду капитаном. Дед пилит на своей скрипке: эстонская свадьба, пришли на нее повеселиться и черти, понимаете, черти — в виде блистательных, с золотыми погонами прапорщиков, скачут, так что только шпоры звенят, кидают на стол серебряные полтинники, кричат: «Польку, музыкант, польку!» Уже и струн не хватает, но и черти уплясались — трах! бах! — валятся на пол, а через них, развевая юбками, прыгают эстонки. Капитан приказывает кинуть якорь на Айнажском рейде и в честь музыкантов выпалить из всех пушек. Только дым клубится — бах! — флаг полощется по ветру… — Ты что, оглох, чурбан? — дикий вопль прямо мне в ухо, сильная рука вздергивает меня вверх. — Отвечай! Это же заведующий, ей-богу, заведующий. Да где же я? В школе, ей-богу, в школе. Чертей больше нет, только чертовски злой учитель. — Ты глухой или ходишь в школу отсыпаться? — Я… я… не слышал. — Сколько будет, если к семи прибавить шесть? — Тринадцать. Красные от злости глазные яблоки, сверлящие зрачки. Но рука все же выпускает мой воротник, злость как будто спадает. — А к восьми прибавить пять? — Тринадцать. — Теперь ты слышишь? — Да… — Попробуй только еще раз не услышать! Ученые в области медицины, наверное, высоко бы оценили мои адаптационные способности — вероятно, произошла какая-то мобилизация «дежурных нервных групп», потому что, когда заведующий (не учительница) впредь произносил мое имя, я вскакивал как на пружинке. Удивительное число это тринадцать. Почему его люди боятся? И как чудно выглядят цифры. У крейсеров спереди броневая башня с двумя орудиями, верхняя башня тоже с двумя, и на корме тоже, всего, выходит, восемь тяжелых орудий. Да к ним еще прибавить бортовые пушки. Вот бы поглядеть, как они дадут залп, — скалы Норвегии отбрасывают эхо, трясется снежный покров на горных вершинах, но воды фьордов остаются спокойными. Тринадцать пушек никак не получается. Берген стоит у фьорда, это центр рыбной торговли, а Гаммерфест среди северных скал. Там ревет буря, свистит метель, летают чайки и альбатросы, ходит косяком сельдь. Норвежские суда под белыми парусами — и могучее море. Серое, угрюмое, сплошное кипение. Дым от залпов клубится поверх гребней волн, тяжелые стволы по шесть метров длины… Я вскакиваю. Я не слышал, как меня окликают, до сознания это еще не дошло, предупредила «дежурная нервная группа». Точно пробудившись от глубокого сна, я глупо хлопаю глазами и сквозь туман растерянности ясно слышу голос заведующего: — Ну, сколько? Он же пригрозил: «Попробуй только еще раз не услышать!» — и я говорю: — Шесть. Оба класса — подготовительный и первый — ржут: результат, то есть сумма, у меня получился меньше одного из слагаемых. Той «высшей математики», по которой часть может быть больше целого, в то время не признал бы даже Эйнштейн, не то что этот «крепкий хозяйчик» заведующий. — Садись, остолоп! — взревел он, я радостно выполнил приказание и тут же уплыл далеко-далеко от этой жалкой лачуги. …В школу надобно идти… Сестра заболела, и несколько дней по осенней дороге ходил я один. Когда мы идем с сестрой, то всегда встречаем тамажских ребят: или они заметят нас на шоссе и подождут, а мы ускоряем шаг, или наоборот. Сестра общительный человек. А теперь вот я хожу один, и никогда не подвертываются попутчики — я стараюсь от них отделаться. Идти весело. По белой щебенчатой дороге — «эрзацному шоссе» — я иду быстро. Там все такое скучное, однотонное. Сворачивая вправо, это шоссе сливается с шоссе Рига — Саулкрасты, я же ухожу по старой дороге берегом Гауи. Липы уже скинули листву, пронзительно воет лесопилка Лидика. Резкий вскрик — то ли дереву больно, то ли всему туманному утру; голые, мокрые почернелые ветви роняют тяжелые капли. Голые и толстые, трухлявые внутри ивы и ольха, но их наготу скрывает дымка тумана — он сгущается, уплотняется, клубится на моем пути. Я напеваю песенку. На душе как-то странно, но я ничуть не удручен, сквозь грусть пробивается свет — свет надежды, что-то такое брезжит, будто за валами тумана ясное небо, какая-то радость, предвещание каких-то моих чаяний, хоть я и не научен этому слову. Мир начинается на берегу Гауи. Река струится под туманом быстро-быстро. Старица молчаливая и темная. Черный асфальт; деревянный мост через Гаую. Узкая пешеходная полоска, от медленно едущей машины гудит дощатый настил. Гауя где-то глубоко-глубоко… Под мостом струится только туман, призрачный туман, может быть, наполненная призраками ладья. Вода тяжелотяжело вздыхает у бортов ладьи, тяжелый груз, тяжелое дыханье, тяжелая жизнь, тяжелое небытие, тяжел уход в него. Воды Гауи, глубокие-глубокие… тяжелые-тяжелые… В тумане призрачно проглядывают кладбищенские гранитные и чугунные кресты — тяжелые-тяжелые. Вокруг кладбища сосны, а на самом кладбище лиственные деревья: они питаются тлением, они голые, они сгорбились в тумане — тяжелые-тяжелые. Ноги мои следуют мимо ворот с красными кирпичными столбами, тяжело-тяжело. Меня ждет школа — припавшая к холму, почернелая, тяжелая-тяжелая. Потолок в классе давит. — Сколько?! Я рывком вскакиваю. «Сколько?» Я уже усвоил, что итог должен быть двузначный. Говорю наобум. На сей раз смеются только те, кто точно знает ответ. Слепой курице порой доводится наткнуться на ячменное зерно, но мне в игру со счастьем никогда не везло. Заведующий, «взъевшись», все чаще вздергивает меня, я все чаще отвечаю невпопад. Старому — еще царских времен — учителю надоедает это. — Да ты соображаешь что-нибудь в счете? — Нет, — отвечаю я; я мог бы сказать и «да», но получилось почему-то «нет». — Покажи твои тетради! Он просмотрел все, даже по латышскому языку — основательный человек: перед тем как «принять решение», хотел «тщательно ознакомиться с материалами по делу». А у меня все делалось кое-как и с ошибками, по принципу «лишь бы поскорей с шеи свалить». — Экий ты балбес! — презрительно вынес оценку заведующий и перевел меня обратно в подготовительный класс. В школу надо бы идти… Уже темно, свежий, бодрящий ноябрьский вечер. Поздно. Легко одетый, я выбегаю на поляну, где мы днем играли в салки. Холодно, снега еще нет. Небо черное как уголь, высокое, изогнутое, усеянное звездами. Млечный Путь как пояс, нет, как светлое шоссе через звездные дали к недостижимой вечности. Зябкая дрожь пробегает по мне, со мной что-то случилось, что-то приподнимает, делает могущественным. Я беру трепетное излучение звезд и, точно золотые струны — тонкие-тонкие струны, даже тоньше, чем волосы у ангела на рождественской елке, натягиваю эти струны на излучину Млечного Пути, настраиваю… Звучит мелодия, искрящиеся вспышки мелькают по небосводу, трепещет вся зыбкая тьма и отбрасывает отголосок в вечность, поверх вечности. На тот миг, когда я затаил дыхание, были только удары моего сердца и эта изумительная, волшебная мелодия. Сломался драчливый смычок заведующего, улетучились все «до, ре, ми», звучала вселенная, звучала душа. Жаркое половодье окатывало мое лицо, стекая с подбородка на блузу. Я вскинул руки, словно охватывая что-то. Но руки опали. Ничего нельзя было обрести, совершенно ничего… Единую каплю из источника. «Зимушка, зимушка, милая матушка…» Но в Царникаве зима скорей напоминала сурового дядюшку — вроде заведующего школой, с морозно белой, накрахмаленной манишкой, с коротким ежиком волос и строгим лицом, с вечным посулом «задать взбучку». И «задавала» эта зима — будто белыми сыромятными плетями била через дюны, по руслу Гауи, по отмелям, по ольховым джунглям, заколам и птичьему щебету: заставляя все цепенеть, заточая все в сугробы, заставляя все заглохнуть. Один только ветер выл в этом ледяном саду, сковывающем оконные стекла. Но мне не холодно, не то что в чердачной комнате Конюшенного дома. Классное помещение тепло натоплено, над моей головой щедро льет яркий свет подвешенная под потолком керосиновая лампа. Остальные или толпятся в кухне, или в спальной комнате наверху. Я нарочно выбрал пустой класс. Я читаю о похождениях Тома Сойера. Входит учительница, приветливо улыбается, потом вдруг хмурится. Только что после обеда она дала мне эту книгу и теперь видит, что я уже перевалил за половину; ясно, что, как нынче говорят, пропускает «тягомотину», в то время говорили — «душеспасительное». Я виновато признаюсь, что задания на завтра не приготовлены — но как-нибудь выпутаюсь, авось заведующий не вызовет, а если вызовет, то пусть побранится. Но учительница говорит о совсем ином: — Нехорошо, что ты читаешь книгу с середины, надо с самого начала. — Я с первой страницы начал. Я все не понимаю, о чем она. Лицо у учительницы делается такое же, как у заведующего, когда он сказал: «Экий ты балбес» — и перевел меня в подготовительный класс. — Значит, ты не читаешь, а листаешь страницы. Так ты никогда не научишься читать, ничего не запомнишь. Вместо ответа я пересказываю содержание книги, выделяю особо яркие абзацы и выражения. Я загораюсь и начинаю говорить все быстрее, учительнице трудно улавливать мои слова, но презрение на ее лице сменяется каким-то недоверием. — Ты первый раз читаешь эту книгу? Ей-богу, первый раз. Правда, добавляю я, интересные читаю по нескольку раз. Это какие же? Я называю кое-какие, в том числе унаследованные от Мирзды учебники по истории и географии. Выражение лица учительницы становится совсем непонятным. Наказав, что я должен хорошо готовить задания, она уходит. Разумеется, я читал дальше, не думая ни о каких заданиях. Чрезмерное старание до добра не доводит… И получилось очень даже хорошо — на другой день заведующий куда-то уехал и всю школу согнали в один старший класс. Урок истории. Вызванный мальчишка бекает-мекает, так и не может ничего толкового рассказать о редукции помещичьих имений при шведах. Я горжусь про себя — эх, вот бы учительница меня вызвала! Из развалин восстает Царникавское имение — Царникау, — в обитом белым шелком зале идет совещание держателей имения: белые пудреные парики, бархатные кафтаны, злые лица. Король в Стокгольме подверг сомнению их завоеванные предками, их священные права! Соль земли — бароны! Как они проезжают шестерней по усаженной липами дороге в имение — пыль клубится, сверкает лак карет, высокомерный взгляд скользит по согнувшимся в три погибели крепостным. Дворец высится тяжелыми стенами, колоннами и колоннадами, гранитными львами. А где-то в лесной излучине припали к земле крестьянские хижины с замшелыми соломенными крышами. Дым выходит в незастекленные оконца, тощая ржаная нива на месте недавней вырубки, но ярко цветут васильки, ночью из заросших рогозом топей доносится буханье выпи, С первыми петухами сиротка на мельне заставляет звенеть жернова и песню:
 Я стал учиться «совсем просто» делать кульбиты в воздухе; сначала не повезло: загнал занозу в палец правой руки, располосовал левую ладонь, отбил зад, подвернул ногу и разворотил клумбу. Кое-как мы замаскировали следы падения, но кто-то все же наябедничал, заведующий тряс меня и кричал:
— А вот я тебя вздую, вот возьму и вздую!
Вскоре я кувыркался так прекрасно, что Айгару приятно было смотреть, а сам я испытывал счастье полета.
Потом во время зимних вечеров я испытал прелесть иного полета — это уже открыл я сам. Резкий разбег, оттолкнуться руками от края парты, ноги вперед — и через всю восьмиместную парту. Мы прыгали оба, так что класс дрожал, пока я не пострадал — вогнал в руку забытое кем-то чернильное перо. Не очень-то приятно, когда этакое копье глубоко воткнется тебе в мякоть ладони. Я закусил губу и вырвал перо, потом долго тряс рукой.
Боль притихла, мы бесновались дальше. Загрязненное, раненое место стало ныть, «тукать», покраснело. Даже во сне я это чувствовал. На другой день под мышкой появилась какая-то шишка, а ладонь так болела, что трудно было писать, пальцы одеревенели. И все больше мутило — есть не хотелось, знобило, даже желание читать куда-то делось. Я еле продержался вечер, ночью начались кошмары, я потел, временами кричал и только под утро немного забылся. Вставать не хотелось, но я взял себя в руки — если заведующий проведает, в чем дело, тут только держись!
Несколько дней я покряхтел, пока наконец опухоль не спала и не рассосалась.
И вновь мы бесились с Айгаром, — видимо, я был очень уж несдержанный, потому что свалилась новая беда. Мы играли в классе в салки, я хотел доказать, что Айгар меня не сможет догнать, и, порхая через скамьи, ударился бровью о край парты. В тот вечер еще как-то обошлось, но к утру глаз заплыл и стал нарывать. Заведующий уже не обещал задать взбучку, даже не ругался, а запряг лошадь, закутал меня в шубу (впервые в жизни такое счастье — тепло одетый) и повез в Адажи к врачу.
Ездить к врачу пришлось еще раз — он и сам боялся за глаз, но наконец опухоль спала, и остался только рубец на брови. Еще долгие годы потом врачи считали мое зрение превосходным.
А нас ведь и учили, что всевышний бережет каждое чадо, приглядывая за ним с небес.
Я стал учиться «совсем просто» делать кульбиты в воздухе; сначала не повезло: загнал занозу в палец правой руки, располосовал левую ладонь, отбил зад, подвернул ногу и разворотил клумбу. Кое-как мы замаскировали следы падения, но кто-то все же наябедничал, заведующий тряс меня и кричал:
— А вот я тебя вздую, вот возьму и вздую!
Вскоре я кувыркался так прекрасно, что Айгару приятно было смотреть, а сам я испытывал счастье полета.
Потом во время зимних вечеров я испытал прелесть иного полета — это уже открыл я сам. Резкий разбег, оттолкнуться руками от края парты, ноги вперед — и через всю восьмиместную парту. Мы прыгали оба, так что класс дрожал, пока я не пострадал — вогнал в руку забытое кем-то чернильное перо. Не очень-то приятно, когда этакое копье глубоко воткнется тебе в мякоть ладони. Я закусил губу и вырвал перо, потом долго тряс рукой.
Боль притихла, мы бесновались дальше. Загрязненное, раненое место стало ныть, «тукать», покраснело. Даже во сне я это чувствовал. На другой день под мышкой появилась какая-то шишка, а ладонь так болела, что трудно было писать, пальцы одеревенели. И все больше мутило — есть не хотелось, знобило, даже желание читать куда-то делось. Я еле продержался вечер, ночью начались кошмары, я потел, временами кричал и только под утро немного забылся. Вставать не хотелось, но я взял себя в руки — если заведующий проведает, в чем дело, тут только держись!
Несколько дней я покряхтел, пока наконец опухоль не спала и не рассосалась.
И вновь мы бесились с Айгаром, — видимо, я был очень уж несдержанный, потому что свалилась новая беда. Мы играли в классе в салки, я хотел доказать, что Айгар меня не сможет догнать, и, порхая через скамьи, ударился бровью о край парты. В тот вечер еще как-то обошлось, но к утру глаз заплыл и стал нарывать. Заведующий уже не обещал задать взбучку, даже не ругался, а запряг лошадь, закутал меня в шубу (впервые в жизни такое счастье — тепло одетый) и повез в Адажи к врачу.
Ездить к врачу пришлось еще раз — он и сам боялся за глаз, но наконец опухоль спала, и остался только рубец на брови. Еще долгие годы потом врачи считали мое зрение превосходным.
А нас ведь и учили, что всевышний бережет каждое чадо, приглядывая за ним с небес.
Нередко заведующий во время утренней молитвы повторял слова Христа «Блаженны не видевшие — и уверовавшие». Так, верно, оно и есть — бога никто не видел, а вот верят же в него. Так думал я, стоя у стола и хлебая суп. Заведующему я свои мысли не поверял — страшно, хотя и хотелось потолковать с таким умным человеком, который, может быть, еще умнее моего покойного друга Меллаусиса, чью неухоженную могилу осенние и летние дожди уже совсем сровняли, даже с дороги видно, когда идешь мимо кладбища. Нет, нет, Меллаусис много знал, одних языков вон сколько, а заведующий только русский и немецкий. Хорошо бы с ним побеседовать, но ведь заведующий — он заведующий, я ему даже пискнуть не посмею, что суп-то ужасно невкусный. Заведующий в таких делах шуток не признает, есть приказ, что посуда должна быть пустая, упаси бог того, кто принесет на кухню недоеденное. Я и мучаюсь — ем. Рядом мучается Эйдис; Эйдис довольно привередлив, я-то нет, разве что хлебный суп с изюмом в меня трудно впихнуть. Уроки кончились, можно бы и домой, да вот злосчастный суп — единственная помеха. Вдруг Эйдис подталкивает меня: — Эй, погляди, чтобы кто-нибудь не уволок мою миску, я схожу погляжу, не приехали ли за мной из дома. — И, добавив на ходу: — Скоро буду, — исчезает, чтобы уже не появиться. — Ладно, — коротко ответил я и подивился про себя: «Вот чудак, нашел что беречь, скорей уж надо едока от такого супа оберегать». Потом домучил свою порцию; отодвинул пустую миску и удрученно поглядел на миску, оставленную Эйдисом. Надо бы идти, да он велел ждать. Что же делать? Вдруг меня позвали к заведующему — он в коридоре; в другое время это приглашение было бы не особенно приятно, что хорошего можно ждать от такого строгого человека, а сейчас я с радостью кинулся от стола. Заведующий на сей раз был грозен: — Ишь ты, барчук какой выискался… Ковыряешься в миске! Онемелый, обалделый, я смотрел на заведующего и ничего не мог понять. — Привереда, неженка!.. — Я — я ничего… — Молчи, паршивец! Вздуть бы тебя! И, схватив меня за плечи, затряс так, что швы затрещали. — Вздуть, вздуть!.. Я близко видел его исказившееся от злости лицо: подбородок, выбритый до синевы, губы сжаты, глаза красные, точно воспаленные. Я упирался ногами, но где удержаться в такую бурю… Уже когда все миновало, я на минуту прислонился в коридоре к стене. Какие-то девчонки захихикали: «Барич не хотел есть, привередничал!» А ведь они только что стояли у стола, не видели, натворил я что-нибудь или нет, и все же верили… Во что? В недоразумение, в легкомысленную жалобу, а может быть, и в гнусный оговор? При всей моей наивной склонности «сражаться за правду», в тот момент я был так пришиблен, унижен, оскорблен, что не хотел ни оправдываться, ни защищаться, даже Айну не стал ждать, только бы скорей из школы!.. Во рту горечь… Я сглотнул эту горечь, забыл, вынужден был забыть и никогда больше не вспоминать эту историю, но против моей воли она часто всплывает из подсознания. «Блаженны не видевшие — и уверовавшие».
Я хотел узнавать, а не легко верить, требовал, чтобы мне доказывали, а не принуждали и не заверяли. Мне хотелось мира, где бы сверкали противоречивые, но смелые, мудрые мысли, красота и жизнь. Красота? Можно ли было считать ею бездушную «расфуфыренность» Белого дома: пестрая лепнина на стенах, что-то вроде торта, что-то вроде герба на уровне второго этажа с буквами ЭВМ, пыльные гравиевые дорожки и грядки с розами. Приезжали гости в лимузинах, появлялся сам президент государства Альберт Квиесис с супругой Минной. Как рассказывали, заметив высоких гостей, министерша сломя голову кинулась в розарий, нарезала цветов и поднесла президентше. Та вежливо попеняла ей: «Ну, зачем уж так пышно!» В ту осень, когда мы еще жили подле Белого дома, генерал всех сзывал в Мартынов день: меня он любезно усадил на колени, угостил крутым яйцом, в рюмке отказал. Но генерал был всего лишь отставным генералом — новохозяин с одной лошадью и одним работником. Правда, были еще огородница и кухарка, потому что генеральша, госпожа Эмилия, не думала сама ни огород полоть, ни варить, ни жарить, ни парить. Осенью в большом каменном амбаре пела молотилка, и генерал, точно истинный хозяин, подкидывал в горсти зерно. Я бродил по генеральским комнатам, слушал через наушники радио, восхищался ружьями в кабинете — одностволка, двустволка, трехстволка. Как стреляли ворон? Я видел, как с раскатом выстрела черная птица отделилась от стаи и тяжело упала вниз. Самого стрелка я не заметил, но полагал, что ружье держат за тонкий конец, а прикладом — все же потяжелее — «метятся». Когда Мирдза пробудила во мне тягу к рисованию, а сама уже отправилась пастушить, я своими силами стал изображать стрельбу в ворон. Айна спорила, что мой охотник держит ружье наоборот, но разве кто-нибудь мог опровергнуть то, что я забрал себе в голову. Весной моя мать помогала огороднице, появился генерал и, подав деньги, вежливо попросил: — Сударыня, сходите в лавочку, купите мне папиросы «Мокка». Генеральские папиросы, генеральское обращение. Конечно, он мог издали крикнуть: «Эй, баба, слетай-ка!» — мог приказать, скажем, кухарке, чтобы та сама передала приказание подручной садовницы. В конце концов, он мог бы и сам сходить, но это, очевидно, было неуместно для генеральского звания. Да, звание — это большое дело, оно портит всех: генералов, министров, председателей и притязателей, — но генералов все же меньше, чем их супруг. Развитие задержать не может никто, даже не всегда можно изменить его направление. Белый дом от Конюшенного дома отделяла изгородь, генеральша выращивала розы и долги, принимала высоких гостей и раз в месяц навещала мою мать — своего рода демократия, даже свобода критики, потому что она говорила матери: — Вы уж, милая, чересчур свое положение в претензию ставите. Мундир генерала латвийской армии особой пышностью не отличается, блеск производил сам почет. Имение. Я недоверчиво таращился на разрушенный фундамент и ковырял в носу. «Возьми платок, это анштейно», — кричала мать. В ходу у нас были слова: форузис (передняя), телекис (тарелка), гапеле (вилка), ваштаз (корыто), гардина, гардинштанга и прочее; с чтением новых книг ее выговор изменился. Да и имение менялось на моих глазах день ото дня. Генерал был освободитель, — стало быть, он освободил имение от Гёгингеров, и освободил, видимо, для самого себя; почему же моему отцу, который тоже был на войне, не досталось ни имения, ни земли, если не считать тех трех аршинов, которые получает каждый, — по крайней мере, я не знаю случая, когда бы покойник остался лежать на поверхности земли непогребенным. То, что в мире все не так, как надо, я понял, когда получил взбучку за тайком выпитое вино. Мой отец воевал в мировую войну, получил Георгиевский крест и в 1915 году был в том корпусе, который немцы окружили и взяли в плен в Августовских лесах. В мирное время отец служил в императорской гвардии — эту гвардию похоронила мировая война, миллионы погибли, другим повезло. В мои руки попала георгиевская ленточка и раскрашенная фотография — цветную пленку тогда еще только надеялись придумать, предприимчивые фотомастера обрабатывали кисточкой черно-белый снимок. Результат был изумительный — гвардейский унтер-офицер по сравнению с генералом от артиллерии выглядел как фазан по сравнению с простым петухом. Мать рассказывала: — Их полком командовал царев дядя, великий князь Николай Николаевич, ростом он был выше всех, а сам тощий, как гвоздь. Гвардейцы все были рослые, на подбор. Твой отец на действительной службе окончил унтер-офицерскую школу, потом ему предлагали сверхсрочную службу в охране царского дворца в Петербурге и офицерскую школу. Надо же! Я уже слышал о том, что такое раньше был офицер, — и по рассказам, и по книгам, и по рисункам: лакированные сапоги, звенящие шпоры, белые перчатки, золотые погоны, шашка с портупеей. Мать это, кажется, приводило в восторг, а вот отец отказался. Мать объясняла: — Он сказал: «Офицер, он всего лишь собака, которой надо лаять на других, в то время как на него самого сверху лают. А в порту надо мной никого не будет». Гм, странно — вот и Меллаусис был не особенно высокого мнения о воинских чинах. Мой отец дошел даже до того, что в латвийскую армию вступил простым солдатом. Мать повторила его слова: — Говорил, что не хочет быть на собачьей должности. Потому ему и Милгравис был мил. Ничего ему больше не надо было, работать в порту — мешок на плече таскать. — А почему его землей не наделили? — А он сам не просил, сказал: «От такой власти ничего не желаю брать». — Мать даже вздохнула: — Такой уж он всегда был, все своим умом норовил жить, вот и остались ни с чем. Я знал, что мать, еще живя подле Белого дома, хотела получить упущенное и подала прошение. Генерал обещал поддержку, но было отвечено, что государственный земельный фонд уже разделен. Подумать только — прямо как в сказке: «Эй, скатерть-самобранка!» — и сразу ты в имении с яблоневым садом, с работником, кухаркой, огородницей и помощницей огородницы, с парком и лягушачьим прудом (там при баронах разводили съедобных лягушек), а может, и с солидными дивидендами если не рыболовецкого, то какого-нибудь другого общества; прямо как с нищим Томом, который стал вдруг принцем Уэльсским: сын рабочего стал бы барчуком. Стоило только произнести эти волшебные слова, которые мой отец по неисповедимому упрямству «засолил», и вот дорогу преградила другая формула: «Земельный фонд разделен». Черт возьми, кому же это досталось «мое» имение? Как объяснить, почему один человек берет имение и позволяет своей жене растранжирить, а другой, не слушая жену, отказывается почти от всего, оставаясь верным своей неблагородной профессии портового рабочего. Ведь мы же, каждый, делая что-то, что-то думаем. Приходилось наблюдать чудеса, когда человек делает черт знает что, полагая себя умным человеком, или поступает умно, а выглядит так, будто делает черт знает что. Люди говорят: «У умного и беда-то умная» и «у дураков и счастье дурацкое», а не могло быть так, что умному выпадало дурацкое несчастье? Мать рассказывала, что отец писал из немецкого плена: «Наш друг Коруедим шлет привет». Вернулся он в конце 1918 года и зиму провел в Царникаве. Когда ландсвер занял Ригу, началась дикая резня: расстреливали всех, кто только очутился на мушке или на кого донесли бессовестные местные жители. В Царникаве офицер, который всю ночь пил у старшего рабочего с обжарочной, угодливого и жадного Берзиня, к утру имел в руках список с тринадцатью «местными большевиками». Двенадцать из них уже в полдень были поставлены к бане в парке имения; только мой отец накануне, точно предчувствуя что-то, раздобыл лошадь и с семьей — матерью и Мирдзой — убрался обратно в Милгравис. К лейтенанту подбежала Алма Вернер — ее мать и отец были в числе арестованных — и со слезами принялась молить: — Неужто нет бога на земле, если вы собираетесь казнить невинных людей?! Лейтенант весело засмеялся и приказал стрелять. Лейтенант, офицер. У немцев были, кажется, серебряные погоны, но такие же блестящие сапоги, такие же шпоры, сабля с портупеей, белые перчатки, как у царской гвардии. Милгравский рабочий не хотел попирать человечность, натягивать белые перчатки и командовать. Капитан Меллав, который скатился до плотника Меллаусиса, говаривал: «В людей не стреляй, птиц не убивай, убьешь в себе человека». А генерал вежливо подавал сантимы подручной огородницы: «Сходите, пожалуйста, сударыня, за папиросами…» («мне по чину не положено»)! Ландсверовцы искали отца и в Милгрависе (собственно, в Ринужах), но его вовремя предупредили, и он скрылся, ночь провел под рыбацкими лодками. Когда пришел Бермонт, отец вступил в латвийскую национальную армию. А потом тяжелое послевоенное время: стали заходить корабли, вернулся наконец кормилец — в поношенном френче, в американских «танках», ботинки были отличные — все добро на себе, все богатство в брюхе. Семья увеличилась, но отец упрямо твердил: «От такой власти я ничего не хочу брать!» Прошли годы. Я нашел книгу «История 9-го Резекненского пехотного полка», там упомянуто и имя моего отца — в числе тех солдат, которые, оказавшись раненными 11 ноября в боях за освобождение Торнякална, отказались лечь в госпиталь и в окровавленных бинтах продолжали воевать. Матери отец об этом не рассказывал, зато рассказывал, что после разгрома армии Бермонта в живых оставляли только русских солдат — это были насильно мобилизованные пленные периода мировой войны. Немецкие добровольцы, которые пришли сюда в надежде разжиться латвийской землей, все ее получили… Бароны? Латышские солдаты заплатили колонизаторам: за позорные столбы перед церковью, за рубцы от розог, за «право первой ночи», за «черную сотню», за ландсвер, за семь веков «благородной миссии» в пыточном застенке. Что же щемило душу живым? Мертвым не больно, всем нам когда-то будет не больно; и вся жизнь-то, может, один сплошной огонь — больно, не жалуйся, будь человеком. Вот и Вернеровой Алме было больно, она пила не меньше Меллаусиса, курила, что для деревни было совсем необычно, издевалась над религией, над богом, плевала на все как есть. Нигилизм и чахотка источили ее, и вот она уже спит на Царникавском кладбище. А Берзинь, которому людской толк приписал смертный грех, жил и наслаждался: у старшего рабочего был казенный участок земли, казенная квартира, хорошее стадо, куры и гуси; он купил землю в Задвинье и построил себе дом; и здоровье бог дал — первая жена умерла, он взял «экономку», и у той родилась дочка. Ида, так звали «экономку», незаконно поторговывала спиртным и тоже зарабатывала; потом попалась и предпочла сесть в тюрьму, чем платить высокий штраф. Берзинь поспешил жениться. Ида потеряла и деньги, и мужа, и «свой» кров. Отбыв наказание, она с дочкой Лилией поселилась в Тамаже, и — как говорили царникавцы — «с ней уже было не все ладно». И с новым браком у Берзиня было уже не совсем ладно — муж с женой жили как кошка с собакой, но правила всем жена. Только в жажде наживы они великолепно понимали друг друга. Ход жизни, причинная суть явлений, скрытая, угадываемая, ясно видимая. Наблюдая окружающих людей, я мысленно вновь и вновь возвращаюсь к тем, что были мне близки, но уже ушли. Мирдзины акварели, грустные стихи и мой отец, сильный человек, высокого роста, неутомимый в работе, с несгибаемой волей, а вот на тридцать девятом году жизни загадочно занемог, скинул переносимый груз, сам дошел до вызванной машины «скорой помощи» и через несколько дней умер в больнице. Не пил, не курил, вообще презирал пьянство. Я смотрю на его последнюю фотографию, которую мать вырвала из паспорта. Снимок сделан еще до моего рождения: отец во френче, после демобилизации, лицо чистое, мужественное, с резкими морщинами у рта, взгляд открытый. Он кажется куда старше, чем был в то время, но это не трусливая, увядшая, заплывшая жиром старость. Последние годы жизни. Порт заполняли корабли, у отца снова была работа, которой он и хотел заниматься. Была семья, сын и силы заработать хлеб. Некоторые сохранившиеся документы и заметки в записной книжке говорят о том, как деятельно работал он в профсоюзе портовых рабочих, который входил в так называемое Рижское профсоюзное бюро; это бюро вскорости сочли коммунистическим и ликвидировали. Я уже понял, что мой отец никогда не придавал значения названиям и вывескам, а считался только с тем, что счел благом сам. Двоюродная сестра моей матери как-то сказала: «Твой отец был идейный». Истинный смысл этой характеристики стал мне ясен после того, как в мои руки попал «Дон Кихот». Но насмешку она не вызвала. Я мог понять, почему настоящий человек всегда сторонится внешнего блеска, который так часто пленяет ум глупцов; для человека, который превыше всего ставил собственное достоинство и независимость, участь портового грузчика с угольной тачкой или мешком на плече была единственной возможностью жить так, как он считает правильным, и говорить именно то, что думаешь. Жизнь, люди, чины. За каким дьяволом нужны хорошо оплачиваемые «первые люди», министры и генералы с их расфуфыренными супружницами?!
Через Блусукрогский лес от Риги пришла железная дорога: повалились стройные сосны, железные зубья хищно выдрали пни, содрали мох, чернозем. Желтый песок взгромоздился в насыпь — через Саутыньский луг, протоку, прибрежную равнину. Улетели соловьи, полегли черемуховые и ольховые заросли, запыхтел паровичок — звали его «самовар» — и потащил вереницу вагонеток с песком и шпалами. Это называлось цивилизация, это невозможно было сдержать, так же как шаги человека — одни обрываются, другие следуют дальше. На берегах Гауи появились «чангалы» — так их называли местные жители и, по детскому неведению, я тоже. Они работали голые до пояса, бурые от загара, они пили, пели долгие протяжные песни, говорили на странном, но все же понятном для латышского уха языке, а иной раз дрались. И местные парни из-за девиц нередко устраивали на лоне природы турниры с применением кольев, но, видимо, грехи пришлых больше бросались в глаза. Против «чангалов» существовало предубеждение, уже одно название «чангалы» звучало как нечто оскорбительное. И все равно я с ними водился. Один из них — Броня. Он купил «чистый клад, а не самокат», велосипед, за шестьдесят латов, со ступицей «Торпедо», где с одного боку была длинная ось. Я садился на багажник, ставя ноги на ось. Броня предупреждал: «Не наваливайся всем телом, ось можно сломать». Приезжали еще двое, один из них, кажется, Донат, и принимались обсуждать достоинства велосипедов и прочих вещей. Броня сетовал, что велосипед он купил с номером, а документа у него на это нет — на каждый велосипед полиция давала свой номер и удостоверение. Броню пугал страж порядка Рутынь. Дело в том, что недавно Донат имел от Рутыня крупные неприятности. Перейдя к новому хозяину, Донат получил от старого все заработанное полностью, в жизни у него такой «деньги» не бывало в руках; желание купить, чего душа пожелает, и еще сам черт, наверное, навели его на некоего пройдоху, который брался обеспечить любого состоятельного человека чем угодно, хоть дальнобойным орудием. Донат мечтал только о нагане, и купил его задешево, в придачу получил еще резиновую дубинку. «Ты знаешь, совсем себя по-другому чувствуешь, когда у тебя такое в кармане!» — хвастал он, — разумеется, только в кругу ближайших друзей, хорошо понимая, что можно и чего нельзя. В субботний вечер медные глотки труб в парке имения оповестили о начале гулянья с танцами: Донат помчался туда, выпил «чуть не весь буфет», и тут на него напало желание ратоборствовать. Дубинка сама собой выскочила из-за пазухи, а наган из кармана. Донат сунул дуло под нос какому-то «чуле» (так в свою очередь «чангалы» звали латышей, живущих к западу от них), тот, позеленев от страха, вскинул руки вверх. Шутки ради, Донат огрел его дубинкой, потом направился к другому, чтобы пошутить и здесь. Только начал шутить с третьим, — появился Рутынь. Непонятно, что произошло, но у Доната сразу дух перехватило и в глазах потемнело: отнятой дубинкой Рутынь так пошел его чехвостить, что только кости затрещали. Осыпаемый ударами, Донат умчался оттуда, всю прошлую неделю ходил сине-зеленый, будто через молотилку пропущенный. А вчера Рутынь, проезжая мимо, крикнул, чтобы он зашел в имение за своим револьвером и дубинкой. Езус-Мария! Что делать? Терять дорогое приобретение неохота, а разрешения на оружие у него нет. Идти к Рутыню опасно — опять схлопочешь по шее; не идти еще опаснее — сам к тебе придет и отведет в каталажку. Третий латгалец советовал Донату пойти к судье, искать правды. — Где это написано, что полицейский смеет бить человека ни за что? Ты же с ним не шутил. Но Броня судьям не доверял, судья всегда Рутыня оправдает. — Полицейский самого господа бога отчихвостит и все одно в святых останется. В моей голове сразу же закрутились мысли: как это может быть, чтобы полицейский чехвостил бога дубинкой — ну, хотя бы за то, что он очень уж нерадивый бог, ничего не делает, только норовит другую щеку подставить. Но бог чувствует, что с ним поступили несправедливо, и идет к судье (судью я видел таким — в длинной пурпурной мантии, вокруг головы сияние и пышные торчащие усы, как у материного дяди Рейнгольда) жаловаться на полицейского. Судья спрашивает: «А что ты за всемогущий, если сотворил полицейского и дубинку и не можешь на них управы найти? Жулик ты и обманщик! На вот тебе шесть суток!» — и Рутынь хватает его за бороду, всыпает еще и тащит за решетку. Что такое «сутки», я не знал, только слышал это слово от Брони, и в слове этом было что-то зловещее. А если к судье явится Грантскалн? Вот он — некоронованный король Царникавы: жирное лицо под круглым котелком, точно сошел с листка календаря, где в сатирическом виде изображали глупых банкиров, жестоких предпринимателей, международных аферистов, вообще гнусных и нехороших личностей. Маска жулика была залеплена комом жира. Ему принадлежали большая усадьба Саутыни, недавно выстроенная Селга с современным магазином, дома в Риге, он был главным человеком в рыболовецком обществе, столпы котороголовили только деньги, а рыбу ловить доверяли наемным работникам. Грантскалн был депутат сейма — один из лидеров крестьянского союза, ко всему отцом-благодетелем военного министра-царникавца. Для людей, которые работали в Саутынях, депутат не был отцом-благодетелем, небесной манной он их не кормил: соленая салака, картошка в мундире, снятое молоко, довольно скудная еда, другие хозяева так не скупились. Рабочие как-то посчитали ежедневную норму салаки и картошки, смерили молоко: на нос выходило три салаки и две картофелины (может быть, наоборот — две салаки и три картофелины, сейчас уже не помню) и неполная чашка молока. Такой диетой ни один царникавец не соблазнялся, и саутыньскому барону не оставалось ничего иного, как искать рабочие руки в дальних местах, в той же Латгалии, где хозяйства были мелкие, люди бедные, семьи большие и без заработков на стороне не проживешь. Но тут оказалось, что католики-«чангалы» не менее прожорливы, чем лютеране — «чули». Они бунтовали, скандалили с хозяином и в самую горячую пору ухитрялись найти дорогу к бесплатному адвокату социал-демократической партии, а потом к мировому судье, по любому поводу. Судье в таких случаях приходилось изворачиваться — закон, он закон, но и депутат правительственной партии — это все-таки депутат. Как-то в шикарном магазине в Селге я увидел сохлого старичка в убогой одежде — тяжело дыша, он тащил с грузовика мешок с мукой, видно было, что работа ему не под силу. Отец депутата. Сын отвел ему какой-то угол в Саутынях и раз в день давал собачью болтушку. А на щепотку табаку надо было зарабатывать. «Как это люди ставят такого человека депутатом?» — удивлялся я. Мать моя не удивлялась, а отрешенно отмахивалась: «Все они жулики» — и голос свой отдавала за социал-демократов. Жрец Маммоны! Ей-богу, этот человек был для меня загадкой и остался загадкой, наверное, потому, что я уже сумел прогрызться сквозь гору книг и где-то в себе создал идеализированное представление о жизни и людях. Где же его тоска по чистоте и красоте, которыми дышат летнее утро, цветы кувшинки, облачный пушок в небесной выси, девичья улыбка, трепетание ветра в вершинах деревьев и все, все остальное?! Как человек может жить, не оценивая своих трудов и себя самого, как его может не сжигать стыд за гнусность, которую он рассевает в мире? У Брони был этот «клад, а не самокат», целое сокровище для бедного латгальского парня; было доброе сердце, которое заставляло его безо всяких сажать меня на багажник. Презрительное прозвище «чангал» звучало как клеймо. Я начал понимать, что мещанин все норовит опорочить, а человек все старается уразуметь. «Вы с Донатом между собой говорите так, что трудно понять», — как-то заметил я. «Так говорят в нашей стороне», — объяснил Броня, еще он рассказывал о постах, о конных бегах в Латгалии, о распятиях вдоль дорог. И он и Донат, несмотря на их желание «пошутить», были в общем-то славные парни; они вкладывали свои песни, свои мускулы, свой пот в песчаную насыпь, которая засыпала луговые цветы, соловьиные трели, их молодость. Я перестал «чангалить», как только узнал оскорбительный смысл этого слова, — парни эти во многом были сходны с парнями моего родного города, в них не было жадной обособленности мужика-однодворца, такие же работяги-пролетарии, у которых только и было что две руки и сноровка браться за любую работу; они познались с горечью жизни с первых детских дней и хорошо были знакомы с дружеским доверием.
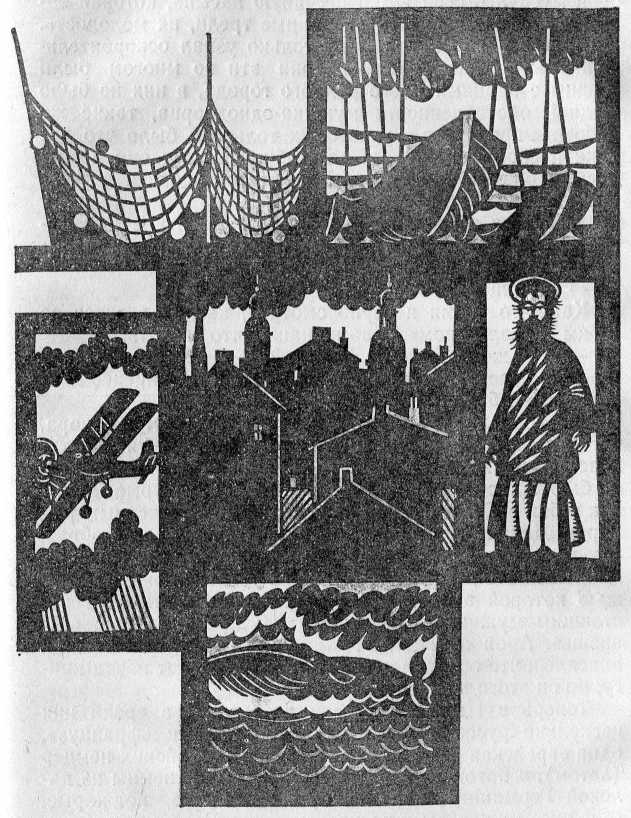 …Когда я с жаром рассказывал о Квентине Дорварде, Жанис сказал:
— Я тоже француз.
— Француз?!
Какое-то время я глупо смотрел, как он возится со своим «револьвером», пока не нашел что сказать:
— Как же ты попал в Латвию?
— Я участвовал в войне, и мне дали латвийское подданство, — объяснил Жанис.
Он воевал! С пробочным пугачом? Настала пора, когда я уже не верил взрослым на слово, хотя и оставался большим простаком. Я бы меньше усомнился, если бы Жанис сказал, что он участвовал в штурме Льежа бок о бок с Квентином Дорвардом, с прославленным рыцарем Дюнуа. Это я воспринял бы как смелый образ, как игру, где яркое воображение вплетено в ткань подлинной жизни; а тут почувствовал только ложь, с помощью которой этот свистун хотел представить себя настоящим мужчиной. Ну уж нет. Я прямо сказал: «Ты врешь». А он ответил: «Ты дурак». В глубине души я опасался, что оскорбленный Жанис потребует назад книгу, но он этого не сделал.
Теперь в Царникаве были «чангалы», а среди них несколько русских «староверов», был один «француз», одна еврейская семья, одна семья прибалтийских немцев (летом), а потом вдруг явились настоящие немцы из далекой Германии. Сначала прибыли сухие, поджарые, стройные инженеры, они поселились в Белом доме; техникам, чином пониже (видимо, кессонщикам), отвели помещение в Конюшенном доме. Прошлым летом здесь жили рабочие, производившие ремонт в имении; они отправились куда-то дальше, только Меллаусис на вечные времена остался на прицерковном погосте. Я чуть ли не с ненавистью смотрел на техников — все такие шумные, самоуверенные. Они как будто вторглись в мою память о покойном друге — а Меллаусис действительно был мне другом, и я никому не позволил бы в этом усомниться. Я посмотрел, как они устраиваются, и побежал рассказать матери. Та посоветовала: «Запомни какое-нибудь слово, которое они говорят, и я скажу тебе, что это за язык». Но я не смог ничего уловить. Эти грузные люди все с тем же шумом и сноровкой вышвыривали за окно накопившийся мусор. Наконец я принес матери слово «фенстер» и услышал заключение: «Немцы».
Инженеры мне почему-то внушали опасение — очень уж тощие; а техники, те слишком уж грузные, — разумеется, я не думал, что одни из них только еще мечтают, как бы съесть парочку здешних туземных детей, а другие уже полакомились. Я легко подружился с латгальскими парнями, от которых местные так сторонились, подружился потому, что мог с ними сговориться и не признавал предрассудков, но именно различие в языках вызывало предубеждение против «технарей».
Спустя несколько дней я заметил под окнами техников тусклый никелевый кружок — это же монета в двадцать сантимов! Большие деньги. Я знал, что на них можно купить две жирные шотландские селедки, или килограмм ржаной муки, или монпансье (по-нашему «кисленькие»), столько, что хватит сосать до вечера. Пока я стоял и думал, появился один из техников. Я остановил его и протянул монету, объяснил, что честно поднял ее и считаю его собственностью: во-первых, она лежала под их окном, во-вторых, у всех остальных обитателей Конюшенного дома кошельки не дырявые, в общем-то пустоватые — и монетами они не раскидываются. Как бы грозно ни выглядел этот толстый техник, меня он выслушал терпеливо, но деньги не взял, а полез в карман и достал еще двадцать сантимов. Теперь говорил он, а я слушал. Я сказал «битте», единственное ненецкое слово, значение которого я знал, и техник сказал «битте» и, кажется, хотел вручить эти двадцать сантимов мне. Я покачал головой, что этот номер не пройдет. Какое-то время мы одаряли друг друга «битте», потом разошлись каждый в свою сторону, каждый со своим никелевым кружком; я свой в конце концов положил на подоконник техникам — если в это дело вмешается Рутынь, я могу сказать, что я безупречен.
Техники сантимов не считали. Германские мостостроители швыряли из обоих окон станиоль от шоколада, лезвия «Сатурн», разноцветные картонки, коробки из-под сигар, медные деньги. Но мы не изумлялись, глядя на них, как (я знал это по книгам и газетам) негритята изумляются, глядя на белых чиновников и офицеров, хотя бы уже потому, что мы были черными в одном только смысле — ходили часто измазюканные (про меня и мою сестру и этого нельзя было сказать, потому что у нас была чистоплотная и строгая мать). Вот только заработки техников казались мне сказочными. Одна коробка сигар с прозрачной крышкой стоила два лата, а помещались в ней всего две сигары. Лат штука! Три года назад я был свидетелем одного эпизода, связанного с сигарами. Как-то собрались местные «миножьи князьки» — доподлинные тузы, потому что в нашем столетии человека оценивают не по голубой крови, а по кошельку. А у всех у них были тугие бумажники и огромное самоуважение. Они не ходили в бархатных кафтанах, в куньих шубах, лакированных сапогах, не умащали свою плоть благовониями: облачены они были в шерстяные фуфайки, застегивающиеся на брюхе, на груди и на плечах; самотканая «одёжа», юфтевые сапоги на толстенной подошве, благоухали они ворванью и потом, густая щетина на щеках и подбородке. «Красная головка» — бутылки со спиртом тут же полетели из карманов, тяжелые кулачищи забухали по столу, а синие рыбацкие — пьющие носы обратились только в одну сторону, в сторону «красной головки». Это было не у моего деда, потому что у деда было электричество, нет, там горела керосиновая лампа. Я, как обычно в таких случаях, держался поодаль и, разумеется, наблюдал за всем происходящим. Один из них побывал в Риге, привез большущий ящик с толстенными сигарами. Я еще ничего не знал ни про «Гавану», ни про «Вирджинию», видел только большую картонную коробку, толстые сигары с золотыми поясками, слышал, как владелец велел остальным бросить обычный «Спорт» и подымить сигарой. Каждого, кто откликался на предложение, владелец вместе с сигарой оделял словами:
— Это курево стоит лат штука.
И тут свой «характер» проявил другой «миножий князек», у которого тоже был истинно латышский нрав, который ни за что не хочет отстать от другого; этот вытащил бумажку в десять латов, сложил ее вдоль, зажег от лампы и поднес хвастуну:
— А этот серник стоит десять латов штука!
Такова была латышская знать — во всем отличная от поджарых, точно накрахмаленных, немецких инженеров. Изо дня в день инженеры шагали из имения к строящемуся мосту, и изо дня в день на локте каждого из них висела его «фрау». «Будто проволокой привязанные», — сказал кто-то, восхищаясь этой немецкой выдержкой. Мне же казалось, будто их вообще сдерживает какая-то проволока. Движутся, будто часовой маятник или другого рода механизм. Сдвоенный маятник…
«Неужто там, в Германии, — размышлял я, — все сплошь ходят вот так под ручку с женой или дочерью?»
Зимой, первой школьной зимой, я очень много читал и очень мало занимался домашними заданиями. У меня создалось некоторое представление о мире, в который я явился неполных восемь лет назад. Я знал, что Латвия небольшая страна, без ощутимого политического веса и вооруженных сил, но здесь был мой дом, моя родина, здесь жил народ, говорящий со мной на одном языке. И тысячи незримых нитей в виде книг связывали меня с широким миром — с различными народами и языками: маленькие японцы пекли рисовые лепешки, маленькие эскимосы ели сырую рыбу, американцы — почти одни консервы, чукчи верили шаманам, французы занимались винодельчеством и революциями, итальянцы обожали макароны, называемые «спагетти», у русских был пятилетний план, самая большая в Европе река Волга, грустные волжские песни и знаменитый балет, у эстонцев — горючий камень сланцы и сходная с латышами судьба… И были еще другие народы, и обо всех я все время что-то узнавал и хотел узнать еще больше.
Май стоял солнечный, теплый. Последний школьный день — слава богу, теперь никто не помешает мне читать книги обо всем на свете, не помешает знакомиться с окружающим миром. Я наотмашь зашвырнул сумку, в которой лежали на редкость скучные учебники и исписанные моим корявым почерком, испещренные кляксами и замусоленные тетради, — а вдруг до будущей осени все это пойдет прахом вместе с никому не нужной школой!
Я побежал под мост через протоку и ловко ухватил в горсть зелено-красную колюшку вместе с водой и илом. Золотая рыбка, чудесница моя, — плыви, плыви! Я сяду тебе на спину, упрусь ногами в шипы, как в ступицу «Торпедо», и мы поплывем, поплывем по всем морям! Айсберги с пингвинами, гибралтарская скала с пушечными стволами, пролив Магеллана, Огненная Земля — плыви, рыбка, плыви! Огнедышащая Мауна-Кеа, клуб ее дыма на горизонте — неси меня, рыбка, к коралловому острову! Теплая-претеплая вода, каменистый пляж, сверкание жемчуга, морские звезды и синее небо, изумительное небо — синее-синее! Я дрожал от восторга — в прибрежных зарослях надрывались хоры соловьев. Солнце — над коралловым островом, над золотой рыбкой, надо мной, над соловьиной песнью. Миг, когда я уже был не я, а весь этот мир: прозрачная бесконечность, огненный круг, песенное половодье, пестрящий цветами луг, зеленая чаща, игра лучей над спокойной заводью…
…Когда я с жаром рассказывал о Квентине Дорварде, Жанис сказал:
— Я тоже француз.
— Француз?!
Какое-то время я глупо смотрел, как он возится со своим «револьвером», пока не нашел что сказать:
— Как же ты попал в Латвию?
— Я участвовал в войне, и мне дали латвийское подданство, — объяснил Жанис.
Он воевал! С пробочным пугачом? Настала пора, когда я уже не верил взрослым на слово, хотя и оставался большим простаком. Я бы меньше усомнился, если бы Жанис сказал, что он участвовал в штурме Льежа бок о бок с Квентином Дорвардом, с прославленным рыцарем Дюнуа. Это я воспринял бы как смелый образ, как игру, где яркое воображение вплетено в ткань подлинной жизни; а тут почувствовал только ложь, с помощью которой этот свистун хотел представить себя настоящим мужчиной. Ну уж нет. Я прямо сказал: «Ты врешь». А он ответил: «Ты дурак». В глубине души я опасался, что оскорбленный Жанис потребует назад книгу, но он этого не сделал.
Теперь в Царникаве были «чангалы», а среди них несколько русских «староверов», был один «француз», одна еврейская семья, одна семья прибалтийских немцев (летом), а потом вдруг явились настоящие немцы из далекой Германии. Сначала прибыли сухие, поджарые, стройные инженеры, они поселились в Белом доме; техникам, чином пониже (видимо, кессонщикам), отвели помещение в Конюшенном доме. Прошлым летом здесь жили рабочие, производившие ремонт в имении; они отправились куда-то дальше, только Меллаусис на вечные времена остался на прицерковном погосте. Я чуть ли не с ненавистью смотрел на техников — все такие шумные, самоуверенные. Они как будто вторглись в мою память о покойном друге — а Меллаусис действительно был мне другом, и я никому не позволил бы в этом усомниться. Я посмотрел, как они устраиваются, и побежал рассказать матери. Та посоветовала: «Запомни какое-нибудь слово, которое они говорят, и я скажу тебе, что это за язык». Но я не смог ничего уловить. Эти грузные люди все с тем же шумом и сноровкой вышвыривали за окно накопившийся мусор. Наконец я принес матери слово «фенстер» и услышал заключение: «Немцы».
Инженеры мне почему-то внушали опасение — очень уж тощие; а техники, те слишком уж грузные, — разумеется, я не думал, что одни из них только еще мечтают, как бы съесть парочку здешних туземных детей, а другие уже полакомились. Я легко подружился с латгальскими парнями, от которых местные так сторонились, подружился потому, что мог с ними сговориться и не признавал предрассудков, но именно различие в языках вызывало предубеждение против «технарей».
Спустя несколько дней я заметил под окнами техников тусклый никелевый кружок — это же монета в двадцать сантимов! Большие деньги. Я знал, что на них можно купить две жирные шотландские селедки, или килограмм ржаной муки, или монпансье (по-нашему «кисленькие»), столько, что хватит сосать до вечера. Пока я стоял и думал, появился один из техников. Я остановил его и протянул монету, объяснил, что честно поднял ее и считаю его собственностью: во-первых, она лежала под их окном, во-вторых, у всех остальных обитателей Конюшенного дома кошельки не дырявые, в общем-то пустоватые — и монетами они не раскидываются. Как бы грозно ни выглядел этот толстый техник, меня он выслушал терпеливо, но деньги не взял, а полез в карман и достал еще двадцать сантимов. Теперь говорил он, а я слушал. Я сказал «битте», единственное ненецкое слово, значение которого я знал, и техник сказал «битте» и, кажется, хотел вручить эти двадцать сантимов мне. Я покачал головой, что этот номер не пройдет. Какое-то время мы одаряли друг друга «битте», потом разошлись каждый в свою сторону, каждый со своим никелевым кружком; я свой в конце концов положил на подоконник техникам — если в это дело вмешается Рутынь, я могу сказать, что я безупречен.
Техники сантимов не считали. Германские мостостроители швыряли из обоих окон станиоль от шоколада, лезвия «Сатурн», разноцветные картонки, коробки из-под сигар, медные деньги. Но мы не изумлялись, глядя на них, как (я знал это по книгам и газетам) негритята изумляются, глядя на белых чиновников и офицеров, хотя бы уже потому, что мы были черными в одном только смысле — ходили часто измазюканные (про меня и мою сестру и этого нельзя было сказать, потому что у нас была чистоплотная и строгая мать). Вот только заработки техников казались мне сказочными. Одна коробка сигар с прозрачной крышкой стоила два лата, а помещались в ней всего две сигары. Лат штука! Три года назад я был свидетелем одного эпизода, связанного с сигарами. Как-то собрались местные «миножьи князьки» — доподлинные тузы, потому что в нашем столетии человека оценивают не по голубой крови, а по кошельку. А у всех у них были тугие бумажники и огромное самоуважение. Они не ходили в бархатных кафтанах, в куньих шубах, лакированных сапогах, не умащали свою плоть благовониями: облачены они были в шерстяные фуфайки, застегивающиеся на брюхе, на груди и на плечах; самотканая «одёжа», юфтевые сапоги на толстенной подошве, благоухали они ворванью и потом, густая щетина на щеках и подбородке. «Красная головка» — бутылки со спиртом тут же полетели из карманов, тяжелые кулачищи забухали по столу, а синие рыбацкие — пьющие носы обратились только в одну сторону, в сторону «красной головки». Это было не у моего деда, потому что у деда было электричество, нет, там горела керосиновая лампа. Я, как обычно в таких случаях, держался поодаль и, разумеется, наблюдал за всем происходящим. Один из них побывал в Риге, привез большущий ящик с толстенными сигарами. Я еще ничего не знал ни про «Гавану», ни про «Вирджинию», видел только большую картонную коробку, толстые сигары с золотыми поясками, слышал, как владелец велел остальным бросить обычный «Спорт» и подымить сигарой. Каждого, кто откликался на предложение, владелец вместе с сигарой оделял словами:
— Это курево стоит лат штука.
И тут свой «характер» проявил другой «миножий князек», у которого тоже был истинно латышский нрав, который ни за что не хочет отстать от другого; этот вытащил бумажку в десять латов, сложил ее вдоль, зажег от лампы и поднес хвастуну:
— А этот серник стоит десять латов штука!
Такова была латышская знать — во всем отличная от поджарых, точно накрахмаленных, немецких инженеров. Изо дня в день инженеры шагали из имения к строящемуся мосту, и изо дня в день на локте каждого из них висела его «фрау». «Будто проволокой привязанные», — сказал кто-то, восхищаясь этой немецкой выдержкой. Мне же казалось, будто их вообще сдерживает какая-то проволока. Движутся, будто часовой маятник или другого рода механизм. Сдвоенный маятник…
«Неужто там, в Германии, — размышлял я, — все сплошь ходят вот так под ручку с женой или дочерью?»
Зимой, первой школьной зимой, я очень много читал и очень мало занимался домашними заданиями. У меня создалось некоторое представление о мире, в который я явился неполных восемь лет назад. Я знал, что Латвия небольшая страна, без ощутимого политического веса и вооруженных сил, но здесь был мой дом, моя родина, здесь жил народ, говорящий со мной на одном языке. И тысячи незримых нитей в виде книг связывали меня с широким миром — с различными народами и языками: маленькие японцы пекли рисовые лепешки, маленькие эскимосы ели сырую рыбу, американцы — почти одни консервы, чукчи верили шаманам, французы занимались винодельчеством и революциями, итальянцы обожали макароны, называемые «спагетти», у русских был пятилетний план, самая большая в Европе река Волга, грустные волжские песни и знаменитый балет, у эстонцев — горючий камень сланцы и сходная с латышами судьба… И были еще другие народы, и обо всех я все время что-то узнавал и хотел узнать еще больше.
Май стоял солнечный, теплый. Последний школьный день — слава богу, теперь никто не помешает мне читать книги обо всем на свете, не помешает знакомиться с окружающим миром. Я наотмашь зашвырнул сумку, в которой лежали на редкость скучные учебники и исписанные моим корявым почерком, испещренные кляксами и замусоленные тетради, — а вдруг до будущей осени все это пойдет прахом вместе с никому не нужной школой!
Я побежал под мост через протоку и ловко ухватил в горсть зелено-красную колюшку вместе с водой и илом. Золотая рыбка, чудесница моя, — плыви, плыви! Я сяду тебе на спину, упрусь ногами в шипы, как в ступицу «Торпедо», и мы поплывем, поплывем по всем морям! Айсберги с пингвинами, гибралтарская скала с пушечными стволами, пролив Магеллана, Огненная Земля — плыви, рыбка, плыви! Огнедышащая Мауна-Кеа, клуб ее дыма на горизонте — неси меня, рыбка, к коралловому острову! Теплая-претеплая вода, каменистый пляж, сверкание жемчуга, морские звезды и синее небо, изумительное небо — синее-синее! Я дрожал от восторга — в прибрежных зарослях надрывались хоры соловьев. Солнце — над коралловым островом, над золотой рыбкой, надо мной, над соловьиной песнью. Миг, когда я уже был не я, а весь этот мир: прозрачная бесконечность, огненный круг, песенное половодье, пестрящий цветами луг, зеленая чаща, игра лучей над спокойной заводью…
За закольским загоном лежали две брошенные моторки, которые до открытия автобусного сообщения поддерживали связь между обжарочной на берегу Гауи со столицей на берегу Даугавы. Старая лодка была уже совсем в печальном состоянии, утонув в буйной зелени. С той, что поновее, был только снят мотор, а так лодка как лодка: железный руль, капитанская каюта (будочка при моторе), задранный кверху нос. Только поставить пушки, поднять флаг и отправиться в плавание. За чем же дело стало: я набил папиросами маленькую коробочку из-под «Риги» (что же это за мореход без табака!), в карман бутылку рома (а без рома?!), шестистрельный пистолет (собственноручно вырезанный), патроны (ольховые шишки), бинокль (увеличительное стекло от карманного фонарика) и с огромным самообладанием в мужественном голосе отдал команду: — Господа! Под моим водительством мы одержим блистательную победу! Я поднял бинокль к глазам и заметил по бакборту вымпела королевского флота — голубые, розовые, оранжево-золотистые, салатные, они кичливо, вызывающе реяли по ветру, точно символы высокомерного владычества, не признающего нужды, голода, Двора отбросов и Нищего чердака. «Эй, поднимите наш черный флаг, пусть эти барончики в шелковых портках поймут, что их ждет. Зарядить пушки!» — «Да здравствует король!» — «Плевали мы на всех королей! За свободу! Наша свобода придаст нашему оружию силу. Огонь по баронам, за свободу! Кому нужны эти расфуфыренные вельможи, да и эти серые вельможи? Да здравствует свобода! Свобода будет только тогда, когда никто не посмеет гнать меня в школу и ставить двойки. Зарядить пушки! Огонь по угнетателям!» Корабли противника горят и взлетают на воздух. Бешено свистят пули, но я не боюсь, нисколечко. Снова заряжай! — Господин штурман! Почему вы дрожите? Вам страшно? Берите пример с меня. — Гремят выстрелы, и кипит морская вода. — Господин штурман! Закурите, это наши лучшие папиросы, они стоят… лат штука. Люблю людей, которые во время боя попыхивают дымом в ответ на огонь врага. Прикурим от пушечного фитиля. — Выше черный флаг! Вызываем всех, кто осмелится пойти на нас! Ага, они пошли на абордаж! Сосчитайте патроны, сейчас мы увидим в лицо этих трусов. — Вжик, вжик, вжик — трещат выстрелы. — Ур-ра, на нас обрушивается адский легион! — На судне безумствует схватка, я стреляю, я дерусь, превосходство врага огромное… Вдруг поскользнулась нога, а может быть, меня сшибло пулей, я падаю с капитанского мостика в трюм. Падаю чертовски неудачно, разбиваю грудную клетку, переворачиваюсь в воздухе, шмякаюсь плашмя; ноги, все туловище снова заносит выше головы. В глазах темно, как-то удается перевалиться на бок — такое чувство, будто голову отломали и сунули под мышку. Дышать тяжело… Я лежу и вижу, как издеваются на капитанском мостике враги: бароны в белых коротких штанах, в длинных шелковых чулках, в лакированных туфлях с серебряными пряжками и в завитых париках. Заведующий ликует: «Задать ему взбучку!» Королевский камердинер: «Повесить!» Королевский смотритель ночной посудины: «Утопить в дерьме!» Госпожа генеральша: «Ты уж чересчур свое положение в претензию ставишь!» Все: «Ха-ха-ха…» Такое чувство — если не убегу, то и впрямь утопят. Я, охая, поднимаюсь на ноги: команда моя перебита, я побежден, остался один против всех. Кое-как я вскарабкиваюсь на борт корабля и прыгаю на землю — прыжок отдается во всем теле, от боли по костям пробегает огонь. Я сажусь на траву, а меня гонят оттуда — в плечи, в спину летят грязь, камни, злой смех. Я волочусь куда глаза глядят, ужасно тяжело дышать, еле головой можно шевельнуть, с хребтом что-то неладно. Разбит наголову. Ликующие вопли победителей оглашают весь мир, раздирают мне уши. Наконец я добрался до огорода — здесь растут несколько могучих берез, здесь дедушка каждую весну сочил березовый сок. Чудесное питье — особенно на Иванов день, когда сок забродит и пенится, как шампанское. Дедушки уже нет, а березы остались — спустя тридцать лет после неудачной битвы. Победили, ликуют: те, кто произносят лживые слова и мечут грязные камни — медоречивые шпионы с отравленным кинжалом за пазухой, коварные друзья, корыстные себялюбцы, слепцы, из глупости ненавидящие слово правды. Там, с сидящей на мели лодки, эта банда оглашала весь мир. И солнце все так же вставало утром и заходило вечером…
Осень золотит листья дубов, черемухи и вязов, осыпает каштаны и желуди, мы делаем из этих каштанов и желудей человечков, коров и овец. Пастух и стадо. Меня ждет лето, когда я снова впрягусь в пастушеское ярмо. Постылое лето, постылое стадо! Угнетает сознание несвободы — ты связан и не можешь порхать, как птица, с ветки на ветку. Свобода! Ею было право бросить этот тысячу раз исхоженный, обхоженный, виданный-перевиданный клочок земли, бросить это блеющее, взмыкивающее, ревущее, с фырканьем щиплющее и с тяжелым вздохом пережевывающее траву стадо и уйти куда глаза глядят. Перейти вброд заросли аира, заглядеться на окруженную зеленью глубину, по глади которой снуют водомерки, где тебе призывно улыбается желтый глаз цветка, почувствовать на волосах и одежде росу, упавшую в зарослях, почувствовать, как ласкает голую подошву песок отмели, зачерпнуть в горсть мутноватой речной воды — самую малость — и задорно ответить на крик чайки, которая кружит над твоей головой, точно желая узнать: «Куда, зачем, чего хочешь?» Мир: чудо, обещание, тысячи дорог — и все манят вдаль. Куда? Мир начинается на берегу Гауи — именно здесь. Свет рисует трепетные блики на поверхности потока, сочным мазком обозначает желто-серую песчаную отмель, плотно сгрудились зеленоватые сугробы ольшаников, горизонт прозрачно бескрасочен, и нет ему конца — вечное начало, безграничная вечность. Чудо: острая трава выбивается из бесплодного песка, вода меж изгрызенных берегов таит что-то таинственное. Где же это я вглядывался сквозь воду, песок, течение времени, пытаясь проникнуть в беспредельность жизни? Кажется, это уже когда-то было, я все знал, ведь я пришел оттуда — сейчас в моей памяти возродится та страна, то солнце, те берега, где я обитал ранее. Открыть нечто пугающе прекрасное — цвета, невиданные здесь, звуки, напоминающие грусть дедушкиной скрипки, предчувствия, теснящие грудь. Что-то томится в моей душе, я не могу это извлечь, хотя и стараюсь всеми силами. Я подобен немому музыкальному инструменту, тщетно жаждущему зазвучать. Обещание: припади к этой траве — серой, мелкой, острой, — прислушайся, прислушайся! А вдруг она расскажет о берегах, в которых текла моя жизнь до этого, или о берегах, которые меня ждут там. А эта река была и будет; и будет толстая ива и резкий голос чаек над отмелью. Есть ли волшебные слова, которые откроют дупло в иве, извлекут скрытую там сказку; а может, не сказку, а золотой ключ ко всей жизни, ключ мудрости, ключ знания, ключ силы, или же страх, который перехватывает горло и вгоняет ночью в холодный пот? Обещание дает каждая пядь земли, каждая волна, которая вздымается и колышет течение Гауи, каждый лютик на прибрежном лугу, каждое утро, которое свежестью и солнечными лучами стучится в оконце чердачной комнаты Конюшенного дома, — но кто это обещание исполнит? Эти тропы, влекущие в широкий мир: одна — в виде пыльного «эрзацного шоссе» к Риге, вторая — в виде зарева большого города, которое осенними ночами видно над соснами Блусукрогского бора. А ведь есть еще множество других путей. Куда? Куда? Дрейфующие ледовые поля, песчаные просторы, острова южных морей. И вновь слова, слова, которые я вычитал в книгах, и вновь ощущение, что эти слова и понятия вместе со мной явились с тех берегов. Я видел, слышал, уже знаю… Читаю впервые, слышу впервые, и все же хочется воскликнуть: да, да, это уже было во мне самом, это взято из довременья, которое я ношу в себе… Все тропы начинаются в зарослях аира, который терпко пахнет в зной среди излучины. И любое направление, все равно какое бы я ни избрал, ведет к людям, с людьми, среди людей.
И вновь они перед моими глазами — люди на берегах Гауи тех лет, когда проходило мое детство. Дедушка («гросспапс»): знал свое ремесло, с детьми был сдержан, даже суров; любил плотно поесть и выпить — последнее было присуще всем царникавцам. А может быть, я ошибаюсь, были и исключения. Бабушка («гроссмама»): эта была добра ко мне, умела ладить с детьми, всегда у нее было что-нибудь вкусное, если мы с сестрой являлись в Заколье; ее жизнью была работа, работа без отдыха и отпуска, вечное движение. Зарабатывала, когда в рыбную пору (суровые зимние месяцы) дни и ночи напролет укладывала жареную миногу в бочонки и ходила с разъеденными от рассола пальцами; прибирала дом (насколько это было возможно), готовила деду и двум подсвинкам и, как могла, баловала свою единственную дочь. Летом полола, косила сено и поспевала всюду, где только надо было работать. Тетя Хильда: она меньше всего напоминала «тетю», хорошенькая барышня с телефонной станции с золотистыми (в то время часто воспеваемыми) естественно вьющимися волосами. Порой я удивлялся, что ее мать (моя бабушка и мачеха моей матери) такая тусклая, изможденная, морщинистая, а Хильда — цветущая и беспечальная. Дед был рослый, с солидным брюхом, с брюзгливым лицом; Хильда же, точно бабочка, поводила крылышками за коммутатором. Она давала мне книги, которые хранились в шкафу у нее на работе — шкаф этот назывался библиотекой Царникавского благотворительного общества. Какое именно благо творило это общество, для меня осталось неведомым. Хильда день-деньской дежурила у коммутатора — даже по воскресеньям и праздникам, если не удавалось упросить счетовода с рыбокоптильни Мэтру посидеть вместо нее. Комната выходила на север, внизу погреб, метрах в тридцати берег Гауи. Мир начинался на берегу Гауи, но она как будто привязана к нему проводами коммутатора. Ей хотелось походить по лугу, по ольшанику, по песчаной отмели, а люди, которые лили пот на сенокосе, завидовали хорошо одетой барышне, которая была на «чистой работе». И вполне резонно, потому что хорошо только там, где нас нет. Эрнест паромщика Паюпа: настоящая его фамилия была Груздынь, потому что Паюп был только отчимом. Но царникавцы говорили «Паюпов Эрнест». В то лето, когда я впервые увидел Гаую и временно жил в Заколье, Эрнест пас Берзиневу скотину в Курпниеккакте. Он позвал нас с Айной: — Пойдем в рыбачий домик, я вам покажу, как черти пляшут. Думает, что я испугаюсь? Еще чего! Айна, конечно, не испугалась от величайшего любопытства. — Посмотрите на пол! — прошептал Эрнест. Да, там плясали: старый черт с золотыми рогами, с вилами через плечо, маленькие чертенята, черти-юнцы, чертовки. Стучали тяжелые сапоги, щелкали каблуки, мелькали разноцветные подолы, вращались чертовски горящие глаза. — Бежим! — крикнул Эрнест. Мы выскочили из домика. Как здорово! И вскоре же я вновь потянул Эрнеста глядеть чертячьи пляски. Эрнесту это надоело, он стал надо мной смеяться и, точно открыв большой секрет, сказал, что никаких там чертей нет. Просто ива, которую мотает речной ветер, бросает тени на залитый солнцем пол. Я по-настоящему обиделся на Эрнеста — зачем он испортил такую чудесную игру, мне же с первой минуты было ясно, что это игра теней, но говорить об этом не надо было. И вот черти убежали от нас и никогда больше не вернутся. А у Эрнеста было еще кое-что в запасе. — Пошли сети проверять, — предложил он. А там вовсе были не сети, — простые ивовые корзины для ловли миноги — две штуки закинуты в какой-то маленькой протоке, укрывшейся в самой середине Курпниеккакта. Какая минога могла туда попасть? Миноги и не было — один-единственный золотой карась. Ей-богу, чистое золото! Единственное золото, которое я знал, было материно тяжелое обручальное кольцо, которое она носила на левой руке, — а эта рыба казалась ярче, наряднее, дороже. Эрнест оказался трогательно добр. «Возьми», — протянул он пойманную в ивовую корзинку рыбу. У меня слезы выступили от радостного изумления — я был мягким, впечатлительным пареньком, доверчиво взиравшим на мир. И мир улыбнулся, глядя на мои четыре года и одиннадцать месяцев… Эрнест и мир. Мир в излучине Гауи: флюгарка в виде рыбы на обжарочной плыла в июньской синеве, почерневшие гонтовые крыши окрестных строений и строеньиц, совсем как рыбацкие затылки в клеенчатых капюшонах, которые жарит солнце и полощет вода, лабиринты дровяных поленниц, неохватные и влекущие к себе, зыбкие березы на краю огорода, мостки через рукав, разъезженная песчаная дорога и ольха — самые красивые деревья, которые я когда-либо видел. Да, именно серая ольха; я постиг душу этого дерева и понял — если хочешь что-то обрести, это надо прежде всего полюбить. И душа всего мира стремится ко мне, и, растроганный, взволнованный до глубины души, я стою посреди закольского двора с золотой рыбой в руках. Награжден, счастливец! Бабушка выпотрошила и изжарила «мою рыбу». Только я один и ел: Эрнест подарил ее мне. Вечно с платком на голове, с улыбающимся лицом, обрамленным этим платком, бабушка была со мной всегда заодно. Морщинистое лицо, лицо извечной труженицы, а мне оно казалось прекрасным. Айна сказала, что ей полагается половина, да и пестрый кот Жулик недвусмысленно выгибал спину. Со слезами на глазах я готов был отстаивать свое «право первородства». Бабушка знала, что делать: она изжарила Айне окуня, а Жулику дала маленького лещика. Я благоговейно ел золотую рыбу — «свою рыбу». Но благородство, оказывается, могло уживаться со всеми чувствами — я неожиданно и без всякой причины готов был поделиться чудесной рыбой с Айной, с бабушкой, с Жуликом. В житейской практической мудрости моя сестра всегда превосходила меня, она высокомерно отвергла мое неожиданное благородство, даже Жулик что-то косился, только бабушка охотно приняла предложение, и я снова был счастлив.
После этого случая я был беспредельно признателен Эрнесту. Золотая рыба в подарок — ах, если бы можно было отплатить добром за добро с еще большей щедростью! К сожалению, у меня не было ничего, что бы я мог подарить Эрнесту; хорошо, что он сам нашел такую возможность. Спустя несколько дней, как-то в обеденное время, Эрнест произнес: — Голодный я, достань-ка мне что-нибудь поесть. Я не знал, как помочь Эрнесту. Бабушка где-то в поле, дед работает, а мешать ему — смертный грех. Может быть, Эрнест, коли уж он старше и смелее, сам мог бы попросить? — А ты попроси, будто для себя! — Но я же не хочу есть! — Вот тютя! Разве дед тебе в брюхо залезет?! В конце концов я понял, что должен сказать откровенную неправду, а это было очень тяжело. Но как я могу отказать другу, который подарил мне золотую рыбу? Я отправился к деду, оторвал его от работы и попросил хлеба с маслом. Дед что-то сердито пробурчал и щедро намазал маслом ломоть, откромсанный от целого каравая. Я посидел на краю верстака, помусолил отломанную корочку и, улучив момент, удрал. Эрнест ел за обе щеки, заметив, впрочем, что я мог бы принести и чего-нибудь послаще. На меня нашло озарение — в сенях у бабушки стоят банки с вареньем, земляничное, из красной и черной смородины. Забраться туда и принести Эрнесту полную пригоршню нетрудно. Немножко накапал на пол — но это ничего, зато Эрнест не скупился на похвалу. — Я вижу, ты парень хват, — признал он. Гордость вознесла меня на самый шпиль высоченной башни. Но новое требование Эрнеста изрядно снизило: — А теперь чего-нибудь попить! Вот этого я уже не мог. Был чайник, рафинад в сахарнице на полке, но как туда добраться, как налить в чашку? А если еще дед спросит, почему я убежал с бутербродом?.. Я упирался — он же может зачерпнуть картузом воды из Гауи, сколько раз так делал. Я принесу еще целую горсть варенья. И, чтобы Эрнест не успел возразить, побежал за ним; я порядком закапал полку и пол, и все напрасно, потому что Эрнест отказался принять мое угощение. Он уже не считал меня хватом, я был уже тютей, маменькиным сынком, трусом. И эти уничижительные слова причиняли мне боль, сознаюсь, что я действительно боялся деда! Перед Эрнестом мне было только стыдно. Я отошел и закинул удочку в Гаую. Эрнест помешал мне в этом. Ему пришлось пить воду из Гауи, поэтому он не оставлял свои насмешки — даже моя удочка вызывала у него презрение: — Удилище из ольхи, леска нитяная, а крючок — будто кита ловить. Я робко оправдывался. Все-таки вытаскиваю иной раз лещика, Жулик благодарно урчит, а бабушка даже сварила заливное, которое из-за костей не очень мне понравилось. Вместо большого крючка я бы мог взять из дедушкиного комода маленький вороненый крючок — «из коробочки, где деньги, там есть серебряная монета, двухлатовик». Эрнест допустил, что я могу быть прав. А ради этой правоты я мог бы притащить ему этот двухлатовик на конфеты. Дружеское признание вновь вознесло меня на вершину — именно дружеское, потому что Эрнест сам назвал себя другом. Все легче легкого: дедушка, занятый работой, не обратит на меня внимания; я проскользну через мастерскую, комод в углу комнаты, я встану на стул и бесшумно приберу монету.
 На самом деле все прошло не так гладко: дедушка тут же меня заметил, хотя ничего не сказал, но строго посмотрел, будто видит меня насквозь. Для пущей надежности я прикрыл дверь в комнату. Да какая там комната — часть клети, которую рыболовецкое общество сдавало столяру под мастерскую и жилье, самодельный дощатый «буфет» разделял помещение на две части. Тоненькая стенка звуков не скрадывала, одно, что от глаз скрывала. Я походил возле комода, прислушиваясь к тому, как дед работает. Неуверенность, стыд, сердце стучит… Тук-тук… Вдруг дед затих, а в моей груди застучало еще сильнее. Я подтолкнул стул, влез и, зажав двухлатовик в кулаке, вылетел мимо деда на улицу. Эрнест всячески расхваливал меня, но это не радовало сердце, ну ничуть.
Вечером, когда с работы явилась бабушка, а с нею Айна, все мои прегрешения были обнародованы. Я даже не трепыхался и не отпирался — справедливость не позволяла. И если пытался какую-то мелочь использовать в свое оправдание, на помощь бабушке спешила Айна. Варенье тут же превратилось в огромную навозную кучу, а двухлатовик в гору серебра, которые тяжко легли на мою совесть. Бабушка была не столько сердита, сколько изумлена. Она спросила, много ли конфет я получил от Эрнеста.
— Насыпал мне горсть леденцов, — сказал я.
— За два-то лата?
— У него же столько друзей! — счел я своим долгом заступиться за Эрнеста.
Ах, детская душа — с одинаковой легкостью доступна она и хорошему и дурному!
На самом деле все прошло не так гладко: дедушка тут же меня заметил, хотя ничего не сказал, но строго посмотрел, будто видит меня насквозь. Для пущей надежности я прикрыл дверь в комнату. Да какая там комната — часть клети, которую рыболовецкое общество сдавало столяру под мастерскую и жилье, самодельный дощатый «буфет» разделял помещение на две части. Тоненькая стенка звуков не скрадывала, одно, что от глаз скрывала. Я походил возле комода, прислушиваясь к тому, как дед работает. Неуверенность, стыд, сердце стучит… Тук-тук… Вдруг дед затих, а в моей груди застучало еще сильнее. Я подтолкнул стул, влез и, зажав двухлатовик в кулаке, вылетел мимо деда на улицу. Эрнест всячески расхваливал меня, но это не радовало сердце, ну ничуть.
Вечером, когда с работы явилась бабушка, а с нею Айна, все мои прегрешения были обнародованы. Я даже не трепыхался и не отпирался — справедливость не позволяла. И если пытался какую-то мелочь использовать в свое оправдание, на помощь бабушке спешила Айна. Варенье тут же превратилось в огромную навозную кучу, а двухлатовик в гору серебра, которые тяжко легли на мою совесть. Бабушка была не столько сердита, сколько изумлена. Она спросила, много ли конфет я получил от Эрнеста.
— Насыпал мне горсть леденцов, — сказал я.
— За два-то лата?
— У него же столько друзей! — счел я своим долгом заступиться за Эрнеста.
Ах, детская душа — с одинаковой легкостью доступна она и хорошему и дурному!
Поздний зимний вечер. Мы с Айгаром покинули нашу общую кровать и перебрались в помещение старшеклассников. Здесь в углу у печки поставили свои раскладные кровати Эрнест и еще несколько мальчишек. Айгар близко сошелся с Эрнестом, я же, вечный одиночка, все эти месяцы в школе даже словом с ним не обмолвился. Вот и сейчас никакого разговора нет — слово одному Эрнесту. Я знаю уже много книг, но книги про Руламана не видал. В школьной библиотеке такой нет. А вот Эрнест читал и сейчас пересказывает ее. Он умеет живописать словом — ярко, волнующе, с наигрышем, я вот так никогда не смогу! Пещерный лев! Зверь рычит и крушит скалы, во тьме пещеры горят два глаза, ярче керосиновой лампы, лапы как чугунные молоты, когти будто зубья от бороны, только кривые, острые, как нож, грива косматая, кожа такая толстая и крепкая, что кремневые копья не могут ее проткнуть. Только смелостью можно одолеть такого зверя. Пещерный медведь! Одним рывком он пригибает дерево к земле, охотник сваливается кувырком. Бьет дубиной, но зверь только отмахивается, а потом как даст тебе по загривку… но охотник ловко отскакивает, а его товарищ всаживает медведю в бок копье. Борьба против исполинского медведя — ум, ловкость, мужество человека. Вновь скалы оглашают рев и боевые возгласы, сосны дрожат от страха, кремневые топоры высекают искры, ударясь о крепкий череп; толстые сучья ломаются, как хворостины, — наши предки яростно отстаивают свое право на жизнь. Они убивают, чтобы есть медвежье мясо, чтобы жить; а могучее животное борется, чтобы устоять против назойливой двуногой бестии. Медвежье мясо, медвежья кровь, медвежья шкура необходимы, чтобы человеческий род мог перенести суровый климат, обледенение, болезни, волков. Медвежье мясо — хлеб первобытного человека. Гул яростной борьбы докатился сквозь века до песчаных холмов Гауи, заставив дребезжать стекла в окнах и железо на церковной крыше… Как бы не потревожил покойников на прицерковном холме! Но борьба уже решена — человек умнее, безжалостнее, изворотливее, свирепее любого зверя, даже мамонта. Тысячелетия склонились перед ним, признав его победу, — нет такого существа, которое не поражали бы кремневое копье, стальной меч, огнестрельное оружие… Эрнест все это рассказывал или я сам представлял? Поди вспомни это теперь, поди разберись! Эрнест в школе был «дурной малый», как говорили мы, или «трудновоспитуемый» на языке педагогов. Но с того вечера я вновь вспомнил о давней «дружбе». И вот как-то он организовал строительство снежной крепости в огромном сугробе, высившемся против школьных дверей; в то время говорили проще: Эрнест взял лопату и, воткнув ее в снег, позвал остальных на помощь. И остальные катали огромные комья, а из них возводили толстенные стены фортеции. Потом имела место снежная битва. После четырех лет в Царникаве мы вернулись в Ригу. Паюпов Эрнест остался там и совсем улетучился из моей памяти. Но вот как-то нас навестила Хильда, рассказала о том о сем и наконец помянула и Эрнеста. Такой стройный, видный парень был, когда конфирмация в Царникавской церкви проходила, даже интересный собой, и не подумаешь, что озорным мальчишкой был. Какое-то время пожил в Риге, вроде бы хотел вернуться в Царникаву, и вдруг… Среди бела дня Эрнест бросился под проходящий трамвай. Тяжело изуродованный, он в больнице на минуту пришел в себя и сказал, что в смерти своей никого не винит, просто разочаровался в жизни, не получил от нее ничего ожидаемого. Я уже не слышал, что говорит Хильда, что моя мать и сестра, — ушел в себя, перескочил через годы и километры и вернулся на берега Гауи. Там начинался мир. Старица — заросли ивы, заросли аира, заросли водорослей. Острая трава, серебристо-серые широкие листья. Вода, песок, время вновь струились сквозь мои пальцы. Возвращение всего бывшего — из довременья, когда меня еще не было, к вечности, когда меня уже не будет. Золоченой громовой стрелой упал я меж двух берегов — бывшим и сущим. Я сущий: миг, когда вспышка моего «я» открыла мир — мир красоты, мир горести и радости, влекущий, но никогда не достижимый мир, — открыла так, что захватило дух от могучего ощущения жизни, так, что бурлила кровь, щемила и пылала душа. Один миг, краткий-краткий миг… И тьма поглотила оба берега, и течение времени ушло сквозь мои пальцы — они сжались в кулак, но не смогли ни удержать, ни захватить ничего. Одну только каплю из источника вечности, одну-единственную… Чайка пролетела над разливом Гауи, жалобно и резко вскрикнула и вернулась к морю вечности. Чернели ягоды черемухи, краснела смородина в Курпниеккакте, во рту у меня горечь — горечь жизни, горечь познания, горечь неутолимой жажды.
И снова я гощу в Заколье. Вот я поздоровался со всеми родными и знакомыми, обежал Курпниеккакт; проскользнул мимо деда в комнату и прикрыл дверь — двухлатовик в комоде я уже не искал, даже гнал от себя это позорное воспоминание. Я ищу книги. В комнате нет особенного порядка, но беспорядок этот какой-то приятный — и не знаешь, что таится в кавардаке на столе, что на стульях, что под материей на швейной машине. Я поднимаю что-то, ворошу, и в руки мне падает роман из жизни короля вальсов Иоганна Штрауса. Нахожу книги Кнута Гамсуна, обнаруживаются Декобра, Локк, Уэдсли — авторы, которых любили широкие круги читателей и с выгодой для себя выпускали издатели; нашелся Мопассан под кучей двадцатисантимовых брошюр — эти бесконечные продолжения романов именовали «лубочной литературой», но читали с увлечением. Наконец, нашелся Андрей Упит, Уэллс, Достоевский, Дюма, Эдгар Уоллес и Аугуст Межсет. Книг в комнате было немного, на первый взгляд можно даже подумать, что у живущих здесь людей единственное чтиво — это юмористический «Календарь Уленшпигеля». Но я уже сказал, что надо было искать, и в Библии ведь сказано: «ищите и обрящете». Каждый раз, когда я принимался за поиски, обнаруживалось еще полдюжины книг, уже других, и так постепенно я прочитал в этой комнате очень много книг и толстые связки иллюстрированного журнала «Атпута». Читал я при дневном свете. Вечером, когда ранние зимние сумерки мягкой поступью прокрадывались в комнату и бабушка растапливала плиту, я устраивался на ящике с инструментами подле дедушкиного верстака. С приятным чувством взирал я, как разогревается жареная гусятина с кислой капустой на ужин. Электричество там тогда еще не горело, все отдавались тому состоянию, которое вызывала сумеречная усталость, запах тушеной капусты, тепло. За окном смутно виделся утоптанный двор, боковое окно возле комода открывало вид на заваленную сугробами старицу, на завалившийся мост. Ветер с налету ударялся в угол здания и взвизгивал. Он вечно рыскает среди снегов и льдов, а у нас здесь покойно, жалобы ветра только усиливают чувство уюта. Шкварчит жир. Бабушка говорит: — Приятно почитать. Такие славные, хорошие люди. Эти слова относятся к благородным, целомудренным и наделенным прочими добродетелями героям Вилиса Лациса: Карлису Зитару и его невесте Сармите. Бабушкины слова заставили меня вспомнить, что Хильда как-то обмолвилась: «Есть такая чудная штука «Так говорил Заратустра», написал ее один полоумный малый, который потом и вовсе с ума сошел. Попробовала читать, да не дочитала. Накручено бог знает что. Про какого-то сверхчеловека… Ницше, так вроде его зовут». Ого, вот это уже для меня. Я испытываю большую симпатию к полоумным, которые пишут и вовсе безумные книги. Обязательно надо раздобыть ее. И я раздобываю — сначала материну читательскую карточку, потому что в детской библиотеке Ницше искать бесполезно. Но библиотекарь — очень вежливый человек — объяснил, что на родительскую карточку можно выдавать только научные книги. Я настаивал на том, что философия — это же наука. Библиотекарь сказал: «Ницше и наука, хм…» Он задумчиво посмотрел, как я переминаюсь по ту сторону стойки: тщедушный двенадцатилетний мальчишка, узкие плечи, расстроенное лицо. После довольно продолжительного молчания библиотекарь вновь сказал: «Скажи матери, пусть придет сама». — «Она… не придет…» — отвечал я таким голосом, словно на горле у меня уже затянулась веревка. В глазах библиотекаря мелькнула искорка юмора, ни слова не сказав больше, он ушел и принес «Заратустру». Как-то я читал «Садовника» Рабиндраната Тагора — на берегу старицы, под цветущей черемухой. Странная книга, где ничего не происходит, нет ни войны, ни героев, нет стихов, а звучит как стихи. Слова Заратустры напоминали молнии, которые глубокой ночью вырывались из угольно-черных туч. Но бабушке говорить об этом нет смысла. И Хильда считает, что зря только спорить, Я знаю ее отношение к Лацису — сдержанно пожимает плечами, что означает: «Ничего особенного, читать можно». Ей по душе «Возвышенная песнь», «Сумасшедший профессор», «Кошачья тропа» Зудермана, но особенно «Возвышенная песнь». Для меня эта «Возвышенная песнь» что-то вымученное, вообще романы Зудермана кажутся надуманными, скучными, глупыми. Я не скрываю это от Хильды, и она прямо говорит: «Ты еще мал и глуп, чтобы понять глубину Зудермана!» Еще она говорит, что, считая, от зазнайства, других дураками, я только выказываю свою ограниченность. Вот и о романах Лациса мы не можем договориться. Я читаю их охотно, им присуще особое волшебство, яркие события, все как-то очень знакомо, легко схватывается. Это была пора необычайной славы Вилиса Лациса; такой популярностью ни до, ни после того не пользовался уже ни один латышский писатель. Читали его все: даже те, кто не признавал иного чтения, кроме календаря и репортерской хроники, даже те, кто вообще ничего не читает, и те, кто ставил в упрек Лацису упрощенную, однотонную психологию его героев — разумеется, несправедливо, так как ни одного писателя нельзя мерить на другой аршин; Вальтер Скотт, например, не Достоевский, и глупо было бы требовать, чтобы Жюль Верн изображал своих героев так, как это делает, скажем, Мопассан или Аугуст Стриндберг. Лацис был и остается Лацисом, и у него была своя сила и свои слабости, как у любого художника слова, даже у тех, кого именуют величайшими умами человечества. Бабушка: «Лацис пишет так понятно, все говорит ясно и просто, не надо голову ломать, что там, а что тут». Странно — что у меня за недуг ковыряться в вещах и явлениях, которые в первый момент, на первый взгляд кажутся очень простыми, очень ясными, несомненными, неусложненными? Почему, почему? Может быть, болезненное стремление понять превратно, усложнить, сделать неясным? Может быть, догадка, что ясное, несомненное бывает только снаружи — приглаженная поверхность, ободранная, выструганная, отполированная самой жизнью поверхность, в то время как в глубинах открывается неизведанный, таинственный мир в себе. «Ройте глубже!» Царникава. Школа. Я сижу на длинной парте, решаю заданный столбик. Скучно, ужас до чего скучно. Такая лень, что просто рукой не шевельнуть.
5 + 5=10 6 + 5 = 5 + 6=11 6 + 6 = 5 + 7=12 6 + 7 = 5 + 8=13 6 + 8 = 5+9= 6+9=
Зачем надо писать эти глупости, если я могу все сказать так? Скучно, смертельно скучно. Эйдис рядом со мной старательно пишет, все считает, считает, даже взопрел. Я не пишу, я только держу перо, а мысленно уношусь куда-то. Какого шута возиться с цифрами, станет ли заведующий дотошно проверять, а может, и вообще не станет проверять — не первый раз удачно сходит с рук, не первый раз попадаюсь и получаю за это выговор. Вздуть тебя надо! Эйдис потеет. И чего он старается? Странно, странно. Я пересекаю покрытую льдом Гаую, бреду по курпниеккактским сугробам, по булыжным рижским улицам, вспоминаю ледоход на Даугаве, нескольковесен назад — мы втроем, тогда еще была Мирдза, и еще тогда… А Эйдис все считает, так что ото лба пар валит, пишет, так что перо скрипит. Неужели он не хочет даже в воображении убежать отсюда, далеко-далеко? О чем он думает и думает ли он? Неужели только о цифрах? Странно, вот он рядом со мной, а как будто за толстым стеклом. Стекло хоть и прозрачное, будто слой воды в Гауе, а все равно искажает изображение. А другие? Я ухожу от них, иду по мосту через Гаую, они здесь, и я здесь и все же не здесь. Непонятно, страшно! Невольно я поднимаю руку, хватаю Эйдиса за вихор, тот от неожиданности злится: — Что ты хватаешься? Считай давай, а то опять будет взбучка… Я сконфуженно отдергиваю руку. Эйдис здесь, вот он, рядом, но стекло как-то преломляет не так. Я один в какой-то стеклянной клетке. На перемене я вываливаю ребятам все, что вообразил себе во время урока арифметики. Первый и последний раз, потому что их ответы потрясли меня. Юлис: — От безделья черт те что мелет! Эйдис: — Если ты еще раз дернешь меня за волосы… Майгонис, вытаращив глаза: — Не пойму я, про что ты. Сын заведующего Айгар, набивавшийся мне в друзья, тоже стал было что-то излагать; к сожалению, я не понял его, а он не понимал меня. Мы легко объяснялись во время игр, дурачась, договариваясь по разным пустякам, но относительно «мира сего» никогда и никак. Майгонис многозначительно крутил пальцем у виска, я замолк, сознавая, что замолкну навсегда. Почему они такие далекие, каков их мир? И каковы они сами? То, что я вижу, то может таиться; в них самих есть что-то затаенное, чего никогда и не увидишь. Царникава. Конюшенный дом. Мои босые ноги шлепают по утоптанной тропинке. «Жми, жми, Янка!» Я — бегун Далинь, я обгоняю Попа, Шваба, Валенте, сейчас я порву финишную ленту, установив новый мировой рекорд. «Жми, Янка! Жми!» Публика орет, я ее кумир, чемпион. «Жми, Янка! Жми!» И я рву ленточку, побиваю рекорд, получаю лавровый венок и серебряный кубок. Победитель. Взобравшись на верхушку клена, я горделиво оглядываю мир — мир, видимый отсюда. Он полон красок, пьянящего аромата, звуков… людей нет. Где-то косарь точит косу — скрежещущий звук, неприятный звук. Человека нет. Песня — протяжная, заунывная песня. Я знаю, там два строителя железной дороги, два латгальца, они обняли друг друга за плечи, они выпили и в обнимку идут и поют. Они близки друг другу, они понимают друг друга, их единит песня. И я, и я с ними. Песня кончается, они удивленно смотрят друг на друга — смотрят, как сквозь прозрачную непреодолимую стену. Человек и человек. Стихло и ликование толпы, я один, совсем один. Царникава. Заколье. Свищет ветер, щиплет мороз. Минога кишит в больших деревянных чанах. Старый Крустынь растапливает печь, скоро начнется обжарка. Женщины раскладывают мучениц на решетках, я сую руку в чан, выдергиваю — к моей ладони присосались сразу несколько этих необычайных змеевидных рыб. Люди так и снуют — первый большой осенний улов. Старший рабочий Берзинь делает важное лицо, повышает свой скрипучий старушечий голос, его дочка Расма бегает по обжарочной. Расма — озорной, непослушный, жизнерадостный ребенок. Первый большой осенний улов. Я уже слишком вырос, чтобы играть с Расмой, я смотрю на обвислые усы Берзиня. Что он за человек? Этим летом я пас его коров — так же, как в свое время Эрнест. Он не привез в Ригу обещанную картошку. Хильда сказала: «И никогда не привезет» — и не ошиблась. Что он за человек? Можно ли это полностью когда-либо понять? Так далеки человек от человека — можно видеть наружность, а все остальное даже не почувствовать, разве что угадать. Берзинева замусоленная вязаная фуфайка — и генеральское черное тонкого сукна пальто с котелком. Генерал идет по двору, я здороваюсь, он приподнимает котелок. Наверное, припоминает: это сын той вдовы, что снимает у меня чердак в Конюшенном доме. У нее было трое детей, старшая дочь умерла, с младшими она вернулась в Ригу. Как просто. Наверное, именно так генерал и подумал обо мне, и это значило не больше, чем промелькнувшая в его голове мысль о верблюде в Аравийской пустыне. Не больше. У генерала своих забот хватает. Покойная жена оставила ему кучу долгов, а чахоточная дочь делает все новые и новые. Он экс-министр, отставной генерал, видное лицо; он встречается со столь же видными лицами, у него не остается времени на мелюзгу. Но и будь у него время и желание и начни он говорить про то, что у него внутри, а я про то, что у меня внутри, мы все равно остались бы чужими друг для друга, хотя стояли бы друг против друга. Пространство разделяет нас, словно слона на берегу Замбези от верблюда в Аравийской пустыне. Книга, литература — единственное место, где человек преодолел барьер, нашел себя, нашел других… думает найти. Сменивший Жулика Микус, устроившись на свободном стуле, мурлычет на полную мочь. Дедушка раскуривает папиросу и начинает обстреливать спичками кота. Бабушка широко улыбается: «Ишь ты, как дед тебя обижает!» Некоторые спички падают в сухие стружки, никто из-за этого не волнуется. Сумерки становятся все гуще, все темнее, скоро надо будет зажигать огонь. Мы не торопимся с этим, точно боясь расстаться с уютным вечерним мигом. Я гляжу, как огненные саламандры кувыркаются в сосновых поленьях, думаю, какая странная вещь искусство. Оно способно вознести тебя на крыльях, унести в просторы, чтобы показать то, чего бы ты не увидел никогда; оно может представить тебе чудом самое знакомое, то, что под носом, представить невиданные черты и душевные движения, стоит только это помещение с закопченными стенами озарить художническому духу.
Четыре моих детских года прошли на берегах Гауи. Это были прекрасные годы, удивительно прекрасные. Но были они и суровыми, было много такого, что оставило глубокие шрамы в детской душе. Об этом не хочется вспоминать, не хочется рассказывать; светлое брезжит все ярче за вереницею лет, темное, точно смущаясь солнца, — уходит в какие-то глубины. Мне было девять лет, когда пришлось расстаться с Царникавой. Одновременно это было и прощанием с детством, с Фландрией, с Подолией. Будущим летом меня уже ожидали трудовые обязанности — предстояло пастушить. Я еще не сознавал толком, что это означает, но предчувствовал, что в жизни моей начинается перемена. Мать с сестрой уже перебрались в Ригу. Я пока что был оставлен в Заколье. Чудесные дни. Никто меня дотошно не опекает, не допытывается, куда я иду, что делаю. Дедушка вообще мной не интересовался, а у бабушки не было времени надзирать за мной, что, впрочем, надоело мне с ранних лет… Я упивался этой свободой, точно предчувствуя, что мне сулят грядущие годы. Свобода… Как легко она дается, точно чей-то дар, и как трудно ее уберечь от лавины всевозможных обстоятельств. Иногда я заглядываю в контору к Хильде, разговариваю о книгах. Но так и не воспользовался ее любезным предложением: «Возьми почитать это, почитай то…» — я совсем не тоскую по возможности сидеть в четырех стенах. Гауя бьет мелкой волной о прибрежные сваи, мостик через старицу к Курпниеккакту выгибает верблюжью спину, на вымытом противоположном берегу толпятся полчища ольхи, свалившаяся жердь конского загона манит побродить по нему, покувыркаться, цветет протока и вся округа. Мир начинается на берегу Гауи. Как же я могу торчать в комнате с книжкой? Я брожу по лугу, кустарнику, песчаным дорогам и тихим, извилистым тропинкам. Солнце яркое, вода в Гауе теплая, земля мягкая. И так день за днем. По заколу я дохожу до середины Гауи, смотрю на серебряные хлопья, которые яркий дневной свет поминутно рассыпает по поверхности, — смотрю, смотрю и чувствую себя таким богатым, точно меня осыпают пятилатовиками. По одну сторону ряд серебристо-серых ив, совсем как красочные мазки на оставшихся от Мирдзы акварелях, по другую — сочная зелень ольшаника, а посередине вода и усеянный серебром воздух. Сейчас я дотянусь до источника — каплю, одну-единственную каплю из него! Вся вода Гауи для тебя… У меня кружится голова — и я чуть не падаю в реку. Я забиваюсь в джунгли Курпниеккакта, долго просиживаю у той протоки, где Эрнест когда-то достал золотую рыбу. Рыба была невкусной — золото есть нельзя, это я уже знал из сказания о царе Мидасе. А вдруг золотая рыба появится еще раз, просто так — вот высунула бы голову из воды и спросила, чего мне надо, ну тогда я попросил бы, чтобы она ответила — почему, как и куда?.. А чего еще я мог бы попросить? Я доходил до Саулкрастского шоссе. Черная, залитая солнцем битумная гладь дороги. Куда, куда? Ревя моторами, тарахтя и громыхая кузовами, мимо проносятся машины. Где кончается путь? Там, за Гауей, — на прицерковном склоне. А дорога осталась и после Мел-лаусиса, все мы остались и продолжаем путь. А после нас? Дорога останется, путь останется. Как далеко? Я гляжу, как из вод Гауи вырастают бетонные опоры железнодорожного моста — серые, грузные, как плечи исполина, который скоро примет на себя груз стальных переплетений. К противоположному берегу — два металлических, белых рельса. И дальше, дальше — точно струны вечного беспокойства, которые звучат в мире, в жизни, в людях. Я валюсь на спину в конском загоне и устремляю взгляд в серо-синюю вышину. Клочки мелких облачков, за одним чернеет еле видный крестик — он медленно движется вперед, до меня доносится далекая песня пропеллера. Вдруг замрет мотор, последний залп хлестнет в бесконечность, и останется только песчаный холмик на склоне холма. Сколько времени дается для полета, сколько минут? Долгие годы, краткие годы — что чувствую я, как мне кажется, и как судят те, чья спина уже согнулась, лицо изморщинилось, чьи волосы уже проредила старость? Жизнь, вся человеческая жизнь. Я выхожу к морю. За мною остаются раскаленные солнцем дюны, Гауя исчезает в море, я теряюсь среди морского берега. Во мне что-то кричит — испуганно, резко, мучительно. Может быть, это «что-то» вторит крикам чаек. Я чувствую себя таким крошечным, таким ничтожным, неопытным, ничего не знающим. Море спокойно лежит у моих ног — глубокое, щедрое, опасное. Может быть, сейчас оно взбунтуется, взобьет белую пену, поглотит меня. Мне дарован краткий миг, чтобы раздобыть что-то из глубинных сокровищ, — к сожалению, я не знаю, как их достигнуть, совсем как глупый цыпленок роюсь в высохших морских водорослях. Янтаря в них нет. Никогда я его не найду, всегда буду тосковать по красоте, по возможности раскрыть тайное… Последний вечер в Заколье. С высокого вымытого берега я закидываю в глубь Гауи свое жертвоприношение: старую отвертку. Больше у меня ничего нет, одна отвертка, но не думайте, что это какая-то ерунда. Это волшебная отвертка, иногда она становилась мечом героя, иногда огнестрельным оружием, иногда служила скипетром, а иногда ключом, которым можно было открыть Дворец Света. О, такой отвертки еще никогда, еще нигде, еще ни у кого на свете не было. Это было жертвоприношение, обещание, клятва. Я вновь и вновь буду возвращаться к Гауе. Здесь начинается мир. В полдневный зной, когда солнце рассекает самые глубокие глубины, я найду такой луч, свой луч, по которому можно войти вглубь, подниму утонувший ключ и открою… Что? Что там будет? Этого я не знал. Не было даже представления, что надо найти и что открыть, все какая-то тайна, к которой страшно прикоснуться. И все же я знал, что найду, встречу, не отступлю. Может быть, достигну, отгадаю, открою. Может быть…
1971 Внимание! Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения. После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий. Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Последние комментарии
4 часов 33 минут назад
4 часов 36 минут назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 15 часов назад
2 дней 17 часов назад
2 дней 18 часов назад