Очерки по истории дьявола XII—XX вв. [Робер Мюшембле] (epub) читать онлайн
Книга в формате epub! Изображения и текст могут не отображаться!
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Robert Muchembled
Une histoire du diable XIIe—XXe siècle
Editions du Seuil 2000
Робер Мюшембле
Очерки по истории дьявола XII—XX вв.
Новое Литературное Обозрение
Изданиt осуществлено в рамках программы«Пушкин»при поддержке Министерства иностранных дел Франции и посольства Франции в России
Ouvrage realise dans le cadre du programme d'aide à la publication Pouchkine avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères Français et de l’Ambassade de France en Russie
Мюшембле Робер. M 98 Очерки по истории дьявола: XII—XX вв. / Пер. с французского Е.В. Морозовой. — М: Новое литературное обозрение, 2005. — 584 с., ил.
Слова благодарности
Шестимесячное пребывание в удивительном городе Амстердаме, организованное Королевской академией наук и искусств Нидерландов, великодушно присудившей мне в 1997 г. премию Декарта-Гюйгенса, во многом способствовало скорейшему завершению работы над этой книгой. Моя глубокая признательность Университету Врейе в Амстердаме, любезно взявшему на себя хлопоты по моему размещению, а также моему другу Виллему Фрейхофу, замечательному и дотошному историку. Я также благодарен администрации института Варбурга в Лондоне за то, что предоставила мне доступ к замечательным коллекциям института.
Чувствуя себя обязанным многим людям, помогавшим мне в работе, и не имея возможности упомянуть здесь их всех, я по мере возможности стану делать это на протяжении книги. Мое искреннее восхищение теми, чьи идеи стали для меня основополагающими — к сожалению, их уже с нами нет, но мысли их живы по-прежнему: это Альберт-Мария Шмидт, Люсьен Февр, Робер Мандру, Фернан Бродель. Я с благодарностью вспоминаю своего давнего соратника Билла Монтера, и те беседы, которые мы с ним вели как в Европе, так и в Америке. В канадском городке Труа-Ривьер Рене Арди помог мне уточнить ряд вопросов, выходивших за рамки гуманитарных наук. Жан- Брюно Ренар, Вероник Кампьон-Венсан, Пьер Кристен стали моими проводниками в джунглях городских легенд и в мире комиксов, и я им за это чрезвычайно признателен. Моя благодарность коллегам-историкам, специалистам по современности из университета Пари-Норд: наши с ними дискуссии были чрезвычайно плодотворны. Живой интерес студентов к избранной мною теме исследования постоянно стимулировал желание как можно лучше разобраться в прошлом, чтобы иметь возможность понять настоящее. Споры, в которых участвовали Лоране Девийер, Сильви Стейнбер, Доротея Нольде, Флорике Эгмонт, Изабель Парези, Дэвид Эль Кенц, Паскаль Бастьен стали для меня большим подспорьем в работе, и я благодарен им за это.
Не могу не вспомнить и о том периоде, когда, будучи подростком, предпочитал мир нарисованных образов миру письменного слова. Именно в то время родилось и навсегда осталось со мной стремление перекинуть мост между устной народной культурой и культурой книжной. Поистине незаменимыми тиглями, где происходит переплавка обеих культур, являются комиксы и кино, и я с истинным удовольствием исследовал выходившие из этих тиглей формы. И дьявольский мэтр триллера Альфред Хичкок, и Стэнли Кубрик, и многие другие тоже заслуживают моей благодарности за свой вклад в тему исследования, которая, конечно же, далека от сухого академизма, ибо затрагивает тайну людских взаимоотношений и темную сторону человеческой личности.
Last but not least. (И последнее, но не менее важное.) Раз утолив жажду из огненного кубка знаний, поднесенного неугомонным бесом исследований, мы всегда будем стремиться делать это снова и снова...
Амстердам — Париж — Лилль,
Февраль 1998 — сентябрь 1999
ВВЕДЕНИЕ
Дьявол: тысячу лет вместе
Есть ли основания считать конец второго тысячелетия христианской эры началом исхода дьявола из Западной Европы? «Двадцатый век вполне может стать веком исчезновения или, по крайней мере, резкого падения популярности, а возможно и полной метаморфозы Ада», — писал Роже Кайуа еще в 1974 г.1 Похоже, для основной массы европейцев, в том числе и для католиков, как для тех, кто просто посещает церковь, так и для тех, кто соблюдает все религиозные обряды, Сатана, действительно, превратился в театральный аксессуар: большинство верующих оказывают предпочтение обновленному экуменическому христианству и доверяют больше решениям II Ватиканского собора (1962—1965) [Одним из основных решений II Ватиканского собора было решение об экуменизме.], чем грозным инвективам собора Тридентского (1545—1563). В середине XVI в. после разгрома сторонников Эразма, полагавших, что вера должна быть внутренним убеждением, а Бог не должен внушать страх, расчистилось место, где почти на четыре века воцарился образ грозного Бога, чей Промысел никому не был ведом. Являясь властелином демона, этот Бог предоставлял своему подчиненному полную свободу употреблять любые злокозненные силы для наказания грешников2. Пожалуй, мнение, высказанное Р. Кайуа на рубеже третьего тысячелетия, требует пересмотра. Впрочем, автор сам предостерегает читателя: «Гоните черта в дверь, он в окно влезет»3. В 1999 г. католическая Церковь разработала новый ритуал изгнания дьявола, увеличила количество священников, обученных экзорцизму (во Франции число их выросло с 15 до 120), и устами папы еще раз во всеуслышанье напомнила о реальности существования Лукавого. И мы видим, как, словно подтверждая правоту слов папы, на противоположном социально-культурном полюсе, и в частности, в таких странах, как Соединенные Штаты и Англия, по-прежнему процветают пышным цветом секты сатанистов4. Набравшись сил, дьявол возвращается.
Впрочем, выйдя на сцену около тысячи лет назад, он, в сущности, больше и не покидал ее. В Средние века он активно вторгся в повседневную жизнь европейцев и с тех пор, несмотря на все свои метаморфозы, присутствует в ней постоянно. Он стал неотъемлемой частью динамического развития Европейского континента, черной тенью, мелькающей между строк каждой страницы великой книги становления западной цивилизации, теоретиком которой является Норберт Элиас, хотя этот немецкий ученый никогда напрямую не задавался вопросом, как соотносится Зло с движением по пути Добра и Прогресса5. Однако такой вопрос неизбежен, ибо образ дьявола порожден не только Церковью. Он олицетворяет собой темную часть нашей культуры, выступает непосредственной антитезой порожденных ею великих идей, экспортируемых по всему миру, начиная со времен крестовых походов и до эпохи завоевания космического пространства. Не бывает медали без оборотной стороны: за любой прогресс надо платить. В Новом Завете дьявол, чье название означает «противоречащий», воплощает дух раздора, противостоящий всем тем религиозным, политическим и общественным силам, которые неуклонно стремились к объединению Старого Света. Нечистый органически включился в процесс изменений европейского универсума, стал полноправным участником эволюции, ведущей к установлению на земном шаре господства человека с его специфическим образом жизни, с присущей ему способностью обустраивать свою жизнь, порождать надежду и изобретать иные миры. Западный демон не сводим к простому мифу, будь то миф религиозный или миф, недавно освободившийся от церковного влияния, как во французском воображаемом XIX в. Но это не означает, что дьявол стал фигурой конкретной, приобрел достоверные очертания. Да простят меня теологи, чьим ремеслом является утверждение как раз обратного, историк, ставящий перед собой цель постичь как движущие, так и скрепляющие силы общества, вполне способен по достоинству оценить воздействие веры на общество, нисколько не нуждаясь для этого в подлинном существовании дьявола. Ибо для него вера в реальность дьявола является прежде всего фактором, мотивирующим как индивидуальные поступки, так, и коллективные установки; твердо уверенный том , что дьявол не существует, историк тем не менее обязан объяснить, почему те, кто верили в могущество демона, в XVII в. сжигали ведьм, и почему в наши дни сатанисты совершают свои обряды во славу Люцифера.
Воображаемое является таким же объектом изучения, как и поступки людей. Ведь речь идет не об окутавшем общество тумане непостижимого, возникшего по причине непознаваемости Божественного промысла, и не о коллективном бессознательном Юнга, а о вполне реальном коллективном феномене, сформированном многочисленными общественными каналами распространения культуры. Феномен этот подобен скрытому под оболочкой вещей механизму, обладающему огромным потенциалом, способным создавать экспликативные системы и мотивировать как индивидуальные действия, так и групповое поведение. Каждый член общества является хранителем частички воображаемого и законов, им управляющих, позволяющих понимать, что происходит с индивидом, как его поступки соотносятся с поступками других индивидов, общественный смысл этих поступков; понятие «общественный» подчеркивает единение, являющееся результатом воздействия воображаемого. Одной из составляющих мира воображаемого выступает молва, участие которой в культурном процессе заметно только потому, что она распространяется при помощи скрытых механизмов культурного воздействия. Яркое, жизнеспособное коллективное воображаемое не обязательно однородно, так как оно формируется в зависимости от бесконечного множества подразделений: деления социального и возрастного, по половой принадлежности, по времени и по месту. Сложившееся на общих тождественных основах в рамках определенной национальной культуры воображаемое, к примеру французское, будет отличаться от воображаемого американцев. Национальное воображаемое также неоднородно: оно изменяется в соответствии со специфическими потребностями, отличающими, например, молодежь городских предместий от других групп их ровесников. Формы культуры молодых французов отличаются от форм культуры старшего поколения, внутри которого тоже существуют свои культурные различия на уровне воображаемого. Понаблюдав в течение определенного временного отрезка поток цивилизации, можно увидеть, сколь разнообразны ручейки, этот поток питающие. Мы слишком часто забываем о важности жизненного опыта каждого поколения, этого своеобразного вещества, связующего между собой членов одного поколения и формирующего их ощущение обособленности от других поколений; этот же опыт порождает и общие представления, характеризующие на разных временных этапах те или иные национальные особенности. Гибкую систему коллективного воображаемого вполне можно представить как невидимую систему водоснабжения, по которой вода поступает во многие пункты назначения, расположенные в едином пространстве; однако в каждый пункт вода поступает в неодинаковом количестве и разного качества, ибо прежде чем попасть в него, она проходит через множество фильтров и подстанций. При этом не следует списывать со счетов и контркультуру, которая одно и то же послание может либо отвергнуть, либо направить в иное русло.
Чтобы разобраться в столь сложной системе, необходимо изучить всевозможные ее проявления. Документы, используемые историками, исследующими воображаемое, выходят далеко за рамки классических рукописных источников, традиционно привлекаемых учеными. Изучение культуры побуждает не ограничивать круг свидетельств «законной» продукцией, высшими достижениями цивилизации, как, например, основными видами искусства или литературными произведениями, созданными в русле великой традиции. Ведь существует еще малая традиция. Значимо все, что может способствовать передаче информации, начиная с седьмого вида искусства (кино) до детских книжек с картинками; в информативный ряд входит и чтиво в бумажных обложках, и телесериалы, и реклама, и даже такие обычаи городских группировок, как пирсинг или ношение знаковой одежды. Ничем не примечательный полицейский боевик дает нам информацию об эволюции нравов ничуть не меньшую, чем шедевры Мурнау, Дрейера или Ингмара Бергмана. Ибо в том тигле, где из сплава традиций рождается цивилизация, любой компонент имеет значение. Когда мы хотим объяснить, как построено все здание целиком, от погреба до чердака, пренебрегать нельзя ничем, а уж тем более нельзя ничего отбрасывать. Поэтому читателю не следует удивляться, когда в этой книге ему напомнят не только о писателях-классиках, таких, как, например, Виктор Гюго, но и о епископе Жане-Пьере Камю, разностороннем, однако давно забытом авторе множества замечательных «трагических историй», расскажут о волшебных киносказках и фильмах Альфреда Хичкока, напомнят о катехизисе для детей, познакомят с авторами комиксов, приведут в пример коммерческую рекламу и слухи, циркулирующие в джунглях наших больших городов. Культура сродни роскошной ткани, из которой шьются платья разных фасонов, и вот эти-то разные платья и следует рассматривать. Ибо любой взрослый любитель классической литературы и музыки, поклонник высокого искусства, в юности вполне мог читать комиксы, слушать heavy- metal, запомнить несколько расхожих фраз из кино- или телефильмов, общаться с людьми прямо противоположными ему по интересам, есть продукты, от которых, если верить рекламе, получаешь «чертовское наслаждение», совершать не слишком благовидные поступки, а потом умолять своего ангела-хранителя вытащить его из передряги... Отказаться от рассмотрения всей совокупности фактов цивилизации означало бы намеренно закрыть глаза на функционирование общества, пренебречь существенными частностями, порожденными генеральным движением истории и действующими несмотря на свое скрытое пребывание в недрах общества. Бытие, как и культура, складывается из смысловых узелков, аккумулирующих и одновременно перераспределяющих опыт прошлых веков. Бесспорно, изучение истории не только важно, но и увлекательно, знание истории порождает чувство непрерывности времени, ощущаемое прежде всего в различиях, формируемых каждой новой эпохой.
Сатане можно дать философское определение, можно отождествить его с символическим Злом, с которым так или иначе сталкиваются все смертные, однако на этом пути мы вряд ли обретем ключ для всеобъемлющего истолкования его образа. Таким путем следуют мыслители, ищущие доказательства глубинного единства человеческой натуры, неизменного всегда и везде. Гуманитарные науки, нередко именуемые дочерьми дьявола, в данном вопросе не могут довольствоваться онтологическим подходом к предмету изучения, ибо сами они являются порождением решающего перелома, в результате которого в XVIII и XIX вв. люди Запада, отрекшись от_рогатого демона с раздвоенным копытом, занялись изучением глубин человеческого сознания и поисками_бессознательного, выдвинув на первый план вопрос об отношении личности с обществом, частью которого эта личность является. Современные исследователи, сознавая невозможность полного уничтожения паутины предрассудков и верований, опутывающей как их самих, так и их современников, выдвинули постулат об относительности социокультурной константы изучаемых явлений. Его нельзя отождествлять с утверждением кардинала Николая Кузанского, в XV в. заявившего о том, что в конце «жизни, наполненной тяжким трудом», ученый вынужден признавать свое невежество: это «ученое невежество» приводит к осознанию истинности веры и убежденности в неисповедимости замыслов Господа. Нельзя ввести в жесткое русло и претендующие на исключительность великие системы познания, будь то обязательная в прошлом религия, возведенный на уровень веры лаицизм 1, равно как и позитивизм, «строго» научный подход поклонников прогресса, или милленаризм 2 с экологическим уклоном: все эти формы монополизации мысли отличаются крайней нетерпимостью по отношению к своим противникам, с легкостью наделяя их демоническими характеристиками. Соединить свойственное Декарту сомнение с поиском — по совету Марка Блока — "сути человеческой» и стремление обнаружить тайные связи, скрепляющие сложные механизмы, каковыми являются человеческие сообщества — вот та простая и вместе с тем перспективная методика, которой руководствовался автор,цастоящей книги. Не выносить резких суждений и не участвовать в дебатах, выходящих за рамки поставленных задач и касающихся исключительно вопросов веры. Не дать увлечь себя на зыбкую почву конфессионализма и добиваться объективности, прекрасно сознавая, что никто не в состоянии быть абсолютно объективным. Сохраняя за собой право на выбор, который не может не быть субъективным, автор вместе с тем признает контроль со стороны тех, кто обучает познанию, но не намерен делать уступки воинствующим сторонникам всевозможных сект, для которых догма заменяет истину.
Книга эта является очерками по истории дьявола, одной из многочисленных попыток истолковать тему, вдохновившую уже немало исследователей6. Автор сознательно ограничил место действия Западом, а время — периодом от середины Средневековья до наших дней. У других культур другие демоны, и намерение охватить их все вряд ли можно было бы счесть серьезным, тем более, что нельзя соединить воедино явления, наделенные определенным смыслом только в недрах породившего их универсума. Одним из самых больших соблазнов, подстерегающих историка, является создание интеллектуального коллажа, основанного исключительно на ссылках на того или иного автора. Ибо на протяжении всей истории человечества даже между совершенно разными культурами можно найти нечто общее, по крайней мере на первый взгляд. Дьявольская тема особенно подходит для поверхностной трактовки. Тем более, что материал, в котором даже объективному исследователю нелегко найти путеводную нить, нередко искажается сознательно или же по причине необузданного воображения. Так, яростный антиклерикал и журналист Лео Таксиль в 1879 г. выступил с саморазоблачением, заявив, что долгое время морочил всем голову, выдавая себя за некую Диану Воган. Мемуары новоявленной писательницы-сатанистки вызвали смятение в католических кругах, и даже побудили благочестивую монахиню-кармелитку Терезу обратиться к ней с письмом. Диана Воган называла себя бывшей великой жрицей Палладиума, сатанинской секты, состоявшей, по ее утверждению, главным образом из евреев и франкмасонов. Раскаявшись, она решила разоблачить их заговор, созданный с целью завоевания мирового господства, и опубликовала свои признания в альманахе «Дьявол в XIX в.», изданном в 1893 г. доктором Батайлем. Но, как оказалось, и Палладиум, и сама Диана были чистым вымыслом! Ну как тут не вспомнить об известном египтологе, англичанке Маргарет Элис Мюррей, в 1921 г. выступившей в совершенно ином амплуа, а именно издав обширное исследование, посвященное языческому культу ведьм в Европе? По мнению ученого-египтолога, культ этот является отголоском древнего примитивного верования в рогатое божество, в честь которого устраивались подлинные шабаши. Несмотря на явно фантастические гипотезы, труд Мюррей, в 1957 г. переведенный на французский язык, на протяжении полувека пользовался мировым авторитетом среди специалистов, а недавно итальянский исследователь Карло Гинзбург продолжил затронутую ей тему. Идеи, изложенные Мюррей, продолжают оказывать влияние на секты сатанистов как в Англии, так и за ее пределами, их развивают в кинематографе и в комиксах, например в комиксе Дидье Комеса «Ласка» (1983)7.
Вступив на иную идеологическую почву, автор труда, посвященного дьяволу, не может не коснуться проблемы сверхъестественного, прекрасно понимая весь риск вызвать неудовольствие как тех, кто твердо верит в существование демона, так и тех, кто в его существовании сомневается. Поэтому сразу следует оговориться, что в настоящей работе вопрос о вере или сомнении не ставится вовсе, и автор не собирается занимать ни одну, ни другую позицию, во всяком случае, сознательно. Заинтересованный прежде всего в том, чтобы вписать явления в тот контекст, откуда они были извлечены, и с их помощью проследить эволюцию культурных и общественных процессов, он не намерен принимать чью- либо сторону или что-либо отрицать. Так, например, страдания Жана Мари Батиста Вьяннея, кюре из Арса, которого с 1823-го до 1859 г., то есть до самой смерти терзал злой дух по прозванию Грапен, убежденность кюре в существовании 7 миллионов демонов и в наличии у каждого человека собственного ангела-хранителя имеют значение прежде всего как свидетельство о той форме католицизма, которая была принята при жизни благочестивого священника. Не менее примечательным кажется мне и тот факт, что многие наши современники, подобно слушательнице-католичке, 13 марта 1999 г. участвовавшей в диалоге с устроителями передачи «Дьявол во всех его ипостасях» на протестантской волне Радио Нотр-Дам, усматривают в подобного рода утверждениях бесспорную истину. Для многих наших современников, причем не только в Соединенных Штатах, тема ангела-хранителя продолжает быть крайне актуальной. Об этом свидетельствуют расходящиеся огромными тиражами книги, статьи в популярных журналах и даже следующее на поводу у моды игровое кино, где Филиппу Нуаре предлагают роль покойника, который отнюдь не торопится на небо («Призрак с шофером», реж. Жерар Ури, 1996), а Жерару Депардье и Кристиану Клавье дают сыграть в фильме, где их героям приходится следовать дальновидным советам небесного покровителя, борющегося с фамильным демоном («Ангелы-хранители», реж. Жан-Мари Пуаре, 1995)8. Зрительский, равно как и читательский интерес ко всему, что увязано со сверхъестественным, объясняется имплицитной связью, установившейся в мире воображаемого современного человека с неким хранилищем образов и понятий, явившихся на свет в разные временные эпохи. Классическое представление об ужасах преисподней, смягченное в конце XIX в. благодаря катехизису в картинках, с начала 1960-х гг. стало и вовсе будничным и даже забавным, найдя свое отражение в комиксах: Милу, собака Тенте- на, в комиксе Эрже Тентен в Тибете, опубликованном в 1960 г., имеет и собственного ангела-хранителя, и собственного демона, и оба ужасно похожи на опекаемую ими собачку. С 1962-го по 1969 г. Жан Шакир создает для иллюстрированного издания Pilote рисованный комикс о приключениях Тракассена, героя, которого сопровождают ангел Серафен и демон Анжелюр. Постепенно тема ада окончательно исчерпывает себя в легких комедиях, где смерть на экране нисколько не выглядит трагически9. Разумеется, такое развитие темы существенно ослабляет дьявольский отпечаток, наложенный на нашу культуру, хотя и не уничтожает его полностью.
В настоящей книге делается попытка исследовать вполне определенный, обширный пласт западного воображаемого. Дьявол, в той форме, в какой его представляют себе чаще всего, не является единственной центральной его фигурой, ибо метаморфозы образа Зла в нашей культуре повествуют также и о бедах, настигающих людей в лоне человеческого сообщества. Тесно наложившись друг на друга, словно черепицы на крыше, история тела, история духа и история социальных связей сформировали ведущее направление, по которому развивается общество на протяжении второго тысячелетия от рождества Христова, подразделяющегося на Четыре больших хронологически последовательных периода. В первой главе настоящей книги рассказывается о том, как на протяжении нескольких веков, а именно с XII по XV в., Сатана, появившись на Западе, вышел на сцену и прочно на ней утвердился. Именно в это время теологическое понятие дьявола начало обретать вполне реальное воплощение, и прежде всего среди людей церкви и светских властителей, которым он является в облике наводящего ужас демона, причем демона книжников, бесконечно далекого от простонародных представлений, согласно которым черт необычайно похож на человека и также, как и человек, может быть одурачен и побежден. Тогда же были придуманы и постепенно получили распространение два парных мифа. которым было уготовано большое будущее: миф об ужасном сатанинском владыке, правящем огромной армией демонов в страшном аду, где горит огонь и пахнет серой; и миф о нечистом звере, притаившемся во чреве грешника; последний для многих наших современников по-прежнему сохраняет свою значимость. Три следующие главы посвящены главным образом XVI и XVII вв. При этом автор исходит не только из личных пристрастий, которые, разумеется, сыграли свою роль, но из объективных факторов: люди в то время были настолько сильно одержимы демоном, что зрелища сжигаемых на кострах колдунов превратились в явление практически повседневное. Загадка эта, в сущности, неразрешима: ведь европейцы и их собратья из американского городка Салем оказались единственными, кто когда-либо пытался таким способом систематически истреблять членов так называемой секты дьволопоклонников. Во второй главе изучается образ шабаша, ночного слета ведьм; в двух последующих главах сделана попытка подобрать ключ к решению проблемы с помощью исследования терминов, необходимых для понимания восприятия дьявольского тела, и анализа сатанинской литературы, породившей мощную трагическую культуру. Ибо люди эпохи великих географических открытий, эпохи великих интеллектуальных и художественных достижений, эпохи ортодоксального правоверия и религиозных войн видели свое тело и душу совершенно иначе, чем видим их мы. Они завещали нам огромнейшее дьявольское наследие, бесконечное эпическое повествование о завоевании мира, всегда сопряженном с трагедией, с внутренним напряжением, что по-прежнему актуально для последних великих современных наследников этой культуры, а именно Соединенных Штатов. В отличие от них, Европа эпохи Просвещения стала эпохой сумерек дьявола, порой отступления рогатого Люцифера: об этом рассказывается в пятой главе. Процесс интериоризации Зла начался с изобретения фантастического, этой сложившейся в литературе и культуре манеры почтительного отношения к сверхъестественному, не требующей ни верить в его существовании, ни сомневаться в нем. XIX в. и большая часть века XX характеризуются ускорением общественного прогресса: в шестой главе автор старается проследить все мельчайшие метаморфозы внутреннего демона, или, иными словами, культурной продукции, созданной западным человеком, уверенно освобождающимся от страха перед Сатаной, но взамен все чаще внимающему призыву не доверять самому себе и своим демоническим и неосознанным стремлениям. Однако завершить книгу столь жесткой констатацией факта было бы слишком просто. Поэтому в седьмой главе автор вновь возвращается в XX в., рассматривая его с позиций нынешнего дьявольского воображаемого во всех его формах. Пустив в ход все имевшиеся в его распоряжении источники, он сделал всего лишь самое малое из того, что можно было бы сделать в этой инфернальной области. Кино, комиксы, реклама, городские сплетни дополняют сведения, полученные из классических источников, позволяя обнаружить дьявола в тех многочисленных тайниках, где он прячется. Завершается исследование, как и принято, выводом, подводящим итог сказанному выше: полноводная река западной культуры разделилась на два больших, четко отграниченных друг от друга рукава, которые, в свою очередь, имеют собственные, более мелкие, притоки. Одно направление представлено культурой Франции и в какой-то мере отличной от нее культурой Бельгии; в этом направлении страх подавляется посредством фантастического, всегда вызывающего неизменное любопытство, посредством юмора и даже включения черта в число радостей жизни. Здесь можно говорить о культуре фантасмагории в том смысле, в каком понимают этот феномен специалисты по французской литературе, а именно как о «способе, с помощью которого автор фантастического произведения заставляет разговаривать воображаемый галлюцинаторный образ, выводит его на свет и превращает для читателя в предмет соблазна, очарования и эстетического наслаждения»10. Коснувшись таким образом истоков фантазма, писатель, кинематографист, создатель рекламы, равно как и все остальные, кто так или иначе связан с подобного рода тематикой, становятся культурными посредниками, теми, кто приспосабливает прошлое к потребностям дня сегодняшнего и сберегает о нем живую память. Другое направление, представленное главным образом культурой Соединенных Штатов и отчасти Северной Европы, где, на взгляд автора, оно выражено в менее навязчивой форме, в значительной степени сохраняет родившийся в предшествующую половину тысячелетия и унаследованный от нее страх перед внутренним зверем, опасным и злокозненным, которого следует либо уничтожить, либо держать под неустанным контролем. Пытаясь примирить этот страх с современными реалиями, его всевозможными способами стремятся изгнать, с силой выталкивая его в область кинематографических и телевизионных образов, а с недавнего времени и в Интернет.
1 Caillois Roger. Métamorphoses de l’Enfer, Diogène, № 85, 1974, p. 70.
2 Христианство эпохи страха и ведовских костров подробно исследовано Жаном Делюмо, и в частности в работах: La Peur en Occident, XIV—XVIII siècle. Une Cité assiégée. Paris, Fayard, 1978 и Le Peche et la Peur. Paris, Fayard, 1983.
Рус. изд.: Делюмо Ж. Ужасы на Западе / Пер. Н. Епифанцевой. М., 1994 и Делюмо Ж. Грех и страх / Пер. И. Б. Иткина, Е.Э. Ляминой, Е.И. Лебедевой, А.Г. Пазельской. Екатеринбург, 2003.
3 Callois Roger. Op. cite, p. 84.
4 Подробнее об этом в гл. VII.
5 Elias Norbert La Dynamique de l’Occident. Paris, Calmann-Lévy, 1975. Того же автора: La civilisation des mœurs. Paris, Calmann-Lévy, 1973 и Elias Norbert. La Société de Cour. Paris, Calmann-Lévy, 1974.
Рус. изд.: Элиас Норберт. О процессе цивилизации. T. I, II / Пер. А.М. Руткевича. М.; СПб, 2001 и Элиас Норберт. Придворное общество / Пер. А.П. Кухтенкова, К.А. Левинсон, А.М. Перлова, Е.А. Трубниковой, А.К. Судакова. М., 2002.
См. также: Muchembled, Robert. La Société policée. Politique et politesse en France du XVIe au XXe siècle. Paris, Seuil, 1998.
6 Составить исчерпывающую библиографию вопроса практически невозможно. Библиография, помещенная в конце настоящей книги, содержит в основном труды, привлеченные автором в процессе ее написания. Особое место отводится работам, посвященным кинематографу, этому поистине неисчерпаемому источнику форм и оживших образов, соответствующих изменчивым основам наших верований.
7 Murrey Margaret. The Witch-Cult in Western Europe. Oxford: Oxford UP, 1921 (trad, française: Le Dieu des sorcières. Paris, Denoel, 1957); Ginzburg Carlo. Les Batailles nocturnes. Sorcellerie et rituals agraires en Frioul, XVI—XVII siècles. Lagrasse, Verdier, 1980 (Ire italienne 1966); Ginzburg Carlo. Le Sabbat des sorcières. Paris, Gallimard, 1992. См. также гл. VII.
8 Радио Нотр-Дам, протестантская волна, вела передачу «Дьявол во всех его ипостасях» в течение недели, с 13 по 18 марта 1999 г. (особая благодарность Паскалю Бастьену, который привлек мое внимание к этой передаче). См. также: Brasey Edouard. Enquête sur l’exixtence des anges rebelles. Paris, Philipacchi, 1995, рецензия в: Paris-Match, № 2415, 7 septembre, p. 3—6.
9 В гл. VII рассматриваются современные формы распространения образов, связанных с демоном.
10 Milner Max. La fantasmagorie. Essai sur l’optique fantastique. Paris, Puf, 1982, p. 253. Работа построена на идеях, выдвинутых Жаном-Бельменом Ноэлем: Noël Jean-Bellemin. «Notes sur le fantastique (textes de Théophile Gautier)». Littérature, № 8, décembre 1972, p. 3—23.
ГЛАВА I
Сатана выходит на сцену. XII—XV вв.
Люди всегда задавали себе вопрос о происхождения Зла и всегда пытались найти на него ответ. С точки зрения философии ответ зависит от взгляда на человеческую натуру и формулируется в зависимости от оптимистического или пессимистического настроя мыслителя, поэтому в различных философских теориях человек по отношению к ближнему своему предстает либо волком, либо агнцем. В задачу историка не входит вынесение моральных оценок, поэтому в своей работе он использует иные методы исследования. Для него цивилизованное общество является не скоплением определенным образом связанных между собой индивидов, а системой отношений, созданной для достижения одной или нескольких коллективных целей и предоставляющей средства для преодоления опасностей как естественного, так и искусственного характера, которые встретятся на пути следования к этим целям. Великие цивилизации, чьи звезды продолжительное время блистали на небосклоне истории, создавали обширные и прочные социальные связи. Каждый член сообщества был опутан частой сетью отношений, сотканной из взаимодействующих между собой знаменательных символов и конкретных практик, сплачивающих коллектив и с самой колыбели включающих индивида в число его членов, которым он и остается до самой могилы.
Таким образом, любое свидетельство, каким бы эфемерным оно ни казалось, является необходимым для понимания принципов организации, развития и существования интересующей нас цивилизации. Раздельное изучение различных пластов человеческого бытия препятствует историческому анализу. В нашем понимании цивилизация сродни скрытому соединению, связующему воедино все аспекты бытия участников человеческого универсума, в рамках которого находят свое место и искусство, и литература, и предметы материальной жизни, и дьявол. В каком бы направлении ни бросили мы клубок Ариадны, он все равно приведет в самое сердце цивилизованного человеческого общества. Изолируя религию от политики или экономику от ментальных представлений, мы рискуем исказить смысл изучаемых явлений. Любое общество должно рассматриваться как единое целое, со всеми его недостатками, и вряд ли мы поступим правильно, если откажемся от исследования темных его сторон.
В западной культуре Сатана во всем своем могуществе явился довольно поздно. “Разрозненные элементы демонического образа Издавна присутствовали в воображении людей, но лишь примерно к концу XII — началу XIII в. они стали занимать устойчивое место в изобразительном ряду и в религиозных практиках, из которых впоследствии развилось устрашающее вображаемое, которым станут одержимы люди в конце Средневековья. Шагнув далеко за рамки теологии и религии, этот феномен тесным образом связан с неотвратимым, хотя и болезненным процессом становления массовой культуры. Нестабильные составы, пребывавшие во взвешенном состоянии со времен Римской империи, заполнили сосуды европейской лаборатории, и началась выплавка главных отличий стремительно менявшейся Европы, следующей по пути создания языка собственных идентифицирующих символов, способного, несмотря на политическую и общественную раздробленность континента, на поистине вавилонское смешение языков и культур, постепенно утвердиться во всех его уголках. Изобретение совершенно оригинальной модели дьявола и ада чрезвычайно важно не только для религии. С появлением Лукавого возникает унифицирующее понятие, приемлемое и для папской, и для сильной королевской власти, и обе эти власти довольно быстро вступают в острую конкурентную борьбу за монополию на получаемые с нового изобретения выгоды. Система мышления, создающая торжествующий образ Сатаны, свидетельствует об огромной мощности жизненного потенциала Запада. С этой точки зрения - осень Средневековья является весной современности, ибо именно в это время происходит апробация новых понятий церковного и государственного обихода, из которых потом рождаются новые, неведомые прежде формы общественного контроля за поведением человека. Торжество дьявола, всеобщее ощущение макабра, не должны затмевать хаотичного появления зародышей того процесса, которому в будущем предстоит вывести Запад на мировую арену. В сущности, именно дьявол движет Европу вперед, ибо под его личиной скрывается та поистине чудодейственная движущая сила, которой предназначено сплавить воедино имперские амбиции, унаследованные от античного Рима, и силу христианской веры, определение которой было дано на Латеранском соборе 1215 г. Инициатива исходит от верхушки общества, религиозной и общественной элиты, пытающейся связать воедино многочисленные нити власти. Не демон правит балом, а люди, создавшие его образ; люди изобретают иной Запад, не такой, каким он был в прошлом, и с этой целью они формируют те черты культурного единства, укреплять которые предстоит векам грядущим.
Сатана и миф об изначальной битве
На протяжении первого тысячелетия христианства дьявол вел себя достаточно скромно. Им интересовались исключительно теологи и моралисты, в искусстве же ему не было места вовсе1, что наряду с прочими факторами свидетельствовало об отсутствии во всех слоях общества одержимости дьяволом. Бесовский лик не был замечен и в тех сферах, за которыми в политеистическом пантеоне простонародья исконно были закреплены определенные сверхъестественные существа. Часть этих существ постепенно растворились в потоке великой демонологии конца Средневековья, придав новые краски изменчивому, а зачастую и противоречивому образу владыки ада Люциферу. Сами теологи испытывали большие затруднения при унификации всевозможной дьявольщины, выбирая между наставлениями из Ветхого и Нового Завета и многочисленным восточным наследием на дьявольскую тему. В процессе создания теологической системы, способной противостоять языческим верованиям, гностикам или манихейцам, отцы Церкви вынуждены были дать единую оценку пестрым традициям служения дьяволу, изложенным в разнообразных текстах. Более того, им пришлось объединить историю змея с историей мятежника, тирана, похотливого искусителя и могущественного дракона. Еще недавно автор полагал, что в этой области христианство успешно заимствовало одну из наиболее важных нарративных моделей Ближнего Востока: космический миф об изначальной битве между богами, главной целью которой было завоевание власти над родом человеческим.
Версию, порожденную этим мифом, вкратце можно изложить следующим образом: некое божество, выступившее против власти Яхве, устанавливает на земле свое господство и правит там при помощи греха и смерти. Этот «бог века сего» (2 Кор., 4,4), как именует его святой Павел, терпит поражение от сына Христа, сына Создателя, во время самого загадочного эпизода христианской истории, а именно Распятия, где сочетаются одновременно и поражение, и победа. В сражении, завершиться которому суждено только в конце времен, Христос выполняет функцию потенциального освободителя человечества, ибо его противником par excellence выступает сам Сатана. Как отмечает Нейл Форсайт, элементы этого мифологического синтеза присутствуют в Новом Завете имплицитно, в довольно смутном и фрагментарном виде, что долгое время позволяло не только теологам, но и гуманистам XVI в. принижать или же вовсе игнорировать роль дьявола в системе христианского мышления2.
Блаженный Августин изящно трансформировал эту картину космического поединка в утверждение, что Бог позволил существовать Злу, дабы извлекать из него Добро. Следовательно, грех является одной из составляющих универсума, причем составляющей доброкачественной, ибо он существует совместно с прощением. Таким образом епископ Гиппонский по-новому интерпретирует космический миф о падении Сатаны, представляя его как элемент «божественного заговора», который должен привести к Искуплению. В этой системе дьявол является инструментом исправления человеческих ошибок, или иными словами, враг Господа превращается в средство обращения грешника3.
Теологическое решение фигуры Люцифера сформировалось довольно быстро и не повлекло за собой существенных изменений ни в обществе, ни в культуре. Теория Августина превратилась в своеобразный источник идей для мыслителей, под ее влиянием на протяжении всего Средневековья формировалась христианская элита, однако заменить собой разнообразные верования и обряды, все еще обладавшие влиянием в обществе, она так и не смогла. Несмотря на различные доработки и адаптации августиновой теории, до XIII в. кардинальных изменений в вопросе о трактовке дьявола не происходило. В конце VI в. папа Григорий Великий вновь вернулся к концепции иерархического построения царства Божьего, поделенного на девять уровней, где верхний уровень был отведен серафимам. Концепция получила распространение на Западе, и, ссылаясь на нее, некоторые авторы стали утверждать, что раз Люцифер был главным ангелом, значит, его следует причислять к серафимам4. В то время демонология была исключительно ученым занятием7 предметом для глубоких размышлений монахов и отшельников, частью доктринальных дискуссий. Второй Вселенский собор, состоявшийся в 787 г. в Никее, признал наличие у ангелов и демонов неуловимого по своей природе тела, сотканного из воздуха и огня; однако в 1215 г. на IV Латеранском соборе было заявлено, что ангелы, как добрые, так и злые, являются существами исключительно бесплотными, не имеющими даже подобия телесной материи5. Аналогичные теоретические дискуссии по проблемам демонологии возникали прежде всего в узких теологических кругах, непосредственно заинтересованных в решении вопроса, в целом же общество относилось к демонологиии и предмету ее изучения достаточно равнодушно. То же самое можно было сказать и о магии, и даже о колдовстве. Тем не менее народные магические обряды были не только хорошо известны, но и перечислены во многих пенитенциалиях, списках грехов и покаяний, отчасти напоминавших варварские кодексы; к таким пени- тенциалиям относилось, например, уложение о покаяниях, составленное Бурхардом, епископом Вормсским. Но до тех пор, пока в обряд покаяния не вмешался дьявол, народная магия не вызывала ни систематических нареканий, ни пристального интереса. Царившее до XII в. молчание или же относительное равнодушие эрудитов и теологов к народным магическим обрядам дает основания полагать, что католическая Церковь не чувствовала угрозы со стороны народных суеверий, а уж тем более со стороны потенциального противника в лице поклонников Сатаны, которых спустя три века она станет столь яростно разоблачать6. Высокоученые мужи того времени упоминали о Сатане как о темной силе, подчиненной могущественной божественной воле, а сам Дух Зла не спешил окончательно предстать в своей устрашающей роли, отведенной ему с тех самых пор, когда о нем было упомянуто в Библии.
Хорошие и плохие демоны
Идеи, витающие в обществе,обычно имеют вполне конкретный, материальный образ. Те из них, которые начинают отвечать насущным потребностям социума, быстро приобретают особую значимость и приспосабливаются ко всем изменениям, претерпеваемым этим социумом. Вряд ли можно утверждать, что дьявол вечно являлся непременной составной частью человеческой натуры, поделенной междуДобром и Злом. Тем не менее такое представление присутствует во многих цивилизациях, и в частности в древних ближневосточных культурах, где оно отражено в преданиях об изначальной битве между соперничающими богами. В Европе такое представление оформилось менее тысячи лет назад. Необходимо дистанцироваться от заблуждения, порожденного универсалистским определением Добра и Зла, повсеместно распространенного нашей культурой, дабы понять, что речь идет не просто о значимой воображаемой структуре, но о структуре фундаментальной, позволяющей постичь своеобразие европейской цивилизации; тем не менее структура эта не является самодостаточной, ибо она тесно связана с отношением человека Запада к миру видимому и невидимому.
Выписанная крупными мазками, история дьявола на Западе является историей неуклонного расширения его влияния на общество; влияние, оказываемое дьяволом, сопровождалось широкомасштабными изменениями приписываемых ему характеристик. Давая определение дьяволу, отцы Церкви и теологи демонстрировали исключительно интеллектуальный подход к предмету, и именовали Лукавого первоначалом, падшим ангелом, превратившимся в своего рода божество, летающее по воздуху в сопровождении бесов, переодетых ангелами света (как утверждал в IV в. св. Ефрем). Конкретный же облик демона определить было крайне непросто, что, несомненно, объясняет, отчего в катакомбном искусстве не было его изображений. На заре Средневековья он вторгся в жизнь монастырей и таким образом приобрел новую силу, ибо монастырский универсум, где он прочно занял свое место, диктовал нормы религиозной жизни и распространял основные постулаты культуры своего времени. Извечный соблазнитель, упорно стремящийся сбить с пути истинного удалившегося в пустынь св. Иеронима, он подготавливал успех одной из ведущих тем в живописи нового времени, хотя еще не обладал теми ужасными атрибутами, которые впоследствии будут ему приписаны. Пока романское искусство набирало силу, пока развивались города, у Люцифера не было своего удобного пристанища, откуда он мог бы начать свое наступление на общество. Наука о демоне или демонология пока еще являлась узкой отраслью теологии. Оживление ученых дискуссий по проблеме дьявола наблюдается вокруг тысячного года, когда после наступления нового тысячелетия умами завладевает идея о новом нашествии дьявольских сил, стремящихся разгромить армию Добра. Однако, судя по рассказам монаха Рауля Глабера, утверждавшего, что он в своей жизни встречал дьявола трижды, образ нечистого еще не имел ни силы, ни убедительности, ни мощи. Вот как описывает Глабер свою первую встречу с дьяволом:
В ту пору, когда я жил в монастыре, где настоятелем был досточтимый мученик Леже, как-то ночью, незадолго до того как надобно идти на утреннюю молитву, возникло в изножье моей кровати страшное существо, вид которого был ужасен, и было оно, насколько я мог судить, среднего роста, изможденное, тонкошеее, с черными глазами; лоб весь изборожден морщинами и нахмурен, с большими отвислыми губами, острым, выдающимся вперед подбородком, остроконечной бородкой, с ушами, которые заросли шерстью, со всклокоченными волосами на остроконечной голове, выдающимися кривыми клыками, как у собаки, горбатое, одежды грязные и, несмотря на прилагаемые усилия, существо это клонилось вперед. Он схватился за кровать, на которой я лежал, от чего она страшно содрогнулась, и произнес: «Тебе недолго оставаться в этом месте7. От страха я проснулся и увидел его всего таким, как я только что описал».
Демон Глабера не отличается привлекательностью, но отнюдь не внушает нам невыразимого ужаса, хотя многие авторы, очевидно смущенные тем, что не нашли в нем по-настоящему устрашающих черт демона конца Средневековья, усиленно пытаются заверить нас в обратном. Дьявол рассказчика предстает перед нами в человеческом облике: он уродлив, нескладен, злобен, агрессивен, однако таких людей легко можно было встретить где угодно (даже в наши дни их можно увидеть на городских улицах). Подчеркивая физическую непропорциональность фигуры Лукавого, его малый рост, узкий подбородок, вытянутый череп и горб, автор очевидно выделяет необычные черты его облика, однако такая необычность вполне вписывается в человеческие характеристики, без какого-либо указания на их сверхъестественность. Суетливые движения, совершаемые демоном, лишь подчеркивают его достоверность; упоминая о них, автор тем самым подчеркивает благость идеальной монастырской жизни. Многое в образе демона наводит на мысль о животном начале, однако, скорее, в метафорическом плане: остроконечная, как у козла, бородка, уши, поросшие шерстью, кривые клыки. У него нет ни хвоста, ни раздвоенных копыт, от него не исходит зловонный запах, глаза у него не светятся зловещим огнем (они всего лишь черные); нет у него и каких-либо сверхъестественных способностей. В сущности, это всего лишь маленький уродец, колоброд, своеобразное негативное отражение тогдашнего положительного образа монаха. Он может стать олицетворением Зла, затаившегося в человеческом сердце, но никак не ужасным владыкой Ада, где горит вечное пламя и воняет серой.
Рассказ Рауля Глабера балансирует на грани теологической традиции описания демона и конкретных представлений о сверхъестественных существах у различных европейских народов. Одного тысячелетия христианства не хватило для искоренения многочисленных верований и обрядов, которые впоследствии назовут «народными» в широком значении этого термина: ведь магические обряды являются достоянием не только простого народа, но и правящей элиты, а зачастую и людей Церкви. Граница проходит, скорее, между ничтожно малым грамотным меньшинством, способным осмыслить написанное на латыни, и остальными членами общества, выстроившимися на ступенях лестницы, на одном конце которой располагаются сторонники ортодоксального вероисповедания, а на другом — сторонники синкретизма, объединивших библейское послание с древними традициями, корнями уходящими в дохристианские времена. Как наглядно свидетельствует описание дьявола, сделанное Раулем Глабером, разделительная линия между ними выражена далеко не всегда отчетливо: автор является носителем концепции, более свойственной сторонникам «фольклорных» практик своего времени, нежели имеющей хождение в среде ученых теологов. У последних он заимствует мораль, а также патетические утверждения о вездесущности и реальности демонов; пугая слушателя, он хочет через страх привести его к добру. Из гумуса народных поверий он извлекает амбивалентное понятие страха перед сверхъестественным и перед стоящими над человеком могущественными силами, способными не только напугать, но при случае и рассмешить, приняв облик потешный или неуклюжий. Описанный Глабером ужасный карлик, конечно, внушает страх, но отнюдь не панический, а, скорее, побуждающий к исправлению собственных недостатков. А если бы этот карлик, вместо того чтобы неожиданно явиться и разбудить свою жертву, которая, заметим, от страха отнюдь не утратила способности описать его вполне подробно, появился бы перед воротами монастыря, то он, скорее всего, вызвал бы просто отвращение или презрение.
До начала XII или даже XIII в. в Европе циркулирует множество разнообразных описании дьявола. Культуры народов, населяющих континент, выступают разобщающим фактором, ибо по-прежнему обладают ярко выраженными специфическими чертами, которые христианству далеко не сразу удается привести к единообразию. Но тем не менее средиземноморские народы, кельты, германцы, славяне и скандинавы — все они начинают, хотя пока еще в разной степени, ощущать проникновение христианских идей, сопровождаемое переосмыслением их исконных традиций в рамках новой, навязанной им схемы мироустройства. Джеффри Бертон Рассел не без основания утверждает, что собственно христианское понятие дьявола находится под сильным влиянием «фольклорных» качеств, пришедших из выживших, но во многом утративших четкость форм практик и традиций, являвших собой разительный контраст с более последовательной, осмысленной и ясной народной христианской религией8. «Фольклоризация» демона иногда приписывает ему кельтские черты, заимствованные у Цернунна, бога плодородия, охоты и потустороннего мира. Но вряд ли «фольклорные» представления были настолько сильны, чтобы трансформироваться в настоящий тайный культ «рогатого божества Запада» и просуществовать в течение ряда веков; однако именно так считает Маргарет Мюррей, полагая, что, преследуя ведьм, Церковь в их лице преследовала адептов этого тайного культа9. Под давлением широких масс верующих христианство могло допустить отдельные заимствования из других религий, однако оно вряд ли стало бы терпеть существование параллельной религии. Основные признаки демона, указанные ниже, не являлись частями единого целого. Распространенные на всей территории континента, порожденные различными универсумами и различными эпохами, они вплоть до XII в. были интегрированы в более или менее синкретические системы верований, свойственные проживавшим на своих землях народами, в результате ставших частью единого христианского мира. Христианство же не торопилось изгонять гнездившиеся под его покровом многочисленные «суеверия».
Сатана. Асмодей. Люпифер. Велиал или Вельзевул, как именуют его в Библии и апокалиптической литературе, черт в разных уголках Европы имеет множество других имен и даже кличек. Много кличек прилипло к мелким духам, которые чаще всего являются наследниками сверхъестественных существ из языческого пантеона.
К ним относятся: Старина Рогач, Черный Богги, Крепыш Дик, Дикон, Дикенс, Джентльмен Джек, Добрый Малый, Старина Ник, Робин-Клобук, Робин-Весельчак у англичан, Шарло у французов, Кнехт Рупрехт, Метельщик, Хромуша, Хайнекин, Румпельштицхен, Хаммерлин у немцев. Использование уменьшительных имен (Шарло, а также немецкие имена на -кин, -хен) или панибратских прозвищ (Старина Рогач — Old Horny) сближали этих духов с людьми, и разумеется, снижали уровень страха, который они могли внушить. Для среднестатистического христианина того времени невидимый мир был богато населен бесчисленными существами, отличавшимися большей или меньшей вредностью, святыми, демонами, душами умерших. Соответственно место этих обитателей потустороннего мира в мире людей, вероятнее всего, не было точно позиционировано по отношению к Добру или Злу, ибо святые могли отомстить за себя живым, а живые, напротив, призвать в помощники демонов. Традиция бесцеремонного обращения со сверхъестественными существами красной нитью проходит через всю культуру Средневековья. Дьявол, этот плод холодного вымысла теологов, часто скрывался под прикрытием более конкретных образов, в частности мелких местных духов, обладавших необычайным сходством с человеком. Обуреваемые страстями, суетливые, подобно демону Рауля Глабера, они часто позволяли людям водить себя за нос. Далеко не всегда Лукавому принадлежало последнее слово. Зрелище одураченного, побежденного, осмеянного черта вселяло уверенность в тех, кто вытаскивал его на сцену в таком жалком виде. Тема беса, попавшего в подчинение к человеку, была мощным противоядием против страха. Никогда полностью не исчезая из европейской культуры, после великой охоты на ведьм она вновь набрала силу в народных сказках и легендах, а также в «Фаусте» Гете, этом старинном мифе, коренным образом переосмысленном: в отличие от легенды, где Фауст погибает, у Гете Бог в конце концов прощает ученому, поддавшемуся сатанинскому искушению, его слабость.
В течение всего Средневековья дьявол именует себя по-разному. Унифицирующий поток христианства вбирает в себя многочисленные чужеродные элементы, точные исторические и географические источники которых в основном установить невозможно. И простого объяснения, что Злой Дух способен превращаться во что угодно, здесь явно недостаточно. Скорее, следует говорить о тысячелетней борьбе христианства против языческих верований и обрядов, многие из которых, проявившие себя как наиболее устоявшиеся, сопротивляясь разрушительному давлению со стороны Церкви, медленно ассимилируют с христианскими ритуалами, приобретают новую форму и новую направленность, сохраняя при этом всю свойственную им прежде действенность. Поток теологического сатанизма затопляет, но не устраняет полностью осколки языческих демонических культов. Отсюда можно сделать вывод, что дьявол способен принимать бесконечное множество обликов. Так как дьявол принадлежит, скорее, к миру животных, то внешний вид его определяется либо согласно иудео-христианской традиции, либо согласно традициям язычников, наделявших своих богов личинами различных зверей. Христианству удалось исключить из числа дьявольских обликов агнца, а также быка и осла, но не удалось навязать мнение св. Петра, согласно которому Люцифер является «львом рыкающим». Однако на другом уровне змей из Книги Бытия легко сливается с языческим драконом. Козел, чей облик чаще всего принимает дьявол, обязан этой привилегией, скорее всего, своим прежним ассоциациям с Паном и Тором 3. К излюбленным обликам дьявола также принадлежит собака10. В последние века уходящего Средневековья изображения собак особенно часто встречаются в ногах лежачих надгробных статуй, преимущественно женских, что свидетельствует о сложности вычленения принципов, на основании которых демонологи придавали нечистому тот или иной облик: ведь в указанном выше случае собака символизирует верность и веру. Во всяком случае, несколько примеров или даже более поздние культурные посылки явно не дают оснований безоговорочно доверять креационистским толкованиям вещей. Являются ли обезьяны, кошки, киты, пчелы и мухи дьявольскими созданиями par excellence, каковыми их стали считать на заре Средневековья? В сущности, почти все животное царство в те времена можно было записать в творение Сатаны; при этом особенно следовало подчеркнуть дьявольский характер совы, свиньи, саламандры и лисы. Стремление избежать скоропалительных выводов требует более тщательных и непредвзятых исследований на местах, без которых невозможно определить ни уровень преемственности дохристианских традиций, ни степень разрыва с ними.
Среди известных историкам свойств дьявола многие достались ему от прежних языческих культов11. Если собрать их воедино, получится образ, очевидно не соответствующий ни одному из реально существующих животных, но в нем будут зафиксированы те черты, которые в XVI и XVII вв. называли подсудимые на ведовских процессах, отвечая на конкретные вопросы судей. Все знали, что демон мог принять облик любого человека, но предпочитал образ священника. Он мог убедить своих собеседников, что к ним явился сам светлый ангел. Он умел оборачиваться великаном, мог разговаривать устами истукана, вдыхать яд в порывы ветра, и далеко не всегда спешил явить миру свое уродство и безобразие, отличавшее его от прочих творений Божьих. Свои иконографические черты, а именно рога, козлиную шерсть, покрывающую его тело, мощный фаллос и большой нос он, скорее всего, позаимствовал у бога Пана12. Цвет у дьявола, в соответствии с цветовой символикой христианства и ряда других культур, чаще всего черный, однако иногда он бывает и красным, на нем могут быть надеты красные одежды и у него может быть огненно-рыжая борода; впрочем, борода может быть и зеленой. В 447 г. на соборе в Толедо было дано описание дьявола, из которого он представал огромным черным существом, когтистым, рогатым, с ослиными ушами, горящими глазами, кривыми клыками и огромным фаллосом; вокруг себя он распространял запах серы. И трудно сказать, какие из указанных выше признаков созданы воображением теологов, а какие пришли из народных верований. Зеленый окрас дьявола, скорее всего, является отголоском воспоминаний о божествах плодородия, таких, как Зеленый Человек кельтов или германцев. В XVII в. в провинции Артуа дьявола именовали Верделе или Вердело [Verdelet, Verdelot — зеленый, зелененький (фр.).]. Хотя не исключено, что уже в первую половину Средневековья различные определения и описания дьявола перестали ясно и осознанно ассоциироваться с языческими образами. Наличие у черта семьи также более не связывалось с какими-либо определенными мифологическими структурами, а наряду с прочими его характеристиками являло собой разрозненные обломки прошлого, которые, подобно обломкам затонувшего корабля, покачивались на волнах океана христианства. В отличие от историков, люди в те времена уже не знали, что бабушка Сатаны, упоминаемая гораздо чаще, чем его мать (мать его именуется Лили или Лилит) на самом деле порождена воспоминанием о мрачной богине Кибеле, или Хольде, устрашающем образе чудовищной и ненасытной матери. Дьявол мог иметь жену, чей образ воссоздавался по образу и подобию богинь плодородия из прежних времен. Брак дьявола чаще всего бывал несчастливым, так как жена его оказывалась сущей мегерой, вполне в духе давней и прочно утвердившейся традиции выставлять на всеобщее обозрение обманутого, одураченного и побитого черта. Нет никаких сомнений, что люди, разносившие слухи о несчастливой семейной жизни дьявола, старались таким образом скрыть свои собственные супружеские неурядицы. Об этом свидетельствует сохранившаяся до наших дней поговорка, согласно которой если гремит гром, значит, дьявол бьет свою жену. Существует предание о семи дочерях дьявола, которые воплощают собой семь смертных грехов; в другом предании дьявол вступает в кровосмесительную связь с двумя своими детьми, Смертью и Грехом, и от этой связи рождаются семь его внуков, семь пороков, которых он посылает в мир для искушения рода человеческого.
Обладая способностью находится в разных местах одновременно, демон тем не менее предпочитал вполне определенные уголки и временные моменты. Царством его была ночь, время, противостоящее дню, когда на земле властвует божественный свет. Пустынные и холодные места, ночные животные становятся непременными его атрибутами. Из четырех сторон света, он всегда предпочитал север, владения холода и тьмы. Впрочем во всех культурах живет страх перед угрозой, таящейся в этой мрачной стороне; например, в XVI в. ацтеки считали, что северные территории находятся под властью бога смерти. Христианские авторы тоже лают свою трактовку северного направления, однако логика ее понятна только им одним: церкви ориентированы к востоку, поэтому войдя в церковь север окажется у нас: слева; следовательно, левая сторона человеческого тела, равна как и мира, сотворенного Господом, посвящена дьяволу, существу злому и порочномy, о чем свидетельствует уже само слово sinistrum. означающее левую сторону 4. Целью Лукавого является ввергнуть в соблазн всех живущих, а особенно женщин и закоренелых грешников, поэтому образ его соотносится с языческими богами смерти. В западной культуре взгляд на дьявола как на предвестника смерти просуществовал дольше всех прочих, дожив в форме легенд и литературных сочинений вплоть до наших дней, наряду c анку, посланцем смерти из бретонских поверий, влачащим повозку для умершего. На протяжении всего Средневековья люди боялись .увидеть в небе «дикую охоту», сонмы летящих но небу призраков, именуемых также «адским воинством». Поверье, возникшее из сказаний о полетах стай демонов, возглавляемых их начальником и сопровождаемых дьявольскими псами, а иногда и дикими женщинами, гласит, что в грозовые ночи эти стаи уносят души умерших в преисподнюю. Нельзя сказать, что данном случае речь идет о непосредственном пережитке верований древних германцев или о сознательном напоминании о полете валькирий, посланниц Вотана5, провожающих в Валгаллу души умерших воинов, а тем более о реально сохранившихся колдовских практиках шаманов. Скорее, следует предположить, что некоторые обычаи, даже вырванные с корнем из родной почвы, сохраняют свою символическую силу, и, вписавшись в христианский универсум, продолжают продуцировать яркие образы, обогащая ими фигуру демона и насаждая о ней противоречивые суждения.
В противоположность утверждениям теологов, граница между Добром; и Злом в те времена не была ни четкой, ни фиксированной. И большинство европейцев, скорее всего, испытывали большие трудности, пытаясь отделить доброе зерно от плевел. Даже при приближении тысячного года демонологический дискурс вряд ли порождал в социуме навязчивые идеи на тему дьявола, если только эти идеи не получали конкретного воплощения в угрозах со стороны еретиков или евреев. Эсхатологический страх христианской элиты, похоже, не смог проникнуть в толщу народных масс, так как не имел поддержки в виде мощной демонологической культуры, способной заставить людей систематически реагировать на соответствующие проявления единой для всех угрозы. В раздробленной на множество самостоятельных частей Европе теория универсального Зла не могла вести наступление, не имея точек опоры в каждом универсуме. Множество демонических образов, существовавших в то время на континенте, выступали в качестве заслонов, препятствуя проникновению унифицированных теологических постулатов. Антихрист воспринимался, скорее, как некое абстрактное понятие, нежели как активный пособник Люцифера. Сам Люцифер также не имел достаточно четко выраженного облика и не мог посеять всеобщую панику. Его вездесущность еще была далека от вездесущности повелителя ада, властно увлекающего за собой 1111 легионов, в каждом из которых было по 6666 демонов, или, согласно подсчетам, сделанным в XVI в. врачом Иоганном Виром, в общей сложности 7 405 926 сатанинских приспешников. Приспособившись к эпохе политической раздробленности и, по сути, религиозной терпимости по отношению к разнообразным обрядам и суевериям, унаследованным от языческого прошлого, дьявол, вынужденный быть всюду и постоянно менять облики, не только не преумножал, но, скорее, терял свою силу. В 180 г. н.э. Максим Тирский высказал предположение, что число демонов равно 30 000; не исключено, что такое количество могло показаться вполне умеренным, особенно если в него не входили бесчисленные обличья, которые принимали демоны в народной фантазии. Сатанинский универсум явно не отличался упорядоченностью, сплоченностью и могуществом. Далеко не всегда к сонму демонов причисляли уродов, ибо существовало мнение, что карликов, великанов или же людей с тремя глазами Господь сотворил в назидание роду человеческому, желая показать, к чему приводит изменение даже малейшей частицы тела, данного человеку Создателем; на этом основании живо дебатировался вопрос, есть ли у уродов душа. Духи германского, кельтского или славянского происхождения причислялись теоретиками христианства к младшим демонам, но среди населения они чаще всего сохраняли двойственный характер, несмотря на упорное их причисление к дьявольскому универсуму. При посредничестве маленьких народцев — кобольдов, троллей, эльфов, гоблинов и прочих карликов — мир сверхъестественного утрачивал для человека свою враждебность. Одни малыши охраняли сокровища и убивали тех, кто пытался их похитить, другие любили сбить с верной дороги доверчивых путешественников или же наполняли кошмарами сны спящих (мары, англ, nightmares — кошмары), а эльфы метали свои стрелы в людей и животных, насылая на них болезни. Но всю эту мелкую нечисть в основном можно было поймать, напугать, одурачить или же приветить и превратить в домашних духов. То же самое можно сказать и о бесах, наделенных человеческим обликом, тех, которых часто описывают в сказках и легендах.
Пока образ Люцифера приобретал все более устрашающие черты, всеобщий взгляд на универсум сверхъестественного оставался вполне обыденным. Значительное число обрядов и практик было призвано прежде всего снять страх перед невидимым миром и убедить людей, что на духов можно воздействовать, например, помешать им приносить вред или добиться от них необходимой помощи в различных сферах человеческой деятельности. История одураченного черта, истоки которой восходят к рассказам о глупых троллях и великанах, приобрела в те времена особую важность. Охватив целиком все царство демонов, она порождала общее чувство превосходства человека, сообразительного и храброго, над так называемым Лукавым. Фаблио и средневековые рассказы часто выводили на сцену простых людей, способных противостоять Князю Тьмы. В конце концов, разве не сам Господь дал человеку способность побеждать сатанинские искушения? Провозглашая всемогущество Люцифера, теологи тем не менее в соответствии с основным принципом, объясняющим поведение Сатаны, изначально наделяли его весьма посредственным умом. Сатана не только не правил бал, но и был связан в своих поступках Божественной волей, а люди успешно противостояли ему с помощью хитрости. Возглавляя дикую охоту, ему не раз доводилось скакать на различных животных, в том числе и задом наперед, что для современников являлось позором и достойным осмеяния. Например, задом наперед на осла сажали мужей-рогоносцев и под насмешки толпы заставляли их в таком положении разъезжать по городу: так общество наказывало их за слабохарактерность и снисхождение к ветреной супруге. Представляя демонов и их предводителей, сидящих верхом задом наперед, люди снимали страх перед нечистой силой, подчеркивая ее смешные черты. Знаковый характер положения задом наперед сохранялся долго, а в трагическом контексте ведовских процессов приобрел исключительно драматический характер: когда ведьма под давлением судьи признавалась в том, что она скакала, ходила или танцевала задом наперед, никто более не сомневался в ее принадлежности к миру злых духов.
Вплоть до XII в. в мире сохранялось еще довольно много волшебства, и один Люцифер был не в состоянии заполнить всю сферу страха, ужаса и беспокойства. Подхватив народную традицию истории об одураченном дьяволе, театр XII в. выставлял черта в откровенно пародийном или комическом облике, так что, учитывая многочисленных конкурентов, бедняга черт просто не мог претендовать на безраздельное правление. Согласно традиции, берущей начало в ирландской литературе, а именно в описании «Плавания св. Брендана» 6, существовали также «независимые» ангелы, действовавшие самостоятельно, не поддерживая ни Бога, ни дьявола. Несмотря на заявления теоретиков, демон не являлся руководителем бесчисленного племени крохотных существ, а именно фей, и не обладал подлинной властью над чудовищами. В густонаселенном и крайне разнообразном мире успех борьбы Добра со Злом зависел не только от двух верховных существ, пребывавших в постоянном конфликте, но и от повседневной храбрости, доброй воли и хитрости представителей рода человеческого. По крайней мере, сами люди считали, что их поступки, их выбор, их желания должны играть важную роль в их взаимоотношениях со сверхъестественными существам, чье поведение характеризуется, скорее, амбивалентностью и выжидательностью, нежели только положительным, или, наоборот, только отрицательным отношением к человеку. Разве не судили самые тяжкие преступления с помощью «Божьего суда»? Однако божественное вмешательство вполне можно было направить в нужное русло, используя пристрастия и способности отыскивать невидимых союзников в густом лесу символов, окружавшем человека. И все же начало мощного наступления христианства, целью которого было заставить людей видеть мир в черно-белых красках, было уже не за тарами. Причину этого наступления Джеффри Бартон Рассел видит в бурном расцвете схоластики, вплотную занявшейся разработкой проблем демонологии12. Начиная с ХII в. фигура дьявола приобретает все более важное значение. Но идеи начинают влиять на умы только когда они созвучны изменениям, происходящим в обществе. В то самое время, когда в Европе начинают активно пробуждаться силы, стремящиеся к религиозной сплоченности, когда закладываются основы новых политических систем и не далек тот день, когда европейская цивилизация, покинув пределы освоенного ею мира, начнет наступление на иные заселенные миры, значение фигуры Люцифера неизмеримо возрастает: остается только дождаться наступления XV столетия.
Дьявольская одержимость на закате Средневековья
В любом обществе феномен, именуемый коллективным воображаемым, порождает фигуру Зла, стремящуюся примкнуть к наиболее активным силам, действующим в этом обществе. Поэтому, желая докопаться до смысла происходящих в обществе процессов, необходимо распутывать весь клубок. Последние четыре века, отведенные Средневековью, являются исключительно христианскими, поэтому основное место в наших объяснениях мы отводим религии. Однако область религии не замыкается в самой себе. Она сопрягается и с политическими, и с общественными, и с интеллектуальными, и с культурными движениями. Воцарение Люцифера является следствием изменений, происходивших не только в лоне церкви. Оно отражает общую эволюцию западной культуры, появление выразительных символов, заложивших фундамент новой коллективной идентичности, и одновременно создает очередные серьезные противоречия. В Европе постепенно формируются объединяющие факторы помимо собственно христианства, но пока они встречают активное сопротивление на местах; местнические настроения дробят Европу на множество политических и общественных субъектов, пребывающих друг с другом в конкурентных отношениях. Центростремительные тенденции значительно менее заметны, нежели центробежные, особенно в XIV и XV вв., обычно рассматриваемых как периоды кризиса или «осени Средневековья». Тем не менее в недрах европейского сообщества, обзаводящегося все большим числом общих культурных символов, начинают устанавливаться — пока еще не слишком прочные — определенные связи. Выйдя за узкие рамки мира церквей и монастырей, тенденции к объединению, влияние которых неуклонно возрастало, стали завоевывать популярность в городах (в частности, в самых влиятельных, каковыми были в то время города Северной Италии), проникать в крупные монархии, осваивать искусство и литературу. Речь идет о новых моделях отношений между людьми, часто использующих язык религии и культуры, но предназначенных прежде всего для укрепления социальных связей. В основе проблемы лежит вопрос о власти: будет ли власть определять себя в терминах церковных институтов или же станет говорить языком княжеских амбиций. Апелляции к авторитетному образцу Римской империи, к империи Карла Великого преследуют цель постепенно сконцентрировать те силы, которые в урочный момент можно было бы направить на преодоление состояния раздробленности и нестабильности. Наверное, именно в этот долгий период начинается процесс становления западной культуры нравов, блестяще J проанализированный Норбертом Элиасом14. Ибо эти исполненные противоречий века обладают неким глобальным единством, подготавливающим Запад к выходу за пределы его собственного мира, начавшемуся в эпоху Крестовых походов и продолженному открытием Америки. Ферменты вызревающей общности, скрытые кризисами и междоусобицами, следует искать в изобретении принципиально нового взгляда на мир, на человеческое тело, на способы укрепления связующих нитей общества, всех тех вещей, из которых впоследствии сформируются сильные стороны западной цивилизации завоевателей.
Трансформация образа дьявола не является изолированным фактом, она прекрасно вписывается в общую динамику развития. Изменение дьявольского образа становится рычагом эволюции, ибо оно выступает составной частью унифицирующей системы, объясняющей основы мироустройства, постепенно сближающего самые предприимчивые силы Запада, на протяжении веков все отчетливее противопоставляющих себя зачарованному и предельно разобщенному универсуму, где продолжают жить подавляющая часть сельского населения и массы горожан.
В романской скульптуре XI и XII вв. Сатана представлен в различных образах, как человекоподобных, так и в -анималистических15. Он перестает быть придуманной богословами абстракцией и обретает вполне конкретный облик пожирателя людей, коварного вассала или зверя из Апокалипсиса св. Севера [Сульпиций Север — религиозный писатель рубежа IV—V вв.]. Продолжая оставаться продуктом воображения монахов, в базилике в Солье он предстает в облике крылатого человека с длинной и острой, как у муравьеда, мордой: именно таким он явился в видении одному из клюнийских монахов, о чем рассказал бывший в то время аббатом Петр Достопочтенный [Петр Достопочтенный (1092—1172) — христианский ученый, писатель, аббат Клюнийского монастыря.]. Великаны с маленькими головами и неестественно вытянутыми конечностями, чьи изображения мы видим в соборе в Отене, родом из описаний Гвиберта Ножанского [Гвиберт Ножанский — церковный деятель XI в., автор хроники 1-го Крестового похода.]. Кривляясь и устрашая, романский демон повергает в трепет высшие чины духовенства и пытается навязать свое присутствие простым верующим, не только взирающим на его изображение на капителях, но и встречающим его гротескный облик в народных произведениях или в театре. Поэтому послание, которое дьявольский образ должен донести до христиан, оказывается запутанным и не может заставить все население холодеть от страха, ибо в нем слишком много ученых аллюзий. К тому же готическое искусство XIII в. отводит дьяволу довольно скромное место. Попираемый Христом во славе на тимпанах соборов, низведенный до второстепенных ролей, лишь подчеркивающих блаженство идущих в рай избранников, он в основном принимает человеческий облик, быть может, только несколько более уродливый, насмешливый или ухмыляющийся. Живописный, вполне во вкусе народа, всегда готового над ним посмеяться, он появляется в самых разных местах, беспомощно съеживаясь до размеров гаргульи под грозно устремленным на него взором Бога, оставляющего ему крайне маленькое поле для деятельности.
Дьявол пребывает в поиске самого себя, вернее, люди, создающие в своем воображении его облик, колеблются между привлекательным для многих гротескным вариантом, и образом гораздо боле устрашающим, рожденным в результате богословских размышлений, начавшихся еще во времена Григория Великого. Выпячивание дурных, пагубных свойств демона начинается с XIV в., когда челнок дьявольской истории перестает ограничиваться узким мирком, зажатым в монастырских стенах, а все больше и больше вплетает свою нить в канву жизни мирян, где на повестку дня встает вполне конкретная проблема власти, верховной власти и способов подчинения этим властям. В момент, когда происходит кристаллизация новых теорий централизации верховной политической власти, под натиском которых постепенно сдает позиции мир феодально-вассальных отношений, сатанинский дискурс меняет свои масштабы. Происходит взаимопроникновение двух, на первый взгляд, чрезвычайно отличных друг от друга сфер: дьявольской и светской власти; процесс этот характерен прежде всего для стран, где модернизация монархических структур идет наиболее активно, то есть для Франции и Англии, а также для стран, где по примеру Италии успешно развиваются крупные городские объединения. Художники каждый раз предоставляют необходимое скрепляющее звено, сначала подчеркивая могущество тех, кто заказывает им произведения искусства, а затем выводя на сцену, наряду с другими сюжетами, ад и демонов в обликах, даже отдаленно не напоминающих человеческий, что до сих пор встречалось крайне редко или даже не встречалось вовсе. «Внезапно вопрос о верховной власти — под видом мятежа, направленного на захват абсолютной власти, — поднимается в самом центре основополагающего эпизода мировой истории», рассказанного с помощью 63 английских и французских миниатюр конца Средневековья, которые, согласно анализу, проведенному Жеромом Баше16, посвящены Сатане.
Отныне признаки могущества Люцифера всячески подчеркиваются: он становится гораздо выше всех прочих бесов, его изображают преимущественно в сидячем положении, и только он обладает исключительным правом носить корону, как это показано на миниатюрах братьев Лимбургов в «Богатейшем часослове герцога Беррийского» (1413 г.). Подчеркивание огромного роста Сатаны является новшеством, появившемся только в XIV в. В Италии такие изображения мы встречаем во Флоренции, в Падуе, в Тускании: там Дьявол на миниатюрах выглядит более величественно, чем сам Христос17. Увеличение роста Дьявола идет параллельно с нарастанием безобразия его облика и изображением фантастической картины переполненного ада, в центре которого он, словно монарх, восседает на своем троне. Еще одним впечатляющим свидетельством «нового ужаса» являются малоизвестные фрески церкви небольшого городка Сан- Джиминьяно. Тадео ди Бартоло (1396 г.) изобразил ад, в центре которого расположился Люцифер, почти такой же, как и в Кампо Санто в Пизе — огромного роста, с чудовищной рогатой головой, сжимающий мощными ручищами смехотворных маленьких грешников»18. Во Флоренции и в Падуе сохранилось изображение Сатаны, у которого из каждого длинного уха вылезает по змею, а сам он тремя своими глотками пожирает по нераскаявшемуся грешнику: возможно, именно мозаичным изображением дьявола во Флоренции и вдохновлялся Данте, описывая своего Люцифера с тремя лицами, каждое из которых терзало в своей пасти по грешнику. Ужасный дьявол, восседающий на троне из драконов и змей, постоянно отправляет в свое звериное чрево грешников и тут же исторгает их обратно, дабы на них немедленно набросились извивающиеся под ним драконы и змеи, а также его многочисленные прислужники-демоны, терзающие самыми изощренными способами измученные тела нечестивцев.
Отныне ад и дьявол перестают быть метафорой. Искусство создает вполне конкретный, наглядный дискурс, посвященный демоническому царству, подробно представляя понятие греха с целью в очередной раз напомнить христианину о необходимости исповеди: «Испуг производит эмоциональный шок, побуждающий действовать, то есть идти на исповедь». Иными словами сочетание адского пламени и пасторальных картин, непременно с ним соседствующих, способствует развитию религиозного чувства повиновения, равно как и чувства признательности к власти Церкви и государства, укрепляющих общественный порядок посредством требования строгого соблюдения правил морали19.
Хотя нельзя точно измерить общественное воздействие демонологического дискурса, все же с уверенностью можно сказать, что он постепенно захватывает все более широкие круги населения, начиная с королевского окружения и богатых мирян, открывающих для себя ад на миниатюрах в часословах, и до многочисленных горожан, посещающих церкви, где их ожидают принципиально новые изображения дьявола, и до внушительной части крестьян, отправляющихся на проповедь в те же самые церкви. Всеобщий урок, который каждый может извлечь из нового осмысления роли дьявола, затрагивает не только религиозное сознание: ментальные образы ада и дьявола рассказывают как об участи грешников, так и о законах управления людьми. Начиная с XIV в. подробное перечисление адских мук становится примером реализации правосудия Господа, неумолимого и неизбежного — в отличие от малоэффективного правосудия земных владык. Новый образ дьявола постепенно, исподволь приучает людей видеть в карающем мече главный символ верховной власти. Так постепенно приоткрывается путь, ведущий к суровому государству справедливости, к справедливому государю, способному во имя Господа и сообразуясь с тяжестью совершенного преступления, распределять арсенал наказаний.
Прежде чем в XVI в. выкристаллизоваться в понятие оскорбления величества, идея о наказаниях, образующих своеобразную шкалу, сформированную исходя из степени тяжести проступка и ставшую цепочкой, связующей человеческие действия с божественной волей, начинает находить свое воплощение в зрелище неумолимого наказания, уготованного грешникам. Тем, кто был готов помериться хитростью с дьяволом, а, следовательно, с самим Господом, новый ряд адских картинок объясняет, что они не смогут избежать своей участи. Угроза приобретает поистине трагический размах, побуждая правоверных христиан, стремительно приобретающих комплекс вины, оградить себя посредством исповеди и соблюдения обрядов. Усиление страха перед адом и дьяволом неизбежно приводит к усилению духовной власти Церкви над теми христианами, которых эти послания затронули в большей степени. Жером Баше совершенно справедливо напоминает о создании своеобразного механизма внушения индивиду непомерно разросшегося чувства вины, но не с целью превратить христианство в религию страха, а напротив, чтобы побудить верующего преодолеть это чувство и обрести уверенность в себе, что можно сделать только следуя путем, предписанным Церковью. Эффективное средство для глубокого реформирования христианского общества, грозный ад и устрашающий дьявол, служат инструментом контроля над обществом и надзора за сознанием, побуждая индивида изменять свое поведение20.
Рассматривая проблему более широко, следует также отметить начало обновления модели поведения западного человека. Механизм внушения индивиду чувства вины, запущенный в ход в нескольких стратах европейского общества посредством изменения образа дьявола и картины ада, влечет за собой целый ряд последствий. Одним из них является все более широкое распространение среди мирян монастырской концепции смерти и тела: народные представления, относящиеся к «жизни после смерти», уходят в прошлое21, равно как и густонаселенный, труднопроходимый мир сверхъестественного,где Добро и Зло в принципе не имеют четкого разграничения. Смятение, внесенное в этот зачарованный мир, означает не столько новое стремительное продвижение дьявола, сколько новое завоевательное наступление христианства. Утверждение автономии ада может быть расценено как очевидное стремление высвободить из-под скрывающих его груды суеверий христианское Божественное провидение и выдвинуть его на первый план. Более точное определение смерти и загробного мира также позволяло внести ясность в то, что происходит здесь, в этом мире, то есть в отношения людей с властями. Устранив пантеон богов в пользу единого христианского Бога, отведя Сатане выдающееся, но все же подчиненное Божественной воле место, постоянно подчеркивая мысль о неминуемом справедливом наказании, уготованном всем грешникам и преступникам, Церковь способствовала формированию идентификационных характеристик новой, динамичной Европы, подталкиваемой вперед коллективной силой, связанной с чувством индивидуальной вины. По мнению Жерома Баше, это чувство порождает настоящую религиозную алхимию, переплавляя разрушительные энергии и направляя их в лоно религии: «Верующий получает прощение в обмен на признание Символа веры (в которую он крещен) и существующей власти (власти Церкви и в определенной степени Государства, подсовывающего ему на подпись заодно и копию своего Закона)»22. На мой взгляд, Баше уделяет слишком много места религиозной сфере. Скорее, здесь следует говорить о рождении завоевательной культуры, посредством которой индивидуальное чувство вины, происходящее из морального и религиозного источника, интегрируется в глобальную сферу истолкования, которой присущи чувство превосходства и стремление к экспансии. Расставаясь с ненужным грузом зачарованного мира и создавая базовую иерархическую модель общества, выстраивающуюся вокруг Господа, более могущественного, нежели сам ужасный Люцифер, Европа изобретает инструменты своего будущего господства над миром. Подобная модель способна до бесконечности приспосабливаться к любым сферам человеческой деятельности, усиливая воздействие индивидуальной вины и превращая это чувство в орудие коллективного развития.
Первое звено этой цепочки составлено из мирских властных структур. Во Франции монархия превращается в институт сакральный сверх всякой меры; основания для этого заимствуются из римских имперских источников, а фундаментом становится понятие о единой, неделимой, неотчуждаемой и незыблемой верховной власти, систематизированное в XVI в. гуманистом Жаном Боденом.
Речь идет уже не о простом превосходстве индивида над группой, а о новом понимании этого превосходства, которое, начиная с 1200 г. заметно влияет на упрочение королевской власти. Разумеется, среди подданных даже в конце Средневековья оставались недовольные: многочисленные протесты продолжались вплоть до утверждения на троне Генриха IV. Тем более, что любые идеи в сфере власти, способствуя становлению политического сознания, «равным образом и завораживают умы, и возбуждают их»23. Эволюция политических идей, очерченная автором достаточно приблизительно, совершается параллельно с эволюцией образа его величества Сатаны. Но, похоже, соответствия между обеими сферами, диаметрально противоположными по определению, никто из современников не заметил. Хотя живописали дьявольские фантазмы и прославляли королевскую власть одни и те же художники. Так что не стоит удивляться, обнаружив изображение Сатаны, наделенное всеми наиболее важными для того времени символами власти земных владык, отягощенными, в свою очередь, отрицательной символикой, используемой, в соответствии с поставленной задачей, для принижения власти демона. В XV в. Князь Тьмы утверждается во всем своем величии. На миниатюре 1456 г., где клирик Теофиль из «Миракля о Теофиле» воздает почести дьяволу, повелитель преисподни изображен сидящим на троне, расположенном на возвышении, в короне, со скипетром в руках, в роскошных белых королевских одеждах, окруженный столь же богато разодетыми советниками. Однако бесовские лица советников и звериные лапы Сатаны говорят о том, что внешний вид их обманчив. Многие иконографические изображения Князя Тьмы также свидетельствуют о его суверенной власти, равно как и театральные постановки: в «Мистерии о Страстях» Арнуля Гребана, созданной в 1450 г., царь Люцифер отдает распоряжения всем своим подданным, и они беспрекословно ему подчиняются. Помимо классического представления о том, что дьявол, подобно обезьяне, подражает Богу и людям, эти дьявольские образы отражают иерархическое построение инфернального мира, скопированного с построения суверенной монархии. Впрочем, иногда политическая мысль того времени открыто связывает оба царства, особенно когда речь идет о злоупотреблениях или неправедных действиях властей, а также о тираноубийстве; об этом, в частности, писал в Италиии Бартоло ди Сассоферрато 7; во Франции же вопрос с особой остротой встал в связи с убийством герцога Орлеанского 8. Всемогущий Сатана одновременно напоминает об оборотной стороне снисходительности верховной власти, об угрозе злокозненного заговора, противостоять которому может только власть сильная24. Во всех случаях дьявол оказывается в самом центре дебатов того времени: рядясь в одежды верховного правителя, он осуждает его излишества, или напротив, призывает усилить власть монарха. Носитель порочного величия, он всегда олицетворяет манию разрушения, находящую свое выражение в злоупотреблении той полнотой власти, которой обладает он сам или же ненавистный тиран. Наверное, зловещий фантазм о пожирании грешников, отныне накрепко связанный с дьяволом, отчасти можно объяснить и через политические реалии — как транспозицию страха перед политическим «каннибализмом» монархов, или — применительно к Италии — перед честолюбцами, рвущимися к вершине власти в городе. Примерно в 1200 г. Люцифер превращается в ненасытное чудовище во Франции и в Англии, а во второй половине XIII в. его кровожадный оскал появляется на фресках итальянских художников. Люцифера изображают с двумя прожорливыми глотками, одна из которых находится внизу живота, а еще несколько ртов разбросано по всему телу. Исполняя роль и глотки и анального отверстия одновременно, пасти эти беспрестанно глотают и исторгают из себя осужденных на муки грешников. Помимо вполне возможного намека на злоупотребления политических властей, этот сюжет отражает звериную концепцию тела Сатаны. Подобные свойства лишний раз напоминают об отличии природы властелина, уже подчеркнутой присутствием княжеских атрибутов, от свойств обыкновенного человека. В то время как Рауль Глабер или скульпторы, создававшие готические соборы, представляли себе Злого духа в искаженном, но все же человеческом облике, люди позднего Средневековья решительно выталкивают дьявола из круга себе подобных в мир животных, который уже с XII в. пробуждает в людях тревогу.
Лукавый и Зверь
На протяжении тысячелетней эпохи Средневековья определение дьявола постоянно присутствует в самых разных слоях европейского общества. Во многих хорошо сохранившихся народных обрядах упоминается нечисть, созданная народной фантазией еще до наступления христианства, и Церковь, понимая, что полностью уничтожить эти обряды вряд ли удастся, довольствуется тем, что затушевывает их черты, не соответствующие церковным канонам, а оставшиеся пытается приспособить для своих целей, а именно для воспитания масс. Представляя противоположный край шкалы демонологического знания, теологи, отшельники и святые проповедовали совершенно иные воззрения, сосредоточив все внимание на понятии Зла, которое для большинства своей аудитории им приходилось делать зримым и убедительным, и, как следствие, обращаться к формам, приписываемым демону народным воображением. Усложнение общественного устройства в результате успешного развития экономики, становления и роста городов, все возрастающего честолюбия королей, императоров и пап, а также проникновения христианского учения за истекшие века в самую толщу народных масс, постепенно нарушили равновесие между сферами «книжного» и «народного» демонов. Не сумев полностью разрушить основы простонародных верований, ученые церковники повели решительную борьбу за чистоту жизни и веры рядовых христиан. Через поле народных «суеверий» прокладывал себе все больше торных дорог идеал непорочной монастырской жизни, хотя при первом же удобном случае суеверия вновь теснили официальную религию, а представители ее закрывали на это глаза. Истинное новшество заключалось не в желании бороться с пережитками прошлого, что уже делалось на протяжении нескольких веков, а в появлении своеобразных «перевалочных станций», где могли быть восприняты наставления Церкви и распространены дальше, особенно в тех универсумах, значимость которых неуклонно возрастала. Короли, князья и знатные сеньоры, выучившиеся в университетах клирики, ученые и медики, предприимчивые горожане, ремесленники и художники составляли разнородную основу конгломерата, именуемого «средой», открытой навстречу идеям, выходившим из стен университетов, монастырей и иных святых мест. Разумеется, слишком просто сказать, что выгоду от произошедших перемен, и в частности, от разработки определения ада и дьявола, получила исключительно схоластика26. По крайней мере, вряд ли только результатами деятельности схоластов можно объяснить потрясение, охватившее когорту клириков с началом великой колонизации западными философами области воображаемого, из века в век укреплявшей роль интеллектуалов во Граде. Власти предержащие все чаще обращались за советами к книжникам, желая знать их мнение как в области политических и религиозных доктрин, так и касательно более сложных материй; в частности, к ним обращались за разъяснением смысла жизни и бытовых верований, в основном еще находившихся под влиянием колдовских сил, вера в которые у отдельных групп населения по-прежнему была велика. В отличие от прежнего восприятия мира, где колдовство виделось практически на каждом шагу, а живший в том мире человек производил изменения исключительно осторожно, негласный контракт, заключенный между учеными и правителями, способствовал динамичному, напористому развитию общества. Соглашение власть имущих с интеллектуальной элитой наделяло сложившийся в человеческом обществе порядок трансцендентальными свойствами и связывало его с промыслами верховного Провидения. Отправляясь в крестовые походы, одерживая победы над маврами в ходе испанской Реконкисты или занимаясь построением французской имперской монархии и прочих европейских властных структур, христиане были уверены, что исполняют божественный завет, данный им свыше. Выход за пределы эмпирического мира не ограничивался активным построением христианского универсума, он затронул и самого человека, все чаще определяемого в общей культуре Запада как существо сакральное, о чем клирики и писали на своей латыни. Трансформированный образ демона являлся антиподом идеального человека, чей путь и предназначение были указаны самим Господом. Образцовый подданный обязан был во всем подражать государю, а государь, в свою очередь, воплощал в себе божественное совершенство, необходимое для создания гармоничной людской иерархии, требующейся для управления видимым и невидимым миром. Царство Сатаны рассматривалось как прямая противоположность человеческому миропорядку. Это царство займет свое место в народной культуре только в XVI—XVII вв., а пока на повестке дня стояла не столько борьба с укоренившимися привычками и обрядами, сколько глубокое внедрение понятия особой сакральности человека в универсуме мирской власти и городов.
Эта достаточно абстрактная идея внедрялась прежде всего через искусство, литературу и театр, а конкретную реализацию получала через свою изнанку: фигуру демона. Разговор о дьяволе все чаще сводился к разговору о человеческом теле, точнее, о том, каковым это тело быть не должно. В собственно интеллектуальной сфере разрыв со старыми понятиями приходится на XII столетие, когда в ученой культуре начинают стираться границы между человеком и животным. Прежде клирики были убеждены, что демоны нематериальны, а, следовательно, не могут реально воздействовать на живые существа, и исключали любую возможность сексуального контакта с ними. В XII в. взгляды на эту проблему решительно пересматриваются27. С одной стороны получает развитие идея о том, что инкубы и суккубы могут соблазнять живых людей, являясь им в облике красивого юноши или прекрасной девушки. Связь с инкубами и суккубами была признана противной природе человеческой, приравнена к сношениям с животными и, как следствие, к ереси. Историки Церкви отмечают, что в это же самое время все большее значение приобретает чистилище, ибо раз нематериальные души могут быть подвергнуты наказанию, значит, и демоны могут свободно вступать с человеком в плотскую связь. С другой стороны, к животному миру начинают относиться с гораздо большими опасениями, нежели относились в период раннего Средневековья. С XII в. четкая граница между зверем и человеком неуклонно размывается. Ученое воображаемое пугало участившимися случаями сексуальной связи людей и зверей. Фома Аквинский (1225—1274) считал зоофилию наиболее ужасным из всех плотских грехов, ибо совершая его, человек нарушал завет, данный ему Господом. Разумеется, правосудие того времени гораздо большее внимание уделяло гомосексуальным связям, однако идея о греховности скотоложства постепенно пробивала себе дорогу. С начала XIII в. в Испании за него стали карать смертью; в XV в. на Майорке за сексуальную связь с животными было казнено множество людей; в 1534 г. за это преступление стали приговаривать к смерти в Англии и Швеции. Новая волна суровых кар проистекает, по мнению ряда авторов, из-за ставшего неприемлемым нарушения границы между видами — человеком и животным28.
Подобная навязчивая идея на первый взгляд кажется вполне банальной и далеко не новой. Античные авторы допускали проницаемость границ между двумя мирами: примерами тому служат «Метаморфозы» Овидия и «Золотой осел» Апулея. Относительно зыбкости границ между человеком и зверем существовало немало поверий.
Признав превращение человека в зверя наваждением, средневековая Церковь сделала сей постулат одним из основных своих теоретических положений. Отстаиваемый блаженным Августином, вновь подхваченный святым Фомой Аквинским и принятый Анри Боге, французским судьей XVI в., отправившим на костер немало ведьм, постулат этот обладал необычайной живучестью. Сформировавшееся под влиянием научных трудов общественное мнение придало ему новый облик, распространившийся в литературе и содействовавший успеху Овидиевых «Метаморфоз», особенно заметному в период между XII и XIV вв. Мысль пришлась по душе многим ученым, интересовавшимся природными изменениями, а также многочисленным любителям-алхимикам, занимавшимся поисками философского камня29. Не исключено, что новая идея должна была потеснить народную магию, устоявшую перед теориями Августина, ибо теперь теологи, вторгнувшись на территорию соперников, связали таинство превращения с Божественной волей. Теория о непроницаемости границ между миром людей и зверей являлась составной частью движения за более точное и конкретное определение действий Люцифера в посюстороннем мире. Данное направление демонологии, нашедшее свое отражение в реалистических изображениях ада, в XV в. породило ряд практических руководств по борьбе с ведьмами, о которых будет говориться в следующей главе. Для полного овладения умами и душами людей оставалось придать драматический размах фигуре дьявола. Пребывающему в полном подчинении у Божественного промысла в трудах блаженного Августина, излишне вневременному или, напротив, слишком очеловеченному в представлениях Рауля Глабера и в готической скульптуре, образу дьявола явно не хватало эмоциональной нагрузки, чтобы вызвать по отношению к себе всплеск коллективного отвращения.
После продолжительного пребывания в уродливом, но все же человеческом облике, Сатана отныне становится могущественным, но абсолютно нечеловеческим существом, царем, подавляющим своей мощью, и одновременно существом неуловимым, способным принимать форму зверя или гибрида и обладающего умением вселяться в любые живые тела. А после того как он сумел вселиться в животное, что может удержать его от вселения в человека?
Согласно средневековым представлениям, животные обладали всего двумя способностями: есть и трудиться. Анализ представлений средневекового человека о животном мире, сделанный на материале 6 000 рукописей, показывает, что названные нами функции, действительно, преобладают; в более поздних текстах тема животного обогащается за счет метафоры: стремясь выявить лучшие или наоборот, худшие стороны человеческой натуры, авторы заставляют животных совершать человеческие поступки. С XIII по XV в. на полях рукописей все чаще изображают животных в человеческом облике; очеловечиванию подлежат прежде всего обезьяна, собака и лиса, а также кентавр, существо-гибрид, занимающее второй уровень в классификации. Есть в этой классификации и дикий человек; обладая амбивалентными характеристиками, он занимает в ней пятый уровень. Жаб и змей, существ, напоминающих о смерти и дьяволе, в рукописях изображали чаще, чем дикого человека, но только на миниатюрах, и никогда на полях30. Данные наблюдения свидетельствуют о возрастающем интересе к ученым сочинениям, обогатившим традиционный бестиарий сведениями о людях-чудовищах и разнообразных гибридах, представленных, например, в труде доминиканца Фомы из Кантемире. Будучи важной вехой на пути становления демонологии, неуклонно превращавшейся в систему борьбы с ведьмами, труд этот был переведен на немецкий Конрадом Мегенбергом, и, вписавшись в ученую культуру прирейнского региона XV в., породил несметное число описаний монстров, а также знаменитый трактат «Молот ведьм» (Malleus maleficarum), в 1487 г. призвавший людей к истреблению ведьм31. Причудливые создания, смущавшие покой человека, гениально изображал Альбрехт Дюрер, а незадолго до него Мартин Шонгауэр, умерший в 1491 г., создал фантасмагорическую гравюру «Искушение св. Антония»: причудливый овальный орнамент, составленный из ужасающих гибридных тварей, в облике которых смутно угадываются человеческие черты, образует своеобразный нимб, вихрем кружащийся вокруг главного персонажа — святого Антония.
Источник видений, являвшихся ученым визионерам и постепенно наводнявшим ментальный универсум элиты общества, следует искать в апокалиптических пророчествах, с которыми в конце XII в. выступил Иоахим Флорский. Апокалиптические образы, распространившиеся по всей Европе посредством англо-нормандской готической скульптуры, ожившие в описаниях адских кругов Данте и выписанные величайшими итальянскими художниками XIV в., в следующем веке были не менее многочисленны, но среди их авторов уже числились художники второго плана. С изобретением книгопечатания и появлением книжной гравюры образ дьявола стал встречаться еще чаще. Интенсивное развитие торговых и культурных связей между Италией и Фландрией способствовали появлению дьявольских картинок на берегах Рейна, в самом центре второй по значимости европейской области сосредоточения крупных средневековых городов. На фоне всеобщей тревоги, распространения ересей, стремления к обновлению религиозной жизни, которым проникается живущий в монастыре Братства Совместной Жизни в Девентере юный Эразм, страх перед дьяволом, подогреваемый агрессивным реализмом проповедей и художественных изображений, резко усиливается. Родившийся в середине XV в., в обстановке разгула сатанизма, Иероним Босх черпает из проповедей формы и символы для своих картин. Отныне населяющие их рептилии, насекомые, ночные животные, демоны-гибриды, отвратительные сверчки, Сатана с собачьей головой с упорством одержимых рыщут среди его современников.
Никто точно не знает, что чувствовал тогдашний зритель или слушатель, в окружении актеров такого дьявольского театра. Можно только предположить, что быстрое распространение дьявольских картин требует постоянно растущего числа помощников и более подробного знания вкусов клиентов, и в частности знакомства с городской элитой Хертогенбоса, составлявшей основной круг заказчиков Босха. Воздействие, оказываемое дьявольскими ментальными образами на простых людей, определить практически невозможно. И вряд ли можно предположить, что ужас перед дьяволом воцарился повсюду: по-прежнему в ходу были истории об одураченном черте, а владыку ада продолжали высмеивать как в сказках, так и в бытовых историях. В мистериях, разыгрываемых на церковных папертях, сакральное прекрасно уживалось с комическим. Во время праздничных шествий бесов выставляли в смешном или откровенно глупом виде, а ужасные чудовища никого не пугали. В 1508 г. преподобный отец Элуа из Амерваля опубликовал в Париже небольшое сочинение, озаглавленное «Книга о проделках дьявола». Рассказы о главных ее героях, Люцифере и Сатане, отличались исключительной дидактичностыо и правоверием. Описания характеров демонов развивалось не в сторону преумножения их фантастических свойств, а, напротив, в сторону «очеловечивания» адских персонажей; демоны у автора бранились и ругались как люди, яростно спорили и, как и люди, были подвержены приступам страстей: им не чужды были ни ярость, ни печаль, ни радость, ни бахвальство, ни вражда, ни доверие, ни отчаяние. Автор наделяет своих демонов телами, и они грозят начистить друг другу рыло, оторвать уши или гениталии, подпалить задницу или выцарапать глаза. Люцифер же, когда сильно волнуется, принимается «писать в штаны». Спустя несколько десятилетий Рабле оценит манеру демонов обращаться друг к другу: «мой милый щекотунчик», «мой расчудесный засранец» — нежно шепчет один демон другому. Разумеется, у Сатаны имеется длинный хвост, однако он так ему мешает, что во время праздников в аду ему приходится закручивать его вокруг головы33.
Говорить о нарастании волны сатанизма в конце Средних веков было бы не совсем правильно. Сочинение священника из Амерваля показывает, что прежние образы дьявола все еще живы, как среди неграмотного населения, так и среди грамотных горожан, которым в первую очередь была адресована его книга. Зловещая тень ада простерлась над обществом, но многочисленные его представители, в том числе и ряд служителей церкви, такие, как священник из Амерваля, по-прежнему видят в дьяволе старого приятеля, в облике которого человеческого почти столько же, сколько в самом человеке. Звериный образ Сатаны является прежде всего инструментом пропаганды, он создан учеными книжниками и тиражируется в работах художников, трудах писателей и проповедников, наставляющих свою паству. Постоянное выпячивание демонических черт дьявола очевидно необходимо для изглаживания человеческих черт его характера: одураченный черт способен испытывать те же горести и радости, что и любой человек. Такой нестрашный дьявол по-прежнему существует в представлениях простонародья и тех ученых книжников, которые не порвали с народными традициями. Для желающих превратить дьявола в подлинное пугало, проблема состояла не в том, чтобы дьявола встретить — ведь в мире, кишащем невидимыми существами, дьявол присутствует всюду, — а в том, чтобы путник страшился самой возможности такой встречи. Для запугивания человека встречей с дьяволом в ход шли всевозможные устрашающие и заслуживающие доверия символы, во множестве появлявшиеся прежде всего в тех местах, где их можно было заметить, прочесть или услышать. Опираясь на эти символы, формирующаяся демонологическая культура без промедления выдвинула аргументацию, доступную физическому восприятию масс, для которых она была предназначена. С одной стороны, людям постоянно напоминали об участи преступника, наказанного Князем Тьмы, обретавшим все большую силу и все более ужасный облик; впрочем, к раскаявшемуся грешнику верховный владыка мог отнестись и милосердно: противопоставленный раю, ад стал видеться абсолютным слепком с высшей карающей власти, ниспосланной самим Богом. С другой стороны, демонологическая культура продолжала поддерживать реалистическую образную традицию, убеждая всех и каждого, что человеческое тело является тем главным пространством, где происходит битва между Злом и Добром.
Второе направление эволюции пошло по пути формирования на Западе новой культуры тела. При этом тело святого, наделенное, согласно утверждениям теологов, принципиально иными свойствами, нежели тело простого смертного, оставалось в стороне: речь шла прежде всего о телах простых людей, рассматривавшихся как поле главной битвы. Прежде Сатана часто принимал человеческий облик. Теперь он превратился в чудовище, в зверя, и сама возможность проникновения этого монстра внутрь любого существа должна была внушать безмерный ужас и побуждать к борьбе с дьяволом, дабы держать его подальше от себя. Страх перед дьяволом был основан на двух основных компонентах. Подчеркивая нечеловеческую сущность демона, человеку беспрестанно внушали, что демон этот в любую минуту готов вселиться в тело грешника и изменить его по своему подобию. Второй компонент начал играть свою роль только в эпоху великой охоты на ведьм, ибо тема телесной оболочки, полностью оказавшейся во власти дьявола, получила свое развитие именно в связи с ведьмами. В конце Средних веков идея эта еще не имела четкого оформления: привычка очеловечивать облик дьявола затрудняла пропаганду способностей нечистого завладевать чужими телами в прямом, а не в переносном смысле.
Идею об одержимости дьяволом подтверждал текст Библии. В XII в. зарождается уверенность в существовании гибридов. Важным этапом здесь стало распространение веры в способность бесов принимать образы животных, а также появляться в образе получеловека-полуживотного. Рассказы о подобных метаморфозах множились с поразительной быстротой. Новые свойства обрел оборотень, проделавший эволюцию от простого хищника, пожиравшего людей, до существа, наделенного недюжинным умом; оставаясь волком, существо это, по утверждению авторов «Молота ведьм», было одержимо демоном. Джойс Э. Солсбери полагает, что произошедшие в конце Средних веков изменения во взглядах на животный мир свидетельствуют о существовании у человека страха перед зверем, живущим в нем самом (The Beast within, как гласит заглавие его сочинения) и способным отнять у него и разум, и душу, оставив только звериные свойства: жажду совокупления, чувство голода и ярость". Прежние языческие традиции, относящиеся к одержимости дьяволом, скорее всего, были прочно принайтовлены к кораблю христианства; борясь против этих традиций, теологи объясняли нарастающий страх перед сидящим внутри зверем в унифицирующих терминах, а в качестве лекарства предлагали веру и тщательное соблюдение религиозных обрядов. Не каждый верующий обладает такой крепостью души, какой обладали святые, и в частности св. Антоний, однако каждый обязан был научиться противостоять сокрытой у него внутри частичке зверя. Пребывая между сакральным и дьявольским, между святым и демоном, каждый был обязан обуздывать таящееся в нем животное начало. Как следует из составленного в XIII в. «Жития св. Франциска», звери — разумеется, по воле Господа — могли выступать в роли связующих звеньев между царством людей и царством животных. Однако сам святой Франциск оценивал свою животную часть достаточно сурово, и именуя свое тело «братом ослом», много трудился, мало ел и часто занимался самобичеванием. Признавая наличие двух противоположных миров, он считал мир людей полностью отличным от мира животных. Ибо Господь наделил человека разумом, и тот с его помощью обязан был управлять своими страстями и аппетитами34.
Такое понимание разницы между людьми и животными, завещанное нашему времени, связано прежде всего с процессом становления культуры нравов, свойственного, по утверждению Норберта Элиаса, Западной цивилизации. Процесс стирания четкой границы между человеком и животным, завершившийся к XII в., привел к тому, что животная часть человеческой натуры стала внушать еще больший страх, а следовательно, появилась необходимость создания еще более действенных средств для ее контроля. Боязнь самого себя глубоко укоренилась в людях, причем среди культурной и политической элиты страх этот был, скорее всего, значительно сильнее, чем среди сельского населения. Ментальный процесс, связанный с осмысление двух составных частей человека, основан на все более усиливающемся чувстве вины, возникающем прежде всего в том случае, когда не удается обуздать звериное начало, живущее, как известно, в каждом человеке. В несовершенном и страдающем теле человека пребывает око Божье. Но в нем преспокойно может угнездиться и демон, поэтому демона надо либо изгнать, либо навечно преградить ему дорогу и не дать ему проникнуть в тело. Подобное видение вещей сыграло важную роль в динамическом развитии Западного мира, в его движении вперед. Утратив облик обойденного милостью природы человека или калеки, дьявол превратился в мерзкого зверя, притаившегося во чреве грешника, и одновременно в ужасного владыку ада, повелевающего бесчисленной армией своих клевретов. Оставалось только связать воедино оба понятия, обнаружив зародыш отвратительной секты, членами которой являлись люди, чья человеческая натура была изменена дьяволом; люди эти сознательно поклонялись ужасному зверю, то есть отказывались укрощать животную часть своей натуры к вящей славе Князя Тьмы, стремящегося во что бы то ни стало разрушить все, что сотворено Господом.
1 Levron Jacques. Le Diable dans l’art. Paris, Picard, 1935, p. 14—18; Villeneuve Rolland. La Beaut? du diable. Paris, Pierre Bordas et fils, 1994, p. 17-22
2 Forsyth Neil. The Old Enemy. Satan and the Combat Myth. Princeton, Princeton UP, 1987, p. 5—7, 439—440.
3 Ibid„ p. 438-440.
5 Baissac Jules. Le Diable. La personne du diable. Le personnel du diable. Paris, Maurice Dreyfous, s.d., p. 118.
6 Wagner Robert-Leon. «Sorcier» et «Magicien». Contribution à l’histoire du vocabulaire de la magie. Paris, Droz, 1939, в частности, с. 37-62.
7 Цит. по: Дюби Жорж. Тысячный год от Рождества Христова / Пер. Н. Матяш. М., 1997, с. 146.
8 Russel J.В. Op. cit, р. 62—87.
9 Murray М. Op. cit.
10 Woods Barbara Allen. The Devil in Dog Form. A Partial-Type-Index of Devil Legends. Berkeley, University of California Press, 1959.
11 Russel J.B. Op. cit., p. 68 sq.
12 Merivale Patricia. Pan and the Goat-God. Cambridge, Cambrige UP, 1969.
13 RusselJ.B. Op. cit, p. 160-161.
14 Элиас Норберт. О процессе цивилизации, op. cit.
15 См.: ДелюмоЖорж. Ужасы на Западе, op. cit., с. 204. См. также: Legros H. Le diable et l’enfer: reprPsentation dans la sculpture romane //Le Diable au Moyen Age (doctrine, problèmes, moraux, représentation), Sénéfiance № 6, Université de Provence, 1979, p. 320—321.
16 Bascket Jerome. Satan ou la majest? Maléfique dans les miniatures de la fin du Moyen Age // Nathalie Nabert (dir.). Le Mal et le Diable. Leurs figures à la fin du Moyen Age. Paris, Beauchesne, 1996, p. 187—210.
17 Baschet Jerome. Les Justices de l’au-dela. Les représentation de l’enfer en France et en Italie (XIV—XV siècle). Rome, Ecole française de Rome, 1993, p. 219-220.
18 Делюмо Ж Op. cit., с. 206
19Baschet J. Op. cit., p. 496—497, 590—591.
20 Ibid., p. 583, 586-587.
21 Ibid., p. 583.
22 Ibid., p. 591.
23 Krynen Jacques. L’esprit du roi. Idées et croyences politiques en France, XIII—XIV siècle. Paris, Gallimard, 1993, p. 407 et conclusion.
24 Baschet J. Op. cit., p. 198—202.
23 Baschet J. Op. cit., p. 509.
23 Так считает Дж.Б. Рассел: RusselJ.B. Op. cit.
27 Salisbury Joyce E The Beast within. Animals in the Middle Ages. New York, Londres, Routledge, 1994, notamment p. 9, 96—97. См. также: Janson H.W. Apes and Ape Lore in the Middle Ages and the Renaissance. Londres, The Warburg Institute, 1952.
23 Salisbury J.E. Op. cit, p. 100.
23 Ibid., p. 159 sq.
30 Ibid., p. 98-99, 128-129.
31 Baltrusaitis Jurgis. Reveils et Prodiges. Le gothique fantastique. Paris, A. Collin, 1960, p. 338—339.
32 Deschaux Robert. Le Livre de la diablerie d’Eloy d’Amerval // Le Diable au Moyen Age, op. cit, p. 183—193.
33 Salisbury J.E Op. cit, p. 134-135, 141, 163.
34 Ibid., p. 178-180.
ГЛАВА II
Ночной шабаш
В конце Средних веков образ дьявола претерпел кардинальные изменения. Порожденный народной фантазией и воображением монахов, он до сих пор развивался по двум, значительно отличавшимся друг от друга, направлениям, хотя границы между этими направлениями были вполне проницаемы. XV век знаменует начало длительного становления науки о демонах — демонологии, исподволь подчинявшей себе большую часть верований, связанных с дьяволом. Разумеется, суеверия, распространенные среди большинства населения, даже при массированной пропаганде не могли умереть в одночасье. Но они постепенно утрачивали свой системный характер, а магические обряды перестали служить объяснением явлений мироздания и были обречены на разрозненное существование, подобно обломкам или отбросам, всплывшим на поверхность океана христианства, затопившего своими водами фундаменты языческих верований. Подлинной причиной наступления католической церкви на традиционные магические обряды явилось не захлестнувшая общество пресловутая «волна сатанизма», на которую традиционно ссылаются церковные историки, а усиление активности церковников по завоеванию самых широких слоев населения Европы1. Усилиями христианских мыслителей, сумевших сделать сложенный в монастырских кельях миф об одержимости дьяволом общедоступным, Сатана в конце Средневековья стал одной из наиболее значимых фигур европейской культуры. Желая заставить широкие народные массы, привыкшие встречаться с чертом в.человеческом, а зачастую и в смешном обличье, бояться Злого Духа, ученые клирики разработали целую доктрину устрашения, вбиравшую в себя народные поверья и придававшую им новый, специфический смысл. Однако, чтобы прививка подействовала и, охватив самые широкие слои населения, в конце концов произвела на свет человеческий архетип Абсолютного Зла, воплотившийся в ведьме, понадобилось более двух веков. За это время были разработаны теоретические обоснования образа шабаша, а инквизиторы изобрели практические способы борьбы с его участниками; практика инквизиторов была заимствована мирскими судьями, убежденными, что осуждая участниц шабаша, они участвуют в извечной борьбе Добра со Злом. И хотя внушающий безмерный страх Люцифер стал таким же далеким, как и Господь Бог; тем не менее он мог в любую минуту вселиться в тела своих сообщников из числа людей. Примерно с 1400-го по 1580 г. демонология, словно огромное масляное пятно, заволакивает европейскую часть континента, изменяя духовный настрой поколений, всех слоев общества.
Дорогой ереси
Колдовство и сговор с дьяволом карались одинаково сурово, и причиною тому было новое восприятие дьявольских деяний в этом мире: в XV в. борьба с дьяволом неразрывно связана с борьбой с ересями. На примере ересей отрабатывалась модель восстания против Господа, первые наметки которой появились еще на заре христианства. Настоящая эпидемия ереси разразилась в Альпах и на территории Фландрии, находившейся под властью герцогов Бургундских; в Альпах была обнаружена и новая секта9, участники которой были признаны колдунами. В XII в. членов этой секты, последователей учения Пьера Вальда, можно было встретить в Северной Италии, на юго-востоке Франции, а также во Фландрии и Артуа, графствах, поддерживавших тесные экономические и культурные контакты с Италией. Коридор, соединявший Апеннинский полуостров с побережьем Северного моря, поначалу являлся пространством, религиозно никем не контролируемым; Церковь взяла его под свой неусыпный контроль, в результате чего с 1580 г. он стал одним из основных регионов, где охота на ведьм развернулась с особой силой. Похоже, именно на этой дороге Сатана устроил свои главные штаб-квартиры.
Многочисленные ереси XV в. создали дьявольскую форму, в которую в будущем отольется сатанинское ведовство. Во Фландрии учеников Яна Гуса и Виклифа хватали наравне с вальденсами и приговаривали к смерти: так, в самом начале XV в. состоялась казнь в Турнэ, а в 1420 г. — в Дуэ; в это же время в Лилле были казнены еретики по прозванию тюрлюпены 102. Выдвинутые против них обвинения не отличались новизной: сексуальные мерзости, поклонение дьяволу, использование при совершении дьявольских обрядов пепла младенцев, рожденных от кровосмесительных союзов (эти преступления высшие чины католической церкви обсуждали в Орлеане еще в 1022 г.). Иногда даже трудно понять, в какой, собственно, ереси повинен обвиняемый; так, например, пламенный проповедник, монах-кармелит Тома Коннект, в 1428 г. обрушивший свой гнев на распущенные нравы жителей Дуэ и Арраса, а в 1429 г. — на жителей Валансьенна, в 1431 г. был сожжен по весьма невнятному обвинению. Тюрлюпены, скорее всего, придерживались еретического учения вальденсов. В 1420 г. в Дуэ на скамье подсудимых оказалось 18 человек, обвиненных в вальденской ереси и в поддержке взглядов Виклифа, как известно, осужденных в 1415 г. на соборе в Констанце. Среди 18 обвиняемых, 4 из которых были женщины, 12 числились уроженцами Дуэ и принадлежали к судейскому сословию, 3 проживали в расположенном неподалеку селении Вазье, 2 были уроженцами селения Понт-а-Марк (Жиль дез Анно, оруженосец, следовательно, господин благородного происхождения, и его слуга), а один был жителем Валансьена; все они были арестованы в одиноко стоящей ферме, расположенной неподалеку от городских ворот. Все указывало на их принадлежность к одной секте; среди ее членов были не только представители городских ремесленников (обойщик, изготовитель лестниц, кузнец, ткач), но и два клирика; члены секты имели книги, «множество книг», найденных в доме обойщика. Процесс по делу еретиков из Дуэ вел инквизитор, принадлежавший к ордену братьев-проповедников11, обвиняемые предстали перед церковным судом города Арраса, в подчинении у которого находился Дуэ. Житель Валансьена вместе с частью конфискованных книг был приговорен к сожжению светским правосудием в лице епископа Аррасского, единственному дворянину предстояло остаток жизни провести в тюрьме епископства, а 6 обвиняемых из Дуэ, среди которых одна женщина, были отданы в руки правосудия их родного города, которое 10 мая 1420 г. приговорило их к сожжению на костре вместе с оставшимися книгами. Наказания остальным распределились следующим образом: один был приговорен к пожизненному заключению, другой к 15 годам поста на хлебе и воде, а всем остальным надлежало выплатить различные суммы, дабы те были использованы во славу Господа и Церкви.
Согласно записям, сделанным секретарем суда, приговор был вынесен в присутствии Мартина Поре, епископа Аррасского и многочисленной публики. Обвиняемые были признаны виновными «в сговоре с еретиками; в чтении книг, содержавших многие заблуждения; также было доказано, что они: не верили ни в Отца, ни в Сына, ни в Святого Духа, не верили, что Божественная Троица суть единое лицо, презирали таинства, совершаемые со всей подобающей торжественностью, утверждали, что у Богородицы было много детей; что не всякий святой попадает в рай; что монастырь есть бордель; что не надо исповедоваться священнику; что святая вода никакая не святая; что по субботам они справляли шабаш; что знак креста имеет форму виселицы и ему нельзя оказывать никаких почестей; что заупокойные мессы усопшим без надобности; а также делали много других еретический высказываний »3.
Казнь и прочитанная во время нее проповедь собрали столько народу, что зрительские подмостки, не выдержав тяжести, рухнули, придавив 13 человек, несколько из которых тут же скончались. Как сообщил один из осужденных священников, Анкен де Лангль, лишенный сана лично епископом, который «остриг его маленькими ножницами», члены разоблаченной секты называли «шабашем» свои субботние собрания. Собрания проводились за пределами города, в уединенном месте и под покровом темноты, что следует из обвинений, предъявленных дворянину, владевшему «еретической книгой, кою он читал во время ночных сборищ» членам секты. Все еретики были подвергнуты позорной процедуре: им на голову нахлобучили высокие «митры, расписанные изображениями дьяволов». А многие из тех, кого оставили в живых, теперь должны были носить на одежде, и спереди и сзади, желтые кресты.
Эти четыре элемента: шабаш, ночь, удаленность от человеческого жилья, прямая связь с демонами, составят канву будущего демонологического дискурса, направленного против ведовской секты. В рассмотренном нами случае обвиняемые осуждены за причастность к вполне конкретной ереси, они понесут тяжкое наказание. Термин шабаш еще не имеет своей мифической коннотации, а всего лишь обозначает ночные собрания приверженцев сформировавшегося тайного культа, служителем которого, судя по всему, был оруженосец, совершавший службы при помощи своей еретической книги. Согласно документам, у одной из женщин также хранились подобные книги, и она иногда читала их своим товаркам; женщина эта, по-видимому, играла активную роль в деятельности секты, помогая ее служителю советами; перед смертью она вела себя мужественно и во всеуслышанье заявила: «Нам придется потерпеть всего два часа, зато мы умрем настоящими мучениками».
От вальденсов к колдунам
Увеличение числа различного рода сект все больше тревожило и инквизиторов, и церковников. В 1417 г. был положен конец великой схизме 12, и христианская церковь ощущала настоятельную потребность в собственной реорганизации. Принятые Базельским собором (1431—1449) декреты, ставящие институт соборов выше института папской власти, внес раскол в ряды церковников; на фоне теологических споров о папской власти происходили менее громкие, но не менее важные изменения в сфере догматики, переключившие страх перед реальными ересями на страх перед воображаемым навязчивым архетипом — ведьму, одержимую дьяволом. В 1428—1430 гг. прокатившаяся волна ведовских процессов и появление целого ряда пособий по распознаванию чародеев и борьбе с ними, способствовали активному становлению мифа о сборище пособников дьявола, именуемом шабашем. Авторы специальных руководств для инквизиторов начали проводить вполне различимую границу между ересью и чародейством. Основные интеллектуальные и физические силы еретиков и колдунов сосредоточились в регионах, прилегающих к Альпам: в тех краях получило наибольшую поддержку учение вальденсов и взошли первые семена раздора, брошенные в почву решениями Базельского собора13. Распространение ереси продвигалось всторону Нидерландов, чьи земли также были заражены ведовством, о чем свидетельствует знаменитый процесс над колдунами-вальденсами, состоявшийся в 1460 г. в Аррасе.
Начиная с 1428 г. «вальденсами» все чаще именовали не столько еретиков, сколько людей, уличенных в колдовстве, и за последующие десять лет термин практически полностью изменил свое значение. А понятие «шабаш» закрепилось за ночными сборищами колдунов, прежде именовавшимися, как следовало из различного рода документов, «синагогою». Подобное изменение номинации было обусловлено вполне определенной культурной и духовной атмосферой, характерной для владений герцога Савойского и Пьемонтского Амедея III, в состав которых входили Савойя, Дофине, почти вся территория современной французской Швейцарии, северо-западная Италия, а также земли Эльзаса и Швейцарии, прилегавшие к Базелю. Эпидемия охоты на ведьм, начавшаяся в этом регионе в 1428 г., унесла жизни многих сотен обвиняемых. В написанном около 1430 г. анонимном трактате Errores Gazariorum были собраны и смешаны в кучу многие понятия, употреблявшиеся во время ведовских процессов на франкоговорящих территориях. Аноним называл обвиняемых членами секты, которые на своих собраниях, именуемых синагогами, поклонялись дьяволу, являвшемуся на эти собрания в виде черного кота, и все члены секты целовали кота в зад. Еще члены секты пожирали трупы младенцев, вырытых из могил или же убитых ими самими. По приказу демона они во время сборищ беспорядочно совокуплялись. Стандарт описания сатанинских собраний формируется также под пером немецкого монаха-доминиканца Иоганна Нидера, в пятом томе его труда под названием «Муравейник» (Formicarius), написанного между 1435-м и 1437 г., в период, когда Нидер принимал участие в работе Базельского собора. В своем сочинении он описал новую секту, действовавшую, по его утверждению, где-то в районе между Берном и Лозанной; члены этой секты собирались по ночам для воздаяния почестей демону, убивали новорожденных младенцев, включая собственных детей, и совершали множество колдовских злоумышлений, например, насылали грозу или град4. Интеллектуальная элита, состоявшая из инквизиторов, судей и участников Базельского собора, главным образом из числа приближенных герцога Савойского, избранного в 1439 г. антипапой под именем Феликса V, все активнее называла колдунов пособниками дьявола. Но в 1443 г. антипапа Феликс, который в бытность свою светским владыкой основал Савойское государство, был низложен, а в 1449 г. он и сам отказался от папского достоинства. Его личный секретарь Мартен Лефранк в 1440—1442 гг. сочинил исполненную ненависти к женщинам длинную поэму с обманчивым названием «Защитник дам». В ней впервые на французском языке подробно рассказывалось о колдовстве и впервые была дана развернутая картина полета женщин на метле или на палке на ночной шабаш:
На палочках туда летели,
Чтобы принять участье в мерзкой синагоге,
Десяток тысяч старушенций вместе.
Прежде чем заняться колдовством и принять участие в сатанинской оргии, женщины эти встречали демона:
В обличив кота или козла
Узрели они тут же дьявола,
Которого поцеловали в зад
В знак добровольного ему повиновенья.
Автор выводит на сцену и защитника женщин, усомнившегося в правдивости рассказа своего противника. Тем не менее стереотип женщины-ведьмы получает свое распространение не только в латинских документах инквизиторов, но и в текстах на народных языках. Похоже, между клириками существовало своеобразное соревнование, кто лучше и выразительнее напишет о ведьмах; Евгений IV, пробывший папой с 1431-го по 1447 г., в 1449 г. использовал для обозначения колдунов, состоявших в связи с дьяволом, латинский термин Waldenses (вальденсы). Люди стали бояться колдунов гораздо больше, чем прежде: в 1417 г. некий советник лишился головы за попытку убить герцога Савойского с помощью колдовства. Но главное все же заключается в том, что именно Церковь, пребывавшая до 1449 г. в глубоком кризисе, начала активнейшее преследование колдунов. Концентрируя все силы на символическом враге, она с одной стороны, переставала уделять повышенное внимание внутренним распрям, а с другой — объясняла причину усиления влияния раскольнических групп в своих рядах, и в частности, сторонников антипапы Фелиция V, происками все того же врага. Не имея возможности вдаваться в подробности истории Церкви и государства в регионе Пьемонт-Савойя, отметим лишь внушающее тревогу совпадение религиозного и политического климата в этой части Европы во второй половине XV в. и изобретение новой модели сатанинского колдовства. Впрочем, разработанная там модель не сразу распространилась на франкоговорящих территориях, сохранивших верность антипапе Феликсу V, иначе говоря в Дофине, Савойе и на землях, составляющих нынешнюю французскую Швейцарии. Есть основания полагать существование определенной связи между означенной моделью и антипапой, который, в сущности, покинул свой пост только в 1449 г., то есть за два года до смерти. Не потому ли миф о колдунах, поклоняющихся дьяволу, получил распространение только после 1450 г., ведь именно в это время бывший антипапа, наконец, избавился, от столь связанных с ним ассоциаций? Во всяком случае, отныне дьявол непременно присутствует и в сочинениях специального характера, и в искусстве, а главное, в судебном процессе, о чем свидетельствует знаменитый процесс в Аррасе.
В конце правления Филиппа Доброго (ум. в 1467) Нидерланды, похоже, стали испытательным полигоном для колдовской модели, разработанной в Савойе. Арестованных по-прежнему обвиняли в приверженности учению Пьера Вальда, однако отныне термином «вальденсы» стали обозначать колдунов, вступивших в сговор с дьяволом. Молва о процессе над колдунами распространилась далеко за пределы региона. Столица графства Артуа, Аррас стал в 1459—1461 гг. местом проведения громкого процесса, взбудоражившего воображение не только горожан, но и всех подданных герцога Бургундского5. Отшельник из Артуа, сожженный в Лангре в 1459 г. в присутствии аррасского инквизитора выдал под пыткой двух сообщников, женщину и мужчину. Мужчина по имени Жан Таннуа, прозванный Лавитом и Недалеким Аббатом, также назвал своих сообщников. 9 мая 1460 г. церковный суд, состоявший из заместителей и помощников аррасского епископства, инквизитора местного диоцеза и присланного во Францию папского инквизитора, решил передать двух первых обвиняемых и 4 женщин, признанных «отгнившими членами» Церкви, светскому суду. Из признаний обвиняемых следует, что они повинны в принадлежности «к проклятой и осужденной секте вальденсов, а также в том, что, будучи членами этой секты, они поклонялись идолам, отреклись от истинной веры и совершили содомский грех с демонами; отвергли нашего Творца, отказались от святых даров и презрели все священные реликвии, почитаемые святой Церковью; пообещали дьяволу не ходить в церковь, не получать причастия, скрывать свою принадлежность к секте, а потому не ходить на исповедь, или же не говорить правды; бросать крест на пол и, оказывая ему всяческое презрение, попирать его ногами; взывать к дьяволу и получать от него ответы; также они повинны в заключении соглашения и договора с дьяволом, в оказании почестей дьяволу и принесении ему жертв, в исполнении множества мерзких приказов дьявола, велевшего им делать противное и не оказывать почитания и поклонения нашему Спасителю; повинны они и в богомерзком использовании святых алтарных даров. И вы, Жан Таннуа и Денизетта, совершили убийства, и ты, Жан Таннуа, убил двоих детей, а ты, Денизетта, убила своего собственного ребенка, убила его еще некрещеным, отдав таким образом его во власть дьяволу; и вы, Жан Таннуа и Денизетта, насылали на селения, виноградники и прочие угодья пыльные бури и всяческую порчу...»
Жан Таннуа был также обвинен в двоеженстве: возможно, одной из его жен была как раз Денизетта. Она родилась в Дуэ, и тамошние судьи приговорили ее к сожжению на костре. Есть основания полагать, что эта женщина принадлежала к той же самой тайной секте, к которой принадлежали еретики, сожженные в 1420 г. все в том же городе Дуэ. Казненные вместе с ней женщины наверняка были ее аррасские товарки. Новшество процесса 1460 г. заключается в общей формулировке, вынесенной принимавшими участие в суде инквизиторами. Отныне реальность и вымысел переплетаются так тесно, что образуют поистине единую картину, ключевыми точками которой являются сделка с дьяволом, противоестественное сношение с демоном, убийство младенцев и злоумышления (малефиции). Шабаш пока еще не имеет четкого определения, однако встреча с демонами уже косвенно намекает нам на существование подобного собрания.
После состоявшейся в Аррасе казни Жана Таннуа и еще четырех женщин, поиски фактов, подтверждающих правдивость их признаний, продолжились. Все население города принялось рьяно отыскивать свидетельства дьявольских козней. В конце июня жители были глубоко изумлены, узнав, что арестовано трое богатых горожан, в том числе местный эшевен 14 и шевалье Пайан де Бофор. В июле арестовали еще двух эшевенов. Один из них, Антуан Сакспе, принадлежал к одному из наиболее знатных и состоятельных семейств города. Богатые горожане стали спешно покидать Аррас. Аресты затронули и менее состоятельные слои населения: к примеру, были схвачены четыре проститутки. Всего же инквизиторы арестовали 32 человека. Согласно источникам, среди них было 17 мужчин и 9 женщин; 6 человек идентифицировать не удалось. Источники не сообщают точного числа вынесенных смертных приговоров, хотя большая часть осужденных очевидно была предана смерти. Во всяком случае, 18 обвиняемых скончались в 1491 г., во время реабилитационного процесса, устроенного Парижским парламентом. Дело получило большой резонанс. Растерянный герцог Бургундский уже в 1460 г. велел отослать все относящиеся к делам еретиков протоколы в Брюссель. Согласно этим документам, шевалье де Бофор обвинялся в полетах по воздуху на коне и принимал участие в оргиях. Других подозревали в заключении договора с дьяволом и подписании его собственной кровью: в частности, в этом обвиняли Жана Жаке, одного из арестованных эшевенов. Далеко не все жители Арраса были согласны с арестами и казнями. Многие вполголоса возмущались произволом церковных властей. В городе распространялись непристойные куплеты, где высмеивались слишком рьяные церковники. Оспаривая решение светского суда, вынесенного по делу его отца, сын сеньора де Бофора подал апелляцию в Парижский парламент, и в январе 1461 г. из Парижа с целью проведения расследования был прислан специальный судебный исполнитель. В следующем месяце аррасские викарии были вызваны в Париж. Один из наиболее ретивых гонителей колдунов, декан собора Нотр-Дам в Аррасе, по дороге из Парижа в Корби сошел с ума; как пишет хронист Жак Клерк, одни решили, что декан стал жертвой порчи, которую наслали на него вальденсы, другие же, напротив, утверждали, что его настигла Божья кара. Однако Парижский парламент не спешил выносить решение, ожидая, чем закончится борьба между Карлом Смелым и королем Франции Людовиком XI. В конце концов парламент все же принял сторону осужденных и реабилитировал их всех. Оправдательный документ был обнародован 10 июля 1491 г. Викарии, находившиеся в подчинении у епископа, были приговорены к крупным штрафам, а наследникам осужденных пообещали возместить убытки. Во искупление вины перед погибшими было решено соорудить памятник, однако идея эта никогда не была реализована. Епискому аррасскому и инквизиторам запретили применять пытки, однако последнее постановление было вынесено не столько для прекращения потока оговоров, сколько для укрепления влияния Верховного трибунала.
Миф, ставший основанием для организации процесса 1460 г., обладал всеми атрибутами, присущими рассказам о сатанинском ведовстве. Суду были предъявлены убедительные доказательства небрежного отношения подсудимых к своим религиозным обязанностям, а в качестве новой идеи были выдвинуты обвинения в активном причинении вреда окружающим. На самом деле идея эта была отнюдь не нова, ибо возникла она на основе издавна существовавших разрозненных представлений об убийствах младенцев и дальнейшем их пожирании, а также о содомских сношениях с нечистью. Каждое из этих обвинений вполне могло фигурировать в обвинительных пунктах по делу как еретиков, так и евреев, исконно подозревавшихся в совершении ритуальных убийств новорожденных, хотя в настоящем случае евреев к делу примешивать не стали. Благодаря перу Мартена Лефрана информация о сложившемся шаблоне ведовских процессов стала распространяться за пределами круга инквизиторов. В 1460 г. дело вальденсов в Аррасе стало началом нового этапа борьбы с ересью: теперь дела выстраивались по разработанной там схеме. Освоив предложенный образец, ученые эрудиты и художники принялись пропагандировать его среди городской знати, при дворе Бургундского герцога и даже в Париже, где об этом деле стало известно благодаря расследованию Парижского парламента, а также из текстов и графических изображений. Есть основания полагать, что повышенное внимание к делу объяснялось не столько страхом, сколько любопытством. В самом Аррасе большинство населения с самого начала отнюдь не питало симпатий к гонителям вальденсов, а решение 1491 г. только подтвердило справедливость мнения этой части населения. Скептики не отрицали наличия определенных проявлений ереси, но обвинения в систематических сношениях с сатаной полагали весьма шаткими. Многие истинной подоплекой процесса называли сведение счетов среди власть имущих или церковников. Случившаяся трагедия не повлекла за собой никаких массовых фобий, так что на протяжении всего XV в. процессы по делу о колдовстве в графстве Артуа и в соседней Фландрии были весьма редки. Новый образ колдуна действовал на воображение ограниченного слоя людей, главным образом дворян, и практически не затрагивал основ народных верований.
Фламандец Иоганнес Тинктор, церковный автор, скончавшийся в 1469 г., составил «Трактат против секты вальденсов» ( Tractatus contra secta Valdensium), взяв за основу аррасское дело. Сочинение это в переводе на французский язык, сохранилось до наших дней в количестве трех экземпляров, хранящихся соответственно в Оксфорде, Брюсселе и в Париже (Национальная Библиотека); и все три экземпляра имеют на фронтисписе практически одинаковую миниатюру. Тема этой миниатюры — поклонение дьяволу во время ночного шабаша. В небе кишат колдуны и колдуньи, летящие на метлах, на спинах демонов или же в когтях дьявола. Внизу на земле, в пустынном и удаленном от виднеющегося вдалеке города месте мужчины и женщины, некоторые из которых держат в руках горящие свечи, окружают огромного козла; один из собравшихся поднимает ему хвост, в то время как другой участник сборища целует козла в зад. В Парижской рукописи имеются еще две гризайли на ту же тему. На одной изображен рогатый дьявол, приказывающий колдуньям целовать кошачий зад, на другой миниатюре рогатый бес с отвислыми грудями и большими крыльями, как у летучей мыши, побуждает своих поклонников наградить таким же поцелуем обезьяну. Похоже, иных рисунков, изображающих обряд воздаяния почестей дьявольскому козлу, в XV в. просто не существовало. Следует отметить, что все нарисованные художником люди одеты, даже те, кто летит по воздуху, а в Брюссельской рукописи одежды поклонников Сатаны вполне можно назвать элегантными. Таким образом, о стереотипе, связанном с сексуальной распущенностью, то есть о сатанинских оргиях и содомском грехе, напоминает только непристойный поцелуй.
Да и вся сцена не столько внушает страх, сколько вызывает любопытство, даже веселую усмешку0. Те, кому посчастливилось ознакомиться с этими рукописями, вполне могли истолковать миниатюры как изображения конкретных обрядов, свойственных ересям, о которых они были наслышаны, или предположить, что речь идет о вторжении в наш мир дьявола ростом с человека или животного, в которого вселился демон: козла, кота или обезьяны. «В то же время множатся зажигательные призывы к гонениям. С 1320 по 1420 г. вышло 13 трактатов о колдовстве; с 1435 (дата появления «Муравейника» Нидера, приора доминиканцев в Базеле) по 1486 г. (выход в свет «Молота ведьм») таких трактатов было уже 28»7. Увеличение числа сочинений на интересующую нас тему очевидно велико. Мир клириков постепенно проникался идеей дьявольской угрозы, однако редкие изображения сборищ секты поклонников дьявола свидетельствует о том, что широкие слои общества не спешили принимать эту идею. Латинский язык объединял религиозное видение служителей Церкви и одновременно возводил настоящую дамбу против того, что некоторые авторы с изрядным преувеличением называют волной сатанизма. Демон инквизиторов, демон с фресок итальянских художников и огромный козел вальденсов никак не обретали реального воплощения в глазах большинства населения. В последние десятилетия Средневековья намечается некий синтез дьявольского образа, однако до настоящего разгула пагубных сил еще далеко.
Молот, чтобы разить колдунов
Важный, хотя и не решающий этап начался в восьмидесятые годы XV столетия. Число процессов над ведьмами достигло своего первого пика, впрочем, не превысившего аналогичных достижений нового временил а учение о демонах обрело открытую поддержку папства. Иннокентий VIИ огласил так называемую «ведовскую буллу» (Summis desiderantes affectibus), где он призывал немецких прелатов усилить борьбу с колдунами, которых в подведомственных им землях развелось необычайно много. Два доминиканских монаха, Инститорис и Шпренгер, провели соответствующий опрос, а потом составили первое большое руководство по борьбе с ведьмами под названием «Молот ведьм» (Malleus malejicamm), опубликованный 1487 г. Ссылаясь на папскую буллу, авторы задают 78 вопросов, относящихся к происхождению и развитию того, что они именуют «ведьмовской ересью», и сами же дают на них ответы с тем, чтобы в третьей части книги предложить «последнее средство для искоренения этой ереси». В своем труде они пишут о соглашении с дьяволом, о дьявольских отметинах, о кощунственные поступках ведьм, но упоминания о шабаше у них нет8. Поистине маниакальный упор, сделанный авторами трактата на ответственности женщин за насаждение «ведьмовской ереси», является единственным, хотя и решающим отклонением от прежнего направления: и Нидер, и Лефран тоже упоминали о ведьмах, тем не менее в их времена к суду по обвинению в ведовстве нередко привлекались мужчины, а в Аррасском деле среди обвиняемых вальденсов мужчин было очевидно больше; множество осужденных мужчин представлено и на миниатюрах, украшающих рукописи Тинктора.
Еще одно важное обстоятельство: благодаря печатному станку плод пылкого воображения Инститориса и Шпренгера получил чрезвычайно широкое распространение, поистине, невероятное, если сравнивать с временами рукописной книги. Согласно описи, составленной на основании каталогов крупных библиотек, к 1520 г. книга выдержала не менее 15 изданий, большая часть которых приходится на города прирейнских земель и Нюрнберг; два издания — в 1497 и в 1517 гг. — были сделаны в Париже, и одно — в 1519 г. — в Лионе. Принимая во внимание, что в те времена средний тираж составлял 1000— 1500 экземпляров, это означает, что до начала Реформации в обиходе циркулировало более 20 000 экземпляров «Молота», из них несколько тысяч во Франции, а остальные в Священной Римской империи. В период с 1520-го по 1574 г. трактат о борьбе с ведьмами резко вышел из моды, но затем вновь был востребован, и, насколько известно, издавался еще 19 раз, из которых три издания были сделаны в Венеции с 1574-го по 1579 г., и 10 изданий в Лионе — за период с 1584-го по 1669 г.9 Таким образом, первое поколение читателей сосредоточено было в основном в германских землях, главным образом на берегах Рейна. Впрочем, и сами авторы в основном рассказывают о демонах, обитавших именно в этом регионе. Шпренгер, родившийся в окрестностях Базеля и учившийся в Кельне, стал инквизитором диоцезов Майнца, Трира, Кельна, Зальцбурга и Бремена. Инститорис, уроженец городка Селеста в окрестностях Кольмара, был приором доминиканского монастыря в Селесте; став инквизитором, он сделал полем своей деятельности всю Империю к западу от Эльбы. Если проследить проделанный инквизиторами путь по карте, окажется, что особым вниманием у них пользовались города, расположенные вдоль Рейна, откуда они двигались дальше, в направлении Берна и Лозанны, не забывая посетить и Австрию, и Северную Италию. Только благодаря вмешательству епископа были освобождены пять десятков колдуний, схваченных в 1485 г. в Инсбруке по приказу Инститориса10. Модель борьбы с колдунами, сложившаяся в предгорьях Альп и отшлифованная в Аррасе, явно пришлась ко двору на широком торном пути, ведущем из Северной Италии к побережью Северного моря. Есть основания полагать, что за два года до начала процесса в Аррасе, а именно в 1458 г. в Страсбурге, Инститорис лично присутствовал на церемонии сожжения «вальденского» епископа Фредерика Райзена. Тот активно выступал против другого доминиканца, а именно изгнанного турками из Боснии архиепископа Крайнского, агитировавшего за созыв собора, который закрепил бы решения соборе в Базеле. Инквизитор говорил, что ненавидит «этого прожорливого медведя, коего потребно забить камнями», так как он дерзнул «покуситься на святую гору, на суверенную власть понтифика». Борьба между сторонниками ограничения папской власти в пользу соборов и приверженцами приоритета власти папы стала тем фоном, на котором процессы по делам о ересях постепенно превращались в судилища над участниками мифических дьявольских шабашей. Умозаключения, сделанные двумя доминиканцами, авторами «Молота ведьм», несомненно, заслуживают гораздо более подробного исследования. Не случайно брошенный ими призыв обрушить на ведьм всю мощь тогдашней карательной машины прозвучал в той части Европы, где еретические учения получили не только наибольшее распространение, но и отличались известным разнообразием; впрочем, в этих краях всех еретиков без разбору именовали вальденсами. Эта же часть Европы была вовлечена в перипетии схватки честолюбий, участниками которой были как папы, так и светские владыки: правители Священной Римской империи, герцогства Савойского, Швейцарской конфедерации и герцогства Бургундского. На первый взгляд могло показаться, что на этих землях и в самом деле распоясался Сатана. Но, разумеется, речь шла о людях, стремившихся насадить там свои законы и свое понимание веры и готовых вести за это яростную борьбу. Изобретение книгопечатания способствовало усилению интеллектуального противостояния, которым впоследствии воспользуется Лютер. Ибо и гуманистические идеи из Италии, и нововведения в области художественной культуры и литературы двигались теми же самыми путями, что и люди. Столкновение между формами выражения и типами мышления, между старым и новым, принимало самые резкие формы.
Сатанинская нагота
С помощью книгопечатанья, которое многие мыслители считали дьявольским искусством, в тысячах умов начал складываться новый облик Сатаны. Но главную роль в его формировании играли все же не книги; в конце Средневековья основным источником информации для большинства населения — особенно в германском мире — были изобразительные и пластические искусства. Художественный образ заменял собой рассуждения, изложенные в толстых теоретических трактатах. Роль этого зрительного образа стала решающей в борьбе за трансформацию религиозного чувства в целом и восприятие дьявола и его козней в частности.
Основные баталии развернулись не столько вокруг шабаша, сколько вокруг обнаженного тела, издавна считавшегося символом первородного греха. Итальянские художники попытались изменить это предвзятое мнение. Изображая физическую красоту человеческого тела, гуманисты и живописцы Кватроченто возвращались к античным канонам; освобождая тело от лежащей на нем печати вины. Следом за Ботичелли они апеллировали к учению неоплатоников, полагавших, что прекрасное обнаженное тело человека отражает его внутреннюю красоту, красоту его души. Появившиеся на рубеже веков торжествующие обнаженные фигуры Дюрера, изысканные — и от этого порочные — обнаженные фигуры Лукаса Кранаха Старшего обозначили новое, прямо противоположное видение тела в немецком культурном пространстве, где все еще господствовали прежние каноны11. Могучая белокурая красотка, изображающая фортуну, с гравюры Дюрера 1496 г., и пышнотелая обнаженная Венера с двумя рядами жемчуга на шее, взирающая на нас с картины Кранаха 1506 г., являют собой яркие примеры изображения тела, избавленного от печати первородного греха. Какие мысли могли появиться у тогдашнего инквизитора при виде рельефного изображения Адама и Евы, исполненного в 1514 г. Людвигом Кругом из Нюрнберга? Повернувшись лицом к зрителю и таким образом позволяя ему разглядеть волосы на ее лобке и узкую бороздку ее половых органов, первая женщина одной рукой нежно обнимает за плечо стоящего спиной к зрителю Адама, чья правая рука опущена, а левая сжимает яблоко. У ног Адама скорчилась обезьяна, поедающая точно такое же яблоко12. Обезьяна, змея на дереве и вызывающая поза Евы — все это напоминает о присутствии в картине темы дьявола. Показывая обнаженную натуру, художники стараются по возможности не нарушать запрет изображать половые органы. На гравюре Дюрера 1504 г. и у Адама, и у Ева запретные места прикрыты листиками, также, как на рельефном изображении 1542 г. работы Круга, хотя на бронзовом рельефе 1515 г. того же самого Круга половой член Адама изображен вполне достоверно13.
Реалистическое изображение человеческого тела, знаменовавшее подлинно революционный переворот в культуре, стало важной ставкой церкви в борьбе за овладение умами. В первой половине XVI в. художники в большинстве своем изображали нагое человеческое тело со всем его волосяным покровом и не пытаясь прикрыть половые органы. Тридентский собор запретил показывать полностью обнаженную натуру; художников, получивших насмешливое прозвище «стягивающих штаны», даже в Италии обязали прикрыть то, что не должно являться взору: «одели» даже фрески Микеланджело. Восторженное отношение к новым формам в искусстве, присущее художникам Священной Римской империи, несомненное желание поразить наиболее косного зрителя, равно как и стремление, оставаясь в рамках пристойности, преодолеть принудительные запреты, позволили по- новому взглянуть на женское тело. Мифологические сюжеты и сценки из повседневной жизни, такие, как «Купание женщин» Зебальда Бехама (ок. 1530)14, перестали считаться греховными, обнаженные тела Кранаха на его иллюстрациях к Библии также не могли быть признаны порочными. И порок находит себе новое пристанище: обнаженное тело колдуньи.
До той поры в произведениях искусства обнаженными, хотя и в пристойном виде, представали только грешники в аду, а колдуны и колдуньи всегда были одеты, даже во время шабашей, о чем свидетельствуют миниатюры к сочинению Тинктора. Половые органы изображали метафорически: помещали лицо на место анального отверстия или на живот; лица на неподобающие места получали главным образом демоны, а иногда и женщины. Маска, прикрывавшая половой член дьявола, означала грех, и в частности грех плотский15. Почести, оказываемые дьяволу, заключались в обряде целования дьявола в зад; обряд символизировал сексуальную мощь дьявола, как, впрочем, любой намек на сексуальные отношения напоминал о первородном грехе Адама и Евы. Таким образом христианские моралисты поднимали вопрос об искушении плоти. В XIV в. появились картинки, изображавшие женщину-грех: каждая часть тела такой женщины соответствовала одному из грехов. Размещенные на чреве голова или глотка символизировали ненасытную женскую сексуальность. Например, в рукописи 1350—1360 гг., выполненной, скорее всего, в Богемии, имеется рисунок волчьей головы с широко разинутой пастью, откуда вываливался огромный язык в форме фаллоса, напоминающий о «прожорливой глотке греха», олицетворявшей для жившей в XII столетии Хильдегарды Бингенской прежде всего грех плоти. На гравюре, иллюстрирующей немецкий перевод книги Жоффруа де Ла Тура Ландри, изданный в 1493 г. в Базеле, мы видим женщину, причесывающую перед зеркалом волосы, и рядом с ней демона тщеславия. Демон, имеющий тело человека и голову животного, показывает женщине свой зад, который виден в зеркале на том самом месте, где должно быть отражение кокетливого женского личика17. Подобная игра отражений совершенно очевидно подталкивает зрителя к выводу о том, что красивое женское лицо на самом деле всего лишь личина, скрывающая ужасную задницу дьявола, или, говоря иными словами, женская красота обманчива и ведет прямиком в ад, ибо женщина изначально похотлива.
С 1490 г. и по 1520—1530-е гг. тема женщины и тема дьявола в Священной Римской империи вновь стали чрезвычайно актуальны. Создаваемые в этот период произведения искусства в большинстве своем обладают легкой эротической окраской: например, картины на тему суда Париса кисти Кранаха (1503) и Домаса Херинга (1529) или пробуждающее чувственные желания полотно «Сад любви» Лоя Херинга, созданное около 1525 г.; новое воплощение получила также традиционная тема пляски смерти. Поводом для размышлений о бренности окружающего материального мира становилось роскошное тело молодой женщины, составлявшее резкий контраст с увядающим телом стоящей у нее за спиной старухи; а чтобы пример был еще более наглядным, многие художники рядом с цветущей красавицей изображали отвратительного мертвеца или скелет. На рельефном медальоне Ганса Шварца, созданном примерно в 1520 г., красивая женщины с обнаженной грудью отчаянно пытается увернуться от объятий скелета, тянущего к ней свои покрытые клочьями свисающей плоти костистые руки. На картине 1517 г. Ганса Бальдунга Грина во весь рост изображена прекрасная обнаженная девушка, единственным одеянием которой служит обернутый вокруг бедер клочок прозрачной ткани, нисколько не скрывающий волос на ее лобке. Страдальческое выражение лица красавицы, ее молитвенно сложенные руки говорят о том, что у нее нет надежды избежать объятий смерти, представленной в образе огромного скелета, выступающего из окружающего красавицу мрака, подчеркивающего белизну тела девицы и округлости ее форм18.
Любой сюжет мастер мог наполнить эротическими намеками, но мог и наоборот, сделать его поводом для размышлений о суетности и бренности человеческого бытия. Все зависело от вдохновения и — не в последнюю очередь — от желания клиента; требования частных коллекционеров к произведениям искусства иные, нежели требования заказчиков, желавших украсить храм или обитель. Истолкование картины от этого только усложнялось: изображение радостей жизни нередко бывало преисполнено великого пессимизма, ибо конец, ожидающий человека, всегда один. Тем временем тематика картин постепенно меняется, хотя многие художники по-прежнему обращаются к традиционной теме пляски смерти, получившей свое решение в созданном в 1528 г. рисунке Ганса Гольбейна19. В работах Шварца и Грина смерть перестает уравнивать людей, стоящих на разных ступенях социальной лестницы. В своих работах оба художника устанавливают тесную связь смерти с женщиной. Возможно, кому-то мое предположение покажется излишне дерзким, но сам я твердо уверен, что именно в немецком искусстве нашло свое выражение все возраставшее стремление общества определить место женщины в современном ему мире, а также отношение женщины с миром сверхъестественного. В Библии, как известно, смерть является следствием греха, делом рук демона и Евы: именно она принесла грех в мир, заставив согрешить Адама. Об этом древнем постулате вспомнили авторы «Молота ведьм», сочинения, увидевшего свет в немецком культурном ареале. Разумеется, церковники, привлекая внимание к женщине как носительнице злых чар, в то же время не забывали превозносить Деву Марию и ее служительниц; однако одна эта антитеза не может являться исчерпывающим объяснением, почему именно женщина стала воплощением зла. Популярность произведений искусства, воспевавших женское тело во всей его красе, поставила перед церковью серьезную проблему, решение которой попытались найти, собрав воедино все, что когда-либо говорилось о греховной сущности обнаженного тела. В ожидании официального запрета нечестивой манеры изображения человеческого тела, теологи взяли на вооружение древние сборники законов, где обнаженная женщина приравнивалась к приспешнице дьявола. Не имея возможности запретить изображать половые органы Венеры, прелести Дианы и роскошные формы купальщиц, теологи решают активно напомнить верующим, как обманчива, и даже опасна женская красота. Обнаженное женское тело становится телом колдуньи; в зависимости от пристрастий мастера, оно может даже обладать эротической привлекательностью, однако его непременно окружает целый сонм отрицательных фигур и символов, призванных повергнуть зрителя в ужас.
Одновременно с выходом в свет «Молота ведьм» широкое распространение в германских княжествах получают картинки с изображениями шабаша и ведьм. Гравюры на интересующие нас темы имеются в трактате «Цветы добродетели» 15 Ганса Винтлера, изданном в Аугсбурге в 1486 г. Шесть ксилографических гравюр на те же темы иллюстрируют известный трактат Ульриха Молитора16 «О ведьмах и предсказательницах (De Lamiis et phitonicis mulieribus), изданный в Констанце в 1489 г. и за последующие сто лет выдержавший не менее пятнадцати переизданий20. Надо сказать, все ведьмы в этом издании изображены одетыми, как, впрочем, и демоны. На традиционной для немецкого культурного ареала картине полета на шабаш ведьма обычно сидит на палке с раздвоенным, словно вилы, концом, а рядом с ней летит демон с крыльями как у летучей мыши; однако, по мнению Моли- тора, картина эта является призрачной, порожденной снами, вызванными демоном. Уверенность в реальности существования ведьм, обладающих колдовскими способностями, наступит несколькими годами позже; тогда же появятся и нагие изображения участников дьявольских сборищ. В «Мировой хронике» Гартмана Шеделя 17, изданной в 1493 г., имеется гравюра с изображением нагой ведьмы, сидящей на крупе коня позади всадника, в роли которого выступает сам дьявол; груди ведьмы видны вполне отчетливо, но половые органы прикрыты легкой тканью21. За год «Хроника» была издана дважды, что, без сомнения, свидетельствовало о ее популярности среди читателей. Труд Ульриха Тенглера18 под названием «Зерцало простецов» {Layenspieget), выдержавший с 1509-го по 1527 г. 11 изданий, содержит множество гравюр со сценами ведовства, размещенных по нескольку на одной странице. Традиция изображать ведьму одетой все еще сохраняется: в «Компендиуме зла» (Compendium maleficarum) Гуаццо, изданном в Милане в 1608 г., дьяволы представлены обнаженными, а колдуны и колдуньи одетыми. Именно в немецком изобразительном искусстве, продолжавшем настаивать на наготе ведьмы, была создана самая значимая европейская коллекция изображений ведьм, авторами которой стали такие выдающиеся художники, как Дюрер, Альтдорфер, Ганс Бальдунг по прозванию Грин, Николас Мануэль Дейч, Бургкмайр, Лукас Кранах, мастера, часто оказывавшиеся вовлеченными в религиозные, политические и социальные конфликты своего времени. В первую четверть XVI в., отмеченную торжеством принципов Ренессанса и зарождением проблем, необходимость решения которых приведет к Реформации, было создано особенно много произведений, развивавших тему ведовства и козней дьявола22.
Если самым знаменитым из названных мастеров по праву является Дюрер, то самым плодовитым должен быть признан Ганс Бальдунг Грин. С 1510 г. автор уже упомянутой нами картины, изображающей девушку и смерть, успел нарисовать поистине несметное число ведьм; ему также приписывают авторство гравюр, украсивших изданную в 1517 г. в Страсбурге книгу под названием «Муравей» (Die Emeis), написанную профессором теологии университетов Базеля и Фрайбурга Иоганном Тайлером фон Кайзерсбергом. Юные обнаженные ведьмы Грина выглядели весьма соблазнительно; например, на рисунке, известном по оттиску 1514 г., выполненному в одной из граверных мастерских, массивная фигура старухи с отвислыми грудями и морщинистым лицом наглядно подчеркивает прелести двух обольстительных девиц, чьи позы не оставляют сомнений, какого рода занятиям они предаются: одна стоит на четвереньках задом к зрителям, а другая, готовясь лететь на шабаш, держит в вытянутой руке горшок с кипящей в нем колдовской мазью и мажет ею у себя между бедер. В отличие от других рисунков и картин Грина, изобилующих костями, скелетами, чудовищами, дымящимися котлами и черепами, на этой гравюре ничто не напоминает о дьяволе. Возможно, поэтому большей популярностью пользовалась другая его гравюра, изображавшая ведьму, мчащуюся по ночному небу на огромном сатанинском козле23. В 1506 г. Альтдорфер создал подобную гравюру под названием «Шабаш». В этих произведениях нет ни явной насмешки, ни безудержной эротики; скорее, авторы их проводят безжалостное сравнение между торжествующей плотью юных девиц и дряхлым телом старых колдуний, как это делает Ганс Франк на своей картине «Четыре ведьмы» (1515). Основным свойством ведьм считалась неуемная похоть, и эту одержимость без всякого смущения показывает Бальдунг Грин, изображая на одном из своих рисунков 1515 г. молодую ведьму, услужливо подставившую свои приподнятые кверху округлые ягодицы фаллосообразному языку демонического вида дракону. Однако вокруг мы видим фигуры, напоминающие о том, что и эту девицу непременно ожидает старость и смерть. Откровенный эротизм картины неразрывно связан с ее гибельным аспектом, напоминая, что даже самые прекрасные женские тела все равно обратятся в прах. Деструктивное начало не обходит стороной даже сексуальность: выше мы уже сталкивались с примерами, когда юные девы изображались в объятиях скелетов. Возможно, сами того не замечая, художники, подобно эху, трактуя тему колдовства, тесно привязывали женскую фигуру к образу смерти, отвечая тем самым на озабоченность церковников и нотаблей, основных заказчиков произведений искусства. Даже когда все кажется вполне мирным, как на хранящейся во Франкфурте картине Грина, где взор ласкают созревшие для любви формы двух юных обнаженных ведьм, словно шагнувших на полотно из мифологического рассказа, опасность все равно близко: глаз устроившегося внизу сатанинского козла, пристально смотрит на зрителя из-под желтой вуали, почти полностью скрывающей дьявольское животное. Приглядевшись, понимаешь, что сидящая ведьма просто отдыхает у него на спине24. Связь ведьмы и дьявола прослеживается на гравюре Дюрера, созданной ок. 1500—1501 гг., и изображающей старую ведьму, а также бросается в глаза на картине Николаса Мануэля Дейча (ум. в 1530). Непричесанная, как и окружающий ее пейзаж, полностью обнаженная, с отвислыми грудями, похожими на груди, которыми иногда наделяют самого демона, с густыми зарослями волос на лобке, ведьма, тревожно оскалившись, с вызывающим видом смотрит на зрителя, нисколько не смущаясь своей очевидной дряхлостью. Ничто не могло лучше отобразить похотливость, основное — по тогдашнему мнению — свойство женщины, с возрастом становившееся еще сильнее, и ее разрушительную силу, ибо в те времена полагали, что половой акт наносил ущерб мужчине, а если тот был болен или ранен, то соитие с женщиной могло даже довести его до смерти.
Успех жанра, закрепленный тиражированием многочисленных гравюр на дереве или металле, свидетельствует о растущем спросе на подобного рода картины. Первый выход мифа о шабаше за пределы сферы интересов философов и книжников совпал с началом перевода латинских сочинений на народные языки, что позволило более широким слоям населения приобщиться к тайному знанию. Следовательно, образ шабаша начал укореняться в воображении большего числа людей, способствуя распространению основных положений демонологической науки. Однако вряд ли эти новшества культурной жизни затронули основную массу городского населения и уж тем более сельских жителей. И все же, по мнению автора, весь германский мир, включая такие отдаленные его уголки, как Нидерланды времен Иеронима Босха, а в особенности прирейнские области, стали краем, где ведьмовскому шабашу был оказан поистине привилегированный прием: религиозная и нравственная символика, отражающая страх и перед дьяволом, и перед женщиной, получила широкое распространение как при дворах принцев крови, так и среди городской знати. Обнаженная древняя старуха-ведьма была чистейшей воды фантазмом, воплощением беспредельного ужаса, воцарившегося на омраченной тревогою земле, охваченной предчувствием кровавых сражений за веру, которым суждено начаться во второй четверти XVI в. Ответственность за религиознокультурный процесс, подготовивший ужасные гонения на ведьм, начавшиеся в конце XV в. и продолжившиеся с наступлением нового века, лежит прежде всего на людях, населявших Священную Римскую империю. За пределами Империи Европа практически не была затронута ведьмоманией. Придуманный авторами латинских трактатов, проживавшими среди предгорий Альп, сатанинский шабаш укоренился в культуре высших слоев общества германского ареала и приобрел наглядный образ. Картины и гравюры сократили зловещий путь пробуждения страха перед демоном; желая направить верующих на путь Добра, им напомнили миф о грешной женщине, воплощенной в образе злокозненной ведьмы. Но время массовой охоты на ведьм еще не настало. Реформация и военное столкновение между конкурирующими партиями стало причиною резкого обмеления сатанинского потока.
После Крестьянской войны 1525 г. в Германии почти пять десятилетий дьявол выступал то в образе папы, то монаха-расстриги, в зависимости от лагеря, где его поминали, а ряды тайных поклонников дьявола, равно как и ведьм, похоже, основательно поредели. Купить «Молот ведьм» стало практически невозможно. Возрождение бесовской темы и участившиеся ведовские процессы наблюдаются только в 1570—1580-е гг. Но хотя на протяжении предшествующего пятидесятилетия процессы по делам о ведовстве были крайне редки, ведьмы явно не успели воспользоваться отсрочкой, чтобы развернуться вовсю. Для начала повсеместной охоты на ведьм миф о колдунах должен был получить новый стимул, стать популярным в массах.
Торжество демономании
В Европе великая охота на ведьм началасьв 1580 г.; зачинательницей ее выступила Священная Римская империя. С 1519 г., когда в борьбу религиозных течений вступает Лютер, и до 80-х гг. мы сталкиваемся только с отдельными случаями «привлечения к суду» колдунов, однако все эти случаи никак не повлияли на последующий ход событий. Сами по себе пять десятилетий затишья в охоте на ведьм представляют определенную загадку, а потому требуют подробного анализа, в настоящей работе явно неуместного. К тому же следует отметить, что отношение со стороны реформаторов к арестам ведьм нельзя назвать отрицательным. В начале 40-х гг. Лютер, как и Кальвин, одобрили смертную казнь для колдунов. В течение последующего десятилетия в протестантской Дании колдунам было вынесено почти пять десятков смертных приговоров, а на территории бывших владений архиепископа
Оснабрюкенского после утверждения протестантизма вновь начались гонения на ведьм. В это же время ведьм вновь стали преследовать в католической земле Форарльберг; отдельные случаи зафиксированы также в кантоне Тессин. Начиная с 1560 г. случаи ведовства активно отслеживаются по всей Швейцарии, будь то католические кантоны или протестантские26. Случай Форарльберга и Тессина дают основания полагать, что в Альпах, где впервые вызрела мысль о привлечении колдунов к суду, под пеплом давности по-прежнему тлели угли будущего костра ненависти. С приходом новых властей ведовские костры разгорелись даже в тех уголках, где прежде случаи колдовства были крайне редки или не встречались вовсе. Иными словами, протестанты нисколько не собирались прекращать охоту на ведьм. Едва утвердившись на новом месте, они тотчас попадали под влияние ведовского мифа и принимались со всей строгостью карать адептов Нечистого. Сам Лютер истово верил в дьявола. В дальнейшем мы увидим, с каким размахом в Германии конца XVI в. распространилась демонологическая протестантская культура27. В протестантской Женеве ведьм ревностно сжигали вплоть до середины следующего века; пресвитерианская Шотландия была буквально охвачена эпидемией охоты на колдунов.
Когда задумываешься, отчего в традиционно католических регионах, где прежде охота на ведьм велась весьма активно, эпидемия эта совершенно неожиданно и отчетливо пошла на убыль, вспоминаешь оцепенение властей, вызванное потрясением при виде стремительных успехов движения реформаторов, и, как следствие, необходимость бросить все силы на борьбу с выдвинувшейся на первый план новой угрозой. Альпийские и прирейнские земли, где в XV в. влияние демонологов было особенно сильно, стали основным плацдармом конфессиональных конфликтов; среди них следует выделить швейцарские территории, Северо-Запад и Юго-Запад Германии, а также города Нидерландов, где новые идеи получили массовую поддержку. Под напором протестантов, стремившихся отменить суровые имперские законы Карла Пятого19, борьба с демонами отступила на второй план. Когда сторонники Реформации приходили к власти, как это случилось в Дании, они, в свою очередь, активно брали на себя инициативу по надзору за настроениями населения, и без смущения использовали католический жупел колдовства для уничтожения дьявольских сект. Первая большая волна охоты на ведьм, захлестнувшая Юго-Запад Германии, пришлась на 1562 г.; она выплеснулась из города Визенштейг, в то время принадлежавшего протестантам: там по обвинению в колдовстве было казнено 63 человека. С 1575 г. массовые казни, когда число приговоренных превышает два десятка, становятся привычным явлением; напомним, что дело происходило в краях, где имелось 350 судебных инстанций, за каждую из которых вели борьбу соперничающие конфессии. Стоило только завести дело, как процесс становился неотвратимым: к 1698 г.28 по обвинению в ведовстве были казнены многие тысячи людей. Вопреки утверждениям немецких историков протестантизмаXIX в., усиленно подчеркивавших освободительный характер Реформации, в период с 1560-го по 1600 г. колдунов одинаково активно преследовали как в протестантских областях, так и в католических; правда, к концу указанного периода пыл судей-протестантов несколько приутих, в то время как судьи-католики продолжали свое дело с еще большим рвением29.
Таким образом, теория о существовании колдовского сговора с дьяволом оказалось достаточно гибкой, чтобы приспособиться к новой ситуации, сложившейся в результате раскола религиозного единства. Об этой, основательно позабытой (по крайней мере, до 1560 г.) католиками теории в 1540-х гг. вспомнили протестанты, а с 1562 г. она стала распространяться с поистине ужасающей скоростью, особенно в Визенштейге, в швабских Альпах, между Неккаром и Дунаем. Эпидемия охватила весь югозапад Германии, ряд областей Швейцарии, и, разумеется, прирейнские и альпийские земли, иначе говоря, излюбленные демоном уголки, а потом, подобно масляным пятнам, накрыла и другие европейские земли. Однако нельзя считать, что вся Европа была в равной степени одержима охотой на ведьм. Эпицентром дьявольского подземного толчка всегда оставался тот широкий коридор, по которому шло движение из Италии к побережью Северного моря. В конце XVI в. именно здесь прошли самые большие кампании по борьбе с ведьмами, прежде чем волна их захлестнула всю Германию, и, практически не задев Средиземноморье, с большим опозданием докатилась до центральной и восточной Европы.
Ужесточившиеся в последней четверти XVI в. гонения на ведьм свидетельствуют о безмерном возрастании страха перед дьяволом. Видимо, следует попытаться определить причины и социальные границы этого страха. Тревожные настроения и религиозное соперничество, политическая напряженность, низкие урожаи, связанные с непривычно холодными зимами, за которыми последовали дождливые лета, участившиеся случаи заболевания чумой, вызванная религиозными войнами жестокость в отношениях между людьми, вполне могли встать в ряд факторов, объясняющих страхи перед дьяволом. Но правомерно ли говорить, что результаты этих страхов одинаково проявились на всех социальных уровнях? Возможно ли, что страхи большей части населения приобрели настолько угрожающий характер, что всего за несколько лет изменили народное видение мира, вызвав новую волну жестоких репрессий против адептов дьявола? Я бы ответил на этот вопрос отрицательно. Глубинные изменения, похоже, практически не затронули широкий спектр народных поверий; скорее, они породили усиление тревоги в высших слоях общества. Возобновление охоты на ведьм и резкое ускорение ее темпов связано, без сомнения, не столько с изменениями умонастроений широких крестьянских масс, сколько с изменениями в культурной сфере, затронувшими прежде всего элиту общества. Мир интеллектуалов, художников, клириков, состоятельных горожан и дворян, без сомнения, был потрясен чередой перемен, произошедших в результате Реформации и начатой против нее борьбы. Очередная пропасть пролегла между все еще озаряемым светом Ренессанса и итальянского гуманизма Средиземноморьем и Северо-Западом Европы, в частности Священной Римской империей и сопредельными с ней территориями, то есть теми землями, где происходили жестокие конфессиональные баталии. В 1560-х гг. религиозные войны начались во Франции и в испанских Нидерландах. Литература и искусство отражали упадок оптимистических настроений, присущих гуманистам-утопистам начала века, неуклонно возрастал интерес к ночной стороне бытия, в искусстве процветали пафос, трагедия и насилие. На смену Ренессансу в Италии пришел маньеризм с присущим ему кризисным мироощущением, мрачностью и драматизмом, органично вписавшимися в жизнь, полную опасностей. Городские нотабли, военные, чиновники церковные и светские с тревогой взирали на «бедствия» века, катаклизмы и опасности, подстерегавшие людей на каждом шагу: казалось, Господь, желая покарать человека за его грехи, покинул его. На завершившемся в 1563 г. Тридентском соборе те, кто еще в первой трети века, подобно Эразму, верили в доброту Творца и возможность реформировать Церковь изнутри, потерпели поражение от сторонников «вооруженного» возвращения утраченных позиций и умов. Началось беспощадное движение Контрреформации. Век гуманистов завершался торжеством нетерпимости.
Новая волна дьяволизма прекрасно вписалась в канву исторического фона. Она связана прежде всего с начатой обеими Церквями переориентацией, в которой ее поддержали светские власти, а интеллектуалы и художники выступили пропагандистами новых умонастроений. Между протестантами и католиками началось своеобразное соревнование, основанное на стремлении доказать, что демон стал гораздо активней, нежели прежде, вредить человечеству по причине грехов и преступлений религиозного соперника. Первыми упор на дьявольской теме сделали сторонники Реформации. Определяющую роль в этом сыграли повышенное внимание протестантов к Ветхому Завету, где говорится о кознях Сатаны, священные тексты, переведенные с латыни на общедоступные народные языки и возможность их типографского размножения в достаточном количестве. Реформаторы полностью, без малейших сомнений, приняли средневековую демонологию, хотя о ней и не упоминается в Священном Писании. Теология Лютера уделяла дьяволу гораздо больше внимания, чем католические теологи. Характерный для Германии второй половины XVI в. расцвет специальной литературы, которую вполне можно было бы назвать «книгами дьявола», свидетельствует о важности фигуры Лукавого; отметим, что в это же самое время нечистый появляется и во множестве стихов и театральных постановок30. Пропаганда дьявольских козней сторонниками Реформации прежде всего преследовала цель очернить своих религиозных противников, главным образом папу, именуемого ими Антихристом и провозвестником царства Сатаны на земле. Можно добавить, что отказ протестантов от экзорцизма и индивидуальной исповеди лишь усилил страх перед демоном, ибо названные выше обряды позволяли ослабить дьявольскую силу или по крайней мере держать ее под контролем31. В свою очередь католики использовали эти обряды с той же целью, а именно усилить страх населения перед дьяволом. Яростное соревнование с протестантами повлекло за собой активную пропаганду того, что отвергали противники, с непременным подчеркиванием их многочисленных ошибок. Характерное для последней трети XVI в. публичное проведение обряда экзорцизма позволило изгнать из тел одержимых немало ученых бесов, проповедовавших протестантизм. Реформа католического вероучения, произведенная на Тридентском соборе, сделала упор на личностном, интимном варианте христианства, воплотившимся в доктрине Игнатия Лойолы и иезуитов. Доктрина эта требовала от образцовых христиан осознания персональной ответственности за соблюдение требований веры, а также самоанализа, осуществляемого посредством задаваемых самому себе вопросов, дабы в любой момент обнаружить у себя признаки слабости в вере. Средневековое христианство отводило узкую тропу самоанализа святым и «подвижникам Господа», но после Тридентского собора католическая доктрина предписала такой образ поведения всем священникам и наиболее ревностным в вере мирянам. Обновленному христианину предлагалось наедине с самим собой анализировать собственные грехи, и ему, в отличие от его средневековых единоверцев, адептов коллективной веры, следовало самому отыскать своего личного демона, притаившегося в глубинах его тела, или же того, кто являлся по-всякому искушать его. Миф о Фаусте, продавшем душу Мефистофелю за все блага и знания этого мира, похоже, родился во Франкфурте-на-Майне в 1587 г. В его сюжете отразился страх оказаться в одиночестве перед лицом демона. И здесь же мы сталкиваемся с очень важным общественным и культурным феноменом: выходом модели святости за пределы церковной сферы и ее распространением, сопровождающимся усилением чувства виновности. А так как тропа святости, иначе говоря, самоанализа, была явно доступна лишь немногим, то произошел имплицитный разрыв между частью общества и основной массой христиан, продолжавших искать защиту в механическом исполнении обрядов, предписываемых верой32.
След демона, прервавшийся в 1520—1525 гг., через поколение объявился вновь, теперь в стане сторонников реформированной веры. Teufelsbucher (букв, «чертовы книги», «бесовские книги», книги, где рассказывалось о проделках демонов), написанные на простом, доступном всем языке и предназначенные пасторами-лютеранами для вразумления верующих, в середине XVI в. вернули демону в пределах Священной Римской империи его прежнюю мощь. И как результат вспыхнувшая в 1560 г. яростная охота на ведьм. Доктринальное соревнование между католиками, получившими мощную поддержку на Тридентском соборе, и их конфессиональными противниками, привело ко всеобщему усилению страха перед демоном среди церковной и мирской элиты обоих противоборствующих лагерей. Люди, достигшие зрелого возраста в 1580-е гг., резко отличались от тех, кто повзрослел в первой половине XVI столетия. Новое поколение видело мир островком посреди огромного плацдарма, где происходила титаническая борьба между силами Добра и Зла. Трагическая культура, насажденная религией и моралью при активной поддержке литературы и искусства отныне побуждала человека в ужасе всматриваться в собственное тело, ибо в нем вполне мог скрываться демон:<3. Для почитавших Писание и книжников мир словно перевернулся. Гуманист больше не мог, подобно Томасу Мору или Рабле, верить в утопии. Он не дерзал верить в доброту Господа, в красоту и величие человека, в «иерархию универсума» неоплатоников, полностью исключивших из нее дьявола. Вынужденный выбрать свой лагерь, отныне он должен был отстаивать его и сражаться, не смея даже думать о возможности компромисса. В конце XVI в. преисподняя ожидала европейских христианских гуманистов, похоже, уже на земле. Мстительность Господа внушала ужас. На картинах Питера Брейгеля Старшего «Триумф смерти» (ок. 1562) и «Избиение младенцев» (ок. 1566) человек корчился в муках в объятом дьявольским пламенем мире, а «Безумная Грета» (Dull, Griet, ок. 1563), разодетая, прижимая к себе бесполезную уже корзину с добром, словно в дурмане шла вперед, неуклонно приближаясь к зияющему жерлу ада, в то время как позади нее армия демонов наводняла охваченный пожаром мир, где одни только женщины пытались оказать сопротивление их нашествию. Художник, более известный своими полотнами, прославлявшими радости крестьянской жизни, в одно время был близок к придворным кругам Брюсселя, где ему покровительствовал кардинал Гранвелла. К 1561 г. стиль художника резко изменился: в его работах отражался охвативший людей страх и глубокий пессимизм. Испанские Нидерланды стояли на пороге грозных событий, предвестником которых явилось поднятое в 1566 г. протестантами восстание и разгром нескольких тысяч церквей, где противники «католических идолов» уничтожили иконы и статуи святых; погромщики готовились к выступлению против короля.
Демоны Брейгеля созданы под впечатлением картин скончавшегося в 1516 г. Босха. Сейчас уже никто не сомневается, что Босх был прекрасным знатоком средневековой демонологии. Работы «Искушение св. Антонии» (Лиссабон) и «Страшный Суд» (Вена) очевидно свидетельствуют о знакомстве великого визионера с трактатом Нидера «Муравейник» и опубликованным в 1487 г. «Молотом ведьм»34. Произведения Босха и Брейгеля важны для нас особенно, ибо они не только переводят сложный язык теоретических выкладок на язык образов, но и придают миру демонов подлинно человеческое измерение. Изображая Зло, коренящееся в самом центре человеческой натуры, они вместе с другими художниками и мыслителями своего времени способствуют формированию вполне конкретного образа дьявола, пребывающего совсем рядом, а потому особенно опасного. Но нельзя забывать, что художники никогда не обращались к простонародью, их заказчиками всегда была придворная либо городская элита. Мастера создавали своего рода зеркальные отражения, в которых богатые и высокопоставленные интеллектуалы могли узнать себя — как непосредственно, так и опосредованно, через своих антиподов, представленных грубыми и грязными неотесанными крестьянами, никогда не покупавшими картин. Даже формально неповторимые образы великих мастеров являются отражением присущего эпохе воображаемого, общего как для художников, так и для заказчиков. Ключевой фигурой в нем являлся дьявол, под его знаком формировался универсум ученой культуры, к которому принадлежали власть предержащие, и в который постепенно вовлекались все более широкие круги горожан. Мрачному испанскому королю Филиппу II, скончавшемуся в 1598 г., нравились принадлежавшие ему полотна Иеронима Босха, следовательно, изображения на этих картинах вполне отвечали его религиозному чувству, типичному для периода мощного наступления Контрреформации.
С 1580 г. число разного рода пособий по демонологии быстро увеличивалось и приобретало новую качественную окраску. Конфессиональное соперничество не только не остановило борьбу с нечистой силой, но наоборот, сделало ее частью яростной битвы за власть над душами прихожан. Временное торжество гуманистических идей, выпавшее на период с 1520-го по 1560 г., вероятнее всего, связано с ослаблением бдительности со стороны Церкви. Рабле, еще в 1530 г. видевший жизнь в розовом свете, постепенно обнаруживает, что в окружающем его мире преобладают гораздо более темные краски, и его великаны, утратив свою восторженность, превращаются в скептиков и философов. Дьявол, вынесенный за скобки эразмовой «республикой ученых», граждане которой, в каком бы государстве Европы они ни проживали, проповедовали религию более индивидуальную и в меньшей степени окрашенную суевериями, затаился и ожидал своего часа.
Как ни парадоксально, но час этот пробил одновременно с выходом книги первого противника охоты на ведьм Иоганна Вира. Если не принимать во внимание сомнения, высказанные в конце XV в. Молитором, усомнившемся в реальности действий ведунов, то Вир вполне может считаться первым, кто предложил относиться к ведьмам как к больным, требующим лечения. Однако труд его на целый век опередил свое время: даже Мон- тень высказался о нем скептически. В опубликованном в 1563 г. сочинении «О дьявольских обманах, колдовстве и чародействе» (De praestigiis daemonum et incantationibus et veneficiis) Иоганн Вир допускал существование сатанинских проделок и самого Сатаны, считал дьявола виртуозом по части обмана и не отрицал, что нечистый подписывает договоры с «бесчестными чародеями». И вот этих чародеев, наряду с отравителями, необходимо преследовать со всей строгостью, а так называемых ведьм оставить в покое. Став в 1550 г. придворным медиком герцога Клевского-Жюлье, Вир ко времени появления своей книги о колдунах уже был автором ряда медицинских трудов. Рассматривая одержимых и заколдованных с точки зрения врачевателя, он полагал, что они находятся под воздействием меланхолического гумора, «высшего зла» или же «болтливой» старости35. Принадлежа душой и телом своему времени, он, не будучи предтечей рационализма, проповедовал снисхождение во имя идей, наверняка показавшихся бы человеку XXI в. абсурдными и нелепыми36. Книга Вира, впервые изданная в Базеле, к 1568 г. выдержала три латинских издания, одно издание в переводе на немецкий, и одно — в 1567 г. — на французский. Проживание автора в прирейнской области, равно как и место первого издания его труда, свидетельствуют о прежней популярности в этих краях демонологических штудий. Сочинение Вира стало своеобразным ответом на возобновление охоты на ведьм и 63 костра, отпылавших на протяжении 1563 г. в немецком городке Визенштейг и оказавших огромное влияние на умонастроения местных жителей. До конца 1560-х гг. в руках читающей части населения оказалось несколько тысяч экземпляров книги Вира, а в 1569 г. было выпущено ее французское переиздание. Впрочем, полемика со сторонниками демонологии в это время велась довольно вяло, равно как и гонения на ведьм, интерес к которым в последующее десятилетие, казалось, был утрачен. Разумеется, не обошлось без появления новых трактатов о борьбе с демонами и ведьмами; к ним в частности, относится сочинение протестанта Ламбера Дано из Женевы, вышедшее в 1574 г. под латинским названием «О чародеях» (De veneficis...). Полемические страсти, выплеснувшиеся на страницы листовок и толстых фолиантов, разгорелись только в начале 1580-х гг. и уже не прекращались до самого конца великой охоты на ведьм. По подсчетам Робера Мандру, за это время во Франции вышло 345 демонологических трудов, изданных в нескольких сотнях тысяч экземпляров47.
Начало дьявольской свистопляске положил француз Жан Боден, знаменитый гуманист и юрист, опубликовавший в 1580 г. в Париже сочинение под названием «Демономания». И тотчас возникает вопрос, отчего один из величайших умов своего времени взялся писать на столь «жареную» тему, почему привычка упражнять ум и знакомство со всеми науками не сумели ему в этом помешать? Впрочем, говорить о толерантности в 1580 г. было бы чистейшим анахронизмом: в самый разгар религиозных войн даже гуманисты отвергли бы мирные идеалы Эразма. Боден был человеком своего времени, и разум его был вполне согласен с тем, что он писал, хотя, разумеется, лично в охоте на ведьм он не участвовал и поводов для этого не имел. В его время ведовские процессы во Франции были довольно редки, и к тому же сам он никогда не выступал главным обвинителем, довольствуясь ролью помощника королевского прокурора: в этом качестве он участвовал в рассмотрении дела во время «Великих Дней» Пуатье в 1567 г., а также в нужный момент выступил на процессе в Рибемоне в 1578 г. После его выступлений, подкрепленных свидетельствами друзей и различного рода донесениями, было начато около полудюжины дел о ведовстве, и все в северной части королевства, где в общей сложности было сожжено около двенадцати человек. Интересно, что Боден никогда не разделял выдвинутого в «Молоте ведьм» тезиса об ответственности женщин за порок чародейства, хотя сам он слыл женоненавистником, в чем легко убедиться, прочитав его знаменитый трактат «Республика», издававшийся с 1576-го по 1578 г. Своей главной целью он считал создание в королевстве законодательства, регламентирующего ответственность виновных в чародействе и ведовстве, ибо законов, на основании которых можно было бы судить лиц, повинных в этих страшных преступлениях, не существовало. Поэтому нельзя было воспрепятствовать населению добиваться от обвиняемых признания вины способами, нисколько не отвечавшими священным принципам правосудия, и в частности, связав обвиняемым руки и ноги, бросать их в воду и признавать невиновными только тех, кто выплывал. Такую процедуру Боден называл дьявольской пародией на судебную систему38.
Есть все основания возложить ответственность за оживление интереса к ведьмовскому чародейству непосредственно на Иоганна Вира и других авторов многочисленных трактатов, пытавшихся «спасти ведьм всеми доступными способами; однако, если судить по результатам, трактаты эти, похоже, диктовал сам Сатана». Содержание этих книг отражало, скорее, интеллектуальную полемику, нежели реальное состояние судопроизводства. Боден достиг своей цели, ибо, если судить по 10 французским изданиям «Демономании», вышедшим за период с 1580-го по 1600 г., а также переводам, из которых латинский был издан Базеле около 1581 г., а итальянский — в Венеции в 1589 г., книга получила широкую известность. Выступая против Иоганна Вира, он излагал его медицинские аргументы, затем доказывал их ошибочность и далее утверждал, что ведьмы в действительности могут совокупляться с демоном, а в качестве доказательства приводил признания самих ведьм, некоторые из которых даже говорили, что «семя демона очень холодное».
С 1580 г. количество сочинений по борьбе с ведьмами резко возрастает. Теологи и судьи соперничают между собой в эрудиции с единственной целью подтвердить необходимость искоренения секты почитателей дьявола. Сочинение теолога Петера Бинсфельда, изданное в 1589 г. в Трире, положило начало искоренению ведовства в этой части Германии и сожжению множества ведьм, уличенных в связях с дьяволом. Среди судей, активно включившихся в борьбу с ведьмами и одновременно одержимых демоном графомании, можно назвать Анри Боге из Франш-Конте, Пьера де Ланкра из французской части Страны басков, и Никола Реми из Лотарингии. Теолог и судья, иезуит Мартин дель Рио опубликовал в 1599 г. труд Disquisitionum magicarum libri sex, сразу завоевавший популярность у читателей; в испанских Нидерландах книга дель Рио стала поистие настольной для судей, которые после издания в 1592 г. соответствующего ордонанса Филиппа II, начали ожесточенную борьбу с ведовством2040. Конец XVI в. в Европе, отмечен, похоже, беспрецедентным разгулом сатанизма: всюду горят костры, в их пламени корчатся прислужники дьявола. Однако историкам известно, что эпицентром борьбы с ведовством по-прежнему являются прирейнские земли, пролегающие на пути из северной Италии к берегам Северного моря; необычайное усиление этой борьбы отмечается также в западной части Священной Римской империи, в Швейцарии, в испанских Нидерландах и во Франции, где вплоть до 1620-х гг. ведьмы подвергаются еще более жестоким гонениям, чем некогда подвергались в Шотландии. Теперь обвинение, предъявляемое подсудимым, представляет собой стройную систему, выстраивающуюся вокруг сатанинского шабаша, где самой тяжкой провинностью является противоестественная сексуальная связь с демоном: поэтому основная тяжесть преступления ложится на женщин, более других склонных к такого рода связям.
Дьявольская отметина
Подлинное развитие демонологической теории происходит, скорее, не на идейном уровне, а исключительно на практике, хотя Жан Боден вряд ли согласился бы с этим утверждением. Взлеты и падения интереса к проблеме были тесно связаны с действиями конкретных земных властей. Чтобы внушать страх и тревогу, дьявольский универсум должен был получить свое материальное воплощение и представить доказательства своего существования. До 1580 г. во всей Европе процессы над ведьмами были явлениями достаточно редкими, и демономания не могла превратиться в навязчивую идею, в чем вполне можно убедиться на примере Франции. Там, где государство предпочитало экономить на судебных процессах, охота на ведьм также велась не слишком рьяно. В Португалии, например, составные элементы шабаша, несомненно, присутствующие в мире воображаемого, фигурируют в основном раздельно, а полная картина воспроизводится крайне редко41. Относительное равнодушие судей святой инквизиции к ночным сборищам и сравнительно небольшое число процессов над их участниками, организованных гражданскими властями, свидетельствует, что репрессивные меры никогда не способствовали распространению мифа о шабаше. На деле же именно эти меры являются ключевым элементом при определении, насколько глубоко данная модель поклонения дьяволу внедрилась в данной местности или регионе. Именно карающая машина поставляла материал для теоретической демонологии, которая, без сомнения, зачахла бы доволь-
По быстро, если бы в судах не множились дела по конкретным случаям ведовства. Так, например, определенные периоды судебного затишья в прирейнских землях, регионе, где власти в принципе ревностно следили за появлениями различного рода сатанинских фантазмов, были отмечены в промежутке между 1562-м и 1580 г.
Образно говоря, ведовские процессы представляли собой плоть демонологической науки. Они подтверждали правильность ее выводов. На суде сложная теологическая теория становилась вполне осязаемой реальностью. Привлеченные к суду обвиняемые, как мужчины, так и женщины, выступали конкретными воплощениями демоНа, существа, по сути, такого же непознаваемого, как и Бог. Подобного рода трансформации перемещали борьбу Добра и Зла из небесных сфер в конкретную человеческую душу, и служили грозным напоминанием о личной виновности каждого. Дьявол, существовавший прежде Где-то за пределами человеческой личности, теперь находился внутри самого человека. Процесс вторжения демона в человеческую душу практически не затрагивал рядовое население, привыкшее воображать Злого Духа реальным существом, борьба с которым ведется вполне конкретными способами. Ведовские процессы стали своеобразными наглядными уроками новых норм поведения, где обвиняемому отводилась показательная роль антипода доброго христианина, глядя на которого его родственники и соседи неизбежно должны были порвать со старыми суевериями и встать на путь раскаяния. Признания колдуна способствовали формированию мифа об исповеди как о единственном средстве спасения, и, как следствие, побуждали людей к самоанализу, к систематическому исследованию закоулков собственной совести с целью избежать ловушек, расставляемых коварным дьяволом, стремящимся украдкой завладеть телом, дабы потом подчинить себе и душу.
Отныне демонология утверждает, что главная опасность таится в теле и в сексуальных отношениях. Эти новые символы понятны и доступны всем, никто не может обойти их стороной, но в описаниях шабаша они занимают слишком скромное место. Картины ночных полетов в поднебесье и последующих сборищ являются всего лишь оригинальной декорацией, подчеркивающей противоестественность поступков колдуна. Тогдашние авторы, соревнуясь в изощренности описаний шабаша, представляют его прямой противоположностью христианской мессе. В перевернутом мире шабаша бал правит Господня обезьяна, именуемая Сатаной. Но истинная суть происходящего кроется отнюдь не в профанации религиозных обрядов. Не в изготовлении вредных порошков и мазей, которые, согласно народным поверьям, используют колдуны для вызывания грозы, болезней, падежа скота и гибели людей, о чем запуганные люди охотно сообщают судьям. И даже не в инакомыслии поклонников дьявола, чьи противозаконные действия сводятся к богохульствам и нечестивому поведению. Подлинное могущество нового изобретения теологов заключается в признании человеческого тела источником всяческого зла, и, как следствие, его обреченность на противоестественные сексуальные отношения. Поэтому целью самоанализа становится признание вины в греховном использовании собственного тела и половых органов.
Материалы ведовских процессов превращаются в хранилища глубинных культурных страхов своего времени, в них описан ужас, порожденный нарушением главных религиозных и моральных табу. Специалисты по демонологии составляют перечень недопустимых отклонений от норм поведения добропорядочного христианина. Когда речь идет о собственно вероотступничестве, в нем всего лишь повторяются ставшие классическими обвинения, издавна возводимые на еретиков, как например, обвинение в ритуальных умерщвлениях младенцев. Зато преступления, совершаемые в сексуальной сфере, определяются исключительно исходя из новых требований. Речь идет уже не о банальных оргиях, в которых прежде обвиняли еретиков, а о неслыханных гнусностях, об ужасном осквернении телесной оболочки, созданной Господом по своему образу и подобию. А после того, как в течение XVI столетия в гражданских законодательствах европейских государств формируется шкала сексуальных преступлений, страх перед нарушением сексуальных запретов становится поистине всеобъемлющим. Весьма вольные нравы конца Средневековья сдают свои позиции, уступая место торжествующему морализаторству. В ряде случаев сексуальные отношения вне брака могут караться штрафом. Серьезнейшим проступком считают гомосексуальные связи, скотоложство, содомию, инцест с отцом или матерью, с братом или сестрой; подобного рода преступления караются смертью, чаще всего на костре, приравнивая таким образом сексуальных преступников к еретиками и чародеями. Например, во Франции и Нидерландах42 увеличение числа ведовских процессов совпадает с преумножением смертных приговоров за нарушение сексуальных табу. На первый взгляд между этими двумя феноменами нет прямой связи, тем не менее источник у них один: внушенное чувство виновности, требующее от каждого контроля над прячущемся в его теле зверем43.
В Европе начиная с последней трети XVI в. в каждом ведовском процессе, организованном с привлечением органов мирского судопроизводства, фигурируют обвинения, предъявленные как на основании данных демонологии, так и традиционных народных поверий. Охота на ведьм носит не только карательный характер: процессы о ведовстве способствуют выработке единого демонологического дискурса, превращая локальные случаи поклонения дьяволу в скоординированные элементы сатанинской теории. Создается своеобразная общедоступная сатанинская библия, приобщение к которой происходит во время созерцания казней; участники судебных заседаний, равно как и свидетели и зрители, пересказывая увиденное, становятся распространителями знаний о демонах. Таким же образом к таинствам демонологии приобщаются и сами судьи. Многие из них, подобно Жану Бодену, на практике постигают искусство ведения суда над колдуном. Опыт, полученный на практике, перекочевывает в учебники, из которых можно почерпнуть не только теоретические познания, но зачастую и практические советы. Анри Боге, бывший верховным судьей в земле Сен-Клу, в 1591 г. опубликовал труд под названием «Мерзкие речи колдунов», где не только рассказывал о процессах, но и давал практические советы своему коллеге, Даниелю Романе, адвокату в суде Салена:
Статья 5.
Существует поверье, согласно которому пойманному колдуну нельзя позволять касаться земли, ибо ежели он ее коснется, то уже ни за что не расскажет всей правды. Однако такое поверье, на мой взгляд, бездоказательно, и я вместе с Реми [судьей из Лотарингии] полагаю его суеверием. Шпренгер [один из авторов «Молота ведьм»] также велит не давать колдунам касаться земли, однако доводы его столь неубедительны, что отвечать на них нет нужды.
Статья 6.
Этот же самый автор предупреждает судью, чтобы тот не допускал колдуна прикасаться к нему, в особенности к запястьям его рук, а также чтобы колдун первым не смотрел на него [из опасения сглаза], ибо чародей может навести порчу дурным глазом. Но я полагаю, что это все тоже суеверия, и ни рука, ни глаз чародея таковой силы не имеют44.
У специалистов по демонологии нет стройной теории борьбы с дьяволом. Ученые мужи-демонологи яростно дебатируют способы борьбы с нечистым духом. Однако в главном они проявляют завидное единодушие: самым тяжким грехом отныне признается оскорбление Божественного величества, и в рамки этого преступления вполне вписывается понятие колдовства. Бесспорная принадлежность к тайной секте дьяволопоклонников определяется на основании совершения одного из трех действий: заключение договора с Сатаной, участие в шабаше, совершение чародеяний. Все три понятия включают в себя различные культурные и временные пласты. Под чародеяниями подразумевается комплекс древних верований в действенность колдовства и магические возможности отдельных личностей. Образ шабаша начиная с XV в. разрабатывается самими демонологами. Договор с Сатаной является наиболее поздним изобретением, созданным воображением ученых-книжников. Пакт с дьяволом, представление, рожденное из сплава многочисленных старинных народных поверий с алхимией и астрологией, наук, практиковавшихся образованными чародеями Возрождения, отражает новое видение взаимоотношений человека и Мефистофеля: подобно Фаусту, ведьма лично устанавливает с демоном вполне материальные отношения. Миф о договоре с дьяволом, поданный в двух аспектах — литературном и уголовном — захватывает воображение человека Запада. Иначе говоря, авторы трактатов по демонологии воображают, что ведьмы, подобно доктору Фаусту, сделали свой свободный выбор в пользу проклятия, чтобы насладиться материальными благами этого мира.
Материалы ведовских процессов свидетельствуют, что судьи, черпающие свои познания из трактатов по демонологии, толкуют сложившийся миропорядок в терминах персональной вины, сознательного выбора, сделанного человеком, совершившим грех. Эти представления, втолкованные судьями обвиняемым и свидетелям, широкие массы черпают из проповедей. Любой процесс по делу о ведовстве становится очередным шагом активного наступления на разнородные народные поверья, которые клирики и грамотеи хотят загнать в рамки единообразия. Стремясь заставить ведьму осознать всю степень своей ответственности, ученые книжники помещают демона к ней в чрево. Если прежде основное внимание уделялось телу колдуна, то теперь судей интересует его дьявольское функционирование, подтвержденное конкретными проявлениями. Скептическое отношение Анри Боге к издавна существующим в народе способам выявления колдунов объясняется прежде всего утратой интереса к внешней форме и повышенным вниманием к сокрытому в ней содержанию. Оправдание подозреваемого на том основании, что, будучи брошенным в реку, он ухитрился не утонуть, или же обвинение его в наведении порчи путем прикосновения или взгляда, по мнению Боге, относятся к области «суеверий» и существенного значения не имеют. Главное заключается во внутреннем, тайном изменении плотской оболочки, предавшейся Злу. Чтобы разоблачить колдуна, судьи должны разглядеть печать дьявола и исследовать сексуальные извращения, которым предавался обвиняемый.
Если сравнить протоколы допросов обвиняемых в колдовстве со свидетельскими показаниями, нетрудно заметить существующую между ними принципиальную разницу. Не упоминая о шабашах и не давая конкретных описаний фигуры дьявола, свидетели упорно стремятся рассказать вполне реальные истории о приключившихся бедах, болезнях или смертях, утверждая, что повинны в этом предсказания обвиняемых. А так как свидетельские показания обычно не содержат необходимых для судей сведений, то подсудимым задают дополнительные вопросы, касающиеся их веры и сексуальных контактов с дьяволом. Нередко судьи находят на теле подозреваемого сатанинскую печать. Ниже приводится выдержка из допроса двадцатитрехлетней Кретьены, дочери Жана Пар- мантье, уроженки деревни Эстре в Лотарингии, обвиненной в колдовстве и представшей перед судом в 1624 г.:
— На вопрос о том, как выглядит дьявол, она отвечает, что это огромный черный человек, коего она почитает злым духом; одет он во все черное, сзади у него висит кинжал, а на шляпе черные перья.
— На вопрос, как давно он поставил на ее тело свою печать, она отвечает, что это случилось около четырех лет назад, и что потом она болела целых два дня подряд.
— На вопрос, в каком месте Топен [ее демон] являлся к ней, она ответила, что это было на шабаше [...]
— На вопрос, познал ли ее [плотски] вышеуказанный Топен, а если познал, то сколько раз и в каком это было месте, она ответила, что он познал ее только один раз в одном месте, а именно в поле Шампень, что возле Тийо, когда [она] проживала в доме Николя Годеля младшего, и сказала, что дьявол причинил ей ужасную боль, и что она чувствовала жуткий холод и страшную резь, словно ей между ног засунули колючки, так что после она болела целых две недели <...>
— А в остальном она крайне опечалена тем, что оскорбила Господа, и посему она просит, чтобы ей дозволили принять причастие и умереть45.
Сексуальные отношения с демоном и чувство виновности идут рука об руку под недреманным оком судей.
Выстраивается цепочка доказательств, согласно которым самый большой, какой только можно вообразить, грех обвиняемого заключается в том, что он отдал свое тело и душу дьяволу. Значение подобного рода доказательств переоценить поистине трудно, ибо именно на их основании обвинение в колдовстве получает вполне конкретные очертания, и подлежит суду всех уровней власти. Наличие отметины становится основным пунктом обвинения. И хотя о дьявольской печати на теле обвиняемого упоминают еще в XV в., например в деле аррасских вальденсов 1460 г., первостепенное значение она реально получает только в период великой охоты на ведьм в XVI и XVII вв. Отметина, оставленная когтем дьявола, чаще всего на любимой дьяволом левой стороне тела, нередко скрытая в «постыдных частях тела» или даже в глазу колдуна, она является доказательством договора, заключенного с Сатаной. Или, говоря юридическим языком, доказательством частичным, так как простого обнаружения этой отметины не было достаточно для вынесения смертного приговора: она всего лишь дозволяла судьям удвоить рвение, а в случае запирательства обвиняемого применить пытку. Для обнаружения пагубных стигматов обвиняемого раздевали до гола и сбривали все волосы, имевшиеся на его теле; поиск осуществлялся под наблюдением хирурга. Отвлекая внимание обвиняемого, подозрительные места кололи длинными иглами. Если обвиняемый не вскрикивал от боли или же на месте укола не выступала кровь, составляли протокол, подтверждавший наличие одной или нескольких дьявольских отметин. Сей официальный способ дознания быстро был воспринят населением, и многие жители, желая вывести на чистую воду своих соседей, стали прибегать к таким вот «уколам». В 1601 г. семидесятилетняя крестьянка из Камбрези по имени Альдегонда де Рю, проживавшая в селении Базюэль, отправилась в город Рокруа в Арденнах, расположенный от Базюэля в одном дне пути верхом, чтобы добровольно пройти процедуру поиска дьявольской отметины: тамошний палач славился своей ловкостью и умением выискивать отметины дьявола. Палач этот, мэтр Жан Минар, сделав свое дело, направил эшевенам Базюэля сообщение, где утверждал, что обнаружил на левом плече вышеозначенной крестьянки необычный знак, состоящий из пяти маленьких точек, похожих на те, «которыми враг рода человеческого метит ведьм, когда в первый раз совокупляется с ними». Также мэтр добавлял, что подобные знаки он уже обнаружил у 274 человек, и все эти люди были казнены по обвинению в колдовстве. Меньше чем через шесть недель Альдегонда взошла на костер, разведенный для нее в Базюэле46. В 1671 г. во Франции для прекращения настоящей эпидемии охоты на ведьм, разразившейся в Беарне, понадобилось вмешательство Королевского совета. Некий подросток, утверждавший, что он способен распознать адептов дьявола по ему одному видимой черной маске, которую они носят на лице, а также по белой отметине в их левом глазу, выдал судьям более 6000 человек, нанеся существенный урон численности населения трех десятков общин47.
Дьявольскую отметину можно расценивать и какпечать изгоя, ведь именно в рассматриваемую нами эпоху преступников, воров и всевозможных маргиналов часто отмечали позорным клеймом: например, отрезали ухо или клеймили каленым железом, оставляя на теле неизгладимый след. Обостренное внимание к отметине, сделанной дьяволом, направило в русло демонологии многочисленные народные верования и обряды, связанные с родимыми пятнами48. И все же вряд ли наши объяснения отражают всю полноту этого необычайно важного для своего времени явления. Ибо в отличие от договора с Сатаной и шабаша дьявольская отметина является вполне конкретной составляющей частью демонологического мифа, именно она переводит этот миф из сферы воображаемого в реальность, ведь убедиться в наличии отметины может каждый: и сама ведьма, и судья, и «укалыватель», и публика, присутствующая при процедуре поиска. Известны случаи, когда обвиняемые, прежде упорно отрицавшие свою вину, узнав об имевшихся у них на теле пагубных стигматах, раскаивались и признавали себя виновными по всем пунктам предъявленного им обвинения. Говоря о теоретической значимости рассматриваемого феномена, следует подчеркнуть, что именно отметина уничтожила последние сомнения теоретиков в реальности преступлений, вменяемых колдунам: раз дьявол мог пометить своих избранников и вступить с ними в плотскую связь, значит, он был не бесплотным духом, а существом вполне осязаемым. Следовательно, и шабаш был не сном, посланным Сатаной, а вполне реальным сборищем, куда колдуны прибывали в своем телесном облике. Для разрешения ряда щекотливых вопросов, постоянно порождавших ученые дебаты, был выдвинут постулат о теле, одержимом дьяволом. В глазах судей отметина символизировала физическое присутствие в теле дьявола, а значит, доказывала виновность арестованных.

Ад. Фреска XV в.

Ад. Демоны ведут грешников на муки. Фрагмент. Горельеф портала собора в Бурже

Демон с лицами на месте гениталий. Фрагмент горельефа

Демон с лицом на заду. Фрагмент горельефа

Жаба кусает грешницу за грудь. Фрагмент горельефа

Черт ложится в кровать к молодой женщине. Гравюра из "Истории Мерлина" XVв.

Разоблачение ведьмы перед инквизиторами. Гравюра XIX в.

Поиск "печати дьявола" на теле женщины. Гравюра XVII в. Нидерланды
Большое значение в сборе доказательств вины подсудимых придавалось сексуальным актам с демонами. Причину тому следует искать не только в удовлетворении эротических пристрастий судей или же их извращенности, хотя, разумеется, постоянные описания сексуальных излишеств и созерцание обнаженных тел, на которых надо было отыскать печать дьявола, вполне могли привести человека к скопофилии 21. В логике ведения процесса сексуальной стороне вопроса придавалось чрезвычайно важное значение. Тем не менее в показаниях свидетелей никогда не упоминалось о совокуплениях с дьяволом; собственно говоря, связь обвиняемого с демоном обычно выявлялась в процессе допроса, когда обвиняемые либо все отрицали, либо хранили молчание, либо, следуя стандартной процедуре, признавались в своем грехе. Признание в сексуальном грехе часто решало исход процесса, так как после него человек обычно прекращал сопротивление и соглашался с предъявленными ему обвинениями. Жительница герцогства Лотарингского Кретьена Пармантье, представшая перед судом в 1624 г., рассказала, как во время совокупления с дьяволом она претерпевала ужасные муки и холод, а потом еще долго болела. Из других показаний следовало, что член у дьявола был холодным как лед, непомерно велик и причинял ужасную боль, вырывая клочья плоти, словно он был усеян шипами; семя же дьявола было холодным. Прежние представления о ледяном как смерть теле демона уточняются и дополняются сведениями о болезненности полового акта с демоном; впрочем, некоторые ведьмы утверждали, что при совокуплении с дьяволом они испытывали удовольствие.
Подобные рассказы вполне можно объяснить с позиции простои житейской логики. В сущности, речь в них идет о банальных эпизодах сексуальной жизни, превратившихся в воображении замороченного допросами обвиняемого в соитие с дьяволом. Так, например, Кретьена совершенно очевидно, рассказала, как ее лишил девственности незнакомый мужчина, и сопроводила свой рассказ общеизвестным утверждением о холоде, исходящем от дьявола.
Однако поставить воображаемые признания обвиняемых на рельсы реальности означало бы забыть, что любое пережитое событие, лежащее в основе ответа обвиняемого, имело смысл только в том случае, если оно вписывалось в контекст посрамления Сатаны и поиска доказательств для наказания его сообщников. Дьявольская сексология была порождением ученых книжников, ибо в народных поверьях о совокуплении человека с существами сверхъестественными ничего не говорилось о болезненности этого совокупления, о чем ярко свидетельствует легенда о Мелюзине22. Разработка теории сношений человека с дьяволом была своего рода социальным заказом, стремлением найти логические объяснения ее постулатов, необходимые самим ее творцам. Краеугольным камнем этой теории стал запрет, нарушение которого грозило такими ужасными карами, что ни у кого не должно было возникнуть желания преступить его даже мысленно.
Повсеместно насаждая беспредельный страх перед дьяволом, христианам постоянно внушали мысль о возможности противоестественных сношений женщин и мужчин с демонами — инкубами и суккубами. Страх, порожденный дьявольскими кознями в сфере сексуальных отношений, лег в основу строжайших сексуальных табу. Табу эти нарушались во время шабашей, участники которых безудержно совокуплялись, презрев священные узы родства, предаваясь содомскому греху и принимая самые извращенные позы. Дети, рожденные ведьмами, посвящались дьяволу, а затем использовались для удовлетворения людоедских наклонностей участников шабаша или же изготовления вредоносных порошков и мазей. В сущности, воображаемый универсум шабаша является перевернутым отражением христианского мира, где священные узы брака заключаются исключительно для продолжения рода, а не для получения удовольствия от сексуальных отношений, и где исповедники следят за соблюдением сексуальных запретов, к которым относятся мастурбация, совершение полового акта когда женщина находится поверх мужчины, использование контрацептивов и, разумеется, содомский грех, каравшийся смертью. С 1570 г. постоянно множащиеся визуальные образы шабаша отличаются нарастающим стремлением запугать: мрачная обстановка, злобные и вредоносные животные, кости, черепа и жуткие сцены, от которых кровь стынет в жилах. Так, например, на одном из рисунков художника начала XVII в. Жака де Гейна II мы видим дьявольскую кухню, где потрошат трупы, поджаривают куски человечины и высасывают кровь из живых людей49. Напоминание о необоримой гибельной силе, присущей ведьмину телу, о сексуальной извращенности ведьмы постоянно содержится в тогдашних трактатах по демонологии, красной нитью проходит в материалах процессов. Сатанинское соитие не может породить даже чудовищ, ибо целью его является предотвращение и запрещение любой жизни.
Теоретические трактаты, система судопроизводства и визуальные образы, относящиеся к охоте на ведьм, являются элементами сложного комплекса представлений, способствующего разрастанию ужаса, поселившегося в глубинах воображаемой элиты общества; стремясь разделить этот ужас с населением, люди элиты устраивают показательные ритуальные процессы, постоянно увеличивая их число. Ужас этот порожден сплавом фантазмов, связанных со смертью, с дьяволом, с женской сексуальностью. На рубеже XV и XVI вв. в Священной Римской империи и Нидерландах, где страхи, связанные с чародеяниями, были особенно сильны, специалисты по демонологии и художники стали использовать этот сплав для своих целей50. Основой мифа о шабаше отныне стали тело, отмеченное печатью дьявола, и плотское сношение с демоном; в качестве же последнего имплицитного элемента конструкции теперь предлагалось уравнять смерть и всепоглощающую плотскую страсть, которой одержимы женщины. За спиной цветущей ведьмы вырисовывалась фигура старой мегеры, существа еще более опасного, ибо преклонный возраст и неспособность к соитию только усиливали ее разрушительную женскую силу. Устанавливая границы сексуальности, табу исключительно мифические, организаторы процессов прочно увязывали между собой бесконечные цепочки символов, определявших идентичность мужчины и женщины, двух полов, представляющих человеческий род. В западном воображаемом секс начинает тесно переплетаться со смертью51. Процесс становления культуры нравов на Западе52, начавшийся в различных отраслях знания и социальной практики, происходил с разной скоростью. Когда Сатана неожиданно оказался совсем рядом, когда образ его стал неуклонно тревожить элитный слой населения, мир знаний начал стремительно изменяться. Изменилось и видение зверя: теперь самый большой страх внушал зверь, живущий внутри каждого человека. Религиозные и мирские власти устанавливали все больше ограничений в сфере сексуальных отношений, официально признанных опасными. Тело получило новое, не равное прежнему, измерение.
1 Мнение, выраженное каноником Анри Плателем: Platelle Henri (chanoine). Les Chrétiens face au miracle. Lille au XVII siècle. Paris, Cerf, 1968, p. 56.
2 Beuzart Paul Les Hérésies pendant le Moyen Age et la Réforme, jusqué’à la mort de Philippe II (1598), dans la région de Douai, d’Arras et au pays de l’Alleu. Le Puy, Imprimérie Peyriller, 1912, p. 36—101.
3 Ibid., полный текст судебного постановления см.: р. 473—478.
4 См. след, статьи: Kieckhefer Richard, Monter William // Robert Mouchembled (dir.). Magie et Sorcellerie en Europe du Moyen Age à nos jours. Paris, A. Colin, 1994, p. 34—35, et p. 48—49.
5 Beuzart P., op. cit., p. 68—97; текст приговора см.: p. 480 sq. См. также: Singer Gordon Andres. La Vauderie d’Arras, 1459—1491. An Episode of Withchcraft in Later Medieval France, these inédite, University of Maryland, microfilmée par University Microfilm International, Londres et Ann Harbor.
6 Les sorcières, catalogue de l’exposition de la Bibliothèque national, 1973, p. 59—60. См. также статью: Kadaner-Leclercq Jacqueline. Typologie des scenes de sorcellerie au Moyen Age et à la Renaissance. Esquisse d’une évolution // Herve Hsquin (dir.). Magie, Sorcellerie, Parapsycologie. Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1985, p. 46-47.
7 Делюмо Ж. Ужасы на Западе, op. cit., с. 351.
8 Institores Henry, Sprenger Jacques. Le Marteau des sorcières, présente par Amand Danet. Paris, Plon, 1973.
9 Ibid., p. 17-18.
10 Ibid., p. 33—39, et carte p. 48—49.
11 Der Mensch um 1500. Werke aus Kirchen und Junstkammern. Berlin, Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz, 1977 (каталог выставки).
12 Ibid., p. 118, 130, 156.
l3 Ibid., p. 157-158.
14 Ibid., p. 131.
15 Diables et Diableries. La représentation du diable dans la gravure des XV et XVI siècles, (coordonné par Jean With), Genève, Cabinet des estampes, 1977, p. 25.
16 Ibid.; Baltrusaitis Jurgis. Op. cit., p. 310.
17 Lehner Ernest et Johanna. Picture Book of Devils, Demons and Witchcraft. New York, Dover Publications, 1971, p. 7.
18 Der Mensch um 1500, op. cit., p. 124—125, 139, 143, 145.
19 Ibid., р. 147 (на переднем плане сидит скелет и бьет в барабан, поодаль шествует богато разодетая супружеская пара).
20 Kadaner-LeclercqJ., art. cite, р. 47—49.
21 Duivels en demonen. De duivel in de nederlandse beeldcultur (catalogue d’exposition, dir. par Petra Van Boheemen et Paul Dirksee). Utrecht, Museum Het Catharijnecovent, 1994, p. 115.
22 Kadaner-LedercqJ., art. cite, p. 50—57.
23 См. описания в: Les sorcières, op. cit., p. 2, 33, 41, 44, 46—47, 49, 74, 102.
24 Рис. см. b: Muchembled R. (dir.), op. cit, p. 80—81, 85.
25 Воспроизведено в: Muchembled Robert (dir). La Sorcière au village, XVI—XVIII siecle. Paris, Gallimard, 1991, ill. N 16 (работа Дюрера), a также в: J. Kadaner-Leclercq, art. cite, p. 57 (работа Дейча).
26 Muchembled Robert (dir), op. cit., p. 52—53, 69—70.
27 См. ниже, гл. IV.
28 Midelfort Eric. Witch Hunting in Southwestern Germany 1562— 1684. The Social and Intellectual Foundation. Stanford, Stanford UP, 1972 (о преследованиях ведьм в Визенштейге см. с. 86—90); см. также работу: Wolfgang Behringer. Witchcraft Persecutions in Bavaria. Popular Magic, Religious Zealatory and Reason of State in Early Modern Europe. Cambridge, Cambridge UP, 1997.
29 Midelfort E., op. cit., p. 32—33.
30 См. гл. IV настоящей книги.
31 RusseL Jeffrey Burton Mephistopheles. The Devil in the Modern Wordl. Ithaca, Cornell UP, 1986, p. 30-31, 54.
32 Ibid., p. 31-33.
33 О трагической культуре см. в гл. IV, о дьявольском теле — в гл. III.
34 Dresden-Coenders Lene. De demonen bij Jeroen Bosch. Zoetkocht naar bronnen en betekenis // Duivelsbeelden, Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen, sous la dir. de Gerar Rooijakkers, Lene Dresden-Coenders et Margreet Geerdes, Baarn, Ambo, 1994, p. 168 sq.
35 Mandrou Robert. Magistrats et Sorciers en France au XVII siècle. Une analyse de psychologie historique. Paris, Plon, 1968, p. 126—128.
36 Ниже, в гл. III, мы рассмотрим, каким образом тогдашние медицинские знания способствовали нагнетанию страха перед дьяволом.
37 Mandrou R, op. cit., список названий см.: р. 25—59.
38 См. издание 1580 г., а также: Bodin Jean. On the Demon-Mania of Witches / Trad. Par Randy A. Scott, avec introduction de Jonathan L. Pearl. Toronto, Victoria University, 1995, p. 99. 114, 132, 149, 177, 202/
39 Mandrou R, op. cit., p. 129—133.
40 Ibid., p. 137—152. Также см.: Russel J.B. Méphistophélès, op. cit., p. 56, note 51.
41 Bethencourt Francisco. O imaginario da magia. Felticeiras, salu- dadores e nigromantes no seculo XVI. Lisbonne, Projecto Universidade Alberta, 1987, p. 165 sq.; Laura di Mello e Soza. Autour d’une ellipse: le sabbat dans le monde luso-brésilien de l’Ancien Regime // Nicole Jacques-Chaquin et Maxime Préaud (dir.). Le Sabbat des sorciers, XV— XVIII siècle. Grenoble, Jérôme Millon, 1993, p. 335, 342.
42 Muchembled Robert. Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus, XV—XVIII siècle. Paris, A.Colin, 1992, p. 139—145.
43 См. выше, гл. I, раздел «Лукавый и Зверь».
44 Boguet Henri. Discours exécrable des sorcières, texte adapte par Philippe Huvet, avec introduction de Nicole Jacques-Chaquin, Paris, Le Sycomore, 1980, p. 174.
45 Текст издан Робеном Бригсом: Briggs Robin. Le sabbat des sorciers en Lorraine // N. Jacques-Chaquin et M. Preaud (dir.). Le Sabbat des sorciers, op. cit., p. 169—172.
46 Muchembled R La Sorcière au village, op. cit., p. 128—131.
47 Mandrou Robert. Possession et Sorcellerie au XVII1’ siècle. Textes inédits. Paris, rééd., Hachette, 197, p. 231—244.
48 Delpech Francois. La «marque» des sorcières. Logique(s) de la stigmatization diabolique // N. Jacques-Chaquin et M. Preaud (dir). Le Sabbat des sorciers. Op. cit., p. 347—368.
49 Zika Charles. Les parties du corps, Saturne et le cannibalisme: representations visuelles des assemblées de sorcières au XVI siècle //
50. Jacques-Chaquin et М. Preaud (dir.). Le Sabbat des sorciers. Op. cit, p. 391. 395, 399.
51 Ibid., p. 413.
51 Roper LyndaL Oedipus and the Devil. Witchcraft, Sexuality and Religion in Early Modern Europe. Londres-New York, Routlege, 1944, p. 25, 153, 192.
52 Элиас H. О процессе цивилизации, op. cit.
ГЛАВА III
Тело, одержимое дьяволом
Изменившиеся с течением времени представления о дьяволе, подготовившие истребление ведьм в XVI и XVII вв., были основаны на ученом восприятии тела, не ведавшем понятия невозможного. Тогдашние интеллектуалы мыслили окружающий мир принципиально иначе, нежели сегодня осмысливаем его мы. Удивляясь, как гуманист Жан Боден мог отдать в руки судей оружие для борьбы с колдунами, мы совершаем наихудшую для историка ошибку, а именно впадаем в анахронизм. Ибо по всем вопросам, касавшимся ведовства, автор «Республики» пребывал в полном согласии с безжалостными обвинителями, отправлявшими осужденных колдунов на костер. В свою очередь, обвинители опирались на мнения людей ученых, утверждавших, что дьявол вездесущ, и даже составивших перечень многочисленных признаков присутствия нечистого. В XX в. мы окончательно забыли, что толкование явлений окружающего нас мира возможно только в тех пределах, в каких это позволяют сделать наука, культура, теология и прочие отрасли человеческого знания. Возгордившись достижениями современной науки, мы ревниво отринули груз знаний прошлого, и нам теперь трудно предположить, что во всех своих сочинениях, будь то трактат о монетах, о политической теории, о религии или об искоренении ведьм, Боден говорил на одном и том же языке. Также поступали и многие выдающиеся его современники. Не было непроходимого барьера между медициной и религией, между наукой и верой.
Любая история дьявола, претендующая на полноту изложения вопроса, непременно должна коснуться проблемы тела, точнее, проблемы его видения в соответствующую историческую эпоху. И вряд ли здесь можно ограничиться простым перечислением связанных с телом «суеверий». Необходимо проанализировать врачебные представления во времена Везалия, Амбруаза Паре и даже отца и сына Диафуарусов 23, высмеянных Мольером.
Констатируя характерное для ушедших веков тесное переплетение научных и народных представлений, наблюдатель, чьи взгляды сформировались в конце XX в., когда принято афишировать свое неверие, без тени сомнения причисляет к «суевериям» воззрения самых знаменитых ученых прошлого. Сегодня, когда дьявол уже не кажется нам вездесущим, грозным и всемогущим, мы оцениваем функционирование нашего тела в соответствии с логически обоснованной моделью, не предполагающей наличие у него каких-либо необъяснимых возможностей. Но XVI в. вера являлась составной частью научного мировоззрения. Такой важный факт, как возврат к античным истокам, расцененный в эпоху Возрождения как прогресс человеческого разума, породил медицинский постулат о болезни как о заразном Зле, распахнув тем самым двери неприкрытому страху перед вторжением демонов
Медицина побуждает глубже задуматься о проблеме коллективного воображаемого. Можно ли утверждать, что уже во времена Рабле, доктора медицины и рассказчика, жизнерадостные представления о телесном низе стремительно сдают позиции? Как скоро естественные отправления организма и его сексуальные функции попадают в область запретного? Какая роль в этом процессе отводится церковным нравоучениям, порожденным столкновением конкурирующих церквей? Противопоставлять средневековый смех, царивший в сфере телесного низа, и унылое подавление этой сферы, характерное для нового времени, кажется нам не совсем правомерным. Скорее, следует говорить о продолжительном процессе, медленном формировании определенных культурных навыков с целью обучить каждого владеть собственным телом. Глубокое внутреннее проникновение религиозного чувства побуждает произвести переоценку функций чувств в жизни человека. В новой классификации роль божественного чувства все чаще начинают отдавать зрению, в то время как обоняние постепенно становиться чувством исключительно дьявольским. Мысль и практические действия вращаются в некоем логическом кругу, ибо владение как своими чувствами, так и собственным телом, входит в число общественных идеалов, моральных феноменов, порождающих состояние набожности, вызывающих интерес врачей и предоставляющих основания покарать отступников от общепринятых норм. Для Европы начинается длительный период перехода от повсеместно распространенного магического мышления к рационалистическому осмыслению мира, получившему свое выражение в работах Декарта и Ньютона. Из океана противоречий постепенно вырастает личность западного образца.
Колдовское тело
Человеческое тело рассматривалось как оболочка, содержащая гуморы, равновесие которых определяло здоровье субъекта. Мужчина по природе своей был горячим и сухим, женщина — холодной и влажной, различные человеческие типы получались путем перераспределения этих качеств. К примеру, было известно, что мужеподобная женщина обладает меньшим количеством жидкостей, чем ее товарки по полу, поэтому ее считали более теплой и сухой, чем обычную женщину. Лекарства прописывали с целью упорядочения внутренних туморов. Диагностика могла проводиться в отсутствие больного, зачастую на основании «исследования» его мочи, заключавшегося главным образом в пристальном ее осмотре, после которого прописывалось лечение. «Очистительная» медицина, столь дорогая сердцу Мольера, существовала задолго до рождения знаменитого драматурга. Пуская кровь, организм очищали от избытка гуморов, несомненную пользу приносили также промывания желудка, а соответствующим образом подобранная диета усиливала природные качества пациента.
В 1358 г., где-то в районе между деревнями Шаделер и Сен-Жан, на французском языке был составлен сборник медицинских предписаний на каждый месяц года1. В январе кровопускание не рекомендовалось; вино следовало пить натощак, употреблять в пищу шалфей, соль, имбирь, а также «горячие пряности». «В марте следует пить сладкие напитки и не следует пускать кровь, а также не рекомендуется есть мясо, ибо оно заставляет часто бегать в укромное место». В апреле советовали делать кровопускание и есть свежее мясо. В мае, месяце, находившемся одновременно под знаком тепла и знаком холода, напитки и блюда советовали потреблять горячими, проводить кровопускания, не советовали «есть головы и ножки», рекомендовали «часто мыться и есть холодные супы из всяческих трав». «В июне надо натощак пить холодную воду, а вечером есть салат латук с уксусом, а еще воздерживаться от сношений с женщинами, ибо в этом месяце гуморы из мозга спускаются вниз». Не следует пускать кровь и в июле, августе и сентябре, хотя в сентябре при особой необходимости можно, особенно если требуется убрать совсем немного крови; в эти же самые месяцы хороша любая пища, особенно если потреблять ее с умеренностью. В октябре необходимо проделать процедуры по очищению организма: хорошо есть натощак изюм и пить «козье молоко, чтобы очистить желудок». В ноябре, как и в декабре, «хорошо устраивать кровопускания», ибо того требуют гуморы, и лучше не принимать ванн, зато можно потреблять в пищу корицу и иссоп.
С января по март необходимо сохранять телесные флюиды, не пускать кровь и избегать пищи, способствующей очищению желудка. Весна возвещает наступление сезона кровопусканий и охлаждения тела, производимого посредством ванн, питания и сексуального воздержания в июне. На втором плане появляется представление о чрезмерном перегреве тела, о возможном переизбытке жизненных соков, и о необходимости его устранения. Совет не вступать в сношения с женщинами достаточно ясно указывает, что рекомендации адресованы прежде всего мужчинам, обладателям горячего и сухого тела. Впрочем, не исключено, что совет употреблять горячие блюда и напитки в мае месяце, также относится и к женщинам. По крайней мере, двойное посвящение этого месяца, возможно, объясняется именно переходом от зимнего режима на режим весенний. Издавна май считался месяцем любви, в мае собирались дворы любви, но затем противники Реформации посвятили май Святой Деве, после чего он перестал считаться удачным месяцем для вступления в брак. Лето является временем, когда кровь должна оставаться в теле, ибо телу следует пребывать в хорошей физической форме на период жатвы, а также потому что в это время здоровье не требует к себе повышенного внимания и медицинского вмешательства. Осенью следует провести второе за год очищение организма: очистить желудок и с помощью кровопусканий установить баланс гуморов; запрет принимать ванны указывает на необходимость избегать избыточного переохлаждения, опасаться которого следует в ноябре и декабре, то есть когда погода становится все более прохладной.
Читатель XXI в. наверняка воспримет вышеизложенный подход к сохранению здоровья как отражение народных суеверий, в то время как он является плодом достижений самой что ни на есть высокоученой медицины XVI в., ориентированной прежде всего на «физиологию и патологию гуморов»2 и питавшей огромное почтении к античной мудрости, что затрудняло изучение анатомии. Вставшие на путь продолжения анатомических исследований, сталкивались не только с запретами, налагавшимися враждебной анатомам церкви, но и с техническими трудностями, связанными с рассечением. Тем не менее медицинская наука того времени стояла на месте. Бесспорно, обращение к античным источникам, начавшееся на высокой волне гуманизма, способствовало долговременному воцарению теоретической модели болезни, разработанной Галеном. И все же изменения, происходившие в сфере ментальностей, равно как и формирование новых религиозных постулатов, не могли не затронуть вопрос о «происхождении болезни». Но даже такой новатор, как Жан Фернель24, именуемый «отцом физиологии» и «патологии», был истинным сыном своего времени. Фернель всегда оставался приверженцем классической гуморальной теории. Расширение границ понятия болезни осуществлялось всеми практикующими врачами в целом. Были открыты новые болезни, в частности те, которые сегодня мы называем инфекционными: грипп, сифилис и коклюш. Эпидемии новых заболеваний поразили в первую очередь недавно открытую Америку. Чтобы объяснить их возникновение, медикам пришлось вспомнить о таких отвергнутых или не принимавшихся в расчет врачами античности понятиях, как зараза и влияние звезд3. И хотя на звезды уповали прежде всего виталисты 25 и поклонники великого врача-алхимика Парацельса, тем не менее идея о воздействии расположения звезд на состояние человека получила широкий отклик в мире науки благодаря выдвинутому ее сторонниками тезису о человеке как «своеобразном отражении окружающего его мира: микрокосм [тело] связан с макрокосмом [вселенной] посредством вездесущих структурных аналогий».Теория — не новая — о связи тела с универсумом вселенной, получив активную поддержку поэтов и интеллектуалов, стремительно приобрела огромную популярность, и почти столь же быстро сошла на нет, оставив в мире воображаемого человека Запада блистательный след, сохранившийся вплоть до наших дней. Теория о контагиозном 26 характере ряда болезней, на мой взгляд, стала основной опорой сторонников взгляда на тело как на колдовской объект: его темная часть представляла опасность для окружающих, подтверждая, таким образом, ряд положений демонологической теории, направленной на истребление ведьм. Как станет ясно из дальнейшего, связь между колдовским телом и охотой на ведьм аналогична связи между восприятием результатов заболевания и причинами возникновения эпидемии; например, многие были уверены, что чумные испарения насылает дьявол; дьявол способствовал изменению плотской оболочки колдунов, этих признанных распространителями заразы. Секта дьяволопоклонников приобретала новое качество: члены этой секты наделялись властью распространять заразу. И случилось это как раз в то время, когда мысль о заражении одолевала как врачей, так и пациентов.
Понятие инфекции, изгнанное из научной греческой медицины, проистекает из магического видения мира: опасный для здоровья признак скверны передается самими больными через предметы, посредством невидимых сил, через воздух... Скверна должна быть табуирована, избавиться от нее можно только с помощью определенных ритуалов, как это делают неевропейские народности, жизнь и быт которых изучают этнологи. Приступив к изучению заразных болезней, врачи высказали предположение, что во время эпидемий существует некий фактор, оказывающий воздействие одновременно на большое количество людей. Одним из объяснений возникновения эпидемий стала теория, признающая существование некой субстанции, контагии, передающейся от одного человека к другому. Однако гораздо большей популярностью во второй половине XVI в. пользовалось учение о миазмах, согласно которому заражение происходило из-за вдыхания загрязненного воздуха. Итальянский врач Джироламо Фракасторо 27 изложил свою теорию миазмов в трактате «О контагии, о контагиозных болезнях и лечении» (De contagione et contagiosis morbis et curatione), опубликованном в 1546 г. В нем он описывал различные «заразные» болезни, в том числе сыпной тиф, сифилис, оспу, проказу и бешенство. По его мнению, все эти болезни возникали по причине локальных ферментаций телесных гуморов, происходивших под влиянием внешнего фактора. Сей внешний фактор, некий особый яд, обладал всеми характеристиками живого существа, был невидим невооруженным глазом, способен к самовоспроизводству и саморазмножению. В ряде случаев он являлся непроизвольным порождением чьих-то «испорченных гуморов; такие «первичные зародыши» (seminaria prima) передаются посредством прямых прикосновений, посредством передачи оскверненных предметов и переносятся по воздуху. «Зародыши» эти притягиваются гуморами по причине «симпатии», связывающей человека со всей совокупностью Божественного творения.
Все во всем. Микрокосм человеческого тела связан с макрокосмом вселенной. Инфекция находит свое место в цепочке объяснений «магического», а по тогдашним меркам научного, подхода к телу. «Человеку постоянно, явно или исподволь, внушают мысли о моральной скверне, первородном грехе, виновности, порождающей болезнь, и божественной каре», справедливо заключает Мирко Д. Грмек. Параллель, установленная между внутренним состоянием страждущего человеческого тела и перемещениями светил, способствовала изобретению понятия «инфлюэнца», обозначавшего влияние планет на возникновение эпидемий, и в частности эпидемий гриппа, в XVI в. довольно частых. Современная мода на гороскопы, корнями уходящая в далекое прошлое, порождена разнообразными верованиями и не имеет ничего общего с достижениями науки и медицины конца второго тысячелетия.
Пока в XVII столетии не была разработана новая модель, объясняющая возникновение болезни физическими и химическими причинами, теория контагии предоставляла обильную пищу для образованных умов, напуганных все возрастающей враждебностью окружающего мира и разгулом ведовства. И, как следствие, периоды великой охоты на ведьм совпадают с периодами усиления популярности этой теории. В тогдашнем культурном контексте тело, подвергшееся нападению невидимых болезнетворных сил, вполне вписывалось в миф о шабаше. Взамен миф о шабаше наделял особым смыслом таинство болезни. Табу, налагавшееся по причине призрачных козней Сатаны, являлось своего рода отзвуком страха перед контагиозным воздухом, окружавшим людей во время эпидемий. Впрочем, дальше у нас будет возможность убедиться в прямой причастности демона к эпидемиям чумы и к дурным запахам. Пока же мы только уточним, какие новые открытия совершила медицинская наука в области изучения вызывавшего всеобщую озабоченность тела женщины.
О женском теле
Убежденность, что женщина одержима дьяволом, была присуща не только теологам; она являлась составной частью морали своего времени. Достойное место эпоха Возрождения отводила только дамам благородного происхождения, тем, кто мог войти в описанную Рабле Телемскую обитель. Флорентийские неоплатоники окружили благородных дам аурой, не имевшей себе равных, кисть Ботичелли прославила их и возвысила. Срывая розу для Кассандры Сальвиати, Ронсар воспевал благородных дам, этим же дамам посвящал свои стихи, опубликованные в 1572 г. в сборнике «Весна», Агриппа д’Обинье, чье сердце в ту пору было отдано Диане Сальвиати, племяннице Кассандры. Однако очень скоро вокруг образа женщины завязалась яростная полемика. Со второй трети XVI в. полемика эта начала будоражить французские литературные круги, в нее включился Рабле, уделив в своей «Третьей книге героических деяний и речений доброго Пантагрюэля», вышедшей в 1546 г., большое место рассуждениям о браке и супружеской измене: согласно утверждениям, вторая была тесно связана с первым. Возвышение женщины было непродолжительным и коснулось небольшого числа привилегированных особ. Западная культура упорно сворачивала на накатанную колею. Обнаженным красоткам пришлось прикрыться легким газом, а вскоре, следуя испанской моде, утвердившейся в высших слоях европейского общества, и вовсе закрыть каждый дюйм своей грешной плоти тяжелыми тканями мрачных расцветок. Во второй половине XVI в. и в первые десятилетия века следующего дамам настоятельно советовали прикрывать грудь, которую мода иногда позволяла продемонстрировать, одеваться согласно своему званию и вообще знать свое место; исключения допускалось для королевских особ, как например для Елизаветы I Английской. У протестантов вопрос о власти мужчины над женщиной стоял еще острее, чем у католиков, а в_Германии даже охота на ведьм и практика экзорцизма нередко превращались в своеобразную борьбу за утверждение кардинально противоположных взглядов на тело мужчины и тело женщины; ставками в этой борьбе были власть и знание4.
Во всех отраслях знания, на всех участках общественной жизни происходил пересмотр дефиниций, относившихся к женской природе. Медицина, право, визуальная пропаганда, организаторы которой заказывали мастерам соответствующие гравюры и картины, не в силах охватить весь комплекс «женских» проблем, ограничились несколькими; в частности, был сделан упор на необходимость надзора за женщиной, контроля над этим несовершенным существом, в обществе которого никогда нельзя было чувствовать себя спокойно*. Медики видели в женщине незавершенное создание, неполноценного мужчину, и этим объясняли ее хрупкость и непостоянство. Вспыльчивая, дерзкая, лживая, суеверная и похотливая от природы, женщина, согласно многим авторам, прислушивалась только к колебаниям собственной матки, откуда проистекали все ее болезни, и в частности истерия. Женщина-матка единовременно несла в себе власть над жизнью и власть над смертью5. На гравюрах того времени прекрасно отражено «глухое чувство тревоги», «настороженное недоверие» мужчин по отношению к женщине. Гравюра, культурный посредник между обладателями знания и власти и остальным населением, была адресована в первую очередь горожанам из разных социальных слоев. Нами было проанализировано содержание 6000 таких гравюр, созданных с 1490-го по 1620 г. Взгляд художников на женскую сущность объединял ученые теории теологов и медицинские и правовые воззрения с расхожими предрассудками простонародья. Гравюры на религиозные темы, составившие три четверти всего корпуса изображений, в основном рассказывают о грехопадении. Женщина бесстыдно предается греху, главным образом греху сладострастия, затем следуют грехи зависти, тщеславия, лени, и, наконец, гордыни. Автор рисунка, изобразившего в неприметном облике торговца из модной лавки демона-искусителя, поджидающего в лице женщины долгожданную добычу, льет воду на мельницу мужчин, предупреждая своих собратьев по полу об опасности женских чар, ибо за спиной женщины стоит сам Сатана7.
В черно-белом мире, придуманном учеными-книжниками, женская природа располагалась на темной стороне творения Создателя, женщина стояла ближе к дьяволу, чем мужчина, ибо мужчину вдохновлял сам Бог. Подобное разделение легло в основу многих врачебных рассуждений того времени. С исторической точки зрения это разделение, заложившее основы мужского превосходства, объясняло, отчего общество в целом с этим превосходством не только мирилось, но и даже требовало его. Впрочем, для современников этой теории альтернативы не существовало. Для них женщина изначально была существом низшим, ибо такова была воля Бога. Такого же мнения придерживался и голландский врач Левинус Лемний, родившийся в 1505 г. в Цирикзее в провинции Зеландия и скончавшийся в 1568 г. Младший современник Джироламо Кардано и Парацельса, современник родившихся почти десятью годами позже него Иоганна Вира и Андрея Везалия (с Везалием ему доводилось встречаться), он сделал неплохую карьеру в своем родном городе, куда вернулся после учебы в Генте и в университете Лёвина, успев за время штудий приобщиться к культурному пространству, где полновластно царил великий гуманист Эразм. Типичный для своего времени ученый, христианский гуманист, Лемний интересен нам прежде всего своими медицинскими взглядами, отражающими господствовавшие в то время в Европе медицинские учения. Его сочинения, до середины XVII в. часто переиздававшиеся в том числе и в переводах, свидетельствуют о его влиятельности в медицинских кругах «республики ученых». Оставаясь человеком Средневековья, он в то же время обладал качествами ренессансной личности. Магическое видение, унаследованное от средневекового прошлого, внушило ему веру в могущество астрологии, прорицания и алхимии, отчего своим пациентам он пускал кровь исключительно при благоприятном расположении звезд на небе. С другой стороны, он являлся большим поклонником Гиппократа и Галена, считал их лучшими учеными древности8. В книге «Чудеса и загадки природы», изданной в 1574 г. в Париже, он представил целостный взгляд на врачебное искусство, поддержанный многими европейскими практикующими врачами и вызвавший интерес у широкой публики. За первым латинским изданием текста в 1559 г. последовал итальянский перевод 1560 г., а в 1566 г. в Лионе вышла первая французская версия под названием «Тайные чудеса природы»; в 1569 г. был издан немецкий перевод книги. Множество экземпляров этого сочинения получило хождение в Европе при жизни автора, однако судя по скорости переизданий и количеству тиражей, оно и после его смерти пользовалось большим спросом: к 1570 г. вышло 4 переиздания на итальянском языке, к 1575 г. — столько же переизданий на французском, и к 1580 г. — 3 переиздания на немецком. До начала XVII в. неоднократно выходили издания на английском и на латыни9.
Значительная часть убеждений Лемния свободно вписывалась в пеструю палитру верований, часто неправильно называемых простонародными. Его пугали такие цифры, как 7 и 9, а также цифра 63, полученная в результате умножения двух первых. Он, действительно, скончался в 63 года, но никто не знает, приблизил ли этот страх его кончину. Интересуясь всем, он всегда выслушивал советы и не пренебрегал простыми объяснениями. Он верил в выдвинутый средневековыми судьями постулат, согласно которому тело убитого начинало кровоточить в присутствии убийцы. Будучи ботаником, он советовал сажать чеснок вперемежку с розами, потому что при таком соседстве розы пахнут сильнее. По его мнению, в состав лучшего афродизиака, способного «заставить подняться детородные части», входили стоглавый чертополох (образ, не требующий объяснений), толченое мясо горлиц, артишоки, луковицы, репа и брюква, спаржа, засахаренный имбирь. Будучи врачом, он утверждал, что всегда мог распознать, от какого напитка захмелел человек: если пьяный, шатаясь, клонился вперед, значит, он выпил много вина, а если, пытаясь удержать равновесие, клонился назад, значит, выпил слишком много пива, ибо хмельные пары, исходящие из пива, хватают человека за голову и тянут назад. Для лечения подагры он рекомендовал прикладывать к больным членам маленьких собачек, дабы они производили тепло, заставляющее болезнь выходить из тела10.
Он был уверен, что природа мужчины резко отличалась от природы женщины. Несмотря на ряд формулировок, для современного человека достаточно странных, к его мнению следует относиться со всей серьезностью, так как его сочинения повсеместно имели большой успех, а взгляды его в большинстве своем совпадали с воззрениями современных ему врачей. Утверждая, что утонувшая женщина всплывает животом вниз из-за стыда, а утопленник-мужчина плывет лицом кверху, он, в сущности, имплицитно подтверждал связь между мужской сутью, то есть теплом и светом, и Господом, и подчеркивал, что женская суть, то есть влажность и холод, редко обращается к Небу. По его мнению, гуморальная теория только подтверждает эту дихотомию. Как мы увидим в дальнейшем, Лемний проявлял повышенный интерес к запахам и считал, что мужчина от природы пахнет хорошо, в то время как от его подруги от природы исходит запах весьма малопривлекательный. «Женщина изобилует экскрементами, у нее бывает цветение [месячные], отчего от нее исходит дурной запах; а еще женщина имеет власть над всеми вещами и разрушает их силу и природные свойства». Высказывая свои соображения по медицинской теме месячных, считавшейся классической еще во времена Плиния Старшего, согласно которому от соприкосновения с менструальной кровью увядали цветы и высыхали плоды, тускнела слоновая кость, притуплялись железные ножи и впадали в бешенство собаки, Лемний шел по стопам Генриха Корнелия Агриппы28. Вышеуказанный Агриппа дополнил список напастей, составленный римским ученым, включив в него смерть или бегство пчел, обугливание льняной простыни, выкидыши у кобыл, неспособность к зачатию, наступающую у ослиц и у живых существ в целом; также он уверял, что пепел от запачканных менструальной кровью сгоревших простынь, способен обесцветить пурпурный цвет ткани и окраску цветов11. Запах, исходящий от женщины когда у нее нет месячных, Лемний также считал вредоносным, ибо возникал он по причине холодности и влажности, присущих женскому сословию, в то время как «естественный жар мужчины источал нежные и сладостные испарения, сравнимые с наилучшими ароматами». В отличие от самца, самка пахнет настолько дурно, что при ее приближении мускатный орех сохнет, покрывается пятнами и чернеет. Коралл бледнеет от прикосновения женщины, и наоборот, краснеет от прикосновения мужчины, а также горчичного зерна. Жар, исходящий от мужчины, говоря языком метафоры, усиливает блеск окружающих его вещей, в то время как свойства женщины воздействуют на вещи противоположным образом; подобного рода рассуждения ложились в основу правил достойного поведения. Приведенное ниже высказывание врача Лемния наверняка понравилось бы Панургу, рассуждающему в «Третьей книге» Рабле на тему рогоносцев: прелюбодеи «никогда не носят [драгоценные] камни, ибо камни, соприкасаясь с ними, утрачивают и свою красоту, и свою чистоту, так как известно, что такие камни притягивают к себе пороки, содержащиеся в телах смердящих; исторгая яд, тела эти заражают своим ядом камни, и в этом прелюбодеи подобны женщинам, пребывающим в периоде цветения [месячных] и исторгающим испарения, пятнающие и портящие чистые и полированные зеркала»12. Плотский грех портит естественный запах мужчины, ослабляет его внутренний жар и наполняет его зловредной влажностью, передаваемой во время соприкосновения тел любовников. Уже упомянутая выше теория заражения предстает в этих рассуждениях во всей своей полноте: заразу можно подхватить и при физическом контакте, и из зараженного воздуха. Телесный микрокосм невидимыми нитями тесно связан со всем, что создано Божественным Творцом. Дурно пахнущая женщина постоянно внушает беспокойство, а когда у нее начинаются месячные, она до такой степени становится опасной для окружающих, чтов это время сексуальные контакты с ней категорически запрещаются13.
Около 1580 г., к началу великой охоты на ведьм, образ женского тела в представлении европейских докторов медицины практически схож с тем, который мы находим у Лемния. Конечно, ряд авторов, на наш взгляд, являются менее легковерными, и не копируют расхожие суждения, а некоторые, как, например, врач Лоран Жубер (1529—1583), автор трактата «О заблуждениях простонародья, касающихся врачевания и соблюдения правил, способствующих сохранению здоровья», вышедшего в 1570 г., даже отказываются верить в губительную силу «красной смолы» месячных. Но нельзя считать этих критически настроенных ученых передовыми борцами с обскурантизмом. Ни один из них не мог выйти за понятийные рамки миропорядка, в основу которого был положен принцип абсолютного превосходства мужчины, ибо принцип сей вытекал из Божественного плана устройства вселенной. Уже упомянутый нами Лоран Жубер, автор вполне авторитетный, занимавший должность канцлера университета в Монпелье, крупнейшего медицинского учебного заведения своего времени, в «Трактате о смехе», изданном в 1579 г., также утверждал подчиненное положение женщины, ссылаясь при этом на Божий промысел14. Он восхвалял гений «Создателя, сотворившего бесконечное разнообразие человеческих лиц, дабы показать превосходство сего образцового творения над всем миром» и отделить его от животного. Устанавливая правила чрезвычайно модной в его время науки физиогномики, изучавшей проявления характера по чертам лица, он прежде всего обращал внимание на кожный покров, именуемый «цветом лица», ибо тот позволял разглядеть «цвета находящихся под ним гуморов». Женщины казались ему более красивыми, чем мужчины, так как их телесный покров имел более нежный цвет. Но «мужчина рожден [предназначен] для трудов», а потому огромное влияние на него оказывают солнце, ветер и дождь. А «женщина рождена для покоя и неги, она живет под крышей своего дома, и сей дом она обязана носить на себе, как это делает улитка или черепаха. И ей пристало заботиться о своей природной красоте, дабы с помощью этой красоты доставлять честное удовольствие своему мужу, который в ее обществе вкушает отдохновение от соратников своих и от окружения своего, забывает и оставляет позади неприятности, случившиеся во время трудов его и стараний, и расслабляет свой напряженный ум. Вот почему Господь создал женщину спутницей мужчины, сделал ее более красивой и миловидной, и внушил ей желание заботливо сохранять свою красоту, дабы выглядеть еще приятнее»15. Прославляя воина на отдыхе, автор наделяет женщину красотой только для того, чтобы она могла лучше справляться с отведенной ей ролью супруги и матери, на которой буквально держится весь дом. Сторонник гуморальной теории, Жубер никогда не забывал об изначально низком положении женщины. Рассуждая о добродетели благоразумия, он писал: «Говорят, добродетель сия происходит из сухости, а влажность и слабость потворствуют глупости. Вот почему мужчины гораздо чаще бывают мудрее женщин, а зрелые мужчины мудрее юношей». Люди «влажные, словно женщины и дети», более эмоциональны, более подвержены печалям или радостям, а потому более непостоянны. Напротив, тепло придает уверенность и радость. Вот почему «после любовных игр, которым предается каждый мужчина, ум его бывает подавлен, а сам он становится печален: ведь игры эти не только иссушают мужчину, но и охлаждают его посредством извлечения из него субстанции, необходимой для его тела»16. Иными словами, вместе с семенем самец утрачивает часть своего природного тепла. Ослабев, он может от этого умереть, особенно если прежде он был болен или ранен. Расписанные помесячно медицинские рекомендации 1358 г. не противоречили этим выводам и давали советы, как восстановить утраченные гуморы или избавиться от вредного их излишка.
В воображении интеллектуалов и просто людей грамотных теории медиков относительно свойств человеческого тела сопутствовали различным культурными явлениями своего времени. Родившийся в 1515 г., то есть на десять лет позже Лемния, и скончавшийся около 1594 г., печатник-книгоиздатель Гийом Буше в 1584 году начал издавать сборники под названием «Вечерние беседы», где он, взяв за образец вечерние посиделки жителей своего родного города Пуатье, печатал сценки и истории собственного сочинения на волнующие его темы. Гуманист и ненасытный книгочей, в своих «Беседах» он демонстрировал обширные познания, в том числе и в медицине. В отношении к женщине в его провинциальном мирке еще наблюдались отголоски платонизма: все в мире создано Господом, а «раз есть связь между душой и телом, значит, красота телесная является своеобразным отражением красоты души». Однако во времена Буше восхищение красотой перестает быть безмятежным. Один из участников беседы, восприняв далекие от поэтической и философской традиции наставления врачевателей, уверяет, что «женщина создана из всяческих отбросов и идет на поводу у своих капризов, что она холодная и чрезвычайно влажная, что она может быть красива, но красота ее является признаком ее плодовитости и способности к деторождению; а еще женщина обладает необходимым и соответствующим для деторождения темпераментом, и по этой причине она подходит почти всем мужчинам и все мужчины вожделеют ее». Далее собеседники обсуждают достоинства женщин и вполне раблезианские способы «приспособления» к женщинам безобразным: мешок на голову и Бахуса в помощь. Расхожая идея о том, что «безобразную женщину никак нельзя любить, потому что она наверняка ведьма», подтверждается народной пословицей: «страшна как ведьма». Впрочем, такого же мнения придерживается и итальянский врач Кардано, и сам Жан Боден; в опубликованном недавно труде под названием «Демономания», он пишет, что «женщины становятся ведьмами и отдаются дьяволу из-за своего безобразия», но если бы они могли найти себе других любовников, они бы ни за что не стали знаться с дьяволом17.
В еще одной беседе речь идет о родах. Считалось — и Лемний вполне мог бы подписаться под этим утверждением, — что легче всего рожать в период новолуния, ибо «женщины тяготеют к луне, и луна имеет над ними большую власть, особенно над теми частями их тела, которые заведуют рождением потомства, а также теми, где создается питание для будущего плода». В процессе родов женщины бывают больны, потому что им не хватает влажности. Но «во время полнолуния луна дает много света, а следовательно, влажность и силу, ибо луна является матерью всяческой влажности». Дети, рожденные в новолуние, считались здоровыми и их, в отличие от детей, рожденных при убывающей луне, ожидала долгая жизнь. Рожденные при убывающей луне обладали вялым и мягким характером матери, и их всех, даже мальчиков, в течение первых лет жизни «наряжали в платья» в знак принадлежности к миру женщин18.
Чудовища и чудеса
Ментальный универсум людей XVI в. не оставлял места для чувства невозможного, в нем не было четкого разграничения между естественным и тем, что мы называем сверхъестественным19. Однако они довольно отчетливо отличали демонов от чудовищ. Демоны принадлежали к свите Сатаны, но чудовищ мало кто считал исчадьями ада; чаще всего чудовища воспринимались как божественный знак или как нарушение нормального процесса зарождения. Воображаемый мир ведьмовского шабаша не предполагал рождения чудовищ в результате совокупления с демонами — инкубами и суккубами. Между двумя царствами высилась практически непроходимая стена: считалось, что Господь не мог допустить рождения гибридов. Возможно, демонологи и судьи все еще находились под влиянием старых теологических представлений о нематериальности облика Сатаны, чье присутствие выдает только сотворенное им наваждение. Попытки обосновать стерильность спермы демонов заводили теологов в беспросветные словесные дебри; стремясь выбраться из них, они ссылались на бесплодность спермы трупов, подтверждая таким образом невозможность подлинного «телесного» смешения человеческого и дьявольского. Во всяком случае творцы наших современных фантазмов, создатели фильмов и книг о сыновьях и дочерях демонов, последние три-четыре века явно не заглядывали в трактаты по демонологии.
После завоевания Америки чудовища стали плодиться с особенной частотой. «Мы нашли другой мир!» воскликнул Монтень в своих «Опытах». Открыв для себя новое человеческое сообщество, изолированное от остального человечества, европейцы принялись восторженно перечислять его многочисленные чудеса20. Западный человек охотно упражнял свое воображение, трактуя тему необычного. Составляя описания индейцев, авторы утверждали, что они передвигаются на одной огромной ноге, что голова у них все время повернута вниз, что у них один глаз, на месте рта хобот и т.п. Столкновение двух культур, несомненно, укрепило магический взгляд на тело, сложившийся в Средние века и получивший интенсивную поддержку в медицинских сочинениях шестнадцатого столетия. О людях, не имевших рта или головы, западному человеку уже было известно. В конце XIII в. Марко Поло писал о встречах с такими людьми во время своих путешествий; слова его подтверждает одна из миниатюр, иллюстрирующих его «Книгу чудес». Образы гибридов, соединивших в себе черты человека и животного, равно как и изображения дьявола, сохранила готическая скульптура. Все знали, что в лесах жили дикие мужчины и женщины, способные принимать обличье призраков и вторгаться в жилища. Шведские лесные девушки и зеленые дамы из Франш-Конте, являясь к мужчинам в облике красавиц, подвергали их плотскому искушению, а затем обретали свой прежний облик, морщинистую кожу и висящие до земли, а иногда даже перекинутые через плечо груди. Дикие женщины, как и их волосатые звероподобные спутники, были похотливы и не умели сдерживать свои сексуальные страсти, а потому их помещали на низший уровень мира людей21.
В типографиях эпохи Возрождения множились чудовища и рисунки, которым предстояло украшать рассказы о путешествиях; неведомых животных художники зачастую изображали согласно собственному видению, то есть традиционно чудесными существами. Бурная полемика сторонников и противников Реформации также порождала чудовищ, чье устрашающее уродство должно было скомпрометировать противоборствующую сторону. В 1522 г. «Дневник парижского горожанина» сообщает, что в Саксонии, в городе Фрайберге мясник обнаружил в теле забитой коровы гибрид; гибрид сей «голову имел как у взрослого человека, только уродливого; на этой голове был широкий венец белого цвету, а все остальное тело было как у быка, хотя по форме напоминало свинью; шкура цветом была гнедая и темная, с красноватым оттенком; а еще имелся свинячий хвост, а вместо волос у него была кожа двойными складками, и свисала она прямо на шею». В написанной по такому случаю балладе намекали, что очевидец описал лицо и пороки Лютера, отвергнувшего монастырские одежды (венец намекал на тонзуру, а цвет кожи на сангвинический темперамент Лютера). Изображениями странного существа стали торговать в городе. Отец Реформации ответил аналогичным оружием — памфлетом, где высмеял «две ужасные фигуры: ослопапу, найденного в Риме, и теленкомонаха из Фрайберга»22.
До середины XVII в. непоколебимая вера в чудовищ черпала поддержку в трудах ученых, в том числе и медиков. Человеческий мозг порождал чудовищ, выходивших, по мнению людей, из чрева женщин. Знаменитый хирург Амбруаз Паре (1509 или 151029 — 1590), опубликовавший в 1545 г. «Руководство по лечению ран» был также автором иллюстрированного характерными картинками сочинения под названием «Чудовища и чудеса», вышедшего в 1573 г. Непревзойденный знаток человеческого тела, Паре тем не менее верил в существование необычных тварей, которые, как мы с точностью можем утверждать сегодня, в природе появиться не могли:
Есть много причин для появления чудовищ. Первая — это слава Господня. Вторая — гнев Господень. Третья — избыток семени. Четвертая — нехватка семени. Пятая — воображение [например, зависть беременной матери может повлиять на плод]. Шестая — узкая или малая по размеру матка. Седьмая — непристойная поза матери, когда та, будучи беременной, слишком долго сидит разведя колени или прижав их к животу. Восьмая — падение матери или же удары, полученные ею в утробу во время беременности. Девятая — наследственные болезни и случайные заболевания. Десятая — загнившее или испорченное семя. Одиннадцатая — перемешивание или встряхивание семени. Двенадцатая — проделки злых нищих в лечебнице. Тринадцатая — вмешательства демонов или дьяволов23.
Скромное место, отведенное в этом перечне Сатане, соответствовало веяниям времени: чудовищ не смешивали с демонами, даже если внешне они нередко походили на изображения дьявола. Пожалуй, можно сказать, что демонологи считали демонов существами, скорее, нематериальными, вселявшимися в чужие тела; чудовища же принадлежали к сфере реального. Первые воплощали в себе дьявольское искушение, вторые свидетельствовали о могуществе Господа. Медики даже допустить не могли, что все эти твари существовали только в их воображении: они были искренне убеждены, что видели их, а потому верили любым чудесным рассказам. Объясняя появление чудовищ, Амбруаз Паре делает упор на трех связанных между собой причинах: божественной воле, извращенной сексуальности и неистовом воображении. Подобно предзнаменованиям и кометам, чудовища являлись знамениями всемогущей воли Господа. Через чудовищ Создатель предупреждал людей о своих замыслах. Чаще всего он гневался на совершенные ими прегрешения и в случае, если они не раскаются и не исправятся, грозил обрушить на них свои кары. Средневековые проповедники нередко говорили о чудовищах, насылаемых Богом в качестве напоминания о грядущем наказании за грехи. Эхо этих проповедей докатилось до наших дней: в некоторых выступлениях СПИД называют наказанием человечества за его проступки. Во времена Паре медицина внесла свой вклад в формирование новых воззрений на последствия сексуальной одержимости. Врачеватели считали, что «необыкновенные монструозные твари рождаются при попустительстве Господа, гневающегося, когда отцы и матери совокупляются как грубые животные, повинуясь только своим необузданным аппетитам, и совершают мерзости по причине распутства». Выраженное таким образом порицание призывает усилить моральный и особенно правовой контроль над разнузданной сексуальностью. Главное табу в области секса запрещает сношение человека и животного: к смерти приговаривают не только человека, но и животного. Размножившиеся чудовища, являясь зримыми доказательствами нарушения запретов и, как следствие, виновности человека, подтверждают важность этого табу. Чудовища свидетельствуют о греховности всей сексуальной сферы: медики уверяют, что избыток любовного рвения, разнузданное воображение и, разумеется, сношение во время месячных также порождают чудовищ. По мнению Паре, «ребенок, зачатый во время менструации, питается в материнском чреве порочной кровью, грязной и испорченной, и на ней же взрастает». «Необыкновенное создание» может родиться и по причине «живого, пламенного воображения, которое в момент зачатия способен пробудить у женщины какой- либо предмет или причудливый сон, равно как и ночные видений, являющиеся в этот момент к мужчине и женщине».
В сущности, в рассуждениях о чудовищах основное место отводится женской сексуальности и таящейся в ней опасности, которая наверняка проявится, когда женщина станет осуществлять свои естественные функции. Если не сдерживать сексуальные аппетиты женщины, позволять ей вступать в сношения с мужчиной не только ради предписанного Богом деторождения, но и ради получения наслаждения, она начинает плодить чудовищ. Авторы, настаивающие на существовании чудовищ, на деле способствуют нарастанию в европейской ученой культуре страха перед женщиной. Перед всеми женщинами, а не только перед ведьмами, этим малым — хотя и деятельным — отрядом поклонников дьявола. Впрочем, в обоих случаях речь идет прежде всего о женском теле, предмете, вызывающем непреложное волнение; но если медицинские и фантасмагорические рассуждения о чудовищах создают почву для составления проповедей на соответствующую тему, то судьи, установившие факт соития женщины с демоном, называют ее ведьмой и отправляют на костер, ибо ведьма является крайней степенью проявления женской анормальности.
Сделанные в XVII в. открытия в области физиологии, учение Гарвея о кровообращении и изобретение микроскопа, разумеется, крайне несовершенного, не сумели вытеснить из медицинского мира моду на чудовищ. Фортунио Личети (1577—1657), профессор университетов Пизы, Болоньи и Падуи, в 1616 г. опубликовал трактат «О причинах чудовищ» (De monstrorum causis). В его сочинении имеются гравюры, изображающие рогатых детей. В те времена этот сюжет пользовался большой популярностью. Рогатого человека показали даже Генриху IV. Человека звали Франсуа Труйу, и у него справа на лбу был рог как у барана; рог этот приходилось регулярно спиливать, иначе он начинал колоть своего владельца24. Но глядя на рогатых мужчин и даже на рогатых женщин, никто не вспоминал об огромном сатанинском козле, постоянном участнике ведьмовских шабашей. Рогатые люди душой и телом принадлежали Господу, решившему явить через них свою волю; то же можно было сказать и об отпрыске благородного семейства, чье тело было покрыто волосами, голова украшена двумя бычьими рогами, а глаза исторгали пламя.
Специалисты, разумеется, полагали, что родились эти чудовища от совокупления с животными, а так как совокупление сие было под запретом, следовательно, появление чудовищных отпрысков сулило великие бедствия, ужасные бури, кровавые дожди и страшные эпидемии... В появлении чудовищ могли быть повинны практически все представители животного мира, за исключением земных насекомых, писал Личети. Уточнение вовсе не шуточное, как кажется на первый взгляд: земные насекомые принадлежали к совершенно особому миру, а именно миру самозарождения. Для многих ученых теория самозарождения не требовала доказательств. Лемний писал, что мусор и гниль часто порождают мышей, сонь, угрей, миног, улиток, слизняков и червей, хотя все эти существа могут происходить и из собственного семени.
Улитки, шмели и осы, на его взгляд, могли рождаться из бычьего навоза. Гусеницы, бабочки, муравьи, кузнечики и цикады зарождались из рассеянных в воздухе капелек росы25. Медицинская теория контагии была основана на наличии инфекции, зловония и дурного воздуха, и все эти три составляющие считались характеристиками демона. Насекомые, возникшие, подобно мухе, путем самозарождения26, пребывали в полном согласии с миром Сатаны, что, помимо малых размеров (впрочем, такие мелочи, как размер, в мире чудесного никого не смущали), объясняет их исключение из перечня чудовищ. Самозарождение долго будоражило воображение исследователей: немецкий иезуит Атаназ Кирхер (1602—1680), натуралист и автор многих открытий в области оптики, утверждал, что способен этим способом произвести червей, змей или лягушек.
Особый интерес любители чудесного питали к морским животным. Древний миф о сиренах, чье пение едва не околдовало Улисса, получил второе рождение в эпоху Возрождения. В любовь между «покрытыми чешуей» и человеческими существами верили и Личети, и Улиссо Альдрованди (1522—1607), известный в то время врач-натуралист с весьма примечательным именем, автор труда De monstris, получившего во французском переводе название «История чудовищ» (1642). Гравюра, помещенная во французском издании, изображала тритона с человеческим лицом, строившего глазки сирене; если верить преданию, «чудовища эти были пойманы в океане и привезены к папе». Создается впечатление, что моду на невероятные истории порождали издатели, жаждавшие продать напечатанный ими вымысел; впрочем, медики вполне их поддерживали. Скончавшийся в 1576 г. Джироламо Кардано рассказывал о «женщине-рыбе», пойманной в одном из озер Померании после сильного наводнения, вызванного морскими штормами. Привезенная в Голландию, она некоторое время жила там, обучаясь необходимому женскому труду. Она была немая, но судя по словам Кардано, не стала от этого «менее распутной».
Следовательно, чудовищ порождает разнузданная похоть. Мужчина совершает преступление против собственной природы, сбрасывая семя в чрево зверя, но еще более преступной является женщина, отдавшаяся животному, а потом выносившая в своем чреве гибрид, плод этого противоестественного союза. В подобных рассказах звучит страх современников перед ненасытной женской утробой, тревога, возникающая при виде женского тела, распахнутого навстречу безграничной вселенной. Между женским телом и вселенной существует такая тесная связь, что любое событие в макрокосме получает свое отражение «в микрокосме, каковым является человеческое тело», утверждает Амбруаз Паре27. Физиология женщины пребывает в согласии с природой; словом «природа» в те времена обозначали Бога и его непознаваемые замыслы. Следовательно, возможно все, ибо это все является проявлением могущества Создателя. Беременность может продолжаться пять лет, роды — девятнадцать месяцев; одна итальянка в два приема рожает двадцать детей, другая мать производит на свет четырех кроликов, а третья дарит миру несколько яиц28.
Существование чудовищ затрагивает не только эстетические проблемы29. В течение всего ренессансного периода, вплоть до наступления эпохи рационализма, шествие сплоченных рядов явившихся на белый свет чудовищ имеет важное общественное и культурное значение. В соответствии с произошедшими в конце Средневековья изменениями в отношении к чудовищам, эти чудесные существа были поставлены на службу укрепления не только границы между человеком и животным, но и барьера между мужским и женским началами, делящими мир людей на два лагеря. Гийом Буше хорошо сознавал это противопоставление, и перед тем как начать обсуждение происхождения чудовищ, предупреждал читателя, чтобы мужчины удалились к себе, «дабы жены их не слышали разговоров о чудовищном потомстве». Воображение влияет на рождение ребенка, следовательно, не стоит будоражить воображение женщины, чтобы та не произвела на свет аномальное существо. Историк может разглядеть в этом сюжете отголосок еще одного массового явления, а именно соперничества между полами за обладание знанием о порождающем теле. При нормальных обстоятельствах женщины обладают этим знанием во всей его полноте: в XVI в. ни один мужчина-врач не вмешивался в процесс родов. Но когда на свет появляются чудовища, женщины — по крайней мере под пером Буше — символически утрачивают этот контроль. Однако расценивать интерес медиков к процессу рождения исключительно как компенсаторный, возникший по причине отстранения мужчины от таинства рождения, было бы неверно. Прежде всего речь шла об осмыслении природы той власти, которую женщины осуществляли посредством тела мужчины и над телом мужчины. Сексуальность становилась основной темой не только ученых штудий, но и теологов, моралистов, судей, художников и писателей. Возникшее во Франции во второй трети XVI в, литературное движение «Рассерженные женщины» вписывалось в общеевропейскую картину растерянности западной культуры перед новыми идеями, настоятельно требовавшими переосмысления отношений между мужчиной и женщиной31. Призыв Эразма отринуть животное начало и контролировать собственную природу, брошенный в 1530 г. в труде под названием «Об учтивости детских нравов», уже не вполне отвечал потребностям времени. Казалось, вулкан женских страстей потушить невозможно. Следовательно, необходимо было заключить женщину в жесткие рамки мужского окружения, увеличить ее страх перед самой собой и превратить все сексуальные отношения, кроме отличающихся умеренностью отношений в христианском браке, в сплошной кошмар. Размножившиеся чудовища стали мифическим объяснением увеличения числа сексуальных запретов, касавшихся всех, но прежде всего женщин. Степень личного контроля над телесным низом постепенно становилась главным свойством, определяющим природу человека; и этот контроль не устранял, а, напротив, расширял пропасть между полами.
Сексуальный ад
Исследователь творчества Франсуа Рабле Михаил Бахтин пришел к выводу, что рожденный народной культурой средневековый карнавал являлся своеобразным способом преодоления мистического ужаса, насаждавшегося официальной культурой, сулившей страшные кары нарушителям моральных запретов. Разумеется, никто не оспаривает основного тезиса Бахтина, согласно которому народные обрядно-зрелищные формы «как организованные на начале смеха, резко, можно сказать, принципиально, отличались от серьезных официальных — церковных и феодально-государственных — культовых форм и церемониалов. Они давали совершенно иной, подчеркнуто неофициальный, внецерковный и внегосударственный аспект мира, человека и человеческих отношений; они как бы строили по ту сторону всего официального второй мир и вторую жизнь, которым все средневековые люди были в большей или меньшей степени причастны»32. Сегодня нам весьма сложно понять, что в те времена люди не возводили никаких барьеров между верой и простыми житейскими явлениями. Сестра Франциска I 30, благочестивая Маргарита Наваррская сочиняла эротические новеллы, многие из которых отличались откровенной непристойностью; сборник этих новелл был издан в 1558 г. под названием «Гептамерон, или История счастливых любовников». Историк Люсьен Февр с присущим ему талантом разъяснил нам, каким образом Маргарита, всегда оставаясь самой собой, тем не менее была двулична33. Современники Маргариты, также как и она сама, не знали понятия стыда, кажущееся нам врожденным, в то время как на самом деле понятие это является исключительно порождением культуры, и в частности, постепенного процесса цивилизации нравов, протекавшего в XVI столетии особенно активно34. До этого времени телесный низ, в сущности, не приравнивался к преисподней, однако Церковь прилагала все усилия, чтобы распространить это сравнение за пределы избранного круга «слуг Господних», призванных следовать тернистой тропой святости и соблюдать жесткие требования монастырской жизни. Общество сурово карало такие серьезные сексуальные отклонения, как гомосексуализм или содомия, зато во всем, что касалось плотских удовольствий и физиологических отправлений, таких, как дефекация, шумы, запахи, проявляло завидное снисхождение: физиология была частью повседневной .жизни и одновременно объектом беспощадных насмешек. Рассказчики XVI в. продолжали эксплуатировать раблезианские темы, многие из которых глубоко шокировали ученых XIX столетия, например история о короле принимавшем посетителей, сидя на стуле с дыркой в сиденье. Впрочем, французский король Генрих III, убитый доминиканским монахом Жаком Клеманом, встретил свою смерть именно на таком стуле.
По мнению Рабле, урина и экскременты обладали амбивалентным значением. С одной стороны, они напоминали о животной стороне человеческой природы и служили средством выражения презрения, которым обливали — и в прямом, и в переносном смысле — противника. С другой стороны, они несли в себе позитивный заряд, так как «в них неразрывно сплетены смерть с рождением, родовой акт с агонией». «Веселая материя» объединяла символику могилы и рождения, объясняет Бахтин35. Такую же амбивалентность начинала приобретать и сексуальность. Создатель Великанов упорно на этом настаивал. В «Третьей книге героических деяний и речений доброго Пантагрюэля» он выстроил цепочку из 303 прилагательных, характеризующих мужчину, чьи детородные органы пребывают как в бодром, так и в вялом состоянии. Спрашивая совета у брата Жана относительно своей будущей женитьбы, Панург использовал сначала 153 положительных эпитета; «Послушай, блудодей-лиходей, блудодей-чародей, блудодей-чудодей...» 31 В ответном слове брат Жан напоминает ему, что антихрист уже народился, и перед Страшным судом следует освободить яички. Панург соглашается с ним и даже предлагает, чтобы каждому преступнику, приговоренному к смертной казни, дали возможность кого-нибудь породить, то есть опустошить яички; затем брат Жан также выдает длинный, числом 150 перечень отрицательных определений: «Скажи, блудодей вялый, блудодей обветшалый...»32 Недвусмысленная связь между мужским детородным органом, Страшным судом и преисподней становится все более очевидной, и уже к середине XVI в. приобретает особое значение. Не вступая в полемику с Бахтиным, отметим, что пересмотр норм приличий в сексуальной сфере в сторону большей сдержанностью происходит не только в народной культуре. В описываемое нами время поведение дворян, состоятельных горожан и многих священников в области сексуальных и физиологических практик мало чем отличалось от поведения простонародья. Подтверждением тому служат нравы французского королевского двора при последних Валуа, описанные Брантомом в «Галантных дамах». Непристойность и фривольность мирно уживались с религией в испанских Нидерландах. Традиция вставлять двусмысленные сценки с участием дьявола в религиозные мистерии, исполнявшиеся для широкой публики, а также вводить элементы шутовства в религиозные празднества позволяла Иерониму Босху приправлять религиозные сюжеты забавными карнавальными персонажами. Позднее, когда по требованию Тридентского собора стали закрывать бордели, а эшевены города Гента упорно издавали постановления, направленные против проституции (с 1528 по 1588 г. было издано 11 постановлений), литература и искусство по-прежнему свидетельствовали о живучести жанра, прославляющего непристойности телесного низа. Воплощение фламандской души, Тиль Уленшпигель показывал задницу на рисунках в книжках, повествующих о его похождениях: он заставлял «просраться больного ребенка» и обманывал трех евреев, «продавая им кал». Тем же самым продуктом, незаметно отложенным набожными богомольцами во время мессы, были усеяны порожки под церковными стульями. Превзойти по выразительности подобные картины действительности могли только гравюры того времени, как, например, «Бордо» Корнелия Ван Далена (ок. 1590) или анонимные вариации на те же анально-генитальные темы: «Пояс целомудрия», «Гульфик», «Приап»30. Тем не менее и светские, и церковные власти как в протестантских, так и в католических странах продолжали насаждать в умах народа понятие телесной «преисподней».
Сексуальность стала ставкой в борьбе за власть. Можно без преувеличения сказать, что эта сфера личной активности субъекта постепенно опутывалась сетью запретов, подкреплявшихся культурными образами,-призванными пробуждать чувство страха и тревоги. Телесный микрокосм связывал поступки каждого тесными, глубинными узами с событиями, происходившими в большом мире. Тема телесного микрокосма активно эксплуатировалась религиозной пропагандой для усиления чувства греховности, которое должен был испытывать человек в случае нарушения церковных предписаний, ибо эти нарушения грозили поколебать мировой порядок. К нововведениям можно отнести вмешательство в сексуальную жизнь светской, городской и даже королевской власти: используя те же понятия, что и церковные проповедники, власти стремились воспитать ослабевшее на их взгляд чувство повиновения, начинавшееся с умения подданного укрощать собственные животные страсти. В процессе становления современное государство изначально опиралось на консолидацию семейной ячейки, первого и необходимого звена прочной общественной цепочки, обеспечивавшей власть князя и благочестивое религиозное поведение. С 1530 г. и до конца царствования Людовика XIII37 во Франции шел процесс формирования нового договора между государством и семьей. Многочисленный королевские эдикты укрепляли власть родителей и средства контроля за браками детей. Тайный брак грозил потерей наследства. Гегемония мужчины нашла свое выражение в праве мужчины в случае необходимости потребовать развода. Измена жены каралась значительно суровее, чем измена мужа, прелюбодеяние приводило женщину в монастырь, откуда она могла выйти только в том случае, если муж соглашался ее забрать. Закон подчеркивал, что претендентом на наследство мог быть только законнорожденный. Обобщая вновь изданные законы, можно прийти к выводу, что власть устанавливала постоянно возрастающий надзор над женским царством беременности и рождения, сокращая причастность матери к воспитанию подрастающего поколения. Подмена детей, то есть когда женщина выдавала чужого ребенка за своего, строго наказывалась. В феврале 1557 г. Генрих II издал эдикт, согласно которому сокрытие беременности и последующая смерть новорожденного влекли за собой смертную казнь. Теперь Парижский парламент крайне сурово обходился со всеми арестованными в подвластном ему округе женщинами. После издания эдикта были казнены сотни женщин38. Овеществляя патриархальную метафору путем издания целого ряда законов о браке и сексуальных преступлениях, король и его судьи взяли под контроль женскую сексуальность. Укрепление власти государства начиналось с укрепления власти мужа над женой и отца над детьми. Общественный договор того времени являлся отражением постулата о превосходстве мужчины, и был основан на превращении семьи в винтик государственной машины. Возможно, создатели вертикальной иерархии преданных служителей верховной власти неосознанно подражали самому Господу, ибо Предвечный Отец безраздельно царил над своей Церковью...
Франция являла наглядный пример того, как женщина все больше оказывалась под навязанной ей мужской опекой. Какие бы формы ни принимали политические договоры в других странах, заключавшиеся, начиная с XVI в., между теми, кто правит, и теми, кем правят, они — по-своему и для себя — решали ту же самую проблему, что и французы. В изменяющейся Европе ядро проблемы составляли отношения между полами, от ее решения зависели формы гражданской и религиозной власти. Хотя сотрясаемая религиозными кризисами Германия с появления Лютера и до Тридцатилетней войны шла своим особым путем, во взглядах на человеческое тело и в стремлении установить как можно более жесткий контроль над телом женщины немцы шествовали рука об руку с французами. В распавшейся на несколько государств Священной Римской империи процесс «конфессионализации», о котором упоминают специалисты, в период с 1555-го до 1620 г. привел к усилению общественного контроля, или, по крайней мере, к вполне ощутимому давлению извне, «сверху». Религия не уменьшала ни страхов, ни тревог. Они просто принимали новое значение в конфессиональном контексте, где каждый сам выбирал свою позицию по отношению к исконной борьбе Добра против Зла.
В новой обстановке понятия греха, дурного поведения и преступления стали получать оценку в зависимости от пола обвиняемого. Как во Франции, так и повсюду в Европе назидательные проповеди были направлены на искоренение в человеческом существе животного начала, хотя в устах путешественников-чужестранцев того времени рассказ о грубости немцев уже превратился в стереотип. Решения городских советов отражали мнения проповедников и моралистов, уподоблявших мужское тело вулкану, наполненному всегда готовыми вырваться наружу желаниями и флюидами. Флюиды, кровь, сперма, рвота, экскременты, моча рассматривались некоторыми гуманистами, например Гансом Саксом, и светскими властями как вещества нечистые и загрязняющие все вокруг. Когда мужчина употреблял слишком много спиртного, его тело, являвшее собой вместилище пороков, становилось добычей демона: в это время к нему слетались стаи бесов и подбивали его на всяческие непристойные поступки. В проповедях против пьянства было дано определение целому ряду грехов и преступлений, совершенных под действием горячительных напитков. Потребление вина повсеместно являлось частью мужской культуры, приобщаться к которой мужчины начинали в ранней юности40. Развенчивая злоупотребление алкоголем, моралисты разрабатывали новую модель цивилизованного субъекта мужского пола и пропагандировали ее в трактатах об учтивых манерах, составленных явно под влиянием книги Эразма. К середине века появились сочинения, авторы которых, под влиянием Рабле и в противовес тяжеловесному стилю указов, направленных на искоренение пороков, критиковали эти пороки в шутовской или гротескной форме. В сатирической обработке народной книги о Тиле Уленшпигеле, сделанной в 1572 г. Иоганном Фишартом, автор, выступая против пьянства, превратил своего героя в раблезианский персонаж. Дедекинд сделал своего героя Гробиана скопищем всех телесных пороков; автором перевода «Гробиана» с латыни на немецкий стал Каспар Шейт41. Согласно замечанию Бахтина, сделанного применительно к сочинениям Рабле, литература, прославлявшая дефекацию, имела серьезные намерения служить подавлению непристойных инстинктов; но так ли это? Не исключено, что этот тип литературы непосредственно отражал сопротивление старой культуры нарастающему числу запретов. Сочинения, где в центре повествования оказывались рвота, экскременты, непереваренная и отданная обратно пища или свинья как символ грязи, свидетельствовали о переходном периода, переживаемом обществом, прежде всего городским, ибо читатели этих книг, особенно написанных по-латыни, не были ни самыми бедными, ни необразованными. Они в чем-то сродни покупателям полотен Питера Брейгеля Старшего, изображавшего сценки — зачастую весьма фривольные — из крестьянской жизни. И для первых, и для вторых удовольствие заключалось, скорее всего, в установлении относительной дистанции между ними и героями произведений, из воображаемого нарушения новых норм поведения, из сознания, что кто-то другой сохранил в себе больше животного начала, чем он сам, а, следовательно, этот другой более, чем он сам, достоин презрения. Тело, еще не став ни сакральным, ни божественным, каковым полагали его моралисты, тем не менее уже двигалось по намеченному ими пути, и обладатель его с некоторой ностальгией вспоминал о временах, когда ничто не стесняло побуждений его тела.
Процесс «конфессионализации», в рамках которого человека стремились заставить исполнять роль, отведенную ему Господом, породил новые беспокойства и разворошил старые тревоги. Главную озабоченность проповедников вызывало женское тело. Женщине, оказавшейся под давлением тех же самых запретов, что и ее партнер, было предложено заняться самодисциплиной и избегать греха весьма специфическим способом. Обращаясь к женщине, общественные контролеры не упоминали ни о разнузданности, ни о насилии, ни о пьянстве, то есть о пороках, характерных для мужчин, а делали упор исключительно на сексуальность. Адресованные женщине муниципальные указы чаще всего предостерегали ее от супружеской измены и блуда, противопоставляя порочному поведению идеал супружества, и приправляя его такими необходимыми для женщины добродетелями, как целомудрие, скромность и молчаливость. Линдаль Ропер полагает, что с сексуальной точки зрения тело женщины считалось проницаемым, всегда открытым для вторжения мужчины; причиною тому была ее матка, требовательная и постоянно пребывающая в волнении. Таково же было мнение врача Рондибилиса, вышедшего из-под пера Рабле. В городке Линдау, например, соблазненная девушка с большим трудом сумела убедить власти, что она подверглась насилию против воли, и получить скудную компенсацию за потерю девственности. В целом на мужчину смотрели как на существо, чьи флюиды и жажда насилия постоянно рвались наружу и заражали мир, в то время как женщина оскверняла город, принимая всех желающих в свою постоянно отверстую утробу. Поэтому наказания, определенные для обоих полов, должны были быть совершенно разными. Женщин привлекали к суду в основном за их непристойное поведение и злой язык, и редко за жестокость, пьянство или богохульство42.
Двойственный взгляд на тело поддерживался практикой экзорцизма, принятой католической церковью и достигшей своего апогея в 1560 г. В Аугсбурге до конца XVI в. процедуре экзорцизма подвергались только девушки или девственницы, и никогда мужчины. Для тогдашних протестантов это служило доказательством легковерия женщин и их приверженности к суевериям. Экзорцисты и судьи на процессах по делам о ведовстве подтверждали, что демоны предпочитали вселяться в тела женщин43. И хотя ни одержимость, ни ведовство, разумеется, не расценивались как уголовные преступления, совершавшиеся обычно представителями мужского пола, и не имели отношения к взгляду на женское тело как на отвёрстую утробу, они прекрасно вписывались в логику необходимости постоянного надзора за женщиной, этим опасным существом, которое не может спасти свою душу без помощи мужчины.
Анонимный законовед, изучивший множество судебных постановлений, содержавшихся в архивах судов графства Артуа, примерно в 1640 г. написал труд, где изложил свое видение преступлений против нравственности; сразу следует оговориться, что взгляды его находились под сильным влиянием Контрреформации. Проживавший в испанских Нидерландах незадолго до завоевания этой провинции французами, он 35% своей работы посвятил преступлениям против нравственности, и только 6% — убийствам; судя по его рассуждениям, вопросы нравственности занимали его чрезвычайно.
Плотская любовь сравнима разве только с лихорадкой: эта яростная страсть очень опасна для того, кто позволит ей себя увлечь, ибо кто же знает, что с ним под ее влиянием станется? Человек перестанет принадлежать себе, в поисках удовольствия тело его будет претерпевать тысячи терзаний, а рассудок тысячу мук, ибо он будет слушать только голос желания, а желание будет становиться все яростней. Желание это естественное, страстное и свойственно всем, однако действие его схоже с заблуждением, ибо оно объединяет безумцев с мудрецами, а людей с животными, оно превращает в глупость и никчемность и мудрость, и решимость, и осмотрительность, и мечтательность, и вообще любое движение души43.
Сторонник решений Тридентского собора, он ссылается на принятое там постановление о браке и подкрепляет его авторитетом Отцов Церкви и авторов недавних работ, таких, как «Сумма грехов» Бенедикти, опубликованная в 1584 г.; ученый законовед, несколько раз становившийся эшевеном Арраса, он жаждал развести в разные стороны человека и грубоеживотное. Доказывая правоту своих слов цитатами из Цицерона, он проповедовал воздержание, хотя соблюдать его и «весьма затруднительно», и восхвалял жизнь «скромную, умеренную, трезвую и по-хорошему расчетливую». Типичный представитель эпохи подавления страстей и стихийных порывов, он, не принадлежа к церковному сословию, предостерегал от греховного сладострастия, «необузданной жажды наслаждения, роскоши и плотского удовольствия», которое в труде Бенедикти определено как «любое добровольное истечение мужского семени и беспорядочное плотское совокупление вне брака». В Нидерландах, как и во Франции, гражданские судьи, взявшие на себя обязанности судей церковных, гораздо строже карали нарушения правил сексуального поведения, основанных на сакральности брачных уз и подавлении животных инстинктов. Анонимный законовед из Арраса изучил все степени тяжести сексуальных преступлений, от простого блуда до содомии. Блуд, совершенный мужчиной или женщиной, не состоящими в браке, карался не слишком сурово; но если ему предавались клирики, девственницы или родственники, то наказание было значительно более строгим.
Главной целью было сохранение брака: «Между женой, сожительницей и шлюхой имеется большая разница; жена предназначена, чтобы рожать детей и хорошо вести дом, сожительница — чтобы служить мужчине вне брака, а шлюху держат для удовлетворения страсти». Клирикам сожительство с женщинами было строжайше запрещено, случаи нарушения запрета специально рассматривались епископами. Тридентский собор запретил иметь сожительниц даже мирянам, особенно женатым мужчинам: нарушителю запрета грозило суровое наказание, а его сожительницу следовало выгнать из диоцеза 33. В отличие от Бенедикти, считавшего недопустимым существование публичных борделей в цивилизованной республике, аррасский автор предлагал сохранить бордели в больших городах «бельгийских провинций», но располагать их в местах удаленных, и запретить женатым мужчинам посещать их. Просмотрев 13 приговоров, вынесенных аррасскими судьями за период с 1533-го по 1581 г. неверным мужьям, застигнутым с проститутками, он пришел к выводу, что «плотское наслаждение не соответствует природе людей», иными словами, поиски сексуального удовольствия были прямо противоположны священным целям брака, целью коего является увековечение рода человеческого.
«Преступление прелюбодейства ужасно и безмерно, оно разрушает все человеческое общество, губит и семью, и общественное устройство». Животрепещущей проблеме прелюбодеяния аноним уделяет более пятидесяти страниц. Уточнив, что нынче в его провинции Артуа придерживаются тех же взглядов, что и во Франции, он сообщает, что смертный приговор за прелюбодеяние теперь выносят только в особых случаях, когда между любовниками существует большая разница в положении, например, если простолюдин соблазнит благородную даму, или если прелюбодеяние сопровождается еще каким-либо преступлением. Лакея, согрешившего с хозяйкой, уже не приговаривают к сожжению, как это было раньше. В качестве примеров автор приводит ряд приговоров, вынесенных в провинции Артуа между 1570-м и 1600 г. В них прелюбодеев обязывают достойно возместить нанесенный ущерб, приговаривают к штрафам и (или) изгнанию45. «Сводничество» мужа, заставляющего жену заниматься проституцией, также строго карается. Наказывают даже рогоносцев, «добрых людей», позволяющих злоупотреблять своей добротой; под вердикт суда попадает тот из них, кто, зная о своем несчастье, продолжает терпеть его. Прежде, напоминает автор, рогоносцев сажали «задом наперед на осла и возили по городу, позволяя им вместо узды держаться за ослиный хвост; изменница-жена вела осла, а шествовавший рядом публичный глашатай выкликивал их преступление на каждом перекрестке». Шествие на осле, заимствованное судьями из арсенала насмешек молодых людей над мужьями-рогоносцами, было заменено изгнанием, к которому иногда добавляли повинность прибыть на приведение в исполнение приговора над неверной супругой.
Многоженцев, которых в Артуа прежде выставляли к позорному столбу, развесив вокруг него пучки кудели, теперь, по словам автора, наказывают также, как прелюбодеев. Впрочем, автор спешит отметить, что недавно он прочел, как во Франции «прелюбодеев начали вешать». Переспать с почтенной вдовой или по добровольному согласию лишить девственности девицу считается гнусным развратом и тяжким преступлением, так как при этом нарушается Божественная воля: известно, что хотя «состоять в браке достойно и брак установлен самим Богом, вдовство и девственность являются состояниями более благородными и совершенными». В этих строках нетрудно узнать идеалы Контрреформации, сторонники которой призывали женщин, способных сохранить «драгоценное сокровище и дар своей стыдливости и девственности» становиться Христовыми невестами и уходить в монастырь. Похищение, то есть изнасилование, может повлечь за собой смертную казнь. Впрочем, таких примеров аноним приводит очень мало: как и во Франции, в их краях такого рода преступления редко доходили до суда. Согласно обычаю, существовавшему в Аррасе, жертва насилия могла спасти жизнь своему насильнику, согласившись выйти за него замуж. Инцест, этот омерзительный грех, попирающий «божественное право и людскую природу», теоретически карался смертью. Однако анонимный автор замечает, что материалы уголовных процессов провинции Артуа свидетельствуют о нежелании судей выносить столь суровый приговор даже тогда, когда преступники состояли в родстве первой степени. Правда, в двух случаях инцест был отягощен детоубийством. В сентябре 1530 г. жительница Арраса Маргарита Ленуар, 20 лет от роду, незамужняя, была сожжена за убийство трех своих детей, зачатых от разных отцов. А ее отец Тассар был повешен не столько за то, что имел с ней сексуальные отношения, сколько потому, что, зная о намерениях дочери убить детей, не попытался помешать ей. Сестра Маргариты, Паскетта, также обвиненная в безучастности, была оправдана, ибо акушерки, осмотрев ее, заявили, что она «девственна» и «неиспорчена». В 1621 г., то есть спустя век после описанных событий, наш аноним в качестве адвоката участвовал в судебном разбирательстве, состоявшемся в Эпинуа; в результате обвиняемого приговорили к сожжению на костре за то, что он изнасиловал свою шестнадцатилетнюю дочь, а потом убил и закопал ее ребенка, рожденного от их связи. Принимая во внимание возраст дочери, совершенное над нею насилие и ее утверждение, что она не желала смерти младенцу, ее всего лишь обязали присутствовать при казни отца, доставленного на место с веревкой на шее; девицу же приговорили к наказанию плетьми, предписав бить ее до появления крови на всех городских перекрестках, а потом навечно изгнали ее из города46.
Изнасилование, инцест и детоубийство, разумеется, относились к разряду наиболее тяжких преступлений, однако создается впечатление, что в Артуа их не слишком стремились покарать. Помимо истории семьи Ленуар, автор сообщает только о 4 детоубийствах; двое убийц были приговорены к сожжению, один повешен, а еще один наказан кнутом, а потом изгнан на 10 лет. Разница весьма внушительная по сравнению с тогдашней Францией, где судьи поступали гораздо более сурово с сотнями обвиняемых. За инцест между родственниками первой степени, и в частности между братом и сестрой, во Франции также наказывали значительно чаще, чем в графстве Артуа. Напротив, французские суды выказывали явное нежелание осуждать виновных в изнасиловании. Разумеется, здесь, как и в Германии, вполне можно усмотреть тайные отголоски убежденности в том, что женщина открыта навстречу мужчине от природы, и поведение ее подчинено ее неизбывной похоти. В этом вопросе научная мысль вполне совпадала с народными понятиями: «Загоняй своих кур, я выпускаю петуха», гласила пословица. На практике изнасилование не относилось к сфере непреодолимых табу. Похоже, к ним не относился даже инцест, хотя по наблюдениям этнологов, запрет сексуальных отношений между родственниками присутствует у всех народов. В сущности, наказывать за инцест стали только после проведенной в литературе кампании, начавшейся во Франции в последней трети XVI в.47 Жестокость и разнузданность в сексуальном поведении, свойственные прежде всего имущим классам, свидетельствовали о живучести традиций, противоречивших новым идеям, однако полностью истребить эти традиции власти не могли. Молчание юридических источников относительно преступлений на сексуальной почве порождает недоумение: приходится предполагать, что таковых либо не происходило, что весьма сомнительно, либо что теория в этом вопросе сильно расходилась с практикой.
То же можно сказать и о случаях содомии в графстве Артуа. Анонимный автор прекрасно знал, что содомит, этот «несчастный отброс общества» должен быть приговорен к костру, однако примеров приводит крайне мало. Простая содомия — сексуальное преступление первой степени тяжести — влекла за собой суровое наказание, но не смертную казнь. В середине XVI в. галантерейщика из Арраса, уличенного в содомии и непристойных приставаниях к лицам мужского пола, заставили заплатить внушительного отступного, затем на его голове сожгли колпак из пакли, после чего приговорили к пожизненному изгнанию, пригрозив, что если он посмеет вернуться, его отправят на костер. Партнером галантерейщика был молоденький юноша. В случаях скотоложства, являвшихся, по мнению автора, тяжким сексуальным преступлением второй степени тяжести, к смерти обычно приговаривали не только человека, но и животное, «дабы устрашить и сохранить в памяти сие ужасное преступление», ибо само по себе животное, не обладая разумом, не могло быть признано виновным. Примеров такого рода процессов аноним не приводит, зато пространно рассуждает о чудовищах, которых могла бы произвести на свет женщина, вступив в сношение с медведем или обезьяной. Литературные реминисценции заставляют автора вспомнить кентавров, рожденных от браков людей и животных. И, наконец, сексуальным преступлением третьей степени тяжести автор считал связь между двумя женщинами, заслуживающими, по его мнению, смерти. Впрочем, примеров таких процессов в аррасских делах он не обнаружил. Вспоминая о гермафродитах, он сообщал, что церковный суд обязывал этих людей отдать предпочтение какому- нибудь одному полу и принести клятву свято соблюдать свой выбор. В этом случае конкретные примеры также были заменены литературными, и в частности ссылками на труды демонолога Дель Рио и Монтеня. У Монтеня была заимствована история девицы Мари Жермен, у которой во время прыжка выскочил мужской член, и по такому случаю подружки ее сложили песенку, где советовали девушкам не прыгать слишком высоко48.
В ментальном универсуме аррасского законоведа важное место отводилось искушению плоти. Он полагал, что искушения следует всячески подавлять, а тех, кто проявил слабость, наказывать, учитывая при этом статус подвергшегося искушению, условия совершения проступка и его тяжесть; но главным он считал уроки, кои следовало извлекать из подобного рода случаев, дабы люди на примерах учились жить в умеренности и скромности, подавляя свои животные порывы. В рассуждениях его явно просматривалась негативная оценка роли женщины в этом мире; почтение вызывали только женщины, сумевшие сохранить девственность, состояние, которое «нельзя вернуть никакими ухищрениями». Правосудие ужесточало запреты на противоестественное употребление тела, очередной раз включив в список тяжких преступлений гомосексуальные отношения и совокупления с животными, а также изнасилование и инцест. Женскую природу сопоставляли с открытым сосудом, в глубине которого кипели неукротимые страсти. Мужчин призывали бороться с присущими им отвратительными излишествами, возлагать на себя исполнение моральных и практических обетов. Возможность оказаться в мире демонов подстерегала на каждом шагу. И все же мужчина, попавший в лапы демона, был явлением, скорее, исключительным, иначе пришлось бы признать, что мужчины в принципе не способны осуществлять контроль за своими матерями, подругами и дочерьми. Ведовство — крайняя степень падения женской природы, оставшейся без контроля со стороны мужчины, только женщина была способна перейти от дурного к зловредному. Однако дурное, зловредное и колдовское в умах людей было четко разграничено. Например, анонимный автор ставил вопрос, мог ли появиться на свет плод совокупления женщины с демоном. Презрительно отвергая «простонародные» верования в детей Сатаны, Мерлина и прочих прорицателей, он утверждал, что «дьявол не может ничего сотворить, а тем более породить жизнь, даже когда они [демоны] принимают телесную форму»49. Чудовища были существами из мира людей, реальными и наделенными плотью. Чтобы держать чудовищ в узде, надо было постоянно осуществлять надзор за женщинами, а не просто сжечь нескольких ведьм. Ибо, по словам Пьера Демазюра, еще одного юриста из Арраса и современника нашего анонима, «чудовища посланы Господом... чтобы карать грехи, равно как и колдуны иногда бывают исполнителями воли Божественного правосудия». Роль, отводимая чудовищам, объясняет, почему в одной области чудовищ больше, чем в другой. Хотя далее Демазюр добавляет, что мерзкие эти твари чаще всего «получаются по причине бедности, необузданной любви, ревности или желания отомстить»50.
Чрезмерные страсти позволяют дьяволу вселяться в тело человека, но прежде всего в тело женщины!
К истории восприятия чувств: возвышение зрения
Человек пребывает под неусыпным надзором Божественного провидения, поэтому власть над ним дьявола преходяща, кроме, разумеется, тех случаев, когда дьявол вселяется в колдуна; колдун — отгнивший член церкви, поэтому его следует сжечь. Подлинным новшеством трактатов по демонологии является, по сути, изобретение своего рода козла отпущения, роль которого может быть отведена любому члену сатанинской секты, постоянно одержимому демоном и несущим на своем теле отметину этого демона. Таким образом, людей обвиняют не столько в пристрастии к еретическим учениям, сколько в попущении дьяволу, ибо дозволив нечистому вторгнуться в их тело, они извратили Божественную волю в собственной плотской оболочке. В то время как теология продолжает отрицать реальность физических проявлений присутствия дьявола, демонология, прикладная ветвь теологии, избегая сложных объяснений, обвиняет людей из плоти и крови в полном и безоговорочном подчинении Сатане. И этот миф, подобно многим иным, прочно укореняется в общественной и культурной реальности своего времени. Разумеется, целью его создателей не являлось оправдание истребления всех, что ни есть, грешников, или всех согрешивших женщин, они всего лишь хотели создать некий отвлекающий феномен, вокруг которого можно было бы выстроить многомерную толковательную конструкцию. Ужас, испытываемый учеными, медиками и судьями перед ведьмой, был совершенно реальным, потому что ведьма, нарушительница самых наистрожайших запретов, воплощала собой модель человека, отрекшегося от — Бога. Чтобы одолеть столь серьезную опасность, надо было упорно с ней бороться. Для этого важно было внушить как можно большему количеству людей новый тип страха; отличный от ставших уже привычными страхов, наполнявших повседневную жизнь: в этой жизни народную ведунью нередко призывали на помощь, полагая таланты ее исключительно полезными. Распространению изначально книжного сатанинского мифа способствовала театральная постановочность ведовских процессов, буквально нашпигованных элементами локальной магической культуры, иначе говоря рассказами свидетелей о колдовских действиях, причинивших вред имуществу, животным или людям. Демонологический синтез позволял и опереться на народные верования, и унифицировать образ Князя Тьмы, равно как и образ человека, пребывающего в постоянной борьбе с ним. Объясняя свидетелю, что ведьма, женщина, так похожая на его сестру или соседку, является носительницей зла, потому что в чреве у нее сидит Злой дух, демонологи таким образом противопоставляли телу ведьмы нормальное тело, то есть такое, на какое, по утверждению судей, влиять мог только Бог; следовательно, любая магия, любое «суеверие» могли быть только вредоносными. Однако в представлениях деревенского люда, издавна связанного с многообразным и сложным миром сверхъестественного, процесс унификации образа тела и одновременно образа смерти, не соотнесенной более с пограничными состояниями, порождающими призраков, только начинался. Эта унификация, происходившая посредством чувственного восприятия, с трудом завоевывала свои позиции в деревне.
Миф о сатанинском колдовстве преподносил своего рода первый урок, как самому с помощью органов чувств обнаружить присутствие дьявола. В то время ученая европейская культура находилась в стадии переосмысления значимости данных человеку чувств. Сегодня историки опровергают иерархию чувств, установленную Люсьеном Февром или Робером Мандру. Поставив на верхнюю ступеньку иерархической лестницы слух, а следом осязание, оба ученых отвели зрению вторые роли, а об обонянии, чувстве, связанному со вкусом, упомянули вскользь, уточнив только, что в те времена люди придавали обонянию больше значения, чем мы сейчас51. Тем не менее они подчеркивали наличие очевидной разницы между прошлым и нынешним восприятием чувств, обосновав тем самым необходимость сопоставительного анализа, основанного на особенностях культуры как эпохи в целом, так и данного конкретного общества52. Несмотря на живучесть старых представлений, в XVI и XVII вв. в европейской цивилизации произошли существенные изменения в отношении к чувственным ощущениям53. Помимо новых достижений в сферах науки и искусств (открытие перспективы) и их восприятия органами чувств, западные интеллектуалы отмечали воздействие на шкалу чувственных ощущений сразу двух тенденций. С одной стороны, церковники и моралисты стремились умалить значение органов чувств, ибо они являлись воротами, готовыми распахнуться навстречу греху. Возросло унаследованное от святых и монахов недоверие к телу, причем в основном среди мирян. Уже цитированный выше анонимный автор из Артуа превосходно отразил страх перед телом, боязнь пойти на поводу у собственных животных страстей. С другой стороны, все большую поддержку получала культура нравов, требовавшая от человека достойного и скромного поведения и не позволявшая ему делать грубые движения и совершать неуместные телесные отправления. Обе проповеди служили одной цели, а именно формированию благородного человека, умеющего владеть собой, вежливого, способного скрыть от публики свое дурное настроение и обуздать свои грубые сексуальные порывы54. При таком подходе чувства, способствовавшие близости, а именно запах, вкус и осязание пребывали под более жестким контролем, нежели зрение и слух. И хотя в то время европейские страны развивались согласно своим собственным установлениям, призыв увеличивать расстояние между людьми во избежание непомерных искушений, был характерен для всей западной культуры в целом. Протестантские трактаты, осуждавшие танцы, и католические учебники хороших манер, призывавшие не касаться собеседника и носить в гостях перчатки, лили воду на одну культурную мельницу.
Пока шло формирование характеристик, присущих индивиду, знакомому с правилами культурного поведения, пока формировалась мораль этого индивида, взгляд и запах двигались в противоположных направлениях. Начиная с XVI в. значимость взгляда неуклонно возрастала; он стал основным инструментом восприятия западного мира, связанным с перспективой, книгой, прогрессом оптики и.т.п. Культурные метафоры все прочнее привязывали его к теплоте, характерной, согласно гуморальной медицине, для мужского начала, и к свету, непременному компоненту божественного свечения, озарявшего мир. Как и все чувства, он был амбивалентен, то есть мог привести к греху, однако, по мнению неоплатоников, поддержанных поэтами, видевшими в глазах открытую дверь души, чаще всего он испускал положительное излучение. В 1559 г. врач Лемний утверждал, что взгляд холодного и влажного существа мог наслать болезнь; в частности, взгляд волка, животного с холодным мозгом, мог вызывать насморк и лишить голоса. Отсюда и убеждение, что «больные глаза передают болезнь», то есть больной в состоянии взглядом передать все те недуги, которыми страдает сам. Следовательно, женщины, влажные от природы, могли ослаблять мужчину одним только своим ядовитым взором. Ученые концепции гласили, что зрение возникло из «светлого ума». Философский спор противопоставил сторонников Платона, утверждавших, что излучения проистекают из глаз для освещения предметов, сторонникам Аристотеля, считавшим, что зрением является способность глаз воспринимать световые лучи, поступающие снаружи, из внешнего мира55. По мнению первых, взгляд мог обжигать в прямом смысле слова. Заявляя о готовности сгореть из-за любви к красавице, поэты того времени отнюдь не прибегали к метафоре. Гийом Буше излагает мнение, согласно которому зрение является наиболее почитаемым из всех чувств, а затем объясняет, что самая пылкая страсть души, а именно любовь берет свое начало во взгляде. С изрядной долей иронии, не позволяющей полностью принимать его слова на веру, он замечает, что от любви можно умереть, ибо «внутренние органы жертв ее скорчились, сердце охвачено пламенем, печень прокоптилась, легкие сварились, а мозг повредился, и все это из-за чрезмерного жара, возникающего при любовной лихорадке»56.
В воображаемом интеллектуалов взгляд все чаще соотносился с мужским полом, с Богом, со светом, с красотой, с разумом, а в частности с разумом Декарта. Этот окультуренный взгляд дистанцировался от взгляда колдуна, обладателя дьявольской жабьей лапки. Амбивалентные народные поверья, связанные с взглядом, постепенно уступали место единственно возможной трактовке. В наши дни гадание по хрустальному шару отдаленно напоминают об упражнениях еретиков с магическим оком, символом которого является зеркало, неподвижная поверхность воды или начертанный на земле круг. В то время как в общественном сознании зрение становилось чувством исключительно возвышенным, запах начал спускаться в преисподнюю.
К истории восприятия чувств: запах переходит к дьяволу
Оба чувства находились в постоянном взаимодействии. Дистанцирование тел друг от друга усиливало роль зрения, интеллектуального чувства, прекрасно вписавшегося в процесс формирования европейской личности и способствовавшего обесцениванию области носа, слишком тесно связанной с животным началом. На Западе начался период заката обоняния. Уже Кант в своей эстетике вполне мог бы проигнорировать проблему запахов, а современная эпоха практически похоронила их под благоуханными ароматами57. Наблюдения антропологов помогают уяснить важность обоняния, которое во многих обществах за пределами Европы тесно связано с восприятием смерти и явлением поллюции. Ученые нередко отмечали, что напоминание о рождении всегда соотносится с напоминанием о похоронах, к примеру, нечистым предметом у народа племени брибри, проживающего в Коста-Рике, считается труп, хуже которого может быть только тело в первый раз забеременевшей женщины. Женское тело, отмеченное родами или месячными, во многих местах считается нечистым58. Впрочем, еще врачеватель Лемний писал о дурном от природы запахе женщины, и противопоставлял ему аромат, исходящий от тела мужчины. Перемены, начавшиеся в Европе в XVI столетии, произвели значительные изменения в представлениях, связанных со смертью, установив имплицитную связь между смертью, телом женщины и обонятельным ощущением. Фундаментальные перемены в восприятии тела отразились прежде всего в восприятии запахов. В происходившем параллельно процессе дьяволизации тела возникло обонятельное табу, соединяющее секс со смертью и способствующее установлению более жесткого контроля над грешной плотью.
Вонь являлась постоянным фактором существования, особенно в больших городах. Человеческое тело источало запахи, но далеко не все из них раздражали современников; к непереносимым относился ославленный Брантомом 34 и многими другими авторами кислый запах бараньей лопатки, чаще всего сопутствовавший женщинам. Чтобы избежать упреков в дурном запахе женщины в период месячных пользовались ароматическими тампонами или губками, смоченными мускусом, амброй или циветтом, помещая их между бедер и под мышками. В изданных в 1626 г. «Трудах по фармацевтике» Жан де Рену советовал прожигать лимонную корку с корицей, мускусом и тому подобными веществами, «чтобы вонь, исходящая из их задниц, рассеивалась посредством сего благовонного аромата»50.
Зловоние, связываемое уже во времена античности, и в частности в трудах Галена и Гиппократа, с нарушениями первичных составных частей воздуха, то есть тепла, холода, сухости и влажности, вызывало особенную тревогу. Получившая свое развитие в XVI в., теория контагии с новой силой привлекла внимание к этому явлению, тем более что повсеместно свирепствовали эпидемические болезни, обобщенно именуемые чумой, а периодически возникали и совершенно новые, неизвестные до сих пор заболевания. Теперь врачи говорили не столько о гниении воздуха, сколько об особых источниках ядовитых испарений. В 1568 г. Амбруаз Паре утверждал, что «гнилостное чумное брожение резко отличается от всех прочих гнилостных испарений, ибо в нем содержится скрытый и неразличимый для глаза источник вреда». Советы, как предохраняться от этой невидимой опасности, касались прежде всего оздоровления нездоровых мест и способов защиты проницаемых оболочек на теле человека, куда могли проникать вредоносные испарения. Знаменитый костюм врача во время эпидемий чумы, его маска с длинным носом, наполненным защитными ароматами, был создан именно на основе представлений о проницаемости человеческого тела. Связь между пагубными запахами, экскрементами, грехом и адом становилась все прочнее. Особенно опасными считались фекалии некоторых животных. Жан де Ламперьер в своем «Трактате о чуме», опубликованном в Руане в 1620 г., осуждал животных, живущих среди отбросов, а также тех, чьи экскременты источали особое зловоние: свиней, голубей, кроликов, уток, домашнюю птицу, лошадей. Ангелус Сала, автор «Трактата о чуме» (Лейден, 1617) разоблачал «живущих в домах больших собак, распространяющих вокруг себя сильную вонь; особенно опасны собаки, поедающие падаль и смердящие внутренности животных, ибо ужасным дыханием, вылетающем у них из пасти, они в состоянии заразить целый город; не менее опасна и вонь от мочи и экскрементов кошек». Собаки и кошки, по его мнению, «присоединяются к людям бедным и грязным, живущим в нечистотах, подобно свиньям», ибо «нет ничего в мире, что столь же сильно притягивало бы чуму, как притягивают ее грязь и зловоние»60. Упор, сделанный на животное начало, совершенно очевиден. Устами одного из своих персонажей Гийом Буше восхищается, что «экскременты грубых животных не имеют такого дурного запаха, какой имеют экскременты человеческие», а Амбруаз Паре советует своим коллегам: «приближаясь к больному, остерегайтесь вдыхать воздух, который выдыхают они, а также запах их экскрементов». Давний страх перед магическим телом, похоже, постепенно перемещается на различные выделения этого тела. Стремясь предотвратить эпидемии заразных болезней, Запад попытался увеличить физическую дистанцию между людьми. И в центре этого процесса оказалось обоняние, устанавливавшее ощущение близости и определявшее наличие животного душка, исходившего от человека. Таким образом, можно понять странные на первый взгляд рассуждения врачей, фактически наделивших данное чувство интеллектуальным началом, ибо именно оно устанавливало расстояние, достаточное для того, чтобы не ощущать запаха другого. Как и Амбруаз Паре, Лемний напоминал, что при осмотре больного следует старательно избегать его дыхания. Для этого врач должен был поворачиваться к больному в профиль. А повернувшись в профиль, продолжал он, легче не встречаться взглядом с пациентом, ибо, как известно, посредством взгляда он может передать врачу свой недуг; также не следует стоять между пациентом и камином61. Учебники хороших манер в XVII в. напоминают, что вежливые собеседники не станут располагаться слишком близко друг к другу, голову слегка повернут в профиль; а место возле камина, в отличие от места у двери, будет предоставлено хозяину дома — как наиболее почетное, наиболее удобное и наиболее соответствующее гостеприимному хозяину. Разумеется, понятие заразы в те времена не имело ничего общего с современным, и врач избегал прямого контакта с больным из-за страха перед его магическим телом. «Многие заболели чумой только от того, что смотрели на зараженные чумой дома», или же «через взгляд больного чумой», писал в 1620 г. Жан Ламперьер.
Если вредоносные эманации свидетельствовали о присутствии чумы, бедствия, насылаемого Господом на людей в наказание за их грехи, то сама чума предвещала смерть и гниение трупов. Являясь проявлением божественного гнева, она могла передаваться также посредством молнии, сообщавшей «резкий вонючий запах» предмету, в который она попадала. Вонь была свойственна демону: его появление обычно сопровождалось зловонием. В интеллектуальном воображаемом самые отвратительные выделения обычно связывали с образом дьявола. Так, грязь на парижских улицах один анонимный поэт сравнил с адскими экскрементами:
Кал омерзительнейших грешников,
Черные фекалии ада,
Черное дерьмо дьявола.
В связи с этим Пьеро Кампорези мог говорить о «преисподней носа», сопрягая зловонные ароматы с болезнетворными и зловредными эманациями. Иезуит Жан де Бусьер, например, в своих «Поэтических описаниях» 1649 г. озаглавил словом «Сера» целую оду, снабдив ее подзаголовком «Боязнь ада»62. Повелитель ночи, смерти, мерзких тварей, появлявшихся на свет путем самозарождения из грязи или из зловонных фекалий животных, сам принимавший облик вонючего козла, возвещавшего о своем появление смрадным запахом серы; Сатана правил обонянием. Ему был неподвластен только запах святости, исходивший от тел, чудесным образом избежавших тления, ибо сей аромат свидетельствовал о всемогуществе Бога и указывал узкую тропу в рай. На земле же вонь, дурной запах означали одновременно и грех, и болезнь. Защищаться от них с помощью ароматических веществ дозволительно, однако без излишеств, ибо в тело, усиленно пытающееся скрыть свою природу под одурманивающими запахами, вполне мог проникнуть демон.
В повседневной жизни аромат приобрел основное и одновременно амбивалентное значение. С одной стороны, благовония использовались в борьбе с заразными болезнями. Зараженные дома, имуществом люди подвергались дезинфекции путем ароматического окуривания. Некоторые полагали, что зло следует изгонять злом, а потому, желая исцелить больного, сжигали рога или приводили в дом козла, так как по мнению Амбруаза Паре «испарения» этого дурно пахнущего животного «препятствуют зараженному воздуху проникать в жилище». Зияющее, с отверстыми порами тело в целях профилактики следовало защитить посредством втирания уксуса непосредственно в области рта, носа, ушей, висков, паха, и детородных органов. Для защиты практически тех же самых телесных отверстий многие народы практикуют специальные обряды. Можно было пропитать уксусом губку и во время прогулки по улице нюхать ее. Самые богатые чаще всего носили при себе сосуды для благовоний, драгоценные безделушки, внутрь которых помещали амбру и при необходимости нюхали ее. Вместо амбры могли использовать душистую смолу или шарики из душистой глины, душистые фрукты, такие, как лимон или апельсин, надушенные букетики. Во время эпидемий люди, выходя на улицу, старались прикрыть лицо: прижимали к нему пропитанные ароматами кусочки ткани и старательно избегали контактов друг с другом. Те, кто больше всех подвергался опасности заражения, а именно врачи и сиделки, надевали наглухо закрытые костюмы, пропитанные защитными ароматами, а иногда даже закупоривали отверстия на теле: в рот клали зубчик чеснока, в уши ладан, в нос руту...63 Сосуды для благовоний постепенно причислили к талисманам, которые носили для защиты от темных сил. В искусстве Нидерландов первой половины XVI в. талисманы изображают в руках у молящихся и или висящими на поясе, иногда вместе с четкам; наличие талисмана означало желание его владельца удержать демона на расстоянии. И на миниатюрах, и на масштабных полотнах можно найти изображения растений, также исполняющих роль талисманов64. В любом случае запахи обладали способностью отгонять дьявола. А впрочем, если судить по современным фильмам ужасов, чеснок и по сей день является наиболее верным средством для отпугивания вампиров! Употребление чеснока как профилактического средства против заразных испарений имплицитно объединяло две сферы: сферу болезни и сферу Сатаны. Ладан, вещество, в высшей степени связанное с набожностью, символизировал отказ от Зла.
Но защитный ароматический барьер мог превратиться в дьявольскую ловушку. Теория, умаляющая значение благовоний и выступающая против злоупотребления ими, была выдвинута моралистами и церковниками, начавшими гонения на искусственные ароматы, именно в то время, когда на службу обогащения перчаточников-парфюмеров была поставлена мода. Перчатки, кожаные изделия, даже ножны для шпаги пропитывали ароматами, чтобы скрыть сильный запах кожи; при этом многие забывают, что таким образом изготовители изделий хотели физически очистить их от смерти, удалив ее эманацию путем ароматической обработки кожи. Человек должен был скрывать ущерб, нанесенный возрастом его телу, равно как и исходящие от него дурные животные запахи. Ароматические вещества высушивали, наполняли ими мешочки, а те зашивали в маленькие подушечки и клали эти подушечки в сундуки с одеждой или носили на себе. Жан де Рену отмечает, что «дурно пахнущие женщины» носят такие подушечки «между грудей, чтобы скрыть и исправить свое несовершенство». Ароматическим мешочкам придавали форму того органа, какой следовало вылечить: целебные свойства, приписываемые таким мешочкам, опирались на принцип симпатической магии, согласно которому подобное тянется к подобному. Мэтр Жан Боннар, присяжный хирург Парижа, в 1629 г. призывал делать лечебные колпаки, наполненные благовониями, а также ароматические повязки для живота, по форме напоминавшие волынку, и так далее. В XVII в. хорошим тоном считалось носить с собой коробочку с ароматическими веществами, где находились ароматические мази и губка, пропитанная уксусом, — чтобы было что поднести к носу в случае опасности. Ароматами пропитывались предметы и украшения: цепочки, кольца и даже четки; для этих целей использовали в основном амбру или мускус. Вещицы, источавшие аромат, служили не только для красоты или удовольствия. Постоянно пребывая в тревоге перед угрозой смерти или появления демона, пропитанные ароматами вещи носили также с защитной целью.
В описи драгоценностей королевы Марии Медичи, сделанной в 1609 г., была указана «голова мавра, изготовленная из мускуса и амбры и оправленная в золото и серебро; чело ее было украшено десятью рубинами и восемью изумрудами»65.
Особенно яростным нападкам со стороны моралистов подвергались пристрастные к благовониям женщины. В эпоху насаждения католической Конрреформации во Франции, во времена Генриха IV и Людовика XIII, развернулась подлинная кампания по борьбе с потерявшими стыд дамами, которые, следуя моде, обнажали грудь, а также со всем тем, что подталкивало к греху и изменяло природу: нападкам подверглись притирания, употреблявшиеся для сокрытия истинного возраста, и ароматы, с помощью которых пытались изменить Божье творение, сокрыв его природный запах, пусть даже и не самый приятный. В 1604 г в «Разнообразных уроках» врач Луи Гийон, как и многие современные ему авторы, рассказывает о практике пропитки духами одежды и волос и возмущается тем, что «перед соитием, желая получить еще больше греховного удовольствия, многие поливают духами головку полового члена, а также льют духи в вульву»66. Духи развращают не меньше, чем зеркало кокетки, и позволяют дьяволу вселиться в тело, подчиненное плотским желаниям; каковым, естественно, является тело женщины. Злоупотребление ароматами также открывает дорогу в ад. В испанских Нидерландах францисканец Филипп Боскье издает в 1589 г. в Монсе «Новую трагедию, именуемую Маленькая бритва для срезания светских украшений, где показано, что все невзгоды нашего времени проистекают из ересей и излишеств при украшении тела». Одним из действующих лиц пьесы является не кто иной, как Сын Божий, Искупитель мира. Во второй сцене 2-го акта святая Елизавета пытается смягчить его гнев, но он остается непреклонен: грехи людей безмерны, особенно грехи девиц, одетых по последней моде:
Чтобы вскружить голову влюбчивым отрокам,
Надобно румян с белилами побольше взять,
И кожи цвет природный сильно изменить.
Добавить чуточку чужеродных ароматов,
Пропитать мускусом и дорогим бальзамом одежды,
А в руки взять комок смолы благоуханной.
Мой нос не хочет эти запахи вдыхать,
Мои глаза от этих красок слепнут,
И не желаю я терпеть тщеславие пустое,
Пригодное лишь для того, чтобы огонь разврата
Разжечь, и отрока достойного, но ослепленного их блеском суетным,
Заставить побежать за ней, бычку подобно молодому...67
В этом тексте обоняние находится в тесной связи с сексуальным грехом. В основу сочинения Боскье положена библейская цитату из Книги пророка Исаии, где дочерей Сиона ожидало ужасное наказание, ибо Господь решил заменить все, к чему они стремились, на противоположенное: «И будет вместо благовония зловоние» (Ис., 3, 23). В культурном пространстве Запада, где умонастроения борцов с пороками были подвержены эволюции, вытеснение благовоний началось с установления непосредственной связи между сексом и духами, которыми злоупотребляли женщины. В отличие от моралистов, поэты Плеяды и многие их последователи относились к благовониями совершенно иначе: апеллируя к «Песни Песней», они отыскивали молоко и мед под языком возлюбленной и восхищались сладостным ароматом поцелуя. Где-то в середине, между моралистами и поэтами, стоят авторы гравюр 1550—1650 гг., посвященных обонянию; идеализируя женщину, олицетворявшую это чувство, они изображали ее с собачкой, с цветами или в обществе влюбленного мужчины, которому она предлагала понюхать розу. Но ваза или корзина с цветами часто прикрывали собой женские половые органы, в сторону которых обычно бывал направлен также нос собаки, что должно было служить напоминанием о дурном от природы запахе этих органов и о дурно пахнущих женских месячных, о которых писал Лемний. Искусство идеализировало эту дурнопахнущую реальность, прикрывая ее цветами, аромат которых возносился к носу дамы или же обнимавшего ее галантного кавалера68.
К обонянию относились неоднозначно, и это свидетельствует о том, что оно еще не имело постоянного места в иерархии чувств. И все же, не вытесняя ни образы, ни практики прошлого, наметились две основные корреляции: рост отвращения к запаху экскрементов, особенно человеческих; и начало обонятельного облагораживания сексуальной-области посредством духов, выливаемых на детородные органы, и цветочных метафор в произведениях поэтов и художников. Разумеется, телесный низ по-прежнему сохранял свой статус. Если судить по изобилию рассказчиков фривольных и малопристойных историй, напоминание об «игривом предмете» продолжало услаждать благородное общество по крайней мере до конца XVI в. Как при дворе так и в деревне, и в замкнутом мирке клириков сексуальные отношения в основном оставались довольно свободными и грубыми; клирики нередко заводили себе сожительниц, и, как свидетельствуют хроники Франш-Конте первой трети XVII в., изгнать их из церковного мирка было довольно сложно. Новые тенденции в сексуальном поведении появляются примерно с 1580 г., но, чтобы внедрить их в жизнь привилегированных слоев и состоятельных горожан, понадобился почти целый век. Процесс дьяволизации телесного низа, незавершенный и социально ограниченный, совпадал с периодом охоты на ведьм. И хотя нельзя утверждать, что оба явления были связаны между собой непосредственно, и авторы, и читатели-горожане, верили в способность демона вселиться в чужое тело, то есть тело ведьмы и начать там хозяйничать; но верили и в то, что демон может вселиться в их собственную телесную оболочку, если они согрешат.
Дурной запах очевидно должен был стать основным признаком низкого социального положения. Пока же вонь ассоциировалась с образом дьявола, со зрелищем болезни и пахучими снадобьями, необходимыми для исцеления, с картинами плотских наслаждений и чувством виновности, порожденным сознанием злоупотребления сексуальными отношениями. Нос доставлял удовольствие и одновременно вселял ужас. Физиогномика, почитаемая в те времена наукою, превратила этот вполне зримый орган в визитную карточку сексуальных возможностей личности. Опираясь на давнюю народную примету, Делла Порта в своем латинском трактате, опубликованном в 1586 г., а затем неоднократно переведенном на народные языки, писал, что у мужчин форма и величина носа соответствуют форме и размерам их члена. Мужчинам, обладавшим длинным и толстым носом, как у Сирано де Бержерака, в сущности, не на что было жаловаться. Носы курносые, короткие и приплюснутые свидетельствовали о похотливости, распутстве и бесстыдстве их владельцев69. То же самое говорилось и о женщинах, чья похотливость и «постыдные части» также «рассматривались» в сравнении с водруженным посреди лица носом. Лемний доверительно сообщал, что бледные и тощие женщины были более сладострастными, чем краснолицые и толстые70.
Линдаль Ропер утверждает, что выражение «постыдные части» в Германии в XVI в. сообщает вовсе не о стыде, а всего лишь о наложенном из уважения табу; мне же кажется, что во всей Европе упоминание женских половых органов имело цель внушить чувство виновности. Само по себе именование кажется вполне нейтральным, тем более что ономожет прилагаться и к мужским органам. Но во время процессов о ведовстве, когда оно звучат в устах судей или хирургов и палачей, занятых поиском дьявольской отметины, оно очевидно обретает сатанинскую окраску, так как связывается непосредственно с обвиняемым. Обнаженные, со сбритыми на всем теле волосами, обвиняемые женщины подвергаются тщательному осмотру; особое внимание уделяется их интимным органам, где больше всего любит селиться демон. Вдобавок сами женщины иногда признаются, что давали дьяволу в качестве залога «волосок из их постыдных частей». Их договор с дьяволом не кровавый, а сексуальный, предполагающий сатанинское совокупление, которое судьи, одержимые не столько вуайеризмом, сколько уверенностью, что иным образом дело идти не может даже у ведьм, заставляют описывать во всех подробностях. Эта процедура направлена не на пробуждение стыда, даже если обвиняемая и пребывает в постыдном замешательстве, а, скорее на внушение постоянно нарастающей виновности, которую судьи усиленно пытаются ей внушить. Сами они, разумеется, это понимают, а, возможно, даже чувствуют. Обнаженное тело, одержимое дьяволом, тело, которое они подвергают исследованию, является телом вполне реальной женщины, часто похожей на их супругу, на их мать; вместе с тем оно полностью отличается от обычного тела женщины, так как на нем лежит вина в самом ужасном что есть на свете преступлении. Сокрытый внутри грех является им в своем ослепительном сиянии. Без сомнения, после окончания такого процесса в них самих происходят гораздо более глубокие изменения, нежели в запуганных крестьянках, которых они заставляют делать признания. И трудно поверить, что в воображаемом элиты, частью которой являются судьи, образ женского тела как такового не претерпевает никаких изменений.
В этих условиях представление о демоне с «лицом ниже спины» приобретает вполне определенный смысл. В символической манере оно привлекает внимание к неуклонно возрастающему влечению к искомой части тела, значение которой безуспешно пытаются принизить моралисты; но буйная телесная культура, выведенная на сцену Рабле, явно умирать отказывается. Дьявольское «лицо под хвостом», которое, если верить демонологам, целуют члены сатанинской секты, является фантазмом, локализующим всю сумму грехов и опасностей, связанных с телесным низом. Это лицо является отражением крайне важного для всей западной культуры механизма порицания животного начала в человеке, механизма, под действием которого начинается процесс перенесения акцента на свойственную человеческой природе сакральность.
“Фронтиспис «Трагических историй» Пьера Боэтюо, первое издание которых появилось в 1559 г., украшен фигурой восседающего на троне Сатаны. На его кошачьей голове нахлобучена папская тиара. У него женское тело с отвислыми грудями, когтистые руки и ноги, а половые признаки спереди являют собой широко отверстый рот, отдаленно напоминающий человеческий72. Этой гравюрой, напоминавшей читателю о кошачьей похотливости женщины и ее демонического полового органа, открывается сборник необычных рассказов, посвященных безудержным человеческим страстям. Тело святого, напротив, отвергает тиранические позывы плоти. Ясновидица XVII в. Антуанетта Буриньон, описывает Адама как андрогина:
Вместо частей скотских, говорить о которых не принято, он имел такие органы, какие будут иметь наши тела в вечной жизни, но я не знаю, следует ли мне об этом говорить. В сей области тела у него был вырост той же самой формы, что и нос на лице, и в этом выросте находился источник восхитительнейших запахов и ароматов; из него же должны были появляться люди, эманации коих он носил в себе. Ибо в чреве своем он имел сосуд, где зарождались маленькие яйца, и еще один сосуд, наполненный ликвором для оплодотворения сих яиц73.
В мрачном воображаемом демонологов, в назиданиях проповедников и снах мистиков нос, запахи и секс неуклонно шли рука об руку. Аромат святости был столь же силен, как и дьявольская вонь. Первый говорил о сакральной части человеческого существа, вторая о его животной натуре, подлежащей укрощению. В период перехода от магии к науке Запад порождал своих внутренних демонов74, готовясь, таким образом, к завоеванию таинственных пространств телесного микрокосма. Прогресс цивилизации нравов требовал хорошенько растормошить человека прошлого. Пока горизонты науки только вырисовывались в тумане будущего, цивилизация нравов собирала разрозненные магические практики прошлого ради формирования единого универсума, где дьявол действовал с божественного дозволения и где каждый смертный обязан был научиться контролировать свои страсти, свое беспорядочное жизнеустройство, дабы способствовать осуществлению священной миссии. Сатана был движущей силой Запада: он стал частью самого человека, и против него следовало бороться не покладая рук. Бороться во имя Господа, как сказали бы люди тех времен. Чтобы с помощью культурных мифов образовать некую общественную связь для создания динамического напряжения, побуждающего людей отправляться на завоевание себя и мира, как сказал бы историк.
1 Муниципальная библиотека города Лилля, рукопись 366 (№ 116, каталог Риго), f 104 v — дата, G v и H г — цитированный текст.
2 MirkoD. Grmek (dir.). Histoire de la pensée médicale en Occident. T. 2. De la Renaissance aux Lumières. Paris, Seuil, 1977, p. 8.
3 Ibid„ p. 157-163.
4 Roper L., op. cit., p. 119, 191—193.
5 Beniot Salvadore Evelyne. Un corps, un destin, La femme dans la médecine de la Renaissance. Paris, Champion, 1993; Sara F. Matthews Grieco. Ange ou Diablesse. La représentation de la femme au XVI siècle. Paris, Flammarion, 1991; Muchembled Robert. Cultures et Société en France du début du XVI siècle au milieu du XVII siècle. Paris, SEDES, 1995, p. 162-184.
6 BerriotSalvadore E Op. cit., p. 199—200.
7 Matthews Grieco S.F., op. cit.
8 Corel Maaijo Van Hoom. Levinus Lemnius, 1505—1568. Zestiende- eeuws Zeeuws genesheer. Kloosterzande, J. Duerinck-Krachten b.v., s.d. [1978] (thèse de doctorat en médecine, V.U. Amsterdam).
9 Lemnius Levinus. Les Occultes Merveilles et Secretz de nature. Paris, Galot du Pré, 1574, 213 ff., с рисунками. Первое латинское издание вышло в 1559 г.; перевод на итальянский вышел в 1560 г. (четыре переиздания до 1570 г.); первое издание перевода на французский под названием «Тайные чудеса природы» вышло: Les Secrets miracles de nature..., Lyon, Jean D’Ogerolles, 1566; следующее издание на французском вышло в Париже, в 1567 г. (три переиздания до 1575 г.); перевод на немецкий вышел в Лейпциге в 1569 г. (три переиздания до 1580 г. и пять переизданий за период с 1580го по 1605 г.). Еще одно издание на латыни вышло в Амстердаме в 1650—1651 гг.; перевод на английский вышел в Лондоне в 1658 г..
10 Ibid„ f 133, 142 v, 146 v - 148 v, 170 v, 207.
11 См. в: Tempère Catherine. Le Sang. Représentation et pratiques médicales en France du XVI au XVIII siècle. Thèse de doctorat inédite sous la direction de Robert Muchembled, Université Paris-Nord, 1997, p. 132—134.
12 Lemvius L., op. cil., f 155, 1666 v.
13 Ibid., f. 33.
14 Joubert Laurent Traité du ris, contenant son essence, ses causes, et mervelheux essays, curieusement recherches, raisonnes et obsrves. Paris, Nicolas Chesneau, 1579.
l:5 Tbid.. посвящение
16 Tbid.. p. 257-259.
17 Bouchet (luillaume. Les Serées / éd. Par C.E. Rovbei. Paris. A. Le- merre. 1373. i I. p. 126—127.
18 llml , i IV, p. 44-45.
19 tehnr Lucien. Le Problème de l’incroyance au XVI siècle. La religion de Ralliais. Paris, Albin Michel, 1968, p. 407 (1-е изд. — 1942).
20 Lxker Alain. Archéologie de l’Europe conquérante. Contribution à une anthropologie de l’Occident. Thèse inédie, sous la direction d’Eric Navet, l'ntveisité Starasbourg-II, 1997.
21 Hem ha mer Richard. Wild Men in the Middle Ages. A Study in Art, Sentiment and Demonology. New-York, Octagon Books, 1970, p. 34—35 (Те изд. - 1952).
22 Journal d'un bourgeois de Paris sous François Ier, éd. par Philippe Joutard, Paris, UGE, 1963, p. 154—155.
23 Paré Ambroise Des monsters et prodigés, éd. critique par Jean Géard. Genève, Droz, 1971. Издание содержит 92 рисунка.
24 Brabant Hyacinthe. Médecins, Malades et Maladies de la Renaissance. Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1966, p. 234—239.
25 Lemnius L. Op. cit., f 98, 186 v.
26 В статье Маризы Симон (MaryseSimon, «Les animaux du diable») упоминаются дьявольские мухи, фигурировавшие на процессе о колдовстве в Валь-де-Льевр (деп. Верхний Рейн).
27 Pare A. Op. cit., chapitre XVI.
28 Brabant H. Op. cit., p. 248—249.
29 Lascault Gilbert, op. cit., p. 250—251 — об Амбруазе Паре; p. 338— 339 — об осле-папе, авторство которого приписывается Лютеру; воспроизводится женевская гравюра 1557 г.
30 Bouchet G. Op. cit., t. Ill, p. 250.
31 По этой теме написана превосходная диссертация: Steinberg Sylvie. Le Travestissement à l’époque moderne (XVI—XVIII siècle). Recherches sur la différence des sexes, inédited, sous la direction de Jean- Louis Flandrin. Paris, EHESS, 1999.
32 Бахтин M. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990, с. 10.
33 Febvre Lucien. Amour sacré, Amour profane. Autour de l’«Hep- tameron». Paris, Gallimard, 1944.
34 Элиас H. «О процессе цивилизации», op. cit.; Muchembled Robert L’Invention de l’homme moderne. Culture et sensibilité en France du XV au XVIII siècle. Paris, Hachette, 1994, p. 15—134 (1-е изд. — 1988); Его же. La Société police, op. cit. Креационистский подход к человеческой природе можно найти в работах: Duerr Hans Peter. Nuditée et Pudeur. La mythe du processus de civilisation. Paris, Editions de la maison des sciences de l’Homme, 1998 (Те немецкое изд. — 1988).
35 Бахтин M. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990, с.167.
36 Maetreünck Louis. Le Genre satirique, fantastique et licencieux dans la sculpture flamand et wallonne. Les miséricordes de stalles (Art et folklore). Paris, Jean Schemit, 1910, p. 138, 182—183, 296.
37 Hanley Sarah. Engendering the State: Family Formation and State Building in Early Moderne France // Franch Historical Studies, vol. 16, 1989, p. 4-127.
38 На основании реестров тюрьмы Консьержери, с 1564 г. хранящихся в Архивах префектуры полиции (série АВ; Париж, Комиссариат V округа), можно составить список этих казненных женщин, а также — гораздо более короткий — список ведьм, казненных примерно в это же время.
39 Schilling Heinz. Religion, Political Culture and the Emergence of Early Modern Society. Essays in German and Dutch History. Leyde, E.J. Brill, 1992, p. 244.
40 Roper L Op. cit., p. 113-113.
41 Ibid., p. 156-159.
42 Ibid., p. 46, 153. См. также: Rublack Ulinka. Magd, Metz’ oder Morderin, Frauen vofruhneuzeitlichen Gerichten. Frankfort-sur-le-Main, Fischer Verlag, 1998.
43 Roper L., op. cit., p. 190—192.
44 Муниципальная библиотека города Лилля, рукопись 380 (№ 310, каталог Риго); Matières criminelles, 354 р. (рукопись принадлежала королевскому прокурору из Дуэ); р. 178. О грехе сладострастия см.: р. 171-186.
45 Ibid., р. 186—240. В главе также содержатся сведения о «сводничестве»: р. 222—240.
46 Ibid., р. 41, 241-275.
47 См. гл. IV. Также см.: Vigarello Georges. Histoire du viol, XVI— XX siècle. Paris, Seuil, 1998.
48 Муниципальная библиотека города Лилля, рукопись t. 380, op. cit., p. 277—290; 302—309 (об инкубах и суккубах).
49Ibid., р. 309.
50 Муниципальная библиотека города Лилля, рукопись 510 (№ 192, каталог Риго), t. IV содержит копию XVIII в. «Заметок» (Remarques) об обычном праве в Артуа, начатых Пьером Демазюром и завершенных им в 1638 г.: f 2367 v и 2376 г.
51 Febvre L. Le problème de l’incroyence, op. cit., p. 402—403; Mandrou Robert. Introduction a la France moderne. Essai de psychologie historique, 1500—1640. Paris, Albin Michel, 1961, p. 68—77.
52 Howes David (ed.). The Varieties of Sensory Experience. A Sourcebook in the Anthropology of the Senses. Toronto, University of Toronto Press, 1991, p. 8-11.
53 Havelange CarL De l'oeil et du monde. Une histoire du regard au seuil de la modernité. Paris, Fayard, 1998, p. 27.
54 Muchembled R La Société police, op. cit, chapitre III.
55 Havelange C. Op. cit.
56 Lemnius L Op. cit., f 7, 8; Bouchet G. Op. cit., t. III, p. 192—193, 200-201.
57Howes David. Olfaction and transition // D. Howes (ed.), op. rit., p. 128—147, особенно p. 144—145. См. также: Clasen Constance, Howes David, Synnot Anthony Alain. Aroma. The Cultural History of Smell. Londres-New York, Routlege, 1994; Corbin Alain. Le miasmeet la Jonquille. L’odorat et l’imaginaire social aux XVIII—XIX siècles. Paris, Flammarion, 1986; его же: Histoire et anthropologie sensorielle // Anthropologie et Société, vol. 14, 1990, p. 13—24.
58 Howes D., art. cite, p. 140—141.
59 Biniek Aureüe. Odeurs et parfums aux XVI et XVII siècles, sous la dir. De R. Muchembled, Université Paris-Nord, 1998, p. 58-65
60 Ibid., p. 73-74.
61 Bouchet G., op. cit., t. III, p. 162; Biniek A., op. cit., p. 75; Lemnius L., op. cit., f 7 v.
62 Biniek A., op. cit., p. 79—80; Guerrand Roger-Henri. Les Lieux. Histoire des commodités. Paris, La Découverte, 1985; Camporesi Piero. L’Officine des sens. Paris, Hachette, 1989; du même, Les Eltluves du temps jadis. Paris, Plon, 1995. Lemnius L., op. cit., f 200 v.
63 Biniek A., op. cit., p. 115—132.: Lemnius L., op. cit., f 138 (о вони, которая исцеляет).
64 Falkenburg Reindert L. De duiven beeld. Iver duivelalwerende krachten en motieven in de beeldende kunst rond 1500 // Duivels- beeldenden, op. cit., p. 107—122.
65 Biniek A., op. cit, p. 147—157.
66 Ibid., p. 92.
67 Bosquier Philippe. Tragoedie nouvelle dicte Le Petit Razoir des omemens mondains, en laquelle toute les miseres de nostre temps sont attribuée tant aux hérésies qu’aux ornaments superflus du corps. Mons, Charles Michel, 1589 (Geneve, Slatkine Reprints, 1970, p. 58)
68 Biniek A., op. cit., p. 189—197.
69 Courtne Jean-Jacques, VigareUo Georges. La phisionomie de l’homme impudique. Bienséance et «impudeur»: les physiognomonies au XVI et au XVII siècle // Parure, Pudeur, Etiquette, Revue Communications, № 46, 1987, p. 79-91.
70 Lemnius L, op. cit., f 182 r—v.
71 Roper L., op. cit., p. 59.
72 Lehner £., op. cit., p. 18. Боэтюо еще будет неоднократно упоминаться в гл.IV.
73 G. Lascault, op. cit., p. 186.
74 Cohn Norman. Démonolatrie et Sorcellerie au Moyen Age: fantasmes et réalités. Paris, Payot, 1982 (1-е английское издание называлось: Europe’s Inner Demons, 1975).
Памяти Альберта-Марии Шмидта, ученого перевозчика, Чудесного проводника под Черным Солнцем трагического сознания
ГЛАВА IV
Сатанинская литература и трагическая культура. 1550-1650 гг.
В XVI—XVII вв. Европу захлестнул подлинный шквал ужаса перед дьяволом. Никогда еще фигура Князя Тьмы не занимала столь важного места в воображаемом мире Запада. В дальнейшем подобное уже не повторится. Вырвавшись за рамки религиозной пропаганды, дьявол вторгся во все области жизнедеятельности человека. Пытаясь оценить данное явление в ретроспективе, необходимо принять во внимание его поистине всеобъемлющий размах, придающий вере в демона значение этиологического мифа. Глубинные изменения происходили на всех уровнях человеческого сообщества Старого Света. Напуганные, потревоженные, выбитые из привычной колеи такими неслыханными прежде событиями, как открытие неведомого, населенного неизвестным народом континента, и ужасное потрясение, произведенное Реформацией, люди искали смысл в происходящем, стремились понять сущность бытия и избежать страшных опасностей, подстерегавших их на каждом шагу. Но несмотря на раскаленную лаву нетерпимости, затоплявшую Европу, на вспыхивавшие по любому поводу конфликты, люди Запада продолжали выстраивать свою коллективную идентичность. Пока основные массы населения в большинстве своем оставались данниками магического видения мира, правители, мыслители и художники, изобретали новые формы объединения. Достижения тогдашней науки, на передовом крае которой находились Левинус Лемний и Амбруаз Паре, не могли беспрепятственно создавать основу для новых идей. Любые новшества следовало сначала рассмотреть сквозь призму теологического видения мира, доминировавшего вплоть до появления картезианства, пустившего столь глубокие корни, что влияние его нисколько не уменьшилось даже после смерти Декарта. Преодолевая межконфессиональную рознь, европейцы, скованные невидимыми цепями символов, отправлялись на завоевание земного шара. И народы, которые они встречали в неведомых доселе далях, безошибочно распознавали людей Запада, отличавшихся особой манерой экзистенциального поведения, которую не могли скрыть ни национальность, ни религия, ни социальное положение.
Боязнь самого себя
Внутренне единство людей Запада было обусловлено антропоцентрическим видением мира. Однако оптимизм Эразма и близких ему по духу гуманистов, утверждавших божественную природу человека, остался в прошлом, наставшие века крови, огня и железа породили Лютера и армию его сторонников, исповедовавших пессимистические взгляды на человеческую природу. Для них Создатель превратился в грозного мстителя, иными словами, перестал быть отдаленной абстрактной первопричиной. Оставаясь невидимым, Создатель спустился с заоблачных высот и стал диктовать свой неумолимый закон, предупреждая ослушников посредством грозных знамений: бедствий, чудовищ, комет.
Более ощутимым стало и присутствие Сатаны; Лукавый начал действовать активнее и творить еще больше козней, ибо теперь он действовал с Божьего дозволения и являлся карать или искушать грешников. Наделенный способностью к воплощению, он мог вселиться в труп или проникнуть в тело, то есть делать то, что, по утверждению экзорцистов, не могли делать ангелы.
Согласно историкам, груз личной виновности христиан, и прежде всего наиболее сознательных и восприимчивых к агитации, развернутой во всех сферах культуры, неизмеримо возрос. Демон стал непосредственным участником культурного процесса. Путь его по воображаемому миру являет собой этапы становления мифа о всеобъемлющей ответственности индивида; зародившийся в рамках религиозных и моральных устоев, миф этот быстро перерос свои изначальные границы. Образ грозного Бога, следящего за каждым шагом человека, стал своеобразным отражением образа могущественнейшего демона, преследовавшего свою добычу от колыбели до могилы. Модернизация Запада покоилась на фундаменте персонализации и внутреннем осознании греха. Именно с этих позиций следует перечитать теоретические положения Макса Вебера, изложенные в его знаменитой книге «Протестантская этика»1. Острая полемика, затеянная экономистами после ее выхода, быстро заставила забыть, что речь шла прежде всего о социологическом очерке религий2. Автор ставил проблему исторического своеобразия западной культуры. Его рассуждения о смятении, царившем во внутреннем мире подданного-протестанта, пытавшегося отыскать в собственном бытии конкретные доказательства Божественного предопределения, вполне можно было бы отнести ко всем борцам за веру, которых в погрузившейся в религиозные распри Европе было предостаточно. Середина XVI в. знаменует начало великого смятения, воцарившегося в исполненном бедствий мире, пребывающем под неусыпным суровым взором Господа. И католики, и протестанты были уверены, что все они ходят по краю отверстой адской пропасти, откуда демон, жаждущий завладеть ими, следит за каждым их шагом. Когда запущен механизм внушения личности чувства виновности, люди в отчаянии ищут доказательства, что Создатель их не покинул. И христианский героизм, и миссионеры, отправлявшиеся за пределы Европы нести свет Евангелия чужим народам, и уничтожение внутренних врагов, олицетворением которых являлись колдуны, порождены одним и тем же миропорядком. Сомнение, разъедавшее людей, становилось главным стимулом к действию, и действие выводило их на дорогу, ведущую к цивилизованным нравам, становление которых Норберт Элиас тесно связывал с активными действующими силами Запада3.
Средневековье установило границу между человеком и животным, однако новые времена потребовали пересмотреть прежние границы, подготовив тем самым почву для «революции» в отношении к телу, представленной в предыдущей главе. Сексуальность, втиснутую и в протестантских, и в католических землях в узкие рамки религии и морали, обнесли еще одним забором, состоящим из медицинских предписаний и статей уголовного права. Страх перед «чудовищами», рожденными из противоестественных соитий, являлся одной из причин запрета любых сексуальных отношений вне брака, поводом для консолидации семейных и общественных связей под эгидой отцов и мужей, объединившихся с представителями светских и религиозных властей. Ужесточение контроля над сексуальностью заключалось в упрочении цепей власти, опутывавших женщину, пребывающую под опекой мужчины. Грозный сатанинский миф о колдовстве уходил в прошлое, его место занимала женщина, чье ненасытное тело, способное на всяческие мерзости, вносило разлад в мировую гармонию. Следовательно, женщину надо было ограничивать во всем. Запреты, налагаемые на секс, контроль за поведением женщин свидетельствовали о постоянно возрастающей значимости внутренней жизни человека. В ожидании, когда самоконтроль, начавший приживаться в придворных кругах и высших слоях городского населения примерно со второй трети XVII в.4, станет реальностью, основным двигателем эволюции начиная с 1550-го и примерно до 1650 г. была боязнь самого себя.
Воспитывать устрашением — вот, поистине, девиз того времени. Но ни проповедей, ни молитв, ни уголовных процессов, более напоминавших красочные спектакли, явно не хватало. Страх, угнездившийся в западном воображаемом, был сформирован несколькими поколениями писателей, обращавшихся к постоянно возраставшему кругу читателей, который тем не менее никогда не включал в себя собственно народные массы. Новая культура, порождавшая трагическое видение мира, проложила новые пути в искусстве, породив особый тип литературы, утверждавший безграничное владычество демона; сатанинские сочинения заполнили как протестантскую Германию, так и католическую Францию. Судебные реалии и фантазмы тесно переплетались в объемных томах, тонких книжечках и брошюрах, где на нескольких листочках излагался какой-нибудь «анекдотец», иначе говоря, короткая кровожадная история, жуткая и загадочная; кровавые анекдоты печатали и в начавших выходить в то время газетах. Расширение читательской аудитории, состоявшей преимущественно из богатых и состоятельных горожан, означало возникновение в разобщенной Европе единой культурной концепции, сформировавшейся вокруг символической фигуры Сатаны. Можно сказать, дьявол даже принес определенную пользу в обретении жителями континента своей идентичности. А впрочем, разве Господь не руководил им по своему усмотрению? Именно в это время происходит становление «черного» направления в культуре, традиции которого, завещанные последующим векам, живы и по сей день, несмотря на отступление или даже исчезновение кривляющегося беса. Иначе говоря, речь шла о темной стороне личности, формировавшейся под влиянием постоянно внушаемого чувства вины и проявившейся задолго до того, как ее открыл доктор Джекил Стивенсона и его венский коллега Зигмунд Фрейд.
Книги о чертях в протестантской Германии
Мартин Лютер верил в дьявола. Он много говорит о нем в своих «Застольных беседах» (1531—1546), утверждая, что бес «прилепляется к человеку плотнее, чем одежда, чем нательная рубашка и даже чем собственная кожа». В вопросе о дьяволе отец Реформации придерживался классических воззрений своей эпохи. Для него Сатана был не столько воплощением принципа Зла, сколько конкретной составляющей повседневной жизни. Нередко исполняя роль «палача на службе Господа нашего», посланный Господом для наказания грешников, дьявол казался Лютеру вездесущим, способным принимать любые формы. Он мог вселиться в тело еретика, мятежника, ростовщика, ведьмы и даже старой проститутки, а мог явиться в образе белого ангела или даже выдать себя за Господа. Он умел принимать облик животных: львов, драконов, змей, козлов, собак, пестрых гусениц, попугая, длиннохвостых обезьян; чаще же всего он принимал облик мухи. Мух Лютер ненавидел особенно, он называл их imago diaboli et haereticorum 35, ибо они любили тереться задом о бумагу, пачкая страницы книг своими испражнениями; точно так же Злой Дух справлял свои потребности в чистых сердцах. Набор животных вполне классический, равно как и соотнесенное с дьяволом указание на экскременты5. Лютер разделял многие народные верования, касавшиеся дьявола; в частности, он считал любимым местопребыванием демонов Пруссию и Лапландию и свято верил в дьявольскую собаку, рыскавшую на землях Саксонии и вынюхивавшую слабых в вере; тот, кто встречал эту собаку, обычно вскоре умирал. Лютер винил Сатану в распространении чумы и был уверен, что многие болезни происходят по вине приспешников дьявола, забравшихся в тело и творящих там свое черное дело; к таким дьявольским болезням он относил сумасшествие, сифилис, хромоту, слепоту, немоту, глухоту и паралич. Огромное впечатление производили на Лютера дети-уроды. Он утверждал, что лично встречал врага рода человеческого в самых разных обличьях. История о чернильнице, которую он якобы метнул в дьявола в замке Вартбург, на самом деле относится к концу XVI в., и изначально бросал чернильницу сам дьявол: роли поменялись только спустя полвека36. В «Беседах...» содержится множество коротких историй о проказах Лукавого, смущавшего сон отца Реформации и столь дерзко с ним спорившего, что Лютеру даже приходилось кричать дьяволу «поцелуй меня в задницу» и этой фразой обращать его в бегство. Таким образом, Лютер использовал оружие самого Сатаны, чье «лицо ниже спины» колдуны, согласно всеобщему поверью, целовали в знак повиновения. Лютер встречался с нечистым даже в собственной постели, и бес бесстыдно утверждал, что спал рядом с Лютером гораздо чаще, чем его жена Катерина. Однажды обнаружив у себя в постели собаку, Лютер выбросил ее в окно, ибо собак в замке Вартбург никогда не было. В следующий раз Лукавый начал грызть орехи, оставленные Лютеру, и плевать скорлупу в потолок, а затем стал трясти кровать; история эта вскоре стала известной широкой публике11. В постоянном пребывании полиморфного демона рядом с людьми не было ничего нового: об этом свидетельствуют средневековые истории об одураченном дьяволе. Лютер, хорошо знавший эти истории, превращал их в шутовские сценки с участием дьявола. Но в отличие от средневековых анекдотов, он подчеркивал злокозненный аспект действий беса, тесно связывая Сатану, а точнее, легионы его особых приспешников с каждым человеческим грехом: яд проникает в сердце потому что в тело вселился бес.
Уроки Лютера не пропали даром: во второй половине XVI в. они распространились в немецких землях, где получило прописку лютеранство. Появились особые книги, внушавшие практически неистребимый страх перед Сатаной, страх этот заползал глубоко внутрь человека, и тот начинал бояться самого себя. Параллельно с расширением карательных статей за нарушения в области секса, морали и религии в Европе повсеместно вырабатывался определенный механизм подавления спонтанных чувств, опиравшийся на конкретное понятие виновности, внушаемое с помощью литературно-художественных произведений, воспроизводивших тематику религиозных наставлений.
Расцвет Teufelsbucher, книг о демонах и бесах и их проделках, написанных на доступном всем немецком (в отличие от книжной латыни) языке, приходится на 1545 г., самый конец деятельности Лютера, и продолжается до 1604 г.7 В течение этого времени, отмеченного консолидацией сил Реформации и яростными их столкновениями с конфессиональными противниками, а также массовой эпидемией ведовских процессов, было выпущено 39 оригинальных сочинений и 110 их переизданий. По приблизительным подсчетам, всего было отпечатано 240 тыс. экземпляров книг о бесах, пользовавшихся широкой популярностью на протяжении всей второй половины XVI в. В католических Баварии, Вюрцбурге, Бамберге, а также в прирейнских государствах книги эти продавать запрещали, ибо они были написаны протестантами, зато распространяли собственные сочинения о демонах. «Демоническая» литература не имела прямого доступа к простонародной аудитории. Она была адресована прежде всего людям грамотным, в частности горожанам, богатым или состоятельным. Приблизительные подсчеты говорят о том, что на протяжении жизни двух поколений книги о бесах побывали в руках примерно миллиона человек, в том числе покупателей, их жен и детей; истории из этих книг передавались изустно, пасторы включали их в свои проповеди. И хотя для Германии, население которой в те времена равнялось приблизительно двадцати миллионам, количество читателей было невелико, пренебрегать им явно не стоит. Статистика, выполненная на основании списков проданных книг, составленных книгоиздателями, свидетельствует об успехе Teufelsbucher, составлявших от 5 до 15% от общего количества книгопродаж. На ярмарке 1568 г. во Франкфурте-на-Майне книги о проделках бесов расходились так хорошо, что местный книгоиздатель Зигмунд Фейерабенд собрал в один толстый том все опубликованные с 1569 г. подобного рода истории, всего числом 20, и издал их под названием Theatrum Diabolorum, («Дьявольский театр»). Второе издание «Дьявольского театра», выпущенное в 1575 г., было дополнено еще четырьмя рассказами, а третье, появившееся в продаже в 1587—1588 гг., уже превратилось в двухтомник, так как к основному корпусу текстов прибавилось восемь новых рассказов. По словам издателя, он хотел поведать всем христианам, а в особенности пасторам и людям грамотным, о проделках нечистого. Фейерабенд намеревался показать, что бес не только умел вторгаться в душу и тело, но и стремился установить над всем свой контроль, вносил хаос в царство людей, а главное, в гражданские законы, нарушал порядок и поступал не по разуму8.
Основная масса Teufelsbucher была написана лютеранскими пасторами: 32 названия из 39; взявшись за перо, пасторы принимались разоблачить пороки и клеймить грехи своего времени, уговаривать людей не поддаваться соблазнам суеверий, магии и колдовства. Предупреждения принимали самые различные формы: проповеди, листовки, компиляции, пьесы для театра, открытые письма, дидактические поэмы, анекдоты... Литературная ценность такой продукции была относительной: в основном это были сочинения весьма посредственные. Труды Лютера, давшие изначальный импульс развитию жанра, являлись далеко не единственным источником вдохновения для авторов Teufelsbucher. Эти книги влились в широкий поток назидательной литературы с выраженной социально-критической и сатирической направленностью, большую часть которой составляли сочинения, известные под названием Spiegel, «Зеркало»: например, истории о знаменитом Тиле Уленшпигеле, или «Корабль дураков» Себастьяна Бранта. Оригинальность Teufelsbucher заключалась в том, что, в зависимости от предмета, трактуемого в книге, авторы выводили на сцену совершенно особого беса. Содержание этих книг охватывало три основные темы: демонологию; личные пороки и грехи; общественную жизнь и семейный круг.
Заголовок со словом Teufel (бес, черт, дьявол), снабженным различными определениями, ясно указывал на содержание каждой книги. Среди них можно было встретить такие сочинения, как «Тирания черта» или «Черт на шабаше». В помощь борцам с греховными искушениями предлагалась книжка под названием Fluchtteuffel, автор которой убеждал не употреблять ругательств, были книжки про то, как сопротивляться бесу зависти, бесу танцев. Книжка Spielteufel учила давать отпор бесу, стремящемуся превратить доброго христианина в заядлого игрока, а книжка Hosenteuffel (1556) — бесу, насылающему пристрастие к нескромным панталонам-буфф по последней моде, принятой в Нидерландах. Бесы, заведовавшие одеждой, чаще всего посещали те страны, где весьма критически относились к чужеземным модам, в то время как бес-»эпи- куреец» искушал обжор повсюду. Наконец, желавший узнать, как бесы вмешиваются в экономическую деятельность людей, мог почитать книжку Schrapteuffel ( 1567), где критиковались экономическая политика гражданских властей и чрезмерные траты; в Jagdteuffel разоблачалась дурная и бесполезная страсть знати к охоте. В сочинении Eidteuffel порицали клятвопреступников и тех, кто клянется необдуманно. Немало бесов вились и вокруг семейного очага: в книжке Ehteuffel бес подбивал мужей изменять женам, бес жилища разрушал согласие в доме, Sorgenteuffel творил мелкие пакости, а женщина, похоже, пребывала под прицелом женского демона, Weiberteuffel.
Каждая история, рассказывавшая о дурном поведении того или иного грешника, завершалась моралью, разъяснявшей, как, исходя из христианского идеала, должен вести себя образцовый верующий. Авторы призывали каждого персонально бороться с вполне определенным бесом, о котором шла речь, и давали исчерпывающие советы, как это сделать. Успех жанра, способствовавшего унификации видения мира высшими и средними слоями общества, во многом был обязан таланту, присущему ряду рассказчиков, забавным сюжетам, использованию местного наречия, и даже вновь созданным словам. И хотя собственно народные представления и суеверия разительно отличались от Teufelsbucher, тем не менее книги эти оказывали определенное влияние и на широкие массы населения, унифицируя образ Князя Тьмы и внушая страх оказаться в его власти.
Одной из целей этого обширного мифического рассказа, своеобразного продолжения повседневных проповедей пасторов и морализаторства властей, было пошатнуть веру людей во всемогущество Сатаны. Таким образом, и литература, и церковь совместно выражали недоверие к способностям индивида отойти от Зла и отрекались от позитивных и шутовских элементов, связанных с фигурой дьявола. До начала Реформации демон, вступавший в контакт с людьми, чаще всего бывал ими обманут10. Мефистофель, желавший погубить человеческий род, не гнушался обманом. С появлением легенды о Фаусте тема договора с дьяволом обрела новую форму. Вариация, созданная по модели легенды о Теофиле, коренным образом изменила идею о возможности вступления в контакт со Злом. Теофил согласился подписать с Искусителем договор, согласно которому он отдавал ему свою душу в обмен на содействие в получении сана епископа; однако почувствовав близость кончины, Теофил раскаялся и получил прощение благодаря заступничеству Святой Девы, заставившей дьявола вернуть ему роковой документ, который тотчас был сожжен. История Теофила, превратившаяся в легенду о святом, была записана латинскими стихами в X в. В Европе народная традиция повсеместно уничтожала драматический аспект сатанинского договора, систематически повествуя о злоключениях демона, неспособного заставить свою жертву исполнить уговор. Для многих смертных Злой Дух был настоящим простаком: он верил в «клочок бумаги» и с его помощью пытался принудить людей выполнить свои обещания. Когда в Германии объясняли, отчего двери собора в Ахене покрыты трещинами, все смеялись. Легенда гласила, что когда у строителей собора кончились деньги, дьявол пообещал им помочь, но взамен попросил душу первого, кто войдет в собор. По совету мудрого монаха перед входом в собор поставили клетку с волком. Затем дверь открыли и, выпустив волка из клетки прямо в собор, захлопнули за ним дверь. Дьявол в ужасе выскочил из собора и с такой силой хлопнул за собой дверью, что она вся покрылась трещинами. Другая известная в Европе сказка повествует о мосте, построенном трудами дьявола. Согласно договору, платой за мост, возведенный возле Ротафена и соединивший две соседние деревни, должны были стать души первых трех, кто пройдут по этому мосту. Тогда люди выкатили на мост кочан капусты, за ним выпустили козу, а по следам козы послали собаку. Церковь призывала верующих самим защищаться против Сатаны; многие люди прибегали к заступничеству Святой Девы, всегда готовой забрать и уничтожить дьявольский договор.
Но в течение XVI столетия события стали принимать совершенно иной оборот. С одной стороны, и лютеране, и католики утверждали, что демон, жаждущий завладеть душой грешника, вовсе не обязан подписывать договор. В частности, Teufelsbucher свидетельствовали, что любой смертный, совершая грех, неизбежно попадал во власть Адского владыки. С другой стороны, конкурирующие церкви усиливали драматический аспект соглашения с дьяволом, утверждая, что заключают его только ведьмы, то есть существа, окончательно сбившиеся с праведного пути. Подписанный кровью договор, дьявольская отметина и ненормальные сексуальные отношения исключали ведьм из мира людей и лишали их надежды на Божественное милосердие, на которое они до подписания договора еще могли рассчитывать. Ученое толкование новой модели пакта с дьяволом совпало с началом великих гонений на членов сатанинской секты. Толкование сосредоточилось на фигуре доктора Фауста. Человек такой, похоже, действительно, существовал. Врач и астролог, он родился в Вюртемберге и умер около 1540 г. Впрочем, реальная фигура значения не имеет; имя Фауста стало нарицательным, присвоив себя опасную славу таких сомнительных персонажей, как маги и прорицатели, а также ряда современников, таких, как Парацельс, Нострадамус, скончавшийся в 1566 г., и врач Мигель Сервет, признанный еретиком и сожженный в 1553 г. в Женеве, равно как и сюжеты многочисленных народных сказок, посвященных взаимоотношениям с миром сверхъестественного.
Вызвав при помощи заклинаний дьявола Мефистофеля, Иоганн Фауст подписал с ним договор. В обмен на всевозможные знания, способность совершать сверхчеловеческие подвиги и получать любые сексуальные удовольствия он по прошествии 24 лет обещал отдать дьяволу свою душу. Опубликованная в 1587 г. Faustbuch («Книга о Фаусте») содержала текст, весьма отличный от легенды о Теофиле. Под влиянием Лютера, Святая Дева утратила свою роль заступницы. Проклятый Фауст трагически погибал. У католиков теория договора с дьяволом эволюционировала параллельно; например, в драме Cenodoxus, сочиненной иезуитом Якобом Бидерманном в 1602 г., Фауст не раскаялся, а потому был обречен на муки ада. Произошла инверсия: заключенный Фаустом договор с дьяволом перестал быть корнем зла, а превратился в его следствие. Ученая европейская культура начинала широкое наступление на гуманистические идеалы первой половины XVI в., завещавшие Фаусту необычайную тягу к знаниям и красоте, унаследованной от античности. Теперь стремление все познать, все сделать, все попробовать и лютеранами, и христианскими гуманистами, частью которых являлись иезуиты, рассматривалось как бунт против Бога. Прегрешение, совершенное против духа, похоже, заслуживало исключительно вечного проклятия.
Вместе с Кейт Л. Роос следует отметить, что период от Реформации до Просвещения был единственным в истории Запада, когда договор с дьяволом обычно завершался победой нечистого. Средневековье предпочитало одураченных демонов, в XVIII столетии мысль о конечном поражении Сатаны вновь обрела свои права в фольклоре, а вместе с великим творением Гете вошла в ученую культуру: раскаявшийся Фауст обретает спасение благодаря заступничеству Маргариты, невинной девушки из народа, соблазненной им по совету Мефистофеля; и хотя в приступе безумия Маргарита утопила своего ребенка, умирает она прощенной. С ужасом сознавая, что уклонение от исполнения договора не позволяет надеяться на спасение, европейский человек терзался неуверенностью перед суровым ликом Господа, оборотной стороной которого выступал звероподобный лик Люцифера. Оптимистический взгляд Эразма на свободу воли, расцветающую под взором благожелательного Создателя, остался в прошлом, на первый план выступил глубоко пессимистический взгляд на природу человека. На землях протестантов, где правило предопределение Лютера или абсолютное предопределение Кальвина, равно как и в мире католической контрреформации человек чувствовал себя ничтожным и слабым перед распоясавшимся всемогущим
Сатаной, ставшим посланцем неумолимого Божественного провидения. Где бы человек ни находился, всюду мир виделся трагическим и печальным. В 1590 г. в Гамбурге вышла «Подлинная история ужасного грехопадения доктора Фауста», переведенная во Франции в 1599 г. Виктором Пальмом Кайе и изданная под названием «Чудесная и достойная жалости история Иоганна Фауста, а также его завещание и описание его ужасной смерти». В 1588 г. английский поэт Марло создал трогательную драму под названием «Трагическая история жизни и смерти доктора Фауста», где выведен образ согбенного под бременем греха человека, раздираемого кошмарами окружающего его мира.
Трагическая культура во Франции
Культурный спад начался во Франции еще до начала кровопролитных религиозных войн. С середины XVI в. дали о себе знать первые ростки трагического стиля, которому предстояло занять ведущее место в наступающей осени Возрождения. Из Италии приходят новые художественные формы, именуемые обычно единым — и весьма спорным, хотя и удобным — термином «маньеризм». Новое направление, рожденное «бунтом против классиков», поднятым в 1515—1525 гг. молодыми художниками Понтормо и Россо, получает повсеместное распространение во второй половине века12. Основными стилистическими характеристиками искусства маньеризма стали искажение, искривление и расплывчатость изображения, театральность движений, отсутствие пустого пространства, необычные перспективы. Изыскивая сильные чувства в еще более смутной, чем прежде, обстановке, преувеличивая патетический характер сцен массовых убийств, агонии и насилия, обостряя проявления жестокости, даже садизма, подчеркивая страдания,отчаяние,горе, меланхолию, маньеристы погружали читателя в мир странных форм и мрачных сновидений, населенных чудовищами, фантастическими созданиями, ведьмами, колдунами, алхимиками, астрологами и демонами13. Ученая культура Запада отшатнулась от оптимизма гуманистов и повернулась лицом к царству двусмысленности и неуверенности. Идеальный мир, основанный на вере в гармонию между Божественной волей и человеческим порядком вещей, описанный в гуманистических утопиях, оказался недостижимым. Религиозная нетерпимость противоборствующих лагерей, страх перед турками, которые, угрожая всей Европе, дошли до ворот Вены и в 1529 г. предприняли безуспешную попытку осадить ее, ускорили распад гуманистического мировоззрения.
Не менее образованные, чем их предшественники, новые гуманисты, чье взросление пришлось на 1550— 1560 гг., смотрели на жизнь — в отличие от своих предшественников — с тревогой и горечью. В окружавшем их мире не было места раблезианскому смеху. Человек перестал быть великаном, одержимым неуемной жаждой познания, он стал карликом, раздавленным жерновами судьбы.. А как же иначе, ведь рост человеческий неуклонно уменьшается! Но тогда стоило ли вообще выходить на сцену этого «Мирового театра»? Под таким названием в 1558 г. Пьер Боэтюо опубликовал трактат, исполненный глубочайшего пессимизма14. Около 1554 г., будучи еще совсем юным, он стал слугой посла в странах Леванта и вместе со своим хозяином совершил ряд путешествий, в частности посетил Германию, Италию и, возможно, Венгрию. В 1556 г. вышло его первое сочинение под названием «История Келидония Тигуринуса, рассказывающая об институте христианских князей и происхождению королевств». В нем он вывел образ идеального князя и выступил с проникновенной апологией монархии, единственно приемлемой, по его утверждении, формой правления, ибо идея монархии заложена во «всеобщем порядке природы», что подтверждается превосходством солнца над звездами и иерархией четырех элементов стихий15. Смятение перед царящим в мире хаосом подтолкнуло многих философов задуматься над механизмом функционирования монархии, как, например, сделает это Жан Боден в трактате «Республика», опубликованном в 1576 г.
Состоящий их трех книг, «Мировой театр»подробно, начиная с высказываний древних, повествовал о тяготах человеческой жизни. «И стали они называть природу мачехой, а не матерью». Вновь востребованными оказались рассуждения Плиния, где ученый сравнивал «человека с животными и показывал, что животным проще справиться со своими пристрастиями к еде и питью, нежели людям, а также приводил множество примеров тому, сколько зла причиняет человеку пьянство». Моралист Боэтюо призывал своих ближних «блюсти добродетель» и описывал несчастья, причиною которых становились всевозможные излишества; например, он рассказывал историю о том, как злоупотребление вином сделало великого Александра убийцей. Во второй книге описывались несчастья, претерпеваемые ребенком в течение тех девяти месяцев, когда он находится во чреве матери. Третья книга рассказывала о бедствиях, вызванных религиозными распрями. Также были упомянуты войны, чума, голод, ужасный пример которого явлен в рассказе о «матерях, пожиравших своих младенцев», 300 видов болезней, осаждающих человеческое тело, включая болезнь, делающую человека оборотнем, 500 видов изобретенных человеком ядов. Популярная в то время тема отравления легла в основу сюжетов многочисленных историй, где героев убивали с помощью отравленных букетов, облаток, ожерелий, факелов, сапог, седел, шпор и даже отравленных записочек. Духи, которыми обычно пропитывали большую часть вышеперечисленных предметов, начинали видеться запуганному читателю пагубным средством, используемым в искусстве убивать по-итальянски, привитом, по всеобщему мнению, французскому двору Екатериной Медичи. За ядом следовали многочисленные неприятности, причиняемые бедному смертному четырьмя элементами стихии, животными и помраченным умом.
Далекий от проповедуемого сторонниками Эразма миролюбивых отношений между различными религиями, Боэтюо без всякого снисхождения взирал на «эту достойную жалости трагедию, именуемую человеческой жизнью». «Но давайте же взглянем, разве не из порченого, не из зараженного семени произошел человек? Разве место, где он родился, не сходно с грязной и вонючей тюрьмой? А сколько времени пребывает он во чреве матери своей, напоминая мерзкую и бесформенную массу плоти?» Также не следует забывать, что «он питается менструальной кровью матери, коя кровь столь нечиста и отвратительна, что я не могу без содроганий напоминать о том, что пишут о ней философы и доктора медицины, рассуждающие о тайнах природы. Впрочем, те, кому интересно узнать эти вещи, пусть читают Плиния...» Ребенок долго питается «этим ядом». Матери же, будучи беременными, ведут себя странно, в пищу потребляют вещи непонятные, например, пепел или горящие угли. А некоторые даже изъявляют желание «отведать человеческой плоти: желания эти бывают такими сильными, что, как читаем мы в книгах, бедные мужья вынуждены спасаться от них бегством». Беременность ассоциируется с болезнью, во время которой тело женщины переполняется «испорченными туморами». Трагедия «человеческой жизни» продолжается и после рождения, ибо некоторые «дети рождаются необычными и такой странной формы, что более похожи не на людей, а на чудовищ и мерзостных выродков: некоторые появляются на свет с двумя головами и четырьмя ногами, каковой случай произошел в Париже, когда я писал эту книгу. <...> Так что если мы внимательно посмотрим на таинство нашего рождения, мы увидим, насколько правильно старинное речение, гласящее, что зачаты мы в нечистотах и зловонии, рождены в горестях и муках, а вскормлены и взращены в тревоге и тяжких трудах»16.
Ощущение разрыва времен не покидает автора: «Ах, Господь милосердный! С какой же ловкостью нынче дьявол завладевает телами и умами людей, делает их изворотливыми и изобретательными по части принесения всяческого вреда...» Его сочинение можно рассматривать как первый французский манифест трагического гуманизма, порвавшего с оптимизмом предшествующего поколения, символом которого можно считать письмо Гаргантюа к своему сыну Пантагрюэлю, гимн во славу жизни и знания, из опубликованной в 1532 г. книги Рабле «Пантагрюэль». Едва успели рассеяться готические сумерки, как дьявол уже набросил на землю свой губительный мрачный покров. Боэтюо прекрасно знал философию и художественные формы Высокого Возрождения, однако он не только отвергал их, но и осмеивал. Для него любовная болезнь была не менее жестоким испытанием, чем сама судьба, и не имела ничего общего с предметом поэтических мечтаний:
Если влюбленный знает грамоту и обладает живым умом, вы
увидите, как он станет притворяться, проливать потоки слез,
жаловаться на море несчастий, издавать страшные крики,
обвинять небо, призывать прочесть то, что написано в глубинах его сердца, он станет мерзнуть летом, пылать от жары зимой, обожать, обожествлять, восхищаться, притворяться, что он в раю, творить ад, изображать Сизифа, играть Тантала, прикидываться Титием [В греческой мифологии великан, сын Зевса. Один из великих мучеников подземного царства, где два коршуна беспрерывно клевали его печень.]. А дабы воспламенить чувства своей возлюбленной, он станет говорить о ее волосах, ее изогнутых бровях, черных, словно эбеновое дерево, о ее глазах, похожих на звезды-близнецы, ее зубах, напоминающих восточные жемчуга, о ее дыхании, источающем благовоние словно бальзам из амбры и мускуса, ее белоснежной груди, ее молочно-белой шее, ее холмах, что высятся над животом словно алебастровые яблоки. А оставшиеся части тела он назовет щедрыми приношениями и сокровищами, припасенными небесами и природою и дарованными той, которую они, возлюбив, решили преисполнить всяческими совершенствами17.
Поэзия Плеяды, увлечение придворных приключениями рыцаря Амадиса Гальского [Амадис Гальский (1508) — рыцарский роман испанца Гарсии Родригеса де Монтальво, пользовавшийся в Европе огромным успехом; его неоднократно переписывали, дописывали, он вызвал множество подражаний.], поиски удовольствия для глаз и для тела, языческий эротизм тогдашнего искусства не представляют никакого интереса для молодого автора, завороженного трагическим масштабом отношений между Господом и человеком. Боэтюо, напечатавший в 1558 г. первое издание «Гептамерона» покойной Маргариты Наваррской, стал также создателем нового снискавшего большой успех литературного жанра, соответствовавшего чаяниям и ожиданиям не только образованной публики, но и, судя по всему, средних городских слоев, составлявших в те времена как во Франции, так и в Германии многочисленные батальоны читателей. В 1559 г. он создал образец трагических историй18, жанра, которому явно было суждено большое будущее. Подобно немецким Teufelsbucher, содержание этих историй — разумеется, во французском вкусе — охватывало значительную часть человеческих проблем, начиная от моральных и заканчивая религиозными. Заголовок книги Боэтюо свидетельствует о сильном итальянском влиянии: «Трагические истории, извлеченные из сочинений итальянца Банделло и переведенные на наш французский язык П. Боэтюо по прозванию Лонэ, уроженцем Бретани»19. Источником, как следует из названия, является скончавшийся в 1561 г. Маттео Банделло, который в свою очередь шел по стопам Бокачо. Однако Боэтюо отбирает из новелл итальянца всего шесть — самых кровавых и самых мрачных. И не просто переводит их, а изменяет на свой лад и форму, и интригу. Неоднократные переиздания, перевод на голландский и английский, адаптации и множество подражаний свидетельствуют о стремительном успехе, ставшем составляющей нового, особенного жанра. Для увеличения объема издания Франсуа де Бельфоре адаптировал еще двенадцать новелл Банделло, и в 1570 г. книга вышла в новом составе, то есть с дополнениями Бельфоре. «Трагические истории...» получили одобрение Амбруаза Паре, о чем он в 1575 г. поведал в ответе критикам его собственного труда о чудовищах, где Паре подтверждал, что позаимствовал кое-что из книги Боэтюо, «кою на сегодняшний день обычно читают дамы и юные девицы». В 1582 г. вышел очередной сборник «Трагических историй...», количество которых возросло настолько, что их пришлось издавать в семи томах20.
Изданные в 1597 г. «Трагические истории...», иногда также называемые издателями «Необыкновенными историями», были украшены изображением восседающего на троне дьявола с «лицом ниже спины», являвшем миру свою отверстую пасть. Мир трагических историй — это мир кошмаров, насилия и чудовищных страстей, преступающих все мыслимые и немыслимые правила, установленные в высших слоях общества. История любви, начавшаяся вполне платонически, завершается извращением. Рыцарская честь сулит не защиту, а гибель. Миф о величии человека не забыт, однако он отступает перед «чудесами Сатаны», которым посвящена первая новелла сборника. Мир разорен, испытав на себе весь ужас мести Господа. Как и в «Мировом театре», Боэтюо показывает слабости простого смертного, ставшего игрушкой собственных страстей, позабывшего о своей Божественной природе и заброшенного в зыбкий универсум, где идет постоянная космическая борьба между Создателем и Люцифером: «Один строит, другой ломает, один хочет погубить, разрушить и испортить, другой желает сохранить, исправить и оживить». Однако грешники должны бояться обоих, ибо Господь также умеет карать. Например, родителям, «торопливо сношавшимся подобно диким зверям, ведомым лишь своею похотью, не почитавшим правил и не соблюдавшим заповедей ни возраста, ни времени, ни прочих законов, предписанных природою», будут посланы дети-чудовища, дабы напоминать им о совершенных ими ужасных проступках21.
Из четырех новелл сборника, завершающихся трагической смертью, одна является адаптацией «Веронских любовников», где Джульетта умирает не от горя, как у Банделло, а пронзает себе сердце кинжалом Ромео. Сюжет этот вдохновил Шекспира, читавшего английский перевод книги Боэтюо. В двух рассказах, I и VI, влюбленные после множества страданий вознаграждены за свою верность, а II и IV рассказы завершаются насильственной гибелью героев, наказанных за свои преступные страсти. Внушая страх и жалость, автор, подобно авторам трагедий, стремится «нравиться и поучать». Его привлекает игра страстей, он жаждет понять чувства участников драмы. По мнению литературоведов, психолог из автора неважный, но для историка его подкованность в этой области вполне наглядно отражает начальный этап становления литературного самоанализа. Говоря современным языком, погружение в бессознательное в те времена не соответствовало ни ожиданиям читателей, ни возможностям писателя, весьма далекого, на наш взгляд, от мысли о необходимости познания собственного «Я». Тем не менее рассказчики живо определяли среди текущих событий те, описания которых вполне способны заставить содрогнуться Запад XXI в. Но для современников, для которых жуткие зрелища публичных казней относились к явлениям вполне обыденным, главным был отнюдь не ужас, а выводимая из него мораль, то есть связь, прочно соединяющая совершенный проступок и милосердие или же, как это случалось чаще, неизбежность Божественной кары. В четвертой истории некий сеньор, обманутый собственной супругой, решает поймать изменницу в западню и, никого не предупредив, возвращается домой ночью, полагая застать «жалких любовников совершенно обнаженными, дабы они, увидев, в каком виде их обнаружили, застыдились точно так же, как Адам и Ева, когда грех их стал виден Господу и они, не зная, как быть, залились слезами». Продолжение вполне предсказуемо. Сеньор приказывает связать преступников, а затем обращается к жене:
О Вьенса, гнусная и ненавистная волчица, душа твоя исполнена мерзости и предательства! Ты ввела этого гнусного негодяя ночью в мой замок, дабы не только лишить меня чести, с коей расстаться мне много горше, чем с самой жизнью, но и разбить навечно святые и бесценные узы брака, соединившего и связавшего нас. А потому я требую, чтобы ты собственными руками, кои ты некогда протянула мне в знак принятия тобой обета верности, задушила бы его и удавила на глазах у всех, и полагаю я, что наказание сие будет соответствовать вине твоей, ибо ты вынуждена будешь убить того, кого ты поставила выше своей репутации, моей чести и собственной жизни.
С помощью служанки, помогавшей ей устраивать свои преступные амурные дела, неверная супруга надела «ожерелье ордена несчастных на шею опечаленного любовника», и вдвоем они задушили его. Но обманутый муж все еще был недоволен. Из комнаты, где встречались любовники, он приказал вынести всю обстановку, сжечь кровать и простыни, оставив на полу только солому, достаточную, чтобы на ней могли «улечься две собаки», и запер изменницу-супругу в опустевшей комнате, «в обществе только мертвого тела», то есть трупа ее любовника; затем он велел замуровать все окна и двери, оставив лишь окошечко, через которое можно было просовывать хлеб и воду. Спустя некоторое время «посреди ужасной вони» женщина «отдала Богу душу». Этими словами рассказ завершается, и комментариев не следует...22 Вымысел в этой истории практически отсутствует, ибо, если верить материалам судебных архивов, подобные случаи происходили и в действительности. Нагнетая ужас, автор стремится показать неотвратимость наказания за нарушение священных уз брака. Страшная месть мужа является мерилом тяжести совершенного проступка. И все же в дворянском обществе, где супружеская верность отнюдь не принадлежала к числу главных добродетелей, о чем убедительно свидетельствует Брантом37 в своих «Галантных дамах», такие наказания не могли не выходить за рамки обычного. Литературная драматизация используется с целью утвердить читателя в мысли, что под взором неумолимого Бога всем следует остерегаться и не совершать греховных поступков. Супруга, названная волчицей, но, по сути, третируемая, как собака, замурованная вместе с останками ею же преступно задушенного любовника, принадлежит царству дьявола. Слова и символы превращают ее в архетип порочной женщины и искусительницы, самой Евы, которую вспоминают в начале рассказа, в то время как муж ее воплощает собой карающую десницу безжалостного Божества. Подлинная тема новеллы, скрытая от прямого взора, — это тема согрешившей плоти, той самой, за которую ведут космическую борьбу Создатель и Дьявол. Рассказ призван укрепить мысль о святости брачных уз в обществе, где до сих пор на супружеские измены смотрели сквозь пальцы. О новых установках вскоре должен был объявить завершавший свою работу Тридентский собор 38, и король Франции, предваряя его решения, начал пополнять законодательный арсенал ордонансами, направленными на пресечение сексуальных излишеств и наказание матерей-детоубийц. Боэтюо собирает воедино элементы воцарившейся на всем культурном пространстве новой идеи, связующей физические отношения вне брака с дьявольским искушением. Он указывает путь, по которому правосудие будет идти не одно десятилетие.
В последние десятилетия XVI в. поток трагических историй стал особенно бурным, а с восшествием на престол Людовика XIII превратился буквально в шквал. Менее чем за сто лет образованная публика ощутила себя в гармонии с чувствами, бушевавшими в мрачных рассказах, одновременно продолжая потреблять самую разнообразную литературную продукцию: рыцарские романы, фривольные сказки, а позднее и пасторальный роман Оноре д’Юрфе «Астрея». Трагические истории множились и становились разнообразнее, в 1585 г. на поприще трагического жанра выступил Верите Абанк, в 1588 г. Бенинь Пуасно, а следом за ними и многие другие, среди которых самую большую известность в первой трети XVII в. снискали Франсуа де Россе и епископ Жан-Пьер Камю23. Жанр выводил на сцену «истории нашего времени», где говорилось прежде всего о любви, насилии и честолюбии. В нравоучительном обрамлении новелл, состоявшем из вступления и заключения, читателя наставляли, как следует вести себя перед лицом закона Божеского и человеческого, а из примеров следовало, что нарушение этих "законов неминуемо влечет за собой наказание.
Мода на трагические истории вызвала яростную полемику среди критиков, утверждавших, что «наша собственная природа крайне возбудима и склонна совершать зло и без прочтения этих исполненных похотливых мыслей книг, а посему сочинять такие книги означает то же самое, что кидать в огонь спички, раздувать угли, угасающие без подпитки сами по себе, и подносить к ним солому или паклю, постоянно оживляя невоздержанность, кою мы обязаны и должны гасить и сдерживать». Представляя свои «Новые трагические истории», вышедшие в 1586 г., Бенинь Пуасно отвечал цензорам и суровым моралистам, что в книге «бичуются пороки и прославляется добродетель, просто лес называется лесом, и яблоко — яблоком; ибо никакой показной добродетелью невозможно скрыть то, что не является ни добродетельным, ни достойным похвалы». Цель обрисована ясно. Пуасно утверждал, что те же самые слова можно сказать и о его предшественниках, и в частности о Франсуа де Бельфоре, «чьи книги может взять в руки любая честная девушка, и чтение их не побудит ее ни совершить ложный шаг, ни нанести урон своей чести, ибо там нет ничего, что было бы противно морали и прославляло бы испорченные нравы, хотя некоторые именно так и хотят их истолковать»24. Трагическая литература развивалась параллельно с влиятельным течением религиозной, назидательной и морализаторской литературы, представленной преимущественно церковными авторами, такими, как, например, иезуит Мальдонат или отец Боскье. Причина успеха трагического жанра, вероятнее всего, объяснялась тем, что авторы, затрагивая те же темы, что и проповеди, не допусками неприкрытого морализаторства, а рассказывали захватывающие истории, вызывавшие у читателей бурю эмоций. Если составители немецких Teufelsbucheraa являли о своем намерении очистить нравы прямо в канве рассказа, авторы трагических историй, заботясь о читателе, хотели доставить ему удовольствие от чтения, формируя тем самым коллективные вкусы, что в конечном счете служило целям борьбы с грехом. Составители трагических сборников открыто потакали слабости, которую публика испытывала к изображению сильных страстей и сексуальных сцен, обещая читателю уже на титульном листе, что ему придется и ужаснуться, и всплакнуть.
Хотя целых три или даже четыре поколения писателей были озабочены сходными проблемами, рамки культурного контекста у каждого поколения были разные. В 1585 г. Верите Абанк несмотря на запреты цензоров мог ввести в некоторые из своих рассказов эротические описания: высшее общество конца царствования Валуа с удовольствиям предавалось разврату, не чураясь даже гомосексуальных связей, сторонником которых слыл Генрих III. Никому в голову не приходило задаться вопросом, хотел ли писатель выступить в роли моралиста. Давая реалистическое описание сцен разврата, дабы в более выгодном свете представить добродетель, автор, разумеется, не обходился без назиданий, но не исключено, что подобные описания доставляли ему некое смутное удовольствие, так как позволяли безнаказанно преступать запреты. Равно как и читатели наверняка отыскивали в трагических рассказах повод законным образом приобщиться к тем запретным материям, которые безоговорочно порицали самые суровые умы эпохи. В период нестабильности и неустойчивости, когда определение истины является делом крайне непростым, подобная двусмысленность нисколько не удивительна. Когда речь идет о наказании пастора из истории VII, Божественное правосудие оказывается достаточно медлительным. Этот «пастор, самый ученый и самый большой жуир во всем крае», злоупотребив доверием доброго старика, прописал его больной дочери Антуанетте лекарство на основе веществ, известных как возбудители сексуальной активности: гипокраса, пряностей, корицы, острого паштета из голубей. И посоветовал девушке регулярно сидеть у огня и читать роман «Амадис», дабы узнать, что есть «великие ошибки, совершаемые женщинами». Иначе как она сама сможет избежать этих ошибок? Под воздействием прописанных ей снадобий Антуанетта чувствовала, как набухают ее соски, и пожелала узнать, «как девушек делают женщинами». И пастор постарался помочь ей найти ответ на мучивший ее вопрос. Откровенно эротический настрой и иронию этой новеллы нельзя объяснить только идеей отложенной Божественной кары, пришедшей из философии неостоицизма, хотя, разумеется, в финале искомая кара все-таки постигает виновного, ибо Создатель «никогда не оставляет грех безнаказанным, пусть даже со времени его свершения прошло много лет»25.
Россе, демон и истлевший труп
Через тридцать лет в трагических новеллах Франсуа де Россе и Жана-Пьера Камю эротические подробности уже отсутствуют. Россе родился в 1570 г., скорее всего, в дворянской семье. Обосновавшись в 1603 г. в Париже, он, видимо, стал адвокатом парламента. Автор нескольких томиков любовных писем и стихов, он прекрасно знал иностранные языки и перевел на французский ряд сочинений крупных итальянских, португальских и испанских писателей, равно как и несколько благочестивых латинских трактатов. В 1614 г. он издал перевод шести первых «Назидательных новелл» Сервантеса и свое собственное сочинение «Трагические истории нашего времени, повествующие о прискорбной и горестной гибели множества людей». Сборник из 15 рассказов, к которым в 1619 г., когда автора их, скорее всего, уже не было в живых, прибавили еще 8, стал самым популярным изданием века. В период с 1614-го по 1757 г. «Трагические истории...» Россе выдержали не меньше сорока изданий, причем с добавлениями разнообразных рассказов, повестей и историй, написанных анонимными авторами после ухода из жизни Россе. Отказавшись черпать сюжеты из античной литературы, выбирая события, произошедшие во Франции, Россе преследовал глубоко моральную цель: он хотел дать читателю возможность «в полной мере познать» самого себя26. Современник активного движения в поддержку Контрреформации, он с пафосом живописал трагическую историю человека, неоднократно — например, во введении к тринадцатой истории — подчеркивая суетность окружающего его мира, подобно тому как это делали Жорж де Ла Тур и целый ряд художников. В повествовательной манере Россе можно найти любые регистры, необходимые для воссоздания сильных страстей, необычных, порой невероятных, но правдивых событий: «Франция превратилась в театр, где два главных действующих лица, Любовь и Честолюбие, верховодят всеми другими персонажами», — писал Россе в предисловии. Сюжеты для своих рассказов он нередко черпал из материалов громких судебных процессов, например из расследования по делу об убийстве Кончини или Бюсси д’Амбуа; история Бюсси д’Амбуа нашла свое отражение в романе Александр Дюма «Графиня де Монсоро», вышедшем в 1846 г.
Россе повествует о печальных судьбах и трагических смертях, часто насильственных, иногда ставших следствием раскаяния, горечи или страха. В сборнике можно насчитать 53 смерти, все кровавые сцены изложены достаточно подробно. Жестокость главных героев способна шокировать современных читателей, хотя поступки персонажей вполне отвечают духу того времени — эпохи, когда публичные казни, пытки, отсечение конечностей и виселицы нисколько не возмущали общество, а, напротив, расценивались исключительно как свидетельство неумолимого королевского правосудия. Герой Россе пронзает грудь своего врага, а затем омывает свои руки его кровью. «От страха, что враг его воскреснет, он вспорол ему грудь и выдернул оттуда сердце». Разгневанная женщина по имени Флери, остро ненавидящая своего врага, «вытаскивает маленький кинжал, выкалывает своему врагу глаза, а затем извлекает их из глазниц. Она отрезает ему нос и уши, а потом при помощи лакея выдирает ему зубы и ногти и, один за другим, отрезает пальцы». Тематика рассказов самая разнообразная: кровосмесительная связь брата с сестрой (V), отцеубийство (XI), гомосексуальная связь (XIII), знаменитое дело марсельского священника Гофриди, обвиненного в колдовстве (XVI), любовная связь между лейтенантом караульной службы города Лиона с красоткой, которая потом оказывается демоном (VIII). Автор-моралист подробно излагал кошмарные истории, случившиеся в самом отвратительном от сотворения мира веке, названном им «клоакой, куда стекают людские нечистоты»27.
Одним из главных героев сборника является дьявол: иногда он действует лично или через участников шабаша, но чаще всего он нашептывает людям всякие гадости, которые те к великому его удовольствию впоследствии и совершают. Священник Гофриди кровью подписывает договор с чертом, однако черт обманывает его: согласно заключенному контракту, Гофриди получает всего 14 лет жизни вместо обещанных 34. В истории V, где в конце говорится о казни вступивших в кровосмесительную связь брата и сестры, Россе делает назидательный вывод: «Сей памятный пример должен устрашить преступников, вступивших в противную природе связь или нарушивших священные узы брака. Господь ничто не оставляет безнаказанным. <...> Господь хочет защитить свой народ от козней Сатаны и не желает, чтобы народ его творил подобного рода мерзости»28. Оба рассказа, в сущности, можно причислить к архетипам: архетип договора с лукавым, который обязательно обманет человека (это прямой отголосок истории доктора Фауста), и архетип запрета на инцест и супружескую измену. В обоих случаях речь идет о запретах, заставить соблюдать которые достаточно сложно несмотря на усилия правосудия по преумножению числа отправляемых на костер колдунов. Следуя в кильватере церковной проповеди и государственной морали, трагическая литература выступает в качестве своего рода дополнительной реальности, подтверждающей неотвратимость грозной мести Господа для нарушителей. Жанр укрепляет власть закона, внушая читателю убеждение в неизбежности наказания, и когда тот, побывав в воображаемом мире запретного, возвращается обратно, он понимает, что дешево отделался. Интерес публики сосредоточен отнюдь не на показательной кончине виновного: эту кончину всегда можно увидеть поблизости, на главной городской площади или же прочесть подробное ее описание в назидательной листовке, прицепленной на дверь. Читатель рвется совершить воображаемое путешествие на крыльях сна, дозволяющее ему проникнуть в мир запрещенного, содрогнуться от ужаса, а потом с чистой совестью вернуться в мир благомыслия. Иными словами, безнаказанно отведать запретный плод! Онирическое путешествие в трагическую литературу открыло новое измерение в европейской культуре, подготовившее следующий ее этап, этап отказа от разгула страстей.
В одном из непревзойденных рассказов Россе речь идет о любовной связи человека и демона, явившегося в образе юной красавицы29. В нем сконцентрирован страх, который современники автора испытывали перед женщиной как пособницей дьявола, обобщен вклад демонологов в формирование этого страха, подчеркнута лепта немецких художников эпохи Возрождения, связавших тело девушки с образом смерти. Этот рассказ стал также своеобразной форточкой, приоткрытой в мир фантастического, откуда и по сей день приходят фильмы о вампирах и существах из загробного мира, обильно порождаемые американской культурой. Россе уверял, что только «безбожники» и прочие «эпикурейцы» не верят в реальность явлений демона. А значит, с попущения Господа демоны могут вселяться в трупы смертных и некоторое время жить в них. История, рассказанная Россе, совершенно очевидно относится к прикладной теологии и выступает доказательством существования и активных действий дьявола, одновременно подчеркивая, что дьявол не имеет собственного тела и не способен произвести потомство. Мастерство автора заключалось в том, что он сумел придать этой заезженной теме убедительную реальность. Лейтенант городской стражи Лиона, Ла Жакьер, заступивший в ночной караул между одиннадцатью часами и полуночью, почувствовал, что у него взыграла кровь, и сказал своим приятелям, что «повстречайся мне сейчас хоть сам Дьявол, ни за что бы он от меня не вырвался, пока не удовлетворил моего желания». Демоническая сцена оформлена: богохульство, подчеркнутое автором, наличествует, герой подвержен сексуальным порокам и отдает предпочтение ночной жизни. Едва герой высказывает свое пожелание, как тотчас замечает хорошо одетую женщину дивной красоты, идущую в сопровождении служанки. Воспылавший страстью лейтенант бросается навстречу женщине, завязывается любовная беседа, и красавица принимается жаловаться на своего противного мужа. В сопровождении двух товарищей Ла Жакьер отводит припозднившуюся красавицу в дом, где убеждает ее уступить его желаниям, и оба «получают взаимное удовольствие» дважды. Возгордившись своей удачей, офицер уговаривает любовницу снизойти теперь до его друзей. Затем все трое сидят и наперебой восхваляют ее достоинства, ее лоб, словно выточенный из слоновой кости, пламень ее очей, ее белокурые локоны, белоснежную грудь, розы, лилии и гвоздики, что рассыпаны у нее на щеках. Наконец, женщина встает и спрашивает, знают ли они, с кем имеют дело. «С этими словами она задирает платье и нижнюю юбку, и перед их взорами предстает самое гнусное, самое мерзкое, самое зловонное и самое смрадное стерво на свете». Раздается грохот, похожий на удар грома; трое мужчин падают на пол словно мертвые; дом исчезает, уступив место развалинам, заполненным нечистотами и отбросами. На рассвете стоны двух мужчин — третий их товарищ скончался от страха — привлекают внимание соседей, которые и относят их домой, «с головы до ног перепачканных нечистотами». Соседи призывают исповедника. Ла Жакьер умирает на следующий день, а его товарищ — через несколько дней, успев рассказать эту историю, которую затем поведал читателю автор.
Мораль занимает не менее четырех страниц. Россе начинает с утверждения, что «бесстыдство влечет за собой супружескую измену, супружеская измена — инцест, инцест — грех противоестественного соития, а затем Господь попускает совокупляться с Дьяволом». Судьи, читающие эти строки, думают точно так же, ибо цепочка грехов и преступлений является привычной темой юридической литературы. Первый урок, преподнесенный Россе, предостерегает от нарушения сексуальных табу, пусть даже и незначительных, каковым является пристрастие Ла Жакьера к шлюхам, хотя он по должности своей призван бороться с пороками и преступлениями, ибо если с ними не бороться, они роковым образом повлекут за собой самые ужасные последствия. Плотский разврат, то есть сексуальные отношения вне брака, ведет в ад. Запад надолго запомнит этот урок. Именно он будет положен в основу пристрастия к садическим преступлениям и эротических рисунков Фелисьена Ропса.
Далее Россе задается вопросом, совокуплялись ли его несчастные персонажи с подлинным демоном или же с одной только видимостью демона. «Что касается меня, то я твердо верю, что это было мертвое тело какой-нибудь красивой женщины, которое Сатана вытащил из могилы и заставил двигаться», ибо злой дух может пробуждать движение в том, что не движется, и дать падали тот запах и цвет, который он захочет. Приводя различные примеры, писатель подтверждает тезис о могуществе демона, об истинности явления духов: «страшная и ужасная история, вначале рассказанная вам мною, и вовсе подтверждает это». Действительно, есть мнение, что литература предоставляет нам доказательства реальности нашего мира. Здесь же речь идет о том, что именно в литературе можно найти правдивые сведения о способностях Лукавого.
И вряд ли стоит смеяться над таким подходом: анонимный законовед из Артуа, создавший около 1640 г. компилятивный труд о преступлениях против нравственности, в разделе про суккубов и инкубов в качестве доказательства их существования приводит именно эту историю Россе. Утверждая, что он сам принимал участие в ведовских процессах, проходивших в Артуа, анонимный законовед проявляет отличное знакомство с обширной литературой по этому вопросу, среди которой, на его взгляд, главное место занимает «Молот ведьм», следом за которым он — в качестве формального доказательства дьявольских козней — ссылается на рассказ Россе об истлевшем трупе. Есть у анонима и еще один любопытный пример из назидательной литературы, вполне способный послужить источником для фантазии Россе: в сочинении под названием «Искры Божественной любви» брат-проповедник Антуан Алар, посвятивший 38 главу чудесам, творимым молитвою, рассказывает о том, как в 1593 г. некий юноша «позволил себя одурачить мерзкой сатанинской шлюхе», иными словами, искусителю в облике прекрасной женщины. К счастью, юноша не потерял присутствия духа и оставил при себе четки, и это спасло его, оградив от сатанинского соития, ибо Лукавый, завидев четки, бежал, посрамленный. «Молитвы, святая вода, а главное крестное знамение, являются теми бичами, которыми можно прогнать дьявола и победить его», — уточняет автор. Но страшный конец, придуманный Россе, наверняка сильнее поражал воображение, нежели благочестивые победы, достигнутые безграничной набожностью. Во всяком случае, попахивающий серой след этого рассказа прочно запечатлелся в памяти современников.
Жан-Пьер Камю, достойный епископ, друг и биограф святого Франциска Сальского 39, проживавший в своем крошечном диоцезе Белле, посчитал трагическое направление в литературе настолько занимательным, что сам написал несколько томов на эту тему. Воспитание ужасом проторило свой путь. Аноним из Артуа, несомненно, читал Камю, ибо именно его рассуждения о добродетели сдержанности, кою следует проявлять, состоя в браке, он приводит в разделе, посвященном преступному разврату и его наказанию30.
Жан-Пьер Камю, или Театр ужасов
За время, прошедшее пт правления Генриха II до вступления на престол Людовика XIII, Франция проделала путь от маньеризма к патетике, от трагедии к барокко. Каждое новое поколение видело жизнь в гораздо более мрачном свете, нежели предшествующее, и по-своему объясняло окружающий мир. В 1580-е гг. Верите Абанк вполне допускал смешение жанров, Бенинь Пуасно защищал Бельфоре от обвинений в снисходительности при изображении грехов. В обществе, еще не опутанном цепями приличных манер, на фоне взрыва страстей Эрос и Танатос часто прекрасно уживались друг с другом. С поистине звериной жестокостью венецианка Флоранс, героиня пятой истории Абанка, мстила за своего возлюбленного скрипача, убитого по приказу ее жениха. В первую же брачную ночь, когда она вырвала у молодого супруга сердце и, «перекусив зубами» сей орган, где образ ее «был запечатлен столь живо», обратилась к покойному «скрипачу»: «Прими же, друг, эту жертву, я приношу ее тебе, ибо я убила того, кто лишил тебя возможности видеть меня. Но и ты должен остерегаться моей мести, кою я уже обрушила на голову несчастного, осмелившегося разлучить нас; не вздумай оказаться неблагодарным и отречься от меня, ведь я пошла на преступление только ради тебя, и мне все равно, что обо мне станут думать, лишь бы только доставить тебе приятное». После такой языческой молитвы, вполне достойной ацтекских жрецов, приносивших человеческие жертвы и возлагавших на алтари окровавленные сердца, она, облачившись в платье умерщвленного мужа, добралась до Московии, где стала служанкой одного языческого отшельника, «и говорят, прислуживает ему до сих пор». Разумеется, она наказана, так как известно, что московиты обращаются с женскою прислугою крайне жестоко. И все же, по сравнению с совершенным ею преступлением наказана она легко, тем более что Бог больше в ее жизнь не вмешивается. В заключение автор советует мужчинам остерегаться женского коварства, а женщин уговаривает беречь свою честь, дабы они избежали участи Флоранс31.
Христианское общество начала XVII в. нуждалось в твердых моральных устоях и убедительных финалах. Оно по-прежнему с удовольствием проглатывало сцены насилия и жестокости, однако теперь общественный идеал неминуемо следовало, наказание: для читателя это было вдвойне приятно, ибо сам он далеко не всегда был безгрешен. Россе сделал шаг в сторону идеала, хотя иногда его и причисляют к авторам весьма двусмысленным. Его вступление и заключение к рассказу об истлевшем трупе вполне могли бы выйти из-под пера церковника, отвергающего теории «безбожников» и «эпикурейцев», веривших в дьявола не больше, чем в колдунов. Сам нисколько не сомневаясь в существовании дьявола, Россе тем не менее приводил и противоположные мнения. Возможно, он отдавал дань своей протестантской юности. Определенная противоречивость, несомненно, отражала и создавшуюся к 1614 г.40 зыбкость религиозной ситуации, когда трагическая смерть Генриха IV и Нантский эдикт еще не окончательно отошли в прошлое и гугенотское меньшинство все еще обладало значительным влиянием. Однако уверенное наступление католической контрреформации, напоминающее скорее поступь завоевателя, и активное отрицание христианскими гуманистами идеалов Ренессанса оказывали существенное влияние на эволюцию религиозного и интеллектуального климата. Жан Менар справедливо считает период с 1580-го по 1630 г. кульминационным в сложной истории рода человеческого, ибо в это время «движение форм было более сложным и стремительным, нежели в последующие два столетия»32. В 30-е гг. XVII столетия ускорение стало особенно заметным. Оно вписывается в рамки нового европейского стиля, получившего название «барокко» и отличавшегося повышенной эмоциональностью. Понятие барочной эмоциональности далеко не однозначно, оно, скорее, расплывчато, недостаточно для определения сложных религиозных и культурных фактов, однако иного эквивалента, способного обозначить ударную волну, прокатившуюся по всему континенту, а по католическим странам с особой силой, пока еще нет. Барочная эмоциональность включает в себя также феномен, названный историками коллективной психологией, иначе говоря, комплексом культурных явлений, воспринятых и пережитых одним поколением. В Испании с 1630-го по 1660 г. царит эпоха Веласкеса: фантазмы живописцев, кровоточащие распятия, фантастические баталии существ, населяющих воздушную стихию, магия, одержимые демонами женщины, кровь, льющаяся на улицах, разгул уголовной преступности. В Италии времен Караваджо (ум. в 1610 г.), а затем его почитателей, бушуют роковые страсти33. Буйство страстей затягивает Францию, на землях Священной Римской империи свирепствует опустошительная Тридцатилетняя война.
Наблюдающееся с 1618 г. обострение межконфессиональной напряженности и политического соперничества на континенте вполнс соотносится с установкой на трагический характер вооруженной борьбы, ведущейся за спасение мира из когтей Сатаны. Одним из создателей этой установки являлся друг и ученик святого Франциска Сальского Жан-Пьер Камю. Родившийся в 1582 г., умерший в 1652-м или 1653-м, епископ Белле с 1608-го по 1628 г., Камю, бесспорно, принадлежал к наиболее плодовитым авторам своего века: из-под его пера вышло по меньшей мере 265 книг, среди которых 21 сборник трагических историй общим числом 950 рассказов34. Желая заставить равнодушное светское общество задуматься о моральных проблемах и вернуть в лоно истинной церкви протестантов, он за период с 1609-го по 1618 г. написал несколько томов рассказов под названием «Разнообразные происшествия», а затем обратился к сочинению благочестивых романов. С благословения и при поддержке своего друга Франсуа де Саля он хотел отвратить публику от чтения таких опасных, на его взгляд, сочинений, как «Астрея» 41, предложив взамен собственные сочинения. Он опубликовал не менее трех десятков благочестивых вымыслов, в том числе и написанный в 1624 г. роман «Паломба, или Почтенная женщина», но его цветистый и многословный стиль не пришелся по вкусу образованной публике. Тогда он обратился к жанру трагической истории, чья краткая форма и разнообразная тематика показались ему необычайно подходящими для реализации его задач проповедника. Христианский гуманист, активный сторонник Контрреформации, он выбирал из античных текстов все, совмещавшиеся с христианством, и перерабатывал их в назидательном ключе, стремясь насадить благочестие во всех социальных слоях. Стилистические и сюжетные различия коротких рассказов предоставляли больше выразительных средств, позволяющих всколыхнуть чувства равнодушного, поразить воображение либертена 42 или убедить скептика35.
Первый сборник трагических новелл Камю под названием «Необычайные происшествия» вышел в Лионе в 1628 г. В нем на почти тысяче страниц уместилось 70 рассказов. Об успехе этого сборника свидетельствуют 18 его переизданий, сделанных до 1660 г., два издания в переводе на английский язык, а также публикации множества аналогичных сборников, вышедших из-под пера плодовитого Камю. В том же 1628 г. Камю, оставив пост епископа, издал 5 романов и второй том трагических историй под названием «Примечательные случайности», где были собраны 30 новелл. В 1630 г. на эту же тему вышли томики «Кровавый амфитеатр» и «Ужасные зрелища», два наиболее отшлифованных и известных сборника трагического жанра, за которыми последовал сборник «Разнообразные свершения», а в 1631 г. «Историческая пентаграмма», «Нравственные отношения» и «Зеркальная башня». В 1632 г. вышли «Образцовые назидания» и «Исторические заметки», в 1633 г. — «Исторические декады». И хотя золотая жила еще не была исчерпана, следующие 8 новых трудов начали выходить только в 1639 г., а к 1644 г. увидел свет последний сборник под названием «Роковые встречи». В 1660—1670 гг. несколько сочинений Камю было издано посмертно36.
В эпоху относительно малого числа читателей и людей грамотных никто не пытался оценить масштабность такого явления, как трагический жанр. Современный исследователь Ален Виала сумел выделить три читательских страта. В первый вошли покупатели дешевых брошюр у разносчиков-книгонош: эти читатели, похоже, не стремились приобретать сочинения Камю, однако сказать, что они их не покупали вовсе, тоже нельзя. Две другие страты крайне неоднородны. К одной принадлежат специалисты в различных областях наук, гуманисты, ученые старой и новой формации; в начале века к ней относилось всего несколько сотен человек, но позднее, с наступлением классицизма, численность их возросла до 2000 или даже 3000 человек. Другая страта состояла из «широкой публики», «мирян», численность которых колебалась от 8000 до 10 000 человек; в 1660 г. 3000 из них проживали в Париже. В этой последней стратечислились дворяне, богатые буржуа, дамы и девицы, влюбленные в поэзию, романы и эпистолярный жанр: противники сухого педантизма, они диктуют моду на трагический жанр. Это люди, узнающие себя в «Порядочном человеке», трактате об учтивых и пристойных манерах, опубликованном Фаре в 1630 г.37 Есть основания полагать, что в те времена именно эта страта составляла основную армию читателей Камю. Если судить по 12 заголовкам книг, опубликованных в период с 1628-го по 1633 г., а также массовому их переизданию, получается, что трагические рассказы епископа из Белле циркулировали в десятках тысячах экземпляров, то есть в гораздо большем количестве, чем число потенциальных читателей в двух последних указанных выше стратах. Сочинения Камю выходили в основном у парижских издателей, в славящихся своими типографиями Лионе и Руане и даже в Дуэ, где в 1633 г. издатель Вион выпустил «Исторические декады». В те времена в Дуэ, городе, входившем в состав испанских Нидерландов, располагался основанный Филиппом II университет, призванный стать преградой на пути распространения протестантизма. Во Франции трагические сочинения Камю получили поистине небывалое распространение, и это помимо изданий, сделанных за границей. Так что вряд ли кто-нибудь среди образованной публики мог обойти их стороной. Предположив, что некое ядро преданных читателей систематически покупало его сборники, получится несколько десятков тысяч лиц, большинство из которых проживало в Париже. Принимая во внимание воздействие моды, возникшей в определенных кругах на сочинения Камю, с большой вероятностью можно сделать вывод, что 950 рассказов бывшего епископа из Белле стали одним из наиболее распространенных средств массовой информации своего времени.
По утверждению самого Камю, он черпал свою сюжеты из самой жизни, из путешествий и книг; первые газеты, начавшие выходить в эти годы, столь же живо интересовались разными необычайными происшествиями и, как мы увидим позднее, постепенно превращали кровавые анекдоты в модное чтение. Любители сильных переживаний выделились среди образованной публики уже к середине XVI в., и в дальнейшем число их только увеличивалось. Камю внес большой вклад в формирование их вкуса, но, похоже, он сам нередко шел на поводу у своих читателей. Мэтр, потакавший любителям патологических извращений и всевозможных жестокостей, жил в эпоху, отмеченную печатью греха и дьявольской одержимостью; сознательно избрав роль моралиста, он не отказывал себе в удовольствии описывать без прикрас и в подробностях ужаснейшие зрелища. Писатель, почитаемый многими, человек эпохи перехода от страхов внешних к страхам внутренним, к боязни самого себя, зависящий, на мой взгляд, пока еще от причин внешних, он прокладывал дорогу от рассказчиков XVI столетия к литературной новелле столетия XVII, путь от устного повествования к изысканной письменной речи. Следом за Камю и его современником Клодом Маленгром эстафета трагического жанра перешла к немногим писателям, среди которых прежде всего следует назвать Ф. де Гренайя с его «Любовными историями государей», опубликованными в 1642 г., и Жана-Никола де Париваля, автора «Трагических историй нашего времени, случившихся в Голландии», изданных в Лейдене в 1656 г. Во Франции стиль и сюжеты Камю постепенно выходили из моды. Их место заняли новеллы Шарля Мореля, порвавшего с трагическим жанром в пользу жанра развлекательного; а вскоре на стезю развлечения читателей вступили Скаррон, Сегрэ и Доно де Визэ38.
Создав своеобразную человеческую комедию, населенную персонажами практически из всех сословий общества, приверженец аристократических идеалов Камю отдает предпочтение дворянству даже в тех случаях, когда выводит его представителей в откровенно сатирическом свете. Критикуя богатых буржуа, стремящихся заполучить дворянские титулы, он нещадно бичует пороки финансистов, власть денег, представителей правосудия и полиции, лицемерных монахов. В его рассказах нечасто встретишь ремесленников или негоциантов, зато в них много слуг и крестьян. Его отношение к крестьянам неоднозначно: с одной стороны, он жалеет их, но с другой — относится к ним с пренебрежением, ибо они «обычно живут среди скотов и перенимают от них недостойные манеры». По канве, сотканной из представителей разных слоев общества, он вышивает свой излюбленный сюжет: буйство страстей, таящихся в человеческой душе; этим страстям он посвятил один из томов своих «Разнообразных происшествий», вышедших в 1614 г. Автор рассматривает страсти с позиций психолога, однако психолога своего времени. Индивидуальность уступает место механизму формирования чувств и страстей, главных объектов его пристального внимания; но ему также не чужды ни живописание, ни вымысел. Брак, женщина, прелюбодеяние являются для него темами поистине неисчерпаемыми, кочующими из рассказа в рассказ. Действие обычно разыгрывается в обстановке неслыханного насилия и жестокости, что в принципе без особых преувеличений отражало реальную жизнь той эпохи. Обвинять Камю в снисходительном отношении к тогдашним нравам означало бы всего лишь, что он разделял взгляды многих своих современников и их болезненное пристрастие ко всему макабрическому, объяснявшее успех его рассказов. Его библейский Бог неумолим, в соответствии с Августиновым пессимизмом он редко являет примеры сострадания и пребывает в полном согласии с королевским правосудием, считавшим своим долгом воспитывать отвращение к преступлениям через ужасные зрелища телесных мук. Обладая талантом живописать моральные представления различных сословий, Камю выставляет напоказ идеал святости, не забывая при этом и рыцарский идеал, выведенный в «Амадисе Гальском»; чаще же всего он показывает характеры, наделенные поистине нечеловеческой жестокостью: именно они должны вызывать у читателя отвращение к пороку. Склонность к романическому неоднократно заставляет его отклониться от избранного пути: он вполне может снизойти к влюбленным, пренебрегшим общественными условностями, хотя эти самые условности Камю обычно защищает крайне энергично. Отмечено, что, описывая самоубийства красавиц, он иногда забывает даже о религиозных принципах.

Любвеобильная жена придвигается к своему безучастному супругу. Миниатюра XV в.

Испытание холодной водой немецкой ведьмы. Ксилогравюра XVII в.

Повешение ведьм. Гравюра XVI в. Англия

Карикатурное изображение папы Александра VI Борджиа. Полемический памфлет конца XV в.

Мишель Пашер. Из серии "Отцы церкви". Святой Вольфганг обороняется от дьявола крестным знамением

Фелисьен Ропс. Смерть сифилитиков

Фелисьен Ропс. Демон кокетства

Иероним Босх. Святой Антоний

Иероним Босх. Святой Антоний. Фрагмент
В сборнике «Ужасные зрелища», причисляемом к шедеврам автора, Камю исследует разнообразные способы Злого Духа повлиять на человеческие поступки. В рассказах, населенных убийцами, предателями и клятвопреступниками, 126 персонажей умирают не своей смертью. Предшественник «черных рассказов» Прево и де Сада, Камю расписывает поистине безвыходные ситуации, катастрофы, драмы и сцены насилия. Дьявол, этот «искуситель», вездесущ. Никто не может ему противостоять. Люди буквально выходят из себя, бросаются в кровавое буйство и попадают в «ловушки и засады, постоянно подстраиваемые нам врагом нашей жизни и нашего спасения». В новелле «Преждевременная ревность» жена ждет, когда муж ее заснет, а затем «несколько раз вонзает в него страшный кинжал, приготовленный ею для сего бесчеловечного убийства; она вонзает кинжал в горло, в живот, в желудок и, таким образом, удвоив количество ударов, изгоняет душу из тела несчастного и напрасно хранившего ей верность супруга». В рассказе «Гондольер» муж карает свою ветреную супругу. В рассказе «Мать Медея» женщина мстит неверному мужу, разрубая топором его детей. В новелле о съеденном сердце ревнивый муж заставляет свою неверную супругу отведать сердце ее любовника»40. Коротенькие заключения, написанные простым лаконичным языком, напоминают о неизбежном Божественном возмездии, дабы пробудить у читателя ужас перед наказанием, несчастьем, обманом, жестокостью, трагедией, жалостью, отвращением, бесчестьем. Прочитав соответствующее внушение, читатель должен тотчас устремиться по торной дороге добродетели, не пытаясь свернуть на нехоженые тропы порока. Напрашивается вопрос: является ли ожидаемая и традиционная проповедь главным возбудителем интереса публики? Одной из имплицитных читательских мотиваций вполне могло быть стремление приблизиться к запретному, подглядеть, подобно вуайеристу, пикантные подробности, хотя самого епископа, друга святого Франциска Сальского, вряд ли можно было заподозрить в отсутствии апостольского рвения. Дискурс моралиста переплетается с дискурсом любителя кровавых и чудовищных историй, образуя единое целое, но так и не преодолев внутреннего противоречия между евангельской целью и непредсказуемыми последствиями созерцания ужасов. Впрочем, и психология тогдашних читателей вряд ли могла преодолеть его, ибо сами читатели пребывали где-то посредине, с одной стороны оказываясь под влиянием пропаганды возвышенного идеала святости, присущей самым лучшим, а с другой стороны, испытывая воздействие жестоких сцен, рожденных повседневной жизнью.
В те времена люди поистине ходили по краю бездны: постоянные дворянские заговоры, народные мятежи, жестокая месть, пылающие на кострах ведьмы, слухи о сатанинских шабашах и вдобавок разразившаяся в 1630 г. опустошительная эпидемия чумы. Черное солнце Сатаны затемняло сознание людей. Убедить человека в истинности любого выходящего за рамки привычного явления труда не составляло, особенно если это явление было во всех подробностях описано в одной из трагических историй. Основанное на средневековом поверье мнение ученого медика Лемния о ранах на мертвом теле убитого, кровоточащих в присутствии убийцы, в 1630 г. было повторено и донесено до тысяч читателей в двух томах «Кровавого амфитеатра» (7-я история 2-го тома). Еще одной причиной выдающегося успеха этого сочинения Камю следует считать истории, окрашенные черным юмором: например, новелла «Запоздалое раскаяние», повествующая о нищенствующем монахе, взявшем себе сожительницу (11-я история 1-го тома), или же «Зловонный сожитель» (10-я история 1-го тома). Впрочем, если о черном характере новелл можно говорить с уверенностью, то о юморе вряд ли, ибо тогдашние читатели без труда могли расшифровать забытую нами схему и, трепыхаясь в когтях дьявола, отыскать в ней гораздо меньше поводов для смеха, чем для слез.
Рассказ «Зловонный сожитель» занимает всего шесть страниц привычного для нас формата. Начав с рассуждения о Зле и о «слабости нашего тела, по причине коей мы можем навечно ввергнуть в бездну нашу душу», автор переходит к истории принципала, преподававшего в коллегиале в одном маленьком французском городке. «Знаток греческого и латыни, а также философии», он был остроумен, вращался в обществе людей порядочных и слыл прекрасным наставником. «Богу, конечно же, было бы более угодно, если бы душа его была прекрасна, а совесть столь же чиста, как обширны его познания». Но недостач ков у него было множество: он любил хорошо выпить и закусить, любил азартные игры и хорошеньких женщин.
В течение тридцати лет он брал себе в сожительницы развратных женщин и девиц, открыто жил с ними и этим гордился. В конце жизни он безумно влюбился в юную красавицу и стал так сильно ревновать ее, что «когда к ней на щеку садилась муха, ему любой ценой надо было узнать, какого она была пола, и если муха оказывалась мужского пола, он тотчас кидался ее прихлопнуть». После семи или восьми лет жизни «подле этого аспида, коего он оберегал словно истинное сокровище», он заболел и, пожелав получить таинство примирения и тем спасти свою душу, согласился расстаться с ней. Девица, проживавшая с ним исключительно из выгоды, плачет, рвет на себе волосы и, прежде чем удалиться, вынуждает его оставить ей по завещанию все свое состояние. Исповедник, пообещав умирающему на следующий день прийти и причастить его, уходит, а «эта ведьма» возвращается якобы поплакать и повздыхать возле его одра. Тут умирающий клянется никогда не покидать ее, утверждает, что исповедник силой исторг у него обещание прогнать ее, а затем просит девицу поцеловать его. И «умирает на груди у этой пропащей души». А спустя немногим менее часа «он стал такой зловонной падалью, что не только комната, но и весь дом перестали быть пригодными для жилья из-за нестерпимой вони». Тело принципала кладут в гроб, но вонь проникает через стенки гроба. Не помогают ни смола, ни воск, ни замазка, ни кожа, наклеенная на стыки между досками. Тело кладут в свинцовый гроб, но никто, кроме золотарей, не соглашается нести его. Его хоронят в церкви, опустив в могилу глубиной в шесть футов и положив сверху надгробную плиту, но тело продолжает источать вонь, проникающую повсюду и заражающую местность. Тело приходится выкопать и похоронить на кладбище, но и там воздух тотчас пропитывается зловонием, так что те, кто направляются в церковь, не отваживаются проходить мимо. Ночью труп вновь выкапывают и выбрасывают в реку, где вода тотчас становится отравленной, «и многие рыбы в ней дохнут и начинают разлагаться». Сожительница, признавшаяся, что жила с принципалом в грехе и имела от него детей, была по просьбе семейства принципала лишена наследства и, как утверждают некоторые, умерла от сожалений; впрочем, другие говорят, что смерть настигла ее еще не скоро, но жила она в нищете. В заключение Камю предостерегает от греха невоздержанности, «портящего тело, душу, имущество, честь и репутацию того, кто ему привержен. <...> Истинно говорю я вам, что прелюбодеи, блудодеи и нечестивцы никогда не попадут в Царствие Небесное».
Юмор, судя по сценке с мухой, несомненно, присутствует, однако, скорее всего, не там, где сегодня видим его мы, отмечая несоответствие между вполне, на наш взгляд, безобидным сексуальным преступлением и Божественным мщением, а также беспросветной мрачностью данного примера. Во времена Камю рассказ этот воспринимался в контексте неумолимого наказания за серьезное прегрешение, состоявшее в нарушении здорового института брака и лишении наследства законных наследников. Любитель чувственных удовольствий являет собой антипод тогдашней модели «порядочного человека», способного обуздывать свои страсти и контролировать животное начало своей натуры. Несмотря на высокие профессиональные качества или, скорее, по причине этих качеств, ибо они соотносятся с античной любовью к познанию прекрасного, отвергаемой христианскими гуманистами, принципал проклят без всякой надежды на спасение. «Эта ведьма», женщина выступает здесь в качестве союзницы дьявола, а смерть грешника, прямо противоположная смерти святого, чье тело по Божьему велению приобретает сладостный аромат, являет собой назидательный пример. Зловоние отсылает к царству Сатаны. Сотворенная Богом природа буквально выташнивает труп принципала, изгнанный сначала из церкви, где положение нотабля обеспечивало ему последнее пристанище, потом с кладбища, где хоронили простых людей, и, наконец, с крестьянского поля и из реки. Природа отвергает его, ибо он отравляет и заражает воздух, землю и воду. Остается только огонь, неотъемлемая часть ада, где отступников ожидают наказания. Зловонный труп сожителя загрязняет макрокосм, отвергающий его, потому что он осквернил свое тело плотским грехом. Классический пример, назидательный и тяжеловесный, который Камю, талантливо используя детали и фигуры стиля, делает интересным для читателя. Очевидный вывод о вреде греха, разрушающего тело и душу, скорее всего, значил для читателей гораздо меньше, чем рассказ о живых конкретных событиях, напоминавших многим об их собственных ошибках. Соединяя реальное с воображаемым, трагическая история привлекала больший интерес публики, нежели тягучая проповедь или коротенькая листовка с голым изложением фактов. Новеллу Камю о зловонном мертвеце можно сравнить с анекдотом Бенуа Шоде, напечатанном в Париже в 1582 г. под названием «Сообщение о происшествии необыкновенном, неслыханном и устрашающем, случившемся в Анвере, столице герцогства Брабантского, с некой фламандской девицей, коя по причине тщеславия и из-за излишней озабоченности своей о нарядах, о плоеных воротниках и о новомодных юбках, была задушена дьяволом, а тело ее после сей кары, ниспосланной свыше, в присутствии всего собравшегося возле ее гроба народа превратилось в черную кошку, и было это в 1582 г.». В этом, как и в предыдущем рассказе, задача одна — доказать, что Сатана, губящий тела, завладевает душами грешников, в данном конкретном случае душой тщеславной девицы, слишком любившей модную одежду. Богохульствующая девица, поклявшаяся, что скорее ее черт унесет, чем она выйдет на улицу в плохо накрахмаленном воротнике, увидела перед собой черта, который и свернул ей шею. Желая сделать ее участь поучительным примером для многих, Господь повелел гробу ее сделаться таким тяжелым, что даже шесть сильных мужчин не смогли поднять его. Когда же гроб открыли, оттуда выскочила черная кошка и мгновенно исчезла, а гроб так и остался пустым41. Аксиома о способности дьявола трансформировать человеческие тела здесь проиллюстрирована еще менее правдоподобно, нежели в историях о ведьмах или у Камю в рассказе о зловонном трупе; тем не менее все они рассматриваются отнюдь не как фантазмы, а как вполне достоверная реальность, конкретная демонстрация божественного вмешательства через посредничество дьявола. Ибо когда заходит речь о женщинах, заподозренных в ведовстве, их в качестве проверки взвешивают или же, связав по рукам и ногам, бросают в воду, ибо ведьмы необычайно тяжелые и тонут в воде. А отвратительный запах всегда свидетельствует о появлении Злого Духа42. Зловоние — веха на пути в наше собственное воображаемое, в мир XXI в., когда вонь непременно влечет за собой отвращение, отторжение, причисление другого к разряду животных.
Кровавые истории из криминальной хроники
Дьявол был творцом криминальной хроники. Во всяком случае, именно в его честь в самом конце Средневековья люди создали новый тип печатного издания, мода на который за последнюю четверть XVI в. резко возросла, достигнув к 1631 г. своего апогея — параллельно с модой на трагические истории.
Оба жанра отвечали пристрастиям публики к мрачным сенсациям. После пронизанного светом Возрождения наступило время мрака, окутавшего западную культуру не без помощи коротких кровожадных анекдотов и немецких Teufelsbucher. Анекдоты, небольшие истории, напечатанные и продаваемые разносчиками-книгоношами вместе с другими спорадическими изданиями, в отличие от трагических историй, были адресованы прежде всего читателю из простонародья, однако ими не пренебрегали и образованные люди. Большой поклонник подобного рода чтива, мемуарист Пьер де Летуаль в конце XVI в. даже начал коллекционировать эти анекдоты. Но до наших дней они практически не дошли, а потому плохо поддаются изучению. Жан-Пьер Сеген полагает, что популярность эти короткие «страшные истории» завоевывают в начале второй половины XVI в.; по его подсчетам, на период с 1529-го по 1575 г. приходится всего 57 названий кровавых историй, на период с 1575-го по 1600 г. — уже 110 названий, а с 1600-го по 1631 г. — целых 323 названия. Более 58% этой продукции отпечатано в Париже, 28% — в Лионе, 4% — в Руане и т.д.43 Тематика этих анекдотов распределяется следующим образом: первое место занимают необыкновенные истории, составляющие почти треть всего корпуса текстов, за ними с небольшим отставанием следуют сообщения о бедствиях, уголовных преступлениях и проявлениях небесной воли: они составляют примерно одну пятую от общего числа названий. О преступлениях рассказывается с непременными натуралистическими подробностями, с указаниями на кровожадность преступников и леденящие кровь детали — как, например, в истории о соблазненной девице, заставившей своего любовника съесть то ли сердце, то ли печень их общего ребенка. Не последнее место занимают и рассказы о чудесах и святотатствах; к примеру, в 1629 г. появилось сообщение о еврее, виновном в краже облатки из церкви Сен-Жан-де-Люз и приговоренном к сожжению на костре. Ритуальное обвинение, основанное на предании о кровоточащей облатке, прекрасно дополнялось известным сюжетом о ведьмах, крадущих из церквей облатки для своих колдовских нужд. Там, где речь ведется о чародействе и наведении порчи, о злокозненных явлениях, о казнях колдунов непременно упоминается дьявол, чье присутствие ощущается практически во всех текстах, а не только там, где он выступает главным персонажем. 24 апреля 1630 г. в Лиможе были повешены трое адептов Сатаны. Когда тело первого из них закачалось в петле, все увидели, как из уха повешенного на его правое плечо «вылез его демон в виде козявки, величиной с орех; демон со свистом пополз на виселицу, волоча за собой дымящийся хвост; узрев демона, палач в ужасе воскликнул «Иисус Мария!», и на глазах у двухтысячной толпы виселица зашаталась, а в воздухе раздался рокот, словно в грозовом небе загрохотал гром». У таких рассказиков обычно не было авторов; из них чаще всего составляли тематические подборки, публиковавшиеся в зависимости от сиюминутных интересов публики, от молвы, слухов и разговоров. Подобно деревянным печатным доскам, рассказы эти вполне подходили для многократного использования, ибо содержали простейший нравственный урок, связывая катастрофы с яростью Господа, гневно взиравшего на приумножение грехов и разгул преступных страстей, — например, на чрезмерную гордыню или сладострастие44.
При сравнении анекдотов, этих душераздирающих миниатюр с трагическими историями, выявляются вполне значимые корреляции. Из разнородной массы сообщений, повествующих как о реальных случаях, взятых из газетной хроники, из отчетов об уголовных процессах, также появлявшихся в газетах, например, в Le Mercure françois, так и об откровенно вымышленных историях, действие которых происходило в мире воображаемого, писатели, и в частности Россе и Камю, нередко черпали подходящие для себя сюжеты. Сопоставив ряд рассказов Россе с исходными анекдотами, Морис Левер отметил, что автор сохранил общий ход рассуждений и последовательность эпизодов, внеся изменения только на уровне деталей. После литературной обработки сообщения теряли свои конкретные привязки: Россе давал персонажам традиционные для жанра романа имена и изменял место действия. Рассчитывая на более образованную публику, нежели на потребителей кровавых анекдотов, он смягчал «жгучую пряность изысканным соусом, дабы потрафить самому утонченному вкусу», не допуская при этом сентиментальных излишеств, свойственных авторам любовных романов; тем не менее Шарль Сорель упрекал Россе в непозволительном, на его взгляд, смешении жанров. По мнению Мориса Левера, острый драматический сюжет в соединении с чувствительными отступлениями задает повествованию совершенно иной тон, порождая неведомые прежней литературе переживания. Так, подлинная история Жюльена де Равале и его сестры Маргариты, обвиненных в кровосмесительной связи и казненных 2 декабря 1603 г., на следующий год была растиражирована в беспощадном анекдоте, осуждавшем их «омерзительный проступок», в то время как под пером Россе история несчастных любовников, истерзанных и запуганных, приобрела поистине трагическое измерение, не понятое ни судьями, ни толпой зевак, собравшихся поглазеть на казнь. Поняв, что скрыть страшную тайну уже невозможно, Маргарита начинает отстаивать свое право на любовь как «вещь вполне естественную»45.
Барокко и преступление
Эпоха барокко находила удовольствие в трагическом, трагедия присутствовала всюду: в живописи, скульптуре, театре, поэзии, литературе и повседневной жизни. С середины XVI в. повышенная эмоциональность вторглась в ученую культуру. В первые десятилетия XVII столетия она распространилась среди достаточно широких слоев публики, затронув городские низы, основных поклонников кровавых анекдотов, и, возможно, даже крестьян, однако относительно последних сведений крайне мало. Эмоционально-трагическое видение мира было порождено самим временем: ужасные картины зверств фанатиков во время религиозных войн, неслыханная прежде череда цареубийств, случившихся во Франции в 1589 43 и 1610 гг., активное становление «Августинова христианства» 4446. Формированию пессимистических умонастроений во многом содействовал трагический жанр, описывавший «проклятый век железа и насилия», как называл его Париваль во вступлении к последнему объемному изданию трагических историй, выпущенному в 1656 г.47 Но не исключено, что трагические истории были также и средством ослабления эмоционального накала, возникшего в результате всеобъемлющего пессимизма. Светское общество, поставлявшее основную массу читателей, состояло не только из святых или подвижников Господних. Романические формы Россе, удовольствие, получаемое от сочинений Камю, возможно, помогли многим людям, в том числе и женщинам и молоденьким девушкам, принять моральные уроки, однако не слишком глубоко переживать, когда уроки эти бывали излишне суровы. Трагическая литература, в отличие от назидательной, несомненно, выполняла катартическую задачу. Для верхушки общества, состоявшего из различных слоев, среди которых господствующее положение занимало дворянство, она служила своеобразной связующей тканью культурного процесса. Не отбрасывая ни необыкновенного, ни фантастического, важность которых постоянно подчеркивается в анекдотах и страшных историях, она давала сжатое, упрощенное объяснение горестей и бед, уготованных человеку в этом мире. Дистанцируясь от народной культуры, пребывавшей под влиянием множества оккультных сил, трагическая литература заимствовала у нее сюжеты, а затем направляла их в русло прикладного Августинова христианства, где Сатана занимал место, отведенное ему Господом. На второй стадии концентрации культурного процесса трагическая литература постепенно внедряла в жизнь идеал укрощения страстей, нашедший в промежутке между 1620-м и 1640 гг. свое выражение в модели порядочного человека, выведенного в учебниках достойных манер48, а затем возвышенного пришедшей на смену новой литературой, откуда Малерб, Сорель, а затем и классики века Людовика XIV принялись выметать остатки трагического жанра.
Устанавливаемое со времен Боэтюо соответствие между трагическим жанром и интересами публики в 1610—1630-е гг. достигло равновесия, а затем постепенно пошло на убыль: трагические истории все меньше отвечали потребностям элиты. Однако феномен запоздалого подражания моде, равно как и рост численности грамотного населения обусловили сохранение интереса к ним в менее престижных кругах. Таким образом, в первую половину царствования Людовика XIII трагический жанр обладал наибольшей социальной значимостью, формируя мир коллективного воображаемого людей благородных. Образно говоря, жанр ставил между элитой и миром понятийную решетку, где главным было понятие неизбежного наказания за любое нарушение закона — и Божеского, и человеческого49. Однако подобный подход для дворян был отнюдь не само собой разумеющимся: в большинстве своем они были убеждены, что дворянская честь ставит их превыше всех. Дворяне без смущения нарушали королевские указы, запрещавшие дуэли, похищали из монастырей девушек, женились на них в обход родительских дозволений и восхищались Бюсси д’Амбуазом, соблазнившим жену графа де Монсоро, а жаждущий мести граф, заманивший в 1579 г. Бюсси в ловушку и приказавший убить его прямо в спальне своей супруги, отнюдь не вызывал у них симпатий. Для представителей других социальных категорий, чьи необузданные страсти свободно выплескивались наружу, понятие чести было не слишком существенным, о чем ярко свидетельствуют материалы многочисленных уголовных процессов, особенно когда речь шла об убийствах или случаях насилия, о прелюбодеяниях, кровосмесительстве, отцеубийстве, детоубийстве и т.п.50
Трагические истории внушали каждому мысль о послушании. Читая эти рассказы, многие получали удовольствие от возможности в мыслях, а потому безнаказанно, совершать преступления. Поэтому вряд ли стоить принимать за чистую монету все, что говорилось о достойных манерах, пропагандируемых этими текстами. Тем не менее они, без сомнения, прокладывал дорогу этим манерам, провозглашая принципы, которые несколько поколений подряд учились реализовывать в непростом конгломерате, именовавшемся воспитанным обществом. Три конструкции позволяли авторам передавать оттенки зависимости, установленной ими же самими между преступлением и наказанием. В первой конструкции подавляющая мощь закона подчеркивалась посредством жестокого и всеобъемлющего наказания; в реальной жизни образцов такого подхода было множество: например, в 1627 г. был обезглавлен отец маршала Люксембургского Франсуа Монморанси-Бутвиль, нарушивший эдикт, запрещавший дуэли. Во второй конструкции виновный расплачивался за свое преступление трагической гибелью: за бунт против Божественного или человеческого порядка его разил Божий гнев и дьявол уносил его в преисподнюю. Третье построение представляло собой промежуточное решение, сочетавшее возвышенную жалость к наказанным преступникам и незыблемую власть закона, как сделал Россе, превратив историю кровосмесительной связи Жюльена и Маргариты де Равале в подлинную драму, в то время как в отчете о казни, состоявшейся в 1603 г., о них было сказано без всякой жалости51.
Трагические истории напоминали всем, стремившимся избежать справедливого наказания, или, иными словами, вечного проклятия, о необходимости контролировать свои поступки. Авторы чаще всего брали темы, затрагивавшие актуальные общественные, религиозные и политические проблемы. Классифицируя преступления, они использовали труды своих современников-юристов, например труд Клода Лебрена де ла Рошетта «Ведение гражданского и уголовного процессов», изданный в Лионе в 1609 г. Располагая преступления по степени их тяжести, юрист начинает с наиболее частых — с насилия, за которым следуют кражи и сексуальные преступления; на самом верху шкалы располагается оскорбление величеств, как земных, так и небесных. В последней рубрике подробно расписаны все возможные преступления против королевской власти, от отступничества до цареубийства, все возможные нарушения божественных предписаний: богохульство, ересь и самое ужасное среди всех мыслимых злодеяний — колдовство. Смертная казнь часто применяется к убийце и к разбойнику с большой дороги. В ряде случаев смертная казнь сопровождается жестокими пытками, которым виновника подвергают не столько из чувства мести, сколько с целью дать наглядный урок зрителям. Разбойников оставляли медленно умирать на колесе, покусившихся на жизнь монарха пытали более изощренно: заливали раны горячей серой, разрывали тело на части, привязав его к четырем коням; содомитов отправляли на костер вместе с колдунами и повинными в инцесте, где они сгорали заживо, если только за свое примерное поведение не удостаивались предварительного удушения или же смертельного удара кинжалом, незаметно наносимого палачом.
Трагические истории рассказывают преимущественно о насилии, сексуальных преступлениях и об оскорблении величеств52. Насилие в повседневной жизни встречается часто: это и применение силы, и жестокое обращение, и многочисленные убийства. Чтобы пробудить воображение читателя, надо зайти, действительно, очень далеко, измыслить образ неистовой женщины, хотя в реальности женщин гораздо реже, чем мужчин, обвиняют в совершении кровавых преступлений. Образы преступных, кровожадных женщин относятся к фантазмам эпохи; в живописи они представлены Юдифью, убивающей Олоферна, и Лукрецией, убивающей себя после предательского изнасилования. Мы видели, как героиня Россе Флери зверски расправляется с мужем в первую брачную ночь. Лукреция, выведенная на сцену в рассказе «Преждевременная ревность» Камю («Ужасные зрелища», II, № 1), убивает возлюбленного, с которым она тайно вступила в брак, дабы он не мог исполнить приказ отца и жениться на другой, а затем убивает себя. Труп ее с позором швыряют на обочину, куда обычно бросают дохлых лошадей и ослов. Еще чаще героиней рассказов выступает одержимая преступной любовью Медея, приносящая в жертву своих детей, своеобразная транспозиция страха женщины, пожирающей собственного отпрыска или отдающая его дьяволу во время шабаша.
Трагические истории буквально пестрят рассказами о сексуальных преступлениях: «Полагаю, что из всех человеческих страстей Любовь является самой неукротимой», — утверждает Россе. «Слепые страсти гонят всех, кто поддается им, в ужасную бездну, доводят до кончины плачевной и несчастной», — добавляет Камю. В мире, где влюбленные, вначале прекрасные и очаровательные, срываются в пропасть неутолимого желания, влекущего их к неизбежной гибели, счастливой любви быть не может. Авторы никогда не подыскивают психологических объяснений поведения влюбленных: всему виной вмешательство «врага рода человеческого», он проник к ним в душу, завладел ими и сделал своей игрушкой. По натуре своей женщина более подвержена воздействию дьявола, нежели мужчина, особенно для Камю, не испытывающего никакого почтения к этой «адской головешке». Необходимость подчинения верховной власти в его книгах вменяется прежде всего женщинам.
Когда же речь заходит о законе, на сцену тотчас выступает мужчина. Преступление, нашептанное Сатаной, подвергает испытанию порядок мироздания, затрагивает каждое звено скрепляющей его цепи. Как и многие другие произведения культуры той эпохи, трагические истории XVII в. содержат между строк глубокое стремление к восстановлению разрушенного десятилетиями религиозных войн единства мира. Современники с нетерпением ждут возвращения социальной гармонии, но усматривают ее не в толерантности, понятии для того времени неактуальном, а в установлении твердой власти, при которой любое нарушение порядка влечет за собой суровую кару53 Трагические истории подтверждают очевидную необходимость воцарения абсолютного монарха, прославляют законы, поддерживающие его власть, и показывают, что нарушение этих законов неминуемо ведет к гибели. Господь карает тех, кто не подчиняется Государю. Правосудие государя неутомимо восстанавливает нарушенное социальное и космическое равновесие. Каждый элемент гражданской власти по структуре своей соотносится с властью короля. Отец семейства обладает неограниченной властью над детьми, муж — над женой, хозяин — над своим слугой. Судебная власть внушает наибольший страх: не только семья, но и потомки преступника, виновного в оскорблении величеств, становятся изгоями. Имущество Равальяка конфисковано, его родственники отправлены в изгнание и вынуждены сменить имя; впрочем, некоторые законники даже предлагали их казнить. Все элементы социального организма взаимосвязаны, ибо все принадлежит Господу, чьим представителем на земле является король. Об этом четко и ясно пишет королевский историограф и преданный слуга монархии Клод Маленгр, автор опубликованных в 1635 г. «Трагических историй нашего времени, в которых можно прочесть немало похвальных слов государству...»: «Королевские законы и ордонансы подобны ветвям и листьям древа ордонансов божественных, и так же, как и они, священны, а посему необходимо иметь закон о смертной казни для тех, кто нарушает Божественные предписания, равно и как и для тех, кто преступает и нарушает законы Государя: их также следует карать смертью»54.
В конечном счете именно «суровое божество» присматривает за человеком и карает его. Во Франции, как и в других европейских странах, преступников, повинных в оскорблении Божественного величества, выслеживают с особым рвением. Самым тяжким преступлением считается договор с Сатаной и, как следствие, противоестественное сношение, соединяющее ведьму с врагом рода человеческого. Трагические истории неоднократно излагают подробности такого союза, вплоть до плачевной кончины ведьмы. Они также устанавливают связь между гнуснейшим в мире грехом, совершенным людьми, несомненно, подлежащими истреблению, и всеми прочими заблуждениями несчастных представителей рода человеческого. В рамках новой, в высшей степени кумулятивной морали малейший неверный шаг может привести к гибели. Кто сегодня украл яйцо, завтра украдет вола. Самый незначительный проступок может повлечь за собой настоящую катастрофу, ибо Лукавый бдит, готовый использовать любую оплошность человека, чтобы погубить его. Восемнадцатая история первой книги «Ужасных зрелищ» может показаться неоправданно патологической. Камю рассказывает о двух мальчиках, которые, увидев, как отец их режет теленка, проделывают ту же самую операцию со своим младшим братом, а затем прячут его тело в печь. Рассказ этот должен убедить читателя в справедливости запрета творить зло на глазах детей, этого девственного воска, из которого, согласно педагогическим представлениям того времени, можно вылепить все что угодно. В «Нагромождении смертей», третьем рассказе из второй книги того же сборника, описано ужасное сцепление трагических обстоятельств, случившихся явно из-за вмешательства дьявола, неустанно подкарауливающего свою добычу. Без всякой веской причины крестьянин убивает своего сына, а когда осознает, какое страшное преступление он совершил, убивает себя; в ужасе от представшего перед ней страшного зрелища, перепуганная жена крестьянина бросает в огонь новорожденного младенца. Зло всюду. От него «нет лекарства, оно рождается в нашей колыбели и умирает в нашем гробу», — объясняет в 1617 г. Буатель в «Трагической истории Цирцеи»55.
Объясняя пристрастие авторов трагического жанра к темной стороне человеческой натуры, можно было говорить о барочном опьянении чувствами, о завороженности мраком, о непостоянстве тьмы50. Воображаемый мир подвергся вторжению демона, демон укоренился в самом его сердце, порождая кризисное сознание, способное привести людей к Добру только посредством внутреннего отторжения Зла. Упрощенное противопоставление царства Бога и царства Сатаны скрывает их абсолютное единство, ибо второй действует с формального дозволения первого. Чтобы свет казался еще более ослепительным, необходима тьма. Предельная постановочность первоначальной космической сцены должна убедить читателя, что невидимый Господь существует, как уверяет либертенов Паскаль, и все видит. Ничто не ускользает от Его бдительного взора. Ничто не совершается без Его дозволения, даже грех, посланный в качестве испытания малодушному человечеству, развращенному и отвратительному. Божественное око является метафорой неизбежности наказания за любое нарушение57.
Понятие виновности постепенно становится центральным в культуре барокко. Россе и Камю призывают своих читателей избавиться от страстей. Но не путем рассуждений, как сделал это Декарт в своем трактате «Страсти души», опубликованном в 1649 г., где философ после зрелых размышлений полагает прожить жизнь так, чтобы совести было не в чем его упрекнуть58. А пребывая в постоянном страхе в неведении нарушить заповеди грозного Бога и не имея возможности исправить содеянное, с ужасом сознавать, что, как бы ты ни поступил, ты постоянно пребываешь под прицелом Сатаны. Ментальный механизм, порожденный страхом перед нарушением, не щадит никого, даже святых. Он размещает притчу о желании в бездне, ибо желание непременно разрушительно и любой человек должен остерегаться своих желаний, укрощать животную часть своей натуры, свои яростные сексуальные импульсы. Давний урок, преподнесенный средневековым монахам, теперь расширяет свою аудиторию, включив в ее состав светское общество. Этот урок успешно расправляется с избытком оптимизма первых гуманистов, видевших человека сотворенным по образу доброго Бога. Мораль трагического универсума презрительно отвергает народные «суеверия», бытующие в универсуме, где дьявола можно перехитрить, а человек с помощью различных видов магии надеется повелевать природой. Новый взгляд на человека выковывается железными инструментами и выплавляется в демоническом пламени одержимости, раздуваемом во Франции христианами Августинова толка, а в Германии протестантскими проповедниками: человек виновен, и вина его безмерна.
Для мыслящего субъекта времен Россе и Камю источник чувства виновности находится в основном извне. Вездесущий демон играет здесь роль двойника, разумеется, способного проникать в тела своих жертв, но все же отличающегося от них. Он еще не намертво прилепился к их душе. Поэтому он и появляется в самых ужасных обликах и только в грядущем веке философов медленно растворится в глубинах индивидуального «Я», где его в свое время отыщет Фрейд. При Людовике XIII демона легко узнать по зловонию и звериному оскалу. Обернувшись сатанинской мухой, он покидает тело раскаявшегося колдуна так же, как покидает душу преступника, раскаявшегося на пороге смерти. Практика публичных покаяний очередной раз доказывает могущество Создателя. Могущество это пылко славят проповедники, трогательно описывают авторы трагических историй и являют изумленным толпам авторы печатных анекдотов.
Исповедь одержимого представляет собой феномен того же порядка. Начиная со второй половины XVI в. публичные сеансы экзорцизма используют длядоказательства ложности протестантской доктрины. Эти сеансы свидетельствуют о кризисном состоянии личности, об остром чувстве виновности, находящем выход в подробных рассказах о вселении омерзительного дьявола. Под вселением дьявола в то время подразумевается явление, впоследствии получившее название раздвоения личности или же — в ряде случаев — выявления темной стороны личности. Тело, подвергшееся процедуре экзорцизма, является своего рода аванпостом западного движения за подавление страстей, генератором интенсификации чувства вины. Не имея возможности подобрать названия соответствующим телесным и душевным недугам, их выставляют на всеобщее обозрение и возникновение их приписывают вездесущему злокозненному бесу. История Жанны Фери из монастыря черных сестер в Монсе (современная Бельгия), подвергавшейся в 1584—1585 гг. процедурам экзорцизма, делает достоянием свидетелей свой давний ужас перед отцом, пьяницей и насильником. «Я знаю, — говорила она, — что отец меня проклял, и потому стала добычей дьявола». Она призналась, что подписала кровью договор с Сатаной, и отдалась демону по имени «Истинная свобода», который предлагал ей отречься от веры, обещая за это устроить ей поистине царскую жизнь. В описаниях процедуры изгнания дьявола указано, что экзорцист заставили выйти из ее тела «вместе с уриною двадцать кусков порченой плоти, источавших великое зловоние». Позднее «она исторгла изо рта и из ноздрей огромное количество нечистот и зловонных отходов: нечистот было столько, сколько бывает после прохождения большого отряда конников; а еще она исторгла из себя множество мелких бестий в виде мохнатых червей. И вся площадь была покрыта этими мерзкими бестиями». Разумеется, бесы потерпят поражение, и сцена завершится апофеозом, где главная роль будет отведена явившейся с неба святой Марии-Магдалине59. Тухлятина, зловоние, паразиты, мохнатые черви — все это признаки дьявольского тела, каким его описывал Жан- Пьер Камю в «Зловонном сожителе». В результате процедур экзорцизма тело Жанны Ферю исторгает из себя Зло буквально во все имеющиеся у него отверстия и таким образом преображается.
Хотя ни повседневным, ни даже частым явлением одержимость не стала, тем не менее в первой половине XVII в. в монастырях неоднократно случались явления массовой одержимости. Наряду с историей Гофриди, случившейся в 1610—1611 гг. в Экс-ан-Провансе и рассказанной Россе, к наиболее примечательным относится также случай, произошедший приблизительно в 1632—1634 гг. в Лодене60. В недавних исследованиях настаивали на связи, устанавливавшейся между одержимым и его экзорцистом. Перекрестные допросы, в том числе и допросы обитавшего в одержимых дьявола, зачастую приводили к дискредитации конфессионального противника. Об этом свидетельствуют три процедуры экзорцизма, проведенные в 1619 г. в Ажене, одном из центров региона, где гугенотское меньшинство еще сохраняло свое влияние. Одержимые заставляли говорить своих демонов, и те признавались, что посланы Богом, дабы обращать души, провозглашать истины католической церкви, разоблачать сговор протестантов с Сатаной и предрекать протестантам скорейшую гибель61.
Как следует из хроник, на процессе в Лудене было немало скептически настроенной знати, уже знакомой с достижениями рационалистической мысли; выступления этих людей смазали эффект от ряда достаточно двусмысленных сцен. Однако это была всего лишь частная причина охлаждения интереса к подобного рода зрелищам. Суть заключалась в том, что произошло определенное обесценивание фигуры дьявола в глазах образованной публики, которая начиная с 1620—1630-х гг. начала сознательно контролировать свои страсти и побуждения, к чему уже давно призывали ее книги по искусству овладения достойными манерами. Боязнь греха получила конкурента в стремлении все делать как положено и красиво говорить на правильном языке, иными словами, как принято в благопристойном обществе. Вкушать радости воспитания оказалось гораздо приятнее, чем вечно страдать от страха перед демоном. Трагическое постепенно выходило из моды, пережив в 1640-е гг. последний бурный всплеск, связанный с общим литературным оживлением, и в частности, с выходом очередных сочинений Камю, а также новой эпидемией ведовских процессов в ряде регионов62. Барочная Франция медленно отступала в тень, уступая место торжествующему классицизму эпохи царствования Людовика XIV. В промежуточный период, когда новая культурная доминанта в сфере чувств уверенно вытесняла свою предшественницу, понятие проницаемости тела, доступного как для вторжения дьявола, так и для проникновения зараженного воздуха, также постепенно отодвигалось в прошлое, теснимое философским рационализмом и научными открытиями. Разумеется, приходилось ждать XVIII столетия, чтобы процесс отступления дьявола стал необратимым, однако начальная стадия этого процесса четко просматривается уже в XVII столетии: повышается порог стыдливости, естественные потребности все чаще осуществляются скрытно, в употребление входит нижнее белье, символическая роль которого в формировании закрытости тела, без сомнения, была незаслуженно позабыта. Сознание греха все чаще стало являться изнутри, человек выходил на дорогу определения уровня своей личной вины.
К концу XVII в. представление о Сатане как о носителе греха постепенно ослабевает, тем самым изрядно умаляя его могущество. Сатане приходится умерять свою гордыню. Великосветским особам больше не требуется ссылка на внешний источник греха, вступая в век философов, высшее общество все активнее вовлекается в процесс получения удовольствий от самой жизни. Фантастическое родилось из неуклонно возраставшего разрыва между унаследованной от трагического прошлого верой в демона и гедонистической реальностью эпохи Просвещения, беззаботной и безбожной. Бедный дьявол, ему оставалось только разводить руками, глядя, как меркнет его черное солнце.
1 Первый немецкий вариант был опубликован в 1904 и 1905 гг. Французский перевод см.: Weber Max. L’Ethique protestante et l’Esprit du capitalisme. Paris, Plon, 1964. Рус. изд.: Вебер Макс. Протестантская этика / Пер. М.И. Левиной // Вебер М. Избранные произведения. М„ 1990.
2 Besnard Philippe. Protestantisme et Capitalisme. La controverse post- weberienne. Paris, A. Colin, 1970, p. 18—19.
3 Элиас H. О процессе цивилизации, op. cit.
4 Muschembkd R La Société police, op. cit., chapitre III.
5 См. гл. III.
6 RideJacques. Diable et diableries dans les Propos de Table de Martin Luther // Diable, Diables et Diableries au temps de la Renaissance. Paris, JeanTouzot, 1988, p. 114-117, 12.
7 Roos Keith L. The Devil in Sixteenth-Century German Literature: The Teufelsbucher. Berne, Herbert Lang et Francfort-sur-le-Main, Peter Lang, 1972.
8 Ibid., р. 62, 67, 108-109.
9 Ibid., р. 56-57, 69.
10 Ibid., р. 43; также см. гл. I.
11 Ibid., р. 43-49.
12 Pinelli Antonio. La Belle Manière. Anticlassicisme et maniérisme dans l’art du XVI siècle. Paris, Livre de Poche, 1996 (1-re éd. Italienne 1993).
13 Ibid., p. 262; Carr Richard A. Pierre Boaistuau’s Histoires tragiques. A Study of Narrative Form and Tragic Vision. Chapel Hill, North Carolina UP, 1979, p. 236—239; Chastel André. La Crise de la Renaissance. Genève, Skira, 1966.
14 Boaistuau Pierre. Le Theatre du Monde [1558], édition critique par Michel Simonin, Genève, Droz, 1981.
15 Boaistuau Pierre. Histoires tragiques, édition critique par Richard A. Carr. Paris, Honore Champion, 1977, p. XV—XIX.
16 Boaistuau Pierre Le Théâtre du Monde, op. cit., p. 59 sq., 100—105.
17 Ibid., p. 193, 217.
18 Первым внимание к жанру привлек Альберт-Мария Шмидт; Schmidt Albert-Marie. Histoires tragiques, Etudes sur le XVI siècle. Paris, Albin Michel, 1967, p. 247-259.
19 Paris, Sertenas, 1559.
20 Об авторе см. предисловие Р.А. Карра; Carr R.A. L’édition critique des «Histoires tragiques»; a также; Céard Jean. La Nature et les Prodiges. L’insolite au XVI siècle en France. Genève, Droz, 1977, chapitre X, «Les debuts d’un genre. L’histoire prodigiuese», p. 253.
21 Carr RA Pierre Boaistuau’s Histoires tragiques, op. cit., p. 210— 215; Céard J., op. cit., p. 262—265.
22 Boaistuau P. Histoires tragiques, éd. RA Carr, op. cit., p. 132—134.
23 Рой Sergio. Histoire(s) tragique(s). Anthologie / Typologie d’un genre littéraire. Bari-Pris, Schéna-Nizet, 1991, перечень заглавий см. с. 15—17; Picard Raynomd, Lafond Jean (éd.). Nouvelles du XVII siècle. Paris, Gallimard, 1997, p. XX-XIV.
24 Poissenot Benigne. Nouvelles histoires tragiques [1586], éd. annotée par Jean-Claude Arnould et Richard A. Carr, Genève, Droz, 1996, p. 48— 49, 50-51.
25 Habanc Vente. Nouvelles Histoires tant tragiques que comiques. [1585], éd. annotée par Jean-Claude Arnould et Richard A. Carr, Genève, Droz, 1989, p. 21-22, 286-287.
26 Picard A, LafondJ. (éd.), op. cit., p. XXII; S. Poli, op. cit., p. 34. См. также: François de Rosset. Les Histoires tragiques de notre temps, avec une préface de Rene Godenne, Genève, Slatkine Reprints, 1980, P. VII—IX sur Rosset.
27 Rosset F. de, ibid., p. XIII-XVI, 128, 362-363.
28Ibid., p. 48, 199.
29Ibid., histoire VIII, p. 247-264.
30 См. гл. III. Муниципальная библиотека города Лилля, рукопись 380 (310, каталог Риго), с. 302—309 (с. 308 — ссылка на Россе) и с. 254 (цитата из Камю) /
31 Habanc V., op. cit., p. 205, 230—231.
32MesnardJean. Genèse d’une modernité //Jean Lafond, André Stegmann (études reunies par). L’Automne de la Renaissance. Paris, Vrin, 1981, p. 16.
33 Mandrou Robert. Le baroque européen: mentalité pathétique et révolution sociale. Annales ESC, 1960, p. 898—914, ici p. 901, 903—907.
34 Наиболее полные работы о творчестве Камю: Descrains Jean. Essais sur Jean-Pierre Camus. Paris, Klincksieck, 192; Descrains J. Jean-Pierre Camus (1584—1652) et ses «Diversités» (1609—1618), ou la culture d’un évêque humaniste. Lille, Atelier de reproduction des thèses (1984); J Descrains. La Culture d’un évêque gumaniste. Jean-Pierre Camus et ses «Diversités». Paris, Nizet, 1985; Vemet Max. Jean-Pierre Camus: théorie de la contre-littérature. Paris, Nizet, 1995.
Наиболее полные публикации сочинений Камю: Camus Jean- Pierre. Les Spectacles d’horreur, avec une introduction de René Godenne. Genève, Slatkine Reprints, 1973 (éd. De 1630); Trente Nouvelles, choisies et présentées par René Favret. Paris, Vrin, 1977. См. также: Picard R., Lafond J. (éd.), op. cit.
35 Descrains J. Essais, op. cit., p. 16, 133; Picard R., Lafond J. (éd.), op. cit., p. XXII-XXIV.
36 Перечень этих сочинений составлен Рене Годеном: René Godenne, dans: J.-P. Camus. Les Spectacles d’horreur, op. cit., p. XXTV.
37 Viala Alain. Naissance de l’écrivain. Sociologie de la littérature à l’age classique. Paris, Minuit, 1985, p. 182—133.
38 Picaud R., LafrndJ. (éd.), op. cit., p. XXV-XXXIX, LIII.
39 Camus J.-P. Trente Nouvelles, op. cit., вступительные комментарии P. Фавре см.: с. 12—31.
40 Camus J.-P. Les Spectacles d’horreur, op. cit., en particulier p. XVIII—XIX, 27 et récits cités.
41 Три версии этой истории приводятся Жаном-Пьером Сегеном: Séguin Jean-Pierre. L’Information en France avant la périodique. 517 canards imprimés entre 1529 et 1631. Paris, Maisonneuve et Larose, 1964, p. 115. Многие тогдашние авторы сочиняли подобные истории.
42 См. выше, гл. III.
43 Séguin J.-P., op. cit., p. 14—15.
44 Ibid., p. 21, 30, 38—45. Список сюжетов о проделках дьявола и призраков см. с. 114—121.
45 Lever Maurice. De l’information à la nouvelle: les «canards» et les «histoires tragiques» de François de Rosset // Revue d’histoire littéraire de la France, 79e année, 1979, p. 577—593; Lever M. Canards sanglants. Naissance du fait divers. Paris, Fayard, 1993, p. 28—30 (sur Rosset, Camus et canards), p. 103 sq. (canard à propos de Julien de Ravalet et Marguerite de Ravalet) et p. 377 sq. (canard de 1613 sur les amours d’un gentilhomme avec le diable dans le corps d’une femme morte).
46 Le siècle de saint Augustin», numéro special de XVII siècle, 1982, № 135.
47 ParivalJean-Nicolas. Histoires tragiques de nostre temps arrivées en Hollande. Leyde, 1656.
48Muchembled R La Société policée, op. cit., chapitre III.
49 Voucher Gravili Anne de. Loi et Transgression. Les histoires tragiques du XVII siècle. Lecce, Milella, 1982, p. 21. Voir également S. Poli, op. cit., p. 167.
50 Muchembled R. Le Temps des supplices, op. cit., p. 127—185, sur les crimes entre 1580 et 1640.
51 Voucher Gravili A. de, op. cit., p. 23, concernant ces trois schemas.
52 Ibid., p. 25—44; Poli S., op. cit., p. 170.
53 Poli S., op. cit., p. 30.
S4Cité par A. de Vaucher Gravili, op. cit., p. 20. Voir aussi p. 25—33.
55Ibid., p. 54—55; Poli S., op. cit., p. 509 pour la citation de Boitel.
56 Rousset Jean. Anthologie de la poésie baroque. Paris, Colin, 1961, t.1, p. 6.
57 Vaucher Gravili A. de, op. cit, p. 80—83.
58 Декарт Рене. Страсти души / Пер. А.К. Сынопалова // Декарт Р. Сочинения: В 2 т. М., 1989. T. 1. С. 572.
59 Debongnie Pierre, С. SS. Rr. Les confessions d’une possédée. Jeanne Fery (1584—1585) // Satan. Etudes carmélitaines, 1948, p. 386—419.
60 Certeau Michel de. La Possession de Loudun. Paris, Gallimard- Julliard, 1980; Daniel Pieckering Walker. Unklean Spirits. Possession and Exorcism in France and England in the Late Sixteenth and Early Seventeenth Centuries. Londres, Scholar Press, 1981; MandrouR Magistrats et Sorciers, op. cit.; Rapley Robert. A Case of Witchcraft. The Trial of Urbain Grandier. Manchester, Manchester U.P., 1998.
61 Hanlon Gregory, Snow Geoyffrey. Exorcisme et cosmologie tridentine: trois cas agenais en 1619. Revue de la Bibliothèque nationale, 1988, № 28, p. 12—27 (avec publication de deux proces-verbaux d’exorcismes).
62 Mandrou R Magistrats et Sorciers, op. cit., p. 369.
ГЛАВА V
Сумерки дьявола: от классицизма к романтизму
В середине XVII в. отчетливо выявляются интеллектуальные противоречия между рационалистами и традиционными философами, склонными сохранять за теологией доминирующий статус в сфере идеологии: воображаемое Запада не могло в одночасье избавиться от дьявола. В результате происходивших в Европе глубоких эволюционных процессов Сатана медленно, исподволь утрачивал свои позиции. Образ его, прежде сосредоточенный в воинственном дискурсе ожесточенно соперничающих церквей и навязанный всему населению, от самой верхушки до самых низов, разбился на множество осколков. Завершение периода серьезных религиозных кризисов, обострение соперничества национальных государств, бурное развитие науки, и хлынувший вслед за ним поток идей, который вскоре назовут Просвещением, тяга к новой приятной жизни стали фундаментом — пока еще откровенно зыбким — изменений, происходящих в обществе. Корабль с обитателями Старого Света отплыл от берега страха перед ужасным демоном и пугающим адом. Разумеется, в путь пустились далеко не все и не сразу, ибо воображаемое без образа дьявола все еще оставалось запретным плодом. Прежнее тревожное воображаемое поддерживали, насаждали и распространяли вплоть до наших дней в относительно широких слоях общества — в силу активности его сторонников и проницаемости границ между социальными средами. В странах Восточной и Центральной Европы охота на ведьм началась достаточно поздно, но тем не менее тамошние судьи — пусть и с опозданием — исправно посылали на костер адептов Сатаны. В то время как на Западе к концу XVII столетия колдунов практически перестали посылать на костер, в Польше 55% всех ведовских процессов состоялось в период с 1676-го по 1725 г., а пик охоты на ведьм в Венгрии пришелся на 1710—1750-е гг.
Последний бал Сатаны
С эпохи Декарта и до начала предромантизма Запад экспериментировал с различными образами дьявола. Завершился цикл, во время которого дьявол бесспорно принадлежал к властителям всех без исключения умов, а редкие сомневающиеся практически никогда не высказывали своего мнения, опасаясь обвинений в преступлении против веры или в недостатке рвения и в нечестии. Оспаривать существование демона было совершенно бессмысленно: вера в дьявола была одним из наиболее устойчивых догматов Церкви. Неверящие в дьявола довольствовались выражением сомнений в его способностях, то есть в его возможностях реально, а не во сне или путем внушения своих злокозненных мыслей вмешиваться в жизнь людей. Однако видеть в этих пионерах неверия предшественников рационализма было бы неправильно. Каждый из них определялся в соответствии с задачами своего времени, и если, принимая во внимание царившую в те времена нетерпимость, мы можем по достоинству оценить их мужество, то включить их в число предшественников воинствующего скептицизма можно, только совершив очевидный анахронизм2. Сомнения относительно реальных возможностей Князя Тьмы были не новы: теологи, определявшие господствующее мировоззрение на заре Средневековья, утверждали, что дьявол не может оказывать воздействие на тело или предмет, а действует только путем внушения. Испанские инквизиторы преследовали колдунов только в исключительных случаях. Во времена ведовских костров те, кого ошибочно называют скептиками, по сути являются мыслителями, соединившими постулат о воздействии дьявола на рассудок с сомнением относительно дьявольской силы колдунов; так, например, в 1454 г. бенедиктинец Гильом Эделин подвергся преследованиям за отрицание существования колдунов. «Учебник инквизиторов», изданный в 1503 г. в Барселоне, также не решается объявить ересью призывание дьявола, за исключением тех случаев, когда «демона именуют создателем». Функцией Люцифера, которой он наделен согласно Божественной воле, является сотворение зла. Когда заблудший человек обращается к нему, он, разумеется, впадает в грех, но не в ересь3.
Немецкий врач Иоганн Вир в своем знаменитом сочинении «История, диспут и рассуждение о бесовских наваждениях и обманах...», опубликованном в Базеле в 1563 г., и изданном в Париже в переводе на французский в 1569 г., также относится к колдовству весьма снисходительно. Уже в самом заголовке четко указано, что колдовство является всего лишь иллюзией, созданной великим мастером обмана Сатаной. Монтень в своих «Опытах» (1588), в главе «О хромых» также высказывает сомнения в реальности необычных деяний, вменяемых обвиненным в колдовстве ведьмам, равно как и иезуит Таннер в 1626 г., и Фридрих Шпее фон Лангенфельд, автор труда Cautio criminalis (1631), опубликованного анонимно в при- рейнских землях, где господствовало учение Кальвина4. Все эти авторы в равной степени считали себя христианами. И если, на наш взгляд, утверждение Люсьена Фев- ра о невозможности неверия во времена Рабле5, кажется несколько преувеличенным, то совершенно очевидно, что люди начала эпохи Реформации не могли, не подвергая себя огромному риску, заявлять о своем отречении от господствующей религии. Давление церкви было столь сильно, что оно, скорее, приводило к ортодоксальным высказываниям. Так, знаменитый Жан Боден, автор до сих пор сохраняющего свою актуальность политического трактата «Республика», вполне мог быть заподозрен в отходе в сторону от привычной тропинки веры. В оставшемся неопубликованным сочинении под названием «Семичастный разговор...» он высказывается в пользу естественной религии и сравнивает иудейство с христианством отнюдь не в пользу последнего, что в глазах его современников считалось совершенно недопустимым. Его яростное неприятие идей Иоганна Вира, изложенное в «Демономании», вышедшей в 1580 г., обусловлено, скорее всего, соображениями стратегической обороны, желанием заставить забыть предъявленные ему обвинения в безбожии. По крайней мере, в 1643 г. так считал врач Ги Патен, на чей взгляд «Демономания» Бодена ничего не стоит, ибо сам автор не верит в то, что пишет, и издал эту книгу, исключительно чтобы убедить всех в твердости своей веры»6. Если на самом деле все обстоит именно так, получается парадокс, ибо сочинение Бодена было одним из наиболее значимых трактатов о преследованиях ведьм в Европе. Во всяком случае, «скептицизм» был не способен стать преградой на пути демономании, разбушевавшейся в промежутке между 1580-м и 1630—1640-ми гг. Тем более что для мыслителей того времени не существовало понятия невозможного. Казалось, никто не мог вырваться из плотной паутины понятий, сходящейся на всемогущей фигуре Создателя, от которого, как неизбежное следствие, проистекала способность дьявола воздействовать на мир людей. С другой стороны, медицина утверждала, что человеческое тело, сотворенное Господом по собственному подобию, всего лишь микрокосм, тесно связанный с вселенским макрокосмом бесчисленными прочными нитями, которые в те времена воспринимались вполне конкретно; только в XIX столетии романтики стали рассматривать их исключительно как поэтический образ. Даже ведущие ученые того времени считали вполне реальными такие необычные явления, как, например, превращение в животных, способность летать или вопрошать будущее. Амбруаз Паре верил в чудовищ, ибо, по его мнению, равно как и по мнению его современников, ничто не могло ограничить беспредельную власть Бога.
Таким образом, мир пребывал в зачарованном состоянии, и в нем доминировало вездесущее Божество; демон пребывал под опекой этого Божества, дозволявшего ему в строго определенных пределах оказывать воздействие на человека, существо несовершенное и грешное. Восприняв идеи дуалистов о Добре и Зле, тогдашние идеологи интегрировали оба полюса в целостное иерархическое видение мира с единым центром притяжения. Вокруг этого центра вращались сонмы падших ангелов, считавшихся орудиями Господа; далеко не все ученые, искавшие ответ на вопрос о природе Зла, и подверженные «суевериями» простолюдины, для кого Божественные проявления были не всегда ободряющими, видели в этих ангелах, равно как и близких к ним бесов, носителей зла. Отвлекаясь от вопросов об идентификации, особенно в областях догматики и литургии, и возвращаясь в сферу экзистенциальной философии, можно сказать, что по всей Европе расколотое Реформацией христианское сообщество вновь обретало определенное глубинное единство, нашедшее свое выражение в почитании грозного карающего Бога, единственного повелителя человеческих судеб. Несмотря на активное соперничество Церквей и затяжные религиозные войны, и католики, и протестанты в едином порыве отдали свои тела и души в распоряжение Повелителя Вселенной, при котором Люцифер исполнял роль карающей длани. Словом, совсем как во Франции, где король миловал и раздавал прощения приговоренным к смерти, в то время как палач, орудие короля и его отрицательный двойник, вершил от королевского имени самые страшные наказания7. В сближении религиозного порядка с политической системой нет ничего искусственного, так как весь экзистенциальный комплекс на всех своих уровнях был охвачен специфическим процессом унификации референтных образов с целью установления в обществе гармоничного и в высшей степени иерархического порядка. Интенсивное дробление континента на более мелкие политические образования, возникавшие из-за обострившейся конкуренции, амбиций соперничающих Церквей и государств, из-за постоянных войн и нетерпимости, ощущавшейся даже внутри общин единоверцев, похоже, сопровождалось движением, направленным на восстановление гомогенности в сфере представлений.
Именно в этот период в Европе стали создаваться системы, принципиально ориентированные на отрицание любых различий с целью объединения под авторитарной властью и контролем непреклонного Господа. Идея всеобщей империи, которой был одержим Карл V, а затем и его наследники Габсбурги; французский абсолютизм от Франциска I до Людовика XIV; стремление руководимой папой контрреформации вернуть католицизму прежние позиции; теократические режимы сторонников Кальвина; острое соперничество на море и в колониях — многообразие форм несбыточной мечты о единстве превращают вторую половину XVI в. и первую половину века XVII в годину крови, огня и железа. Желая остановить процесс собственного распыления, Запад пребывает в постоянных раздорах, ибо каждая его часть хочет диктовать свои законы всем остальным. Сложившееся к этому времени интенсивное взаимодействие между церковью и государством, особенно ярко проявившее себя в 1555— 1620 гг. в Священной Римской империи, затронуло все стороны общественной жизни; в работах немецких исследователей движение это получило название «конфессионализации». В то время религия, еще не выделившаяся в отдельную сферу, была той сутью, что определяла образ жизни как частной, так и общественной, строго регламентируя жизнь индивида в социуме в любое время и на любом ее этапе8. Различие между религией и политикой кристаллизовалось достаточно медленно, и многие философы эпохи Просвещения успели сделать его главной темой своих язвительных выпадов.
В период конфессионализации умами правил Сатана. Европейское воображаемое, в центре которого находилась фигура дьявола, в то время было одинаково как для католиков, так и для протестантов9. Будучи не в состоянии найти почву для реального согласия, представители политических и религиозных властей объединялись в реальности выдуманной: это вполне мог засвидетельствовать любой перс, которому довелось бы проехать по Европе раньше, чем это сделал герой Монтескье. Костры, где сжигали колдунов, являлись одним из конечных, наиболее мелких общих знаменателей, объединявших расколотое конфликтами европейское пространство. В сущности, представители правящей элиты тоже верили в вездесущего дьявола и также боялись грозного божества, несмотря на оттенки в убеждениях, привносимые различными вероисповеданиями. Подобное видение мира принципиально отличалось от видения конца Средневековья, когда Создатель мог являть свое присутствие массам в самых разных формах, без посредничества демона, а сам демон часто позволял высмеять себя или одурачить. Не менее принципиально отличалось оно и от видения философов-утопистов Дезидерия Эразма, Томаса Мора, Франсуа Рабле, которым очень хотелось верить, что настанет время, когда человечество избавится от суеверий и милосердный Господь установит на земле золотой век. Это видение противоречило даже существовавшему в прошлом теологическому течению, считавшему дьявола некой реальностью, обладающей пугающей силой внушения, но никак не существом, способным совершать действия в этом мире. Отдельные сторонники преследования ведьм также допускали некоторые сомнения, основанные на подобных доктринах. Утверждая присутствие Сатаны, им приходилось апеллировать и к иной теории: например, когда речь заходила о стерильности сексуальных отношений женщины с демоном, полагали, что стерильность могла быть нарушена в том случае, если демон вобрал в себя семя скончавшегося человеческого существа.
За период с 1550-го по 1650 г. была создана устойчивая модель опасного дьявола, пришедшаяся ко двору в нестабильной и раздираемой религиозными войнами Европе. Вознесшийся над усеянным руинами полем нерушимый образ Сатаны служил одновременно и для объяснения неслыханных прежде бедствий, и для укрепления образа грозного Бога, державшего беса у себя под рукой. Однако, как это ни парадоксально, для людей, которые, в отличие от своих предшественников-гуманистов, пребывали на грани отчаяния, чувствуя, как лодку их судьбы раскачивают волны трагического океана, явление дьявола носило вполне жизнеутверждающий характер. Среди помрачневшего мира, не имея иного проводника, кроме послушания государям и церкви, не обладая более универсальной легитимностью по причине незатухающих конфликтов, они разделяли всеобщее отвращение к дьяволу, находя в этом своеобразное прибежище. Это отвращение, чаще всего выражавшееся в ненависти к так называемым ведьмам, создавало хотя бы видимость единства правителей, ученых, докторов, церковников и заинтересованных членов общин, собиравшихся на впечатляющем спектакле под названием «сожжение ведьмы». Разумеется, невозможно доказать, что все участники этого спектакля обладали единым видением происходящего. Но каждый обязан был вести себя в соответствии с отведенной ему ролью, преломляя свое собственное отражение через призму требований демонологов и судей. Конечно, нет твердой уверенности в полной и окончательной имплантации новой модели человеческого поведения в головы всего населения, однако есть основания утверждать, что процесс конфессионализации шел полным ходом. Фигура демона подхлестывала стремление к общественному консенсусу, основанному на полном согласии между человеком общественным и человеком частным. В человеке не должно было быть ни единого уголка, недоступного для взоров других, любая недоступная зона тотчас вызывала подозрения в отклонении, то есть в сообщничестве с Князем Тьмы. Таким образом, демон прокладывал путь к абсолютному повиновению государству, церкви, светским представительным институтам. Иными словами, он нисколько не был тем горделивым бунтарем, которого увидят в нем романтики, а был всего лишь инструментом Господа, недостающим, звеном между Богом и новыми системами повиновения, выкованными людьми в охваченной кризисом Европе.
Поставленный в самый центр ментальных представлений и пребывающий там на протяжении всего трагического века образ Сатаны использовался для построения объяснений, почему мир исполнен стольких тревог и бедствий. Придавая смысл тому, что, казалось, уже навсегда его утратило, дьявол превратился в мощный двигатель эволюции. Развязанная против него беспощадная и повсеместная война порождала религиозные наклонности, политические, интеллектуальные и социальные перестановки, стремления преодолеть все и вся во всех областях.
Впервые дьявол стал перманентным компонентом общественного сознания, хотя, разумеется, ни точных, ни даже приблизительных сведений о воззрениях большей части неграмотного населения получить невозможно, за исключением вычленяемого из источников классического образа Сатаны, связанного с шабашем. В дальнейшем ему уже никогда не удастся занять первостепенное место в воображаемом мире, хотя еще сегодня наше воображаемое хранит множество символов, связанных с дьяволом.
Воображаемое пагубное и раздробленное
Основной переломный момент приходится на середину XVI в. по крайней мере для стран Запада, так как в Центральной и Восточной Европе процессы, сходные с конфессионализацией, в том числе и массовые охоты на ведьм, наблюдаются в XVIII в., а в православных регионах и областях, находившихся под властью турок, похоже, гонения на ведьм никогда не принимали массового характера. Найти объяснение этому перелому не слишком просто. Тут можно вспомнить множество сопредельных причин, в том числе и глубокое чувство усталости и отвращения, охватившее людей, переживших ужасы Тридцатилетней войны (1618—1648), и гражданские войны ( 1640— 1660) в Англии, и успехи разума, воплощенные в сочинениях Декарта (ум. в 1650 г.), и развитие науки, особенно ускорившееся после 1660 г. Казалось, все давало основания для видения мира менее трагического, более спокойного и более рационалистического. В Нидерландах получила популярность достаточно толерантная форма кальвинизма, основанная на идее Божественной любви — арминианство 4510. Однако искать одну из главных причин ослабления власти Сатаны в прекращении ведовских процессов было бы неверно11. Связь, здесь просматриваемая, исключительно обратная: уменьшением прекращение преследований предполагаемых адептов дьявола связано с ослабеванием веры в демона, в зарождении сомнения относительно существования шабаша и адского договора.
Робер Мандру убедительно показал, что в судебном округе, подведомственном Парижскому парламенту, приговаривать колдунов к костру перестали достаточно рано, начиная с 1630-х гг.: главные судьи парламента усомнились в истинности многочисленных обвинений, выдвинутых подчиненными им судьями, которые требовали применить к обвиняемым самые жесткие меры. Ментальность верхних слоев общества французской столицы постепенно трансформировалась. Это было обусловлено не только энергичным поступательным шагом рационализма и науки, предвещавшим идейные баталии XVIII столетия, но и новой постановкой глобального вопроса о доминантных образах чувствований й мыслей. Ряд критиков не обратили внимания на нюансы формулировки, приводимой Р. Мандру в качестве доказательства. Не сводя все к одной лишь опоре на непреходящий скептицизм, он писал, что отступление Сатаны происходит по причине устранения метафизического препятствия, но тут же добавлял, что советники парламента медленно заменили «представление о мире, где бдительное око Господа, вершителя Страшного суда каждодневно надзирает за каждым шагом людей... ежедневно осаждаемых Князем Тьмы... на новую концепцию, согласно которой бдящее око располагается где-то далеко, взирает издалека и Господь, равно как и демон, вмешивается в жизнь людей не слишком часто»12. Продолжая анализировать сложившуюся ситуацию, добавим, что матрица порождает изменения не только в интеллектуальной или религиозной сферах. Она сама является порождением подлинного ментального переворота, затронувшего многие стороны бытия, и обусловлена очевидным «снятием чар» с окружающего мира. Открытия, совершенные в медицине, хирургии, анатомии, науках, скрупулезно исследующих человеческое тело, постепенно-убеждают людей, что тело не может изменяться по предполагаемой воле божества или дьявола. Практика экзорцизма питает сомнения многочисленных зрителей, среди которых немало передовых умов. Используемые католиками для доказательства превосходства своей веры над протестантизмом грандиозные спектакли экзорцизма начинают постепенно оборачиваться конфузом для их устроителей13. Если искренность отца Сюрена, духовника сестры Жанны Дезанж из монастыря в Лудене, первой обвинительницы на процессе Урбена Грандье в 1643 г., не ставится под сомнение, то его подопечная, о которой он искренне заботился, похоже, была весьма ловкой особой, сумевшей использовать весь регистр устрашения, принятый в христианской церкви и все еще влиявший на сознание людей. Но начавшееся отступление страха постепенно выносит приговор сеансам экзорцизма, так как в глазах судей, а также знати и верхушки горожан дьявол все меньше заслуживает доверия14.
Вехи этой ментальной революции можно проследить на примере заголовков сочинений, чьи авторы оспаривают всемогущество Сатаны. Интеллектуальная история эволюционирует вместе с историей общества в целом. Смыкаясь с другими глубинными изменениям, она при обретает особую значимость. В рамках этой истории истинная причина ослабления веры в дьявола связана не — столько с предшествующими действиями мужественных борцов, сколько с радикальной трансформацией отношений между религией и прочими феноменами аналогичного порядка, обременяющими участь человека. Завершив процесс конфессионализации, западные oбщества начинают освобождаться от гнета религиозной символики: теология перестает быть единственной наставницей, способной объяснить устройство мира. Во Франции государство выстраивает собственную логику господства, отделив политику, занятую исключительно высвечиванием сакрального характера монархии, от религии, предложив последней довольствоваться ролью важного феномена повседневной жизни, или лаудативной, прекрасно исполненной Боссюэ 46. Независимые литературные и научные круги, стремившиеся отделиться от теологии, относящейся с недоверием к любым новшествам, постоянно расширяются, особенно в таких крупных городах, как Париж и Лондон. Создаются тайные организации не верящих в Бога либертенов. Труды Декарта, Гоббса, Локка и многих других, менее известных, мыслителей, оставляют свой неизгладимый след в истории культуры, хотя во время царствования Людовика XIV сочинения Декарта становятся предметом осуждения. Одним словом, теологические одежды трещат по всем швам, наружу вырываются новые идеи, разнообразные желания, мрачное видение мира отступает. Преодолевая трудности, анализировать которые здесь неуместно, Запад изменяется «сверху», и во главе с правящей элитой, мыслителями, художниками, и образованными горожанами шаг за шагом продвигается по пути плюрализма, доныне истребляемого церковью в самом зародыше; и только абсолютистские государства пытаются задержать его поступь. На пути к философии Просвещения западному обществу еще не раз придется переживать периоды раскола, порожденные кризисом европейского сознания15.
Когда измотанные борьбой за господство на континенте непримиримые конфессиональные противники отказываются от своих претензий на гегемонию, в ментальной конструкции, непосредственно связанной с религиозным противостоянием, образ дьявола начинает дробиться на части. Рожденная в результате заключенного в 1648 г. Вестфальского мира47 обновленная Европа разделена на два враждебных друг другу религиозных лагеря; теперь сражения за чистоту догмы разворачиваются на внутриконфессиональном уровне: во Франции оппонентом официального католицизма выступает янсенизм 48, наблюдается повсеместное нарастание пацифистских воззрений на вопрос об отношениях человека с Господом.
Сила перестает быть исключительно деструктивной, направленной на уничтожение своего врага и брата во Христе, что раньше, на исходе века противоборства, казалось совершенно невозможным. Исчезает необходимость поддерживать панический страх, перманентную боязнь конца света, переводящую в сферу воображаемого трагические реалии; чтобы собраться с силами, обществу уже не нужна помощь Сатаны. Никогда еще христиане не переживали такого сильного потрясения. Никогда не испытывали таких глубоких сомнений по поводу отношения к ним божества. В эпоху непримиримых, неслыханных религиозных войн Европа не шла вперед, как было в эпоху Крестовых походов или Великих географических открытий, а направляла завоевательные походы внутрь самой себя. Образ одержимого демоном, исполняющим роль инструмента разгневанного Бога, нужен был для оправдания кризисного мировоззрения, рожденного ситуацией, когда, в сущности, никто не был уверен в том, правильно ли он поступает. Идея непременного столкновения Добра и Зла, разумеется ради конечной победы Добра, освещала темную дорогу человечества, убеждая его, что Создатель хотя и наказывает его, но все же не бросает на произвол судьбы. Постоянное напряжение поддерживало жар миссионерского пламени в каждом искренне верующем, побуждая его к самосовершенствованию. Трудившиеся на европейской ниве охотники за ведьмами считали свою задачу не менее важной, чем миссионеры, отправлявшиеся нести свет Евангелия далеким народам. Нетерпимость и фанатизм, царившие в обеих соперничавших церквях, были основаны на эсхатологическом страхе, многократно усиленном трагической культурой, влияние которой с середины XVI в. резко усиливается. Ведовские процессы придают образу Сатаны поистине невообразимые размеры, ибо в сознании людей Запада, глубоко проникшихся чувством вины, внушенным им грозными речами священников и пасторов, прочно укоренился образ безжалостного Бога-мстителя.
Унификация фигуры дьявола, сложившейся на протяжении нескольких поколений, стала подлинным методом борьбы против любого разнообразия, как у лютеран и кальвинистов, так и в католических странах. Но эту унификацию не следует рассматривать как некую навсегда застывшую данность. Возникнув в специфических условиях, сложившихся на руинах интеллектуальных идеалов гуманистов, веривших в одаренность человеческой натуры, унификация сильно пострадала при выходе на сцену нового оптимистического мировоззрения, представленного авторами Просвещения. Значительный отрезок времени, который отмечен активным присутствием Сатаны в сфере воображаемого, совпал с последней большой эпохой господства магического сознания. В течение этого насыщенного смутами исторического эпизода соперничающим Церквям удалось навязать свою концепцию ощущения жизни. Изгнав народные поверья, согласно которым существовал особый мир, где действовали амбивалентные силы и царила магия, они вменили всем веру в амбивалентный образ, с одной-стороны являвший собой грозного Бога, а с другой — вездесущего дьявола. Обе Церкви заставляют умолкнуть нонконформистов, начиная от последователей гуманистов до духовных либертенов, обвиняемых в богоотступничестве и нечестии, не забывая при этом и об ученых, пребывавших, согласно нерушимой библейской традиции, под неусыпным контролем. И тем не менее, несмотря на усиленный контроль со стороны религии, работа мысли не прекращалась, хотя высказывать многие соображения среди бела дня было опасно. Приспосабливаясь к новым требованиям, простолюдины полностью не расстались с привычным видением мира.
Материалы допросов, составленные во время ведовских процессов, свидетельствуют, что навязанная тема дьявольского шабаша сосуществовала с древними магическими воззрениями16. Бурлескная концепция одураченного дьявола также сохранилась — вплоть до наших дней фольклористы находят образ обманутого беса во множестве источников. Подобно Рабле, передовые умы склоняли голову перед бурей, однако избегали напяливать на себя новые одежды воинствующего христианства. Согласно материалам исследования Рене Пентара, парижские эрудиты-либертены, желая избежать гонений, приняли стратегию «двойного стандарта». Соблюдая все внешние приличия, ревностно посещая церковь и исполняя все ее предписания и законы, они тайно обсуждали между собой вещи сугубо нечестивые с точки зрения ортодоксов17.
1640-е гг. стали поворотным этапом для мира интеллектуалов. В то время как Декарт остается привязанным к метафизике — доказывает существование Бога через идею совершенства — Мерсен 49 и его коллеги, хотя нигде об этом четко и не пишут, отказывают метафизике в научном приоритете. В 1641 г. от сторонников картезианской философии отходит Гассенди. Картезианство, ускользнув от опеки своего создателя, оплодотворяет новое научное мышление и, пройдя через кризисы и трудности, окончательно оформляется в 1640—1670-е гг., чтобы потом поляризоваться вокруг нескольких громких имен: Ньютона, Спинозы и Лейбница18. Распространившийся в узких кругах философский скептицизм, тесно связанный с возникновением нового научного мышления, в 1660-1670 -х гг. начинает выдвигать йдёю,~согласно которой демон является всего лишь символом Зла, наличествующего в самом человеческом существе19. Догматизм новых мыслителей зачастую нисколько не уступает догматизму их противников. Становление новых философов происходит в мире, еще не успевшем полностью расстаться с магическим прошлым: Ньютон, к примеру, страстно увлекается астрологией. Доводы тогдашних ученых могут удивить читателя XXI в. Например, теория познания Лейбница очевидно отмечена влиянием метафизики и схоластики: считая, что естественный разум обладает способностью к познанию, он вместе с тем уверен, что Божественное откровение также обладает знанием, причем выходящим далеко за пределы естественного разума; далее же ученый утверждает, что все должно быть подчинено разуму. Но, несмотря на отсутствие стройности в теории, именно сторонники научного рационализма принудили своих противников начать дискуссию о дьяволе. Отделяя порядок естественный от порядка сверхъестественного, иезуиты принялись защищать науку и метафизику как две различные сферы20. Прежний примат догмата дал трещину, в XVIII столетии превратившуюся в пропасть. Защитники прежнего порядка и реально существующего дьявола безошибочно почувствовали угрозу. Они быстро сообразили, что согласие с теми, кто считает демона всего лишь иллюзией, грозит ослаблением веры в целом. Развязанная задолго до конца старого порядка активная полемика, с помощью которой пытались отсрочить лишение религии ее драматического аспекта, бушевала, скорее всего, до самой Революции 1789 года.
В Англии около 1646 г. один писатель проницательно заметил, что, если бы люди поверили, что дьявола не существует, они бы незамедлительно усомнились и в существовании Бога. В 1635 г. некий островной скептик заявил, что поверит всуществование Бога только в том случае, если ему покажут дьявола. В самом деле, оба понятия тесно наслаивались друг на друга наподобие черепицы. Кейт Томас утверждал, что «имманентный дьявол был существенным дополнением идеи имманентного Бога»21. Когда тему дьявола, наконец, подхватывают драматурги, это означает, что она отвечает чаяниям публики. На английской сцене воплотить дьявола пытаются с начала XVII в.: в 1608 г. поставлен «Белый дьявол» Вебстера, где в дурных поступках героев виноват человеческий разум, а не Сатана. Бен Джонсон (1572—1637) в пьесе «Дьявол в дурацком положении» также показывает людские безумства22. В пьесах Шекспира демон уже ведет себя вполне скромно. А Кристофер Марло в «Трагической истории доктора Фауста» (1588) привлекает внимание к своему герою, когда тот делает отчаянную попытку вырваться за пределы предначертанной человеку участи.
Покидая область собственно теологии и входя в сферы философии и литературы, демон терял: свою реальность. Декарт считал, что Бог, сотворив мир и его естественные законы, затем покинул его, предоставив ему функционировать самостоятельно, и более никогда в него не вмешивался. Мы познаем духовный мир только посредством откровения, заставляющего нас соглашаться с воплощением Христа, существованием ангелов и дьявола, однако никто не в силах заставить нас признать их влияние, пусть даже минимальное, на природу23. Демон не может существовать в реальности, однако он существует, и его основная функция заключается в том, чтобы обманывать человека, и в частности лишать его способности познавать этот мир. В целом гипотеза о существовании дьявола позволяет отчленить реальное от того, что только кажется таковым. В соответствии с этим постулатом Эрнст Гельнер полагает, что вся посткартезианская философия находит свое единство в демоне, который таким образом становится изобретением Декарта, в то время как современники философа в демона верят. В первое время после ухода Декарта, добавляет он, продолжатели его полагали, что Лукавый является нашим собственным духом. Еще одна существенная теория, чье появление было подготовлено Локком, Юмом, а возможно имплицитно и Кантом, или, по крайней мере, ставшая после Канта доминантной, определяет дьявола как саму историю, иными словами, как проявление человеческого разума в целом. Согласно Дарвину, на третьем этапе эволюции к демону истории присоединились демон природы и демон языка. Новая философия, начало которой положило методологическое сомнение Декарта, произвела таким образом идентификацию дьявола с духом, с историей, с биологической природой, с бессознательным и с речью24. Проникая по мере усиления позиций науки в постоянно расширяющиеся круги людей образованных, эти взгляды питали принявшее активный характер движение за освобождение из тисков демона. Проблема Зла медленно приобретала личностное измерение. В четвертой части своего «Рассуждения о методе» Декарт объясняет, что заблуждение, постоянная тайна происходит не от божества, которое, на его взгляд, скорее, к нам благосклонно, а от наших собственных ошибок, потому что мы пытаемся простереть нашу волю за пределы ясных и четких идей25. Boпpoс о коллективной ответственности под взором грозного Бога, дозволяющего хозяйничать Сатане, чтобы тот наказал человечество, уступает место ответственности индивида перед самим собой. Виновность становится делом совести каждого. Нагой человек стоит в пустом универсуме, вооруженный своим единственным методологическим сомнением, и больше не может обвинять ни Бога, ни дьявола в том, что они портят ему жизнь, ибо он один ответственен за свои несчастья. К такому заключению приходит Декарт в работе «Диоптрика», опубликованной в 1637 г.: разочарованный, утративший прежние магические искусства человек взором своим вырывается за пределы окружающего его мира, вычерпывая до дна каждый образ, не оставляя ничего странного ни на небе, ни на земле, отбросив даже воображение и взяв на вооружение одну лишь идею, понятную исключительно душе, но никак не телу, обретает единственную опору в мысли, cogito ergo sum26.
Ни выдающиеся, ни даже великие мыслители не могут в одиночку изменить доминирующие тенденции своей эпохи. Декарт явился в то самое время, когда подошла пора избавляться от мрачной покорности судьбе, позиции, доминировавшей на протяжении предшествующих десятилетий огня и крови. Приход Декарта вполне вписывается в продолжительный процесс повышения роли индивидуального сознания в борьбе против тирании истин, навязанных под угрозой жестоких репрессий. «Снисходительное» божество гуманистов появляется вновь, готовое преградить дорогу разбушевавшемуся августинианскому детерминизму века святых во Франции и практике суровых мер, применяемых к отступникам протестантами Англии и Соединенных Провинций. Стоило Западной Европе потушить свои костры, как вновь пошла в гору торговля, создавая предпосылки для процветания континента в XVIII в. Социальный состав общества чрезвычайно разнообразен, поэтому только меньшинству удастся в полной мере воспользоваться этой благоприятной обстановкой; все же мелкие городские обыватели и часть крестьянства тоже получат право на крохи с пиршественного стола, и прежде всего в таких динамично развивающихся странах, как Франция, Англия и Соединенные Провинции. Эволюция, сначала медленная, а с наступлением эпохи философов начавшая набирать темпы, сыграла важную роль в ускоренном устранении фигуры демона, по крайней мере из воображаемого мира городского населения, численность которого неуклонно увеличивалась.
Идеи счастья и прогресса подрывали фундамент трагической диалектики. Более того, повседневная жизнь стала менее жестокой, а для некоторых даже радостной, она вновь порождала желание жить и отвращение к проповедям, убеждавшим готовиться к смерти уже сейчас, так как жизнь задумана исключительно как существование в юдоли слез под железной дланью Лукавого и гневным взором сурового Бога. Теперь между государством, экономикой и культурой в широком смысле этого термина существуют интенсивные контакты, охватывающие весь комплекс религиозных феноменов. С XVII в. формируется знаменитый французский вкус, определивший сам себя как оригинальный по отношению ко вкусам других стран. Леора Аусландер даже напоминает о давней исторической ассоциации между понятием национальности и вещами, это понятие окружающими: «Люди существуют через свои вещи»27. Не имея достаточных оснований говорить об обществе потребления применительно к XVIII в., ибо признаки такого общества пока нигде не выражены достаточно отчетливо, за исключением, быть может, Парижа28, новые отношения, установленные людьми с окружающей их в повседневной жизни обстановкой, с их собственным телом свидетельствуют о коренных изменениях в этой области. Тяга к дорогим удовольствиям, забота о гигиене, развитие медицины, отступление смерти, поиски новых эмоций, возросшее потребление возбуждающих напитков, таких, как шоколад, чай и кофе, более свободное сексуальное поведение — все эти признаки наряду со многими другими отражают всплеск гедонистического отношения к жизни. Ограниченный социальными рамками — участь стоящих на самой нижней ступеньке общества практически нее претерпевает изменений в лучшую сторону — гедонизм подрывает основы сурового христианства, воцарившегося в начале века минувшего. Теперь круг сторонников строгого христианского учения сводится к добровольным адептам, более не способным повсеместно насаждать свои идеи, поэтому многие верующие, воспользовавшись относительным освобождением из тисков моральных и религиозных принуждений, начинают сами выбирать себе форму богопочитания и тип коллежа для своего ребенка. Вовлеченный в игру спроса и предложения, как экономическую, так и культурную, Сатана вынужден адаптироваться к новым требованиям. Сужение религиозной сферы влияния происходит за счет конкуренции со стороны сферы домашнего очага и частной жизни, робким шагом выступает на сцену определенное право хранить тайну совести, и в частности в сексуальной сфере; всеобщее ослабление давления церкви затрагивает даже крестьянские слои, хотя применительно к крестьянам очень многое зависит от конкретного региона и влияния извне. Вновь появляются исчезнувшие было народные верования, магические практики, которые многие считали окончательно уничтоженными, разнообразные суеверия, с которыми церковь вела ожесточенную борьбу. Унифицированный образ Люцифера начинает дробиться, одновременно обретая некоторые из своих прежних граней, хорошо знакомых и амбивалентных. Совсем не всесильный и нисколько не ужасный бес теперь помогает искать сокровища и готовить любовные зелья, он больше не подставляет свое хрупкое плечо тревожному образу грозного Бога, тесно связанного с повелителем ведьм и преисподней.
Дьявол в отсутствие своих чар
С конца XVII в. каждый по-своему видит стоящего у его дверей дьявола — в том виде, который его больше всего устраивает. Разумеется, Сатана утратил авторитет в глазах отнюдь не всего населения: множество преемников демонологов прошлого продолжают вещать о его грозном присутствии в этом мире и вести полемику со своими все более многочисленными противниками. Покинув почву социальных практик, дьявол бежит в мир мифов и символов, а также в Польшу, Венгрию и в португальский трибунал в Коимбре, иначе говоря туда, где в XVIII в. практика ведовских процессов пребывает в самом разгаре29. Во Франции в июле 1682 г. Людовик XIV, Кольбер и Лувуа подписывают эдикт, положивший, хотя и не без оговорок, конец судебным преследованиям колдунов. Определение «так называемая магия» имплицитно содержит отрицание договора с Сатаной и шабаша, хотя и не заявляет об этом конкретно; однако если совершено святотатство или отравление, виновному выносится смертный приговор. В остальном же прорицатели, маги и чародеи представлены в нем как повелители иллюзий, наиболее суровой карой для которых может стать только изгнание30. Основная заслуга этого документа заключается в том, что он, в сущности, предписывал новое отношение к обвинениям в ведовстве как членам провинциальных парламентов, так и нижестоящим судьям, большей частью колеблющихся и по-прежнему убежденных в реальности вмешательства дьявола в дела этого мира и в крайней опасности, представляемой сторонниками Сатаны.
Незадолго до подписания вышеуказанного эдикта, в 1667 г., Джон Мильтон создал «Потерянный рай», обширную библейскую эпопею, где вывел на сцену Люцифера, традиционного и в то же время отличного от прежнего, сбросившего иго авторитарного Бога и громогласно заявившего о своем неповиновении: «Лучше править в аду, чем прислуживать на небе»31. Однако когда речь заходит о присутствии нечистого, не следует жестко разграничивать лагерь традиционалистов и лагерь новаторов. Надя Минерва справедливо замечает, что в обоих лагерях были как экстремисты, так и умеренные32. Фрагментация образа дьявола очевидна; он словно приспосабливался к множеству разнообразных общественных сред, сохраняя, в зависимости от конкретных условий, либо все свое устрашающее прошлое, либо только часть его, или же, напротив, оставляя исключительно рациональное видение. Между далеким Божеством, благожелательным, согласно рациональному видению мира, и имманентно грозным, простирающим свою карающую длань над грешниками, существует множество иных образов, в том числе и мировая пустота атеистов. Так же и дьявол имеет множество своих ипостасей: это и смутный принцип, и темная часть всех живых существ, и лукавый домашний дух, и зловонный демон с раздвоенным копытом. Некоторые с легкостью готовы видеть в нем мастера устраивать всяческие каверзы и метаморфозы. Но по сути, Лукавый никогда не существовал без человека, который выдумывает его и наделяет различными обликами.
Начиная с 1640-х гг. главным заметным новшеством в области формирования образа дьявола являются разнообразные и хаотические процессы, приводящие к интериоризации понятия демона. До сих пор у подавляющей части людей преобладало конкретное представление, основанное на устрашающих образах, усиленных трагическими историями, упорно утверждавшими истинность присутствия в этом мире Сатаны, способного принимать самые различные формы. Постепенно сторонники этого взгляда изрядно сократились в числе, образовав ничем не примечательное мировоззренческое течение, одно из многих. Все еще сильное в XVIII в., в дальнейшем оно идет исключительно на убыль. Внутренние же представления, наоборот, множатся, и связано это с поисками тревожной части человеческого разума, стремлением разобраться в причинах Зла и заблуждений, не ставя при этом под сомнение благорасположение Господа или, на крайний случай, констатируя его равнодушие. С этой интроспекции начинается возвращение к главным экзистенциальным вопросам: к сознанию и разуму. В процессе постижения внутреннего мира множество знаковых символов утрачивают свое значение, так как Бог и дьявол перестают быть постоянно действующими, активными величинам человеческого универсума. Повышается роль медицины и естественных наук, концентрирующих внимание на тайнах человеческого тела, анатомии и физиологии человека, на его кровообращении. Существенный удар по гордыне демона был нанесен новыми понятиями, пришедшими на смену гуморальной теории. После отделения телесного микрокосма от макрокосма вселенной отпала необходимость в сверхъестественном связном между этими двумя мирами. Для людей науки вселенная, наполненная невидимыми душами, сверхъестественными силами и исполненными значения символами, себя исчерпала. И только поэты и литераторы еще долго сохраняют трепетную привязанность к мирами символов, всегда открытых навстречу мечтам и фантазмам. Их непрерывное взаимодействие с вымышленным миром нередко воздвигало преграду на пути воинствующего рационализма, предохраняя от угрозы чрезмерного увлечения самоанализом, способным завести субъекта в дебри подсознания и выведать о себе то, что ему знать вовсе не желательно. И хотя дьявол все больше приобретал человеческий облик, мрачная часть его по-прежнему достаточно активно участвовала в жизни людей. Она нашла себе прибежище в том, что мы именуем воображаемым в культуре, литературе и художественном творчестве, в невесомом онирическом универсуме, противостоящем воображаемому социальному, где есть место уверенности в реальности шабаша, порождавшей прежде великую охоту на ведьм. Иными словами, демонический миф уменьшился в объеме, прекратив стимулировать практику преследований колдунов и многочисленные смерти на костре, сначала в Западной Европе, а затем и на всем континенте. Сокращение сферы влияния дьявольской мифологии непосредственно связано с неуклонным расширением интеллектуальной сферы деятельности, постепенно становившейся автономной по отношению к властям политическим и религиозным. Во Франции публичное поле для интеллектуальной деятельности, признанное место обмена символически значимой информацией между членами различных высших социальных групп, стало формироваться при Людовике XIII, а не в XVIII в., как это считал Юрген Хабермас33. К 1660 г. сложился круг читателей, «людей светских, численностью от восьми до десяти тысяч», из них около 3000 проживали в Париже34. Это прежде всего завсегдатаи салонов, где обсуждаются новые идеи; среди них немало дворян, церковников, богатых и средних буржуа, а также женщин — и остроумных, и жеманных, причем последние далеко не всегда оказываются смешными. Именно этот круг создает моду на литературные произведения. И, как уже отмечалось, после 1640 г. трагические истории в этом кругу более не пользуются популярностью35. В данном публичном пространстве сумерки дьявола были самыми ранними: именно в нем было положено начало эволюции взглядов судей Парижского парламента, в нем были посеяны глубокие подозрения относительно нелепости обвинений в колдовстве, по-прежнему во множестве выдвигавшихся низшими судебными инстанциями. Тем не менее узость этой среды по сравнению с огромной аудиторией устной культуры и даже культурой любителей насыщенной чудесами народной литературы, также имевшей большее распространение, позволяет понять медлительность отступления образа ужасного демона. Есть основания полагать, что изменения, происходившие в культурном пространстве, затронули и специфические слои публики, например 60 000 учащихся коллежей и 50 000 зрителей парижских театров. Однако во всем, что касалось дьявола, речи иезуитов, контролировавших большую часть учебных заведений, оставались традиционными, направленными на внушение юным душам отвращения к искушениям Сатаны. Но когда данные об эпохе не отличаются точностью, следует с большой осторожностью говорить о начале отступления дьявола. Этим отступлением были затронуты в лучшем случае несколько десятков тысяч лиц, в то время как два десятка миллионов французов по-прежнему — в большей или меньшей степени — придерживались традиционных воззрений на реальное и перманентное присутствие в этом мире Сатаны. Публичная сфера неуклонно расширялась, завоевывая требуемое ей пространство. Отражая, в сущности, все еще двойственную ситуацию, эдикт 1682 г. тем не менее поддерживал позицию усомнившихся. В салонах, в академиях, в газетах все чаще велись интеллектуальные и научные дискуссии. Человек чести, умеющий владеть своим телом и своими побуждениями, придворный, получивший блестящее воспитание и умеющий соблюдать жесткие правила этикета37, был менее подвержен страху перед чертом, чем его предки. Самоконтроль придал индивиду большую уверенность в стабильности миропорядка, управляемого Божественными законами, которые на земле проводит наместник Создателя — абсолютный монарх. Барокко уступило место классицизму, религиозное напряжение воинствующей Контрреформации пошло на спад. Точнее, ушло на периферию французского общества, выразившись в происках святош, проповедях янсенистов и приверженцев воинствующего августинианства. И есть все основания полагать, что образ Короля-Солнца, чья власть поистине не имела границ, просто не мог не отразиться на сложившемся во Франции представлении о Господе. Став более трансцендентным, образ этот способствовал отступлению дьявольской имманентности, тесно связанной с суровым Богом, пристально наблюдающим за людскими деяниями.
Христиане, твердые в вере, но желавшие исповедовать менее тревожную религию, в гораздо большей степени, нежели скептики, способствовали затушевыванию образа Князя Тьмы. В Соединенных Провинциях теолог Бальтазар Беккер (1634—1698), ученик Декарта, издал полемический труд, отрицавший существование дьявола: «Зачарованный мир, или Проверка всеобщих чувств относительно духов, их природы, их власти, их предназначения и их действий»38. В этом объемном четырехтомном компендиуме, впервые опубликованном в 1691 г., а вскоре, в 1694 г., изданном и на французском языке, приводятся многочисленные примеры магических верований, равно как и верований в дьявола, причем в краю, считавшемся в те времена образцовым во всем, что касалось терпимости и обновления религии. Автор с первых же страниц заявляет о своих чаяниях:
Я намерен восстановить славу могущественного и мудрого Суверена, Властелина Мира [Бога], ибо славу эту у него похитили и вручили ее дьяволу. Но я изгоняю из мировых пределов сие отвратительное создание и запираю его в аду.
Сознавая, что подставляет фланг под удар противника, готового яростно наброситься на нечестивца, он заранее опровергает их обвинения.
В этом мире нет никого, кто был бы так далек от мысли о безбожии, кто был бы так убежден в подлинности Священного Писания и кто с таким усердием был бы расположен возносить Господу хвалу и уважение, коими мы ему обязаны, нежели те, кто подобно мне, противостоят привычной вере в могущество и прочие свойства дьявола54.
Не отрицая безоговорочно существование демона, Беккер тем не менее отправляет его во вневременной адский универсум, откуда выбраться тот не может; в этом он разделяет мнение Декарта, полагавшего, что реальный демон существует как принцип, не имея возможности конкретно воздействовать на мир:
Возможно, сие покажется неожиданным, но я полагаю Дьявола существом никчемным и нисколько не всевластным. Ведь мы потому зашли так далеко, что стали полагать делом почти богоугодным приписывать Дьяволу множество чудесных деяний, а тех, кто не может поверить в эти деяния Дьявола, несмотря на то что деяниям сим якобы имеются тысячи свидетелей, тех — держат за дерзких и нечестивых. И получается теперь, что человек благочестивый обязан благочестие свое сочетать со страхом перед Господом и страхом перед Дьяволом. А если кто дерзнет выразить противоречие сему мнению, тотчас прослывет атеистом, то есть тем, кто отрицает существование Бога, хотя на деле вся его вина состоит в том, что не верит он в существование двух божественных образов, один из которых хороший, а другой дурной40.
Подобная речь вызвала настоящий скандал. В 1692 г. автор ее был лишен своего прихода. Взамен он снискал уважение философов, и в частности Вольтера, с радостью посвятившего этому «великому врагу вечного ада и дьявола» заметку в своем «Философском словаре», где в заключении саркастически заметил, что если бы Бальтазар Беккер решил подстричь дьяволу когти, все бы с радостью встретили это известие; но стоило кюре пожелать уничтожить дьявола, как его тотчас лишили прихода»41.
Под пером авторов, считавших себя истинными христианами, демон вполне мог быть низведен до уровня концепции задолго до утверждения высоких идей Просвещения. Первой «питательной почвой» для этих идеи в конце XVII в. стали известные своей религиозной терпимостью Соединенные Провинции 50 и Англия. Хотя, как уже было отмечено, когда мы говорили о Беккере, сторонники вездесущего дьявола во плоти тоже не дремали. Из Англии прибыла «История дьявола», принадлежавшая перу плодовитого Даниэля Дефо. Переведенная на французский в 1729 г., она была опубликована в Амстердаме, вдали от бдительного ока королевских цензоров Людовика XV42. Родившись в пресвитерианской семье, знаменитый автор «Жизни и удивительных приключений Робинзона Крузо» (1719) и «Молль Флендерс» (1722) заслужил репутацию человека, который одним из первых заставил выслушать голос средней буржуазии — в своем труде «Совершенный английский негоциант» (1725—1727). Моралист, противник догматики и нетерпимости, которые он подвергает яростным нападкам в сочинении под названием «Простейший способ разделаться с раскольниками» (1702), Дефо столь же безжалостно расправляется с ними и в своих художественных произведениях. Робинзон является яркой иллюстрацией роли Провидения: оно поддерживает героя и не дает ему впасть в отчаяние. История дьявола написана Дефо в достаточно ироническом тоне, однако без перегибов; автор не отказывается признавать существования Князя Тьмы. В первом томе он излагает историю Сатаны после его изгнания с неба, второй том посвящен поведению Дьявола «вплоть до наших дней». Прямо и без обиняков Дефо заявляет, что дьявол подчинен Господу: «это настоящий верующий», ибо он и в самом деле «боится Господа». Он приводит многочисленные имена, полученные Лукавым в Писании: Змий, Великий Красный Дракон, Обвинитель, Враг, Велиар, Вельзевул, Мамона, Люцифер, Авадон, Аполион, Дух блуда, Дух нечистый, Дух лукавый. Искуситель, Аспид, Змий медный, Князь, господствующий в воздухе, Утренняя звезда51, Бог этого мира. Приводя множество цитат из Мильтона, он критикует его видение проблемы. Всесторонне подойдя к рассмотрению вопроса, он, затрагивая, к примеру, форму, пытается разобраться, отчего Сатана предпочитает принимать облик именно козла. Долгое рассуждение о раздвоенном козлином копыте не мешает автору сделать вывод, что, на его взгляд, «дьявола следовало бы причислить к кошкам». Из произведения Дефо напрашиваются два важных вывода. Выстроившись в один ряд с аргументами Беккера, первый вывод состоит в том, что власть дьявола над человеком ограниченна, так как дьявол «не сумеет ни предотвратить нашу погибель, ни ускорить ее». Автор полагает необходимым заменить религиозную философию, внушающую грешникам чувство виновности, поддерживаемое страхом перед адскими муками после смерти, философией менее мрачной: «Я не нахожу ничего более достойного насмешки, чем понятия, относящиеся к аду и мукам, которые дьявол причиняет душам». Второй вывод гласит, что Лукавый воздействует на самые глубины человеческого духа. С долей иронии, прикинув возможную ответственность в европейском масштабе, Дефо все же решается упомянуть ряд дьявольских персонажей: кровавого герцога Альбу (боровшегося с нидерландскими мятежниками в годы правления Филиппа II), негодяя Бэкингема, лживого и лицемерного политика, каким показал себя Ришелье, предателя Мазарини, скупого лорда Мальборо43. Подобно Локку и Юму, и задолго до Канта, он образом, прокладывает путь к определению дьявола как движущей силы истории44. Во всяком случае, он очевидно хочет убедить среднего англичанина, что следует гораздо больше бояться коварства великих людей, нежели какого-то там ада, нарисованного в весьма забавном свете его почитателями.
В XVIII в, изменениям подвергается сознание самих теологов. Наиболее передовые в ответ на критику философов утверждают, что пришествие Христа положило конец царству Сатаны. Некоторые прибегают к сложному пируэту, известному прежде и по сути никогда не уходившему в область забвения, а именно, что высшая хитрость дьявола заключается в его умении убедить нас, что он не существует. Другие выбирают тропу посредине, и, готовые в чем-то поступиться своими убеждениями, стараются, оставаясь верными традиции, одновременно следить за необходимой, на их взгляд, эволюцией идей. Такой пример дает нам ученый бенедиктинец дом Кальме, чья «Диссертация о явлениях духов» (1746) вызвала множество замечаний, на которые он с удовольствием ответил в «Трактате» на ту же самую тему, написанном в 1751 г. Существование зачарованного мира, в котором уже усомнился Беккер, вызывало все больше сомнений у сторонников многогранного учения скептиков. Но адепты сверхъестественных сил не намеревались слагать оружие без боя. Активная борьба за контроль над воображаемым, где царит дьявол, разворачивалась на протяжении всего XVIII столетия.
Символическая перемена: от Сатаны к Мефистофелю
Мефистофель, дьявол из «Фауста» Гете, сочинения, начатого в 1808 г. и завершенного в 1832 г., сохраняет отдельные черты прежнего черта, и в частности раздвоенное копыто, которое ему приходится прятать в башмаке, однако ни рогов, ни хвоста у него нет: по существу, он превратился в темную ипостась мыслящего субъекта. Автор наделяет его всеми основными чертами, полученными им в результате эволюции, начавшейся в середине XVII в. и ускорившей свои темпы в 1720—1730 гг. Несмотря на яростное сопротивление своих защитников, инфернальный Сатана проиграл партию демону более привычному, связанному непосредственно с каждым смертным: ведь ад — это прежде всего ты сам, как все чаще заявляют художники и писатели, исследующие глубины человеческой натуры. Символический переход от старого образа нечистого к новому осуществляется достаточно плавно и сопровождается бесчисленными диспутами, теологическими и прочими учеными дискуссиями. Приходилось ждать, пока медицина и рационализм философов выгонят сторонников существования Люцифера из возведенных ими крепостных стен, в то время как непринужденный литературный вымысел, завладев темою, своими собственными средствами постарается максимально лишить ее драматического аспекта. Оба движения параллельно — хотя и не синхронно — шли в одном направлении — к формированию очищенной от примесей дьявольской мифологии, которой, как в игровой, так и в онирической 52 форме, предстояло стать главной темой западной культуры вплоть до наших дней.
Однако серьезные дебаты по интересующему нас поводу будут оставаться острыми и оживленными на протяжении всего XVIII в. Излюбленным вопросом поддерживавшим к ним интерес, был вопрос о колдовстве: библиография, опубликованная в 1900 г., насчитывает не менее 122 французских названий работ по этой теме46. Более трети публикаций вышли на протяжении третьего и четвертого десятилетий восемнадцатого века, затем, к 1770 г., число их резко сокращается, и за три последних десятилетия века издается не более 10% от числа всех предыдущих сочинений. Социальное происхождение примерно половины авторов не поддается определению, одну треть естественным образом составляют клирики, судей довольно мало, врачей всего 7. Дебаты ведутся вокруг небольшого числа значимых тем. В начале века критикуют «Историю оракулов» 53 Фонтенеля, изданную в 1687 г.: в частности, в 1707 и 1708 гг. выходят «Ответ Фонтенелю, автору “Истории оракулов”» и «Продолжение ответа автору “Истории оракулов”» отца Балтюса. Бейль публикует «Ответ на вопросы провинциала» (1704). В это же самое время критики яростно обрушиваются на Беккера. Начальник парижской полиции Рене Вуайе граф д’Аржансон в 1702 г. пишет записку, направленную против «лживых колдунов и так называемых прорицателей»47. Описывая 19 групп организованных шарлатанов, представляющих угрозу для религии и общественного порядка, он подтверждает, что шарлатаны эти находят множество легковерных клиентов, убежденных в действенности дьявольских возможностей и сатанинских практик. Хотя охота на колдунов с 1682 г. уже не ведется, тем не менее значительная часть населения Парижа была привержена магическим верованиям, равно как и традиционным представлениям о демоне и его делах. С 1678-го по 1710 г. в тюрьму Сальпетриер по обвинению в колдовстве, прорицательстве и злоупотреблении доверчивостью публики было заключено 27 женщин, что свидетельствует о стремлении властей сдержать тревожный процесс. Среди 300 женщин, содержавшихся в этой тюрьме-приюте, контингент колдуний и прорицательниц занимал второе место по численности, уступив первое развратницам и проституткам — 133 женщины, изрядно опередив воровок — 17 женщин. Из 27 осужденных 4 выходят на свободу, пробыв в тюрьме меньше года, 9 пребывают в заключении более двух лет, а 2 — соответственно шесть и десять лет; продолжительность пребывания в тюрьме оставшихся неизвестна48. За осужденными за колдовство д’Аржансон наблюдает пристально и с особым интересом: похоже, он сам не слишком уповает на разум, побудивший в 1682 г. принять декрет, согласно которому колдовство перестало считаться преступлением. Верный слуга закона, он, похоже, опасается дьявола больше, чем угрозы подрыва общественного порядка. А вдруг тень дьявола еще не полностью исчезла с горизонта? Тут никогда не угадаешь...
Первое десятилетие XVIII в.во Франции отмечено оживленной полемикой о возможностях демона. До сих пор монополия на истину в последней инстанции в этом вопросе принадлежала теологической мысли, теперь же точку зрения теологов с разных сторон оспаривают люди самых разных взглядов: пастор Бальтазар Беккер, воспитанный иезуитами протестант Пьер Бейль, член Французской Академии Фонтенель, ораторианец Пьер Лебрен, издавший в 1702 г. «Критическую историю обрядов и суеверий, привлекавших простой народ и изумлявших ученых мужей, с изложением методов и принципов, применяемых для распознавания результатов естественных, в отличие от результатов, кои таковыми не являются».
Академия наук одобряет сочинение Лебрена, о нем похвально отозвались Фонтенель и Мальбранш. Journal des savants за 1702 г. также положительно оценивает сочинение Лебрена и одновременно сожалеет, что до сих пор «тысячи людей каждодневно видят то, чего они видеть никак не могут»49. Начавшийся в конце XVII в. кризис европейского сознания с особой силой затронул научную среду. По всем вопросам, касавшимся дьявола, споры между сторонниками старых и новых взглядов становятся все более ожесточенными; подобный процесс наблюдается и в литературной среде. Сторонники традиционной демонологии отвечают ударом на удар, и не только яростной критикой новых идей, но и переизданием таких авторитетных сочинений, как «Трактат о суевериях» аббата Жана-Батиста Тьера, написанный в 1679 г.: в 1703 г. трактат обретает вторую молодость. Вот уже более полувека, как трагический жанр не пользуется популярностью, и тем не менее в 1700 г. вновь издаются «Трагические истории» Россе.
Можно сказать, что первый большой шаг в сторону онирического образ дьявол делает в самом конце царствования Людовика XIV. Но в то время это осознает только интеллектуальное меньшинство. Именно оно противостоит демонологам, которые, опираясь на христианские традиции, непреходящий характер народных магических верований, а также пользуясь определенной шаткостью взглядов властей, хорошо заметной в позиции начальника парижской полиции д’Аржансона, по-прежнему сохраняют свое влияние. Провинциальные парламенты, как например парламент Руана, также склонны придерживаться традиций, и с большой сдержанностью применяют эдикт 1682 г. Название анонимного сочинения, вышедшего в 1717 г. в Руане, провозглашает прежние истины: «Рассуждения о том, что гласят догмы и мораль об искушениях дьявола, а также о том, что Писание и Отцы церкви сообщают нам о его силе, равно как и о могуществе власти духов тьмы, об их бесчинствах и ярости, а также об их всевозможных уловках, направленных во вред человеку, и о верных средствах защиты от них». В то время, когда церковь диктует свои законы во всех сферах человеческой жизни, «скептикам» требуется большое мужество, чтобы дерзнуть и начать пробивать брешь в ее учении о дьяволе. Путь разума далеко не везде усыпан розами. Дьявол по-прежнему внушает страх большинству населения: его навязчивый образ неизменно присутствует в проповедях, в катехизисе, в религиозном искусстве, в коллежах... И все же юмор и ирония, наличествующие как в литературных сочинения, так и в произведения искусства, начинают постепенно снижать драматический накал, окружающий фигуру дьявола. Тема осмеянного дьявола не нова, она выпукло присутствовала в народных верованиях еще до начала охоты на ведьм, и теперь, когда преследования ведьм в основном прекратились, вновь обретает свое место. Ее появление в культурном универсуме начала XVIII столетия свидетельствует о существенном ущербе, нанесенном догматике демонологов критическими выступлениями полемистов. Насмешка, несерьезное отношение к тому, что еще несколько десятилетий назад наводило ужас, оставляют больше простора для сомнений, чем дискуссии эрудитов.
В 1710 г. доктор теологии аббат Лоран Борделон, публикует в Амстердаме первое издание своей «История сумасбродных фантазий господина Уфле, причиною коих стало чтение книг, где рассказывается о магии, гримуаре 54, об одержимых демоном, о колдунах, оборотнях, инкубах, суккубах и шабаше...»50 Герой книги, чье имя является анаграммой слова «безумец» (по-французски «ле фу», le fou) — это «бедолага», проведший «большую часть жизни в чтении книг о магии и колдовстве, а также о привидениях, призраках, оборотнях...» Автор дистанцируется от своего героя, утверждая, что тот «ни во что не верил так сильно, как в то, что другим казалось невероятным». Полемические намерения автора очевидны, тем более, что сочинение он благоразумно издал в Голландии; но заявляя, что публика в большинстве своем отличается от господина Уфле и привержена новыми идеями, он явно выдает желаемое за действительное. Борделон, исполнявший обязанности капеллана церкви Сент-Эсташ в Париже, не мог не знать, что в 1710 г. взгляды, в поддержку которых он выступал, еще не стали всеобщим достоянием. Плодовитый автор, выпустивший более тридцати сочинений о феях, людоедах, чародеях, призраках, он всегда писал в исключительно романической манере, уменьшая состояние тревоги читателя и тем самым благотворно на него воздействуя. Офорт Креспи, ставший иллюстрацией к «Господину Уфле» подтверждает правильность наших предположений. Офорт пародирует работу Яна Зниарко, украшавшую сочинение гонителя ведьм Пьера де Ланкра, вышедшее в 1613 г. У Креспи господин Уфле, изображенный в левом нижнем углу картин, и следующий за ним сумасшедший в костюме Адама являют собой «собрание колдунов, именуемое шабашем». В центре композиции на троне восседает Сатана. Рога, когти, хвост, покрытое шерстью тело, козлиные копыта напоминают традиционное изображение дьявола, однако рост у него вполне человеческий, а улыбка насмешливая. Колдуны и колдуньи одеты, многие женщины в модных чепцах. Изображение напоминает сцену из спектакля; исключительной театральностью отличаются позы красивых мускулистых демонов с рогами и крыльями, которые с любезным видом сидят за столиком и вместе со своей возлюбленной, пышно разодетой ведьмой, собираются разделить торжественную трапезу, состоящую из разложенных на блюде частей ребенка. Ужас, который должна вызывать эта сцена, смягчен насмешкой, равно как и ужас от созерцания котла, где варятся куски юных тел, которые тут же рядом старательно рубит серпом старая ведьма. Ироническая манера исполнения напоминает, что такого рода картины рождаются из достойных осмеяния галлюцинаций расстроенного ума51.
Немало художников эксплуатируют тему шабаша; к ним относится и мастер начала XVIII в, Клод Жилдо. «Это чародейство или наваждение?» — вопрошает сей режиссер-постановщик шабаша, смешавший на своей картине все жанры52. Два истерзанных тела, окруженные дьявольскими символами, изображены с несомненной иронией, отчасти даже пародийно. Демоны напоминают маски, действующие на сцене театра; особенно забавно смотрится забравшийся на лестницу рогатый Сатана; взбудораженный персонаж, напоминающий человека, но с ветвистыми, как у оленя, рогами, восседает на огромном скакуне. Слева от него довольно красивая дамочка, чуть- чуть полноватая, богато одетая, оседлала чей-то скелетик, явно принадлежащий животному из семейства лошадиных; на черепе скелетика, лицом к всаднику, взгромоздилась сова с развернутыми крыльями. Очевидный намек на древнюю тему рогоносца только усиливает насмешку. Ведь обманутый муж, на которого намекают раскидистые рога, обычно вынужден ехать на осле, являя всем свое несчастье. Неподалеку от парочки сидит маленький бес, однако распознать его можно только по копытам и маленьким рожкам; он с удовлетворением смотрится в зеркало, во много раз больше него самого. В центре композиции помещена смерть, бдительно приглядывающая за миром; однако выглядит эта смерть странновато: более всего она напоминает сидящую, скрестив ноги, мумию инки, завернутую в кусок ткани, два конца которого соединены на голове, так что видны только ее лишенное плоти лицо и глаза, пристально взирающие на зрителя. Сомневающийся, разочарованный, слишком похожий на человека дьявол больше не внушает страх. Позднее граф де Кейлюс воспримет урок Жилло и создаст «поклонение дьяволу», произведение откровенно дерзкое и свободное от каких-либо страхов. Обнаженные адепты дьявола размещены у него либо в традиционных позах, либо в нарочито подобострастных. Один из них наклоняется, чтобы поцеловать зад огромного козла, а тот в свою очередь, старается как можно больше повернуть голову, стремясь увидеть, как его целуют, отчего в позе его нет ни величия, ни элегантности. На первом плане восседает огромный кот, однако выглядит он вполне обыкновенно, и не пробуждает беспокойства53.
Переломным периодом в борьбе между демонологами и их противниками можно считать 1725—1740-е гг. В дальнейшем демонологи уже не смогут занять своего прежнего главенствующего положения; им останется всего лишь упорно, шаг за шагом, вплоть до наших дней, защищать свои идеи, переставшие находить поддержку в обществе. В 1725 г. врач из Кутанса Франсуа де Сент-Андре открыл прощальный бал дьявола публикацией «Избранных писем к друзьям по поводу магии, злоумышлений и колдунов. В письмах этих он объясняет, как достигать результатов самых что ни на есть удивительных, кои обычно приписывают демонам, а также доказывает, что способности сих демонов чаще всего не имеют к этим результатам никакого отношения»54. Адресуя свой труд прежде всего церковникам, судьям и врачам, он намеревался «раскрыть глаза тем, кто склонен излишне верить во всяческие дьявольские фокусы». Спустя пятьдесят лет после эдикта 1682 г., его сочинение пришлось как раз к месту: ринувшись в атаку во имя медицинского искусства, просветленного светом разума, автор окончательно прорывал линию обороны противника. Конечно, речь шла о разуме его эпохи, и логика этого разума — если судить с позиций XXI в. — оставляла желать лучшего. Но главное, сочинение это вызвало огромный резонанс, затронувший изменения в интеллектуальной сфере в целом, что само по себе было очень важно для тех, кто хотел разжать дьявольские тиски. Став рупором первопроходцев, автор его открыто формулирует постулаты, утвердить которые стремится все возрастающая часть культурного общества. Во-первых, он не отрицает вмешательства демона в дела этого мира, но ограничивает это вмешательство исключительно искушением, действующим на человеческое сознание; строго говоря, только изменение сознания и может привести к одержимости, дать дьяволу возможность завладеть собой. Ибо «Бог позволяет дьяволу действовать», но только в строго контролируемых Им самим границах: «Не думайте, что дозволение это постоянное или же данное на неопределенный срок. Господь дает его только в некоторых случаях, в некоторых обстоятельствах и на некоторое время, но как только воля Его исполнится, действие дозволения прекращается». Следуя такой логике, договор с Сатаной может и существует, однако имеет совершенно противоположный смысл, нежели утверждают демонологии: договор этот, наоборот, делает дьявола «рабом» чародея. И чародей может «вызывать» его для оказания услуг своим клиентам, хотя чаще всего дьявол всех обманывает; подобный аргумент позволяет примирить христианскую догму и гонения на так называемых колдунов. Составляя в 1702 г. свою записку, д’Аржансон, скорее всего, имел в виду как раз подобного рода ситуацию, а потому гораздо больше опасался лиц подозрительных, нежели явных мошенников. Сент-Андре не верит в шабаш, но изучая дела о колдовстве, заведенные в Нормандии, и среди них дело о ведовстве, случившемся в селении Ла-Э-дю-Пюи в 1669—1670 гг., допускает, что «эти несчастные действительно верили в то, что все они наделены даром колдовства, и что все они на самом делеотправились на шабаш»; по мнению Сент-Андре, такое заблуждение является, бесспорно, большим грехом, и за него следует карать отлучением. Отдав должное Господу, он утверждает, что во многих случаях действия, приписываемые демону, являются всего лишь «результатом искусства и природы». Прежде он говорил только о Создателе и его творениях, теперь появляется слово «природа» — и тотчас начинает совершать эволюцию в сторону относительной автономии, так как наука и медицина позволяют исследовать явления, которые сторонники зачарованного мира прежде безоговорочно связывали с проявлениями божественной воли. Речь идет о природе, поддающейся наблюдению, той, которая сдерживает «копьецо» молодожена и делает его неспособным к сексуальным контактам, той, которая порождает у жертв яда тарантула конвульсии, напоминающие конвульсии одержимых. Сегодня мы бы сказали, что Сент-Андре ищет физиологические и психологические объяснения фактам, которые многие продолжали списывать на счет могущества дьявола. Тем не менее как врач Сент-Андре не слишком доверчив, и отнюдь не современен: оставаясь данником медицины гуморов, он объясняет часть болезней воображения действием «паров черной желчи, а также испорченного семени...». Более того, касаясь феноменов, не объясненных медициной его времени, например, явлений духов умерших или передачи мыслей на расстоянии, он прибегает к «философии корпускул». Вызывание чародеями душ умерших основано, в его понимании, на «парах, испускаемых гниющими телами»; крохотные частицы этих паров проникают сквозь землю и собираются в воздухе «в той же последовательности, в какой они были расположены в телах, откуда они вышли». В сущности, это вполне мирный верующий, полагающий дьявола неким далеким существом, пребывающим под опекой трансцендентного Господа, и готовый объяснить все остальное, что есть на земле, с помощью медицины и науки. Врач начала эпохи Просвещения, он примиряет веру с философией, пытаясь произвести некий синтез, что по прошествии нескольких веков кажется нам неуклюжим и утомительным.
И все же позиция его породила бурю55. В 1731 г. Буасье издал «Сборник писем о колдовстве и чародействе, служащих ответом на письма сьера Сент-Андре...», где старательно оспаривал каждую из идей Сент-Андре, опираясь на возражения, направленные Людовику XIV в 1670 г. парламентом Руана по поводу дела в Ла-Э-дю-Пюи. В Нормандии не прислушивались к сладкоголосым парижским сиренам и невзирая на эдикт 1682 г. продолжали судить колдунов и адептов дьявола56. В других провинциях происходило то же самое. Демонология не сдавалась без боя. В 1732 г. еще один автор, Луи Дожи, в свою очередь предложил церковникам, судьям и врачам сочинение, кое, по его мнению, было крайне полезным: «Трактат о магии, чародействе, одержимости, вселении бесов и колдовстве, где раскрываются истина и реальность, а также изложены проверенные и простые методы по распознаванию истины». Многие тогдашние крупные ученые споры стали перерастать в полемику. В 1720 г. в, Нормандии, в селении Бюлли возле Невшателя некий кюре, объявивший себя экзорцистом и начавший производить операции над окрестными девушками, выражал недовольство не столько тем, что за девять месяцев умерло 260 девушек, среди которых 200 были еще девочками, а главным образом тем, что светские суды проявили себя «не слишком сообразительными и никак не могли поверить в действие магии». Его не стали выслушивать и в 1726 г. дело было закрыто. Примерно в 1730 г. в различных регионах одновременно запылало сразу несколько колдовских костров: похоже, сторонники демонологии, отвечая на аргументы Сент-Андре, стремились наверстать упущенное. В 1730 г. Ландах владелицы тамошнего замка девицы Лопарти стали выказывать все признаки дьявольской одержимости. Этот случай не был вынесен на рассмотрение трибунала, однако вплоть до 1738 г. по этому вопросу то и дело проводились консультации врачей и выходили критические памфлеты как отрицавшие одержимость, так и поддерживавшие ее. Самое громкое дело случилось в Провансе, в городе Тулоне. В 1729 г. некая Катрин Кадьер забеременела от отца-иезуита Жана-Батиста Жирара, но у нее случился выкидыш; после различных перипетий, в том числе и после заключения ее в монастырь урсулинок, Катрин Кадьер в 1731 г. обвинила своего бывшего исповедника в многочисленных преступлениях, и в частности, в ведовсте. Жирар в свою очередь притащил ее в суд и там предъявил свои претензии: он обвинил Катрин в том, что она притворялась и святой, и одержимой. Судьи потребовали приговорить девушку к смертной казни. Парламент в Эксе оправдал Жирара по всем пунктам обвинения, в том числе и по обвинению в ведовстве. Катрин же признали клеветницей, однако наказали всего лишь штрафом. Судя по изданным в Париже пяти десяткам записок, авторы которых выступали как за, так и против Кадьер и Жирара, процесс привлек к себе активное внимание общественности: брошюры и листовки, освещавшие процесс с различных сторон, распространялись как в столице, так и в Эксе «прилюдно, в местах публичных гуляний и у дверей театральных залов»57.
С 1725 г. борьба за главенство в воображаемом мире, где царствует дьявол, усиливается, о чем свидетельствуют множество ярких полемических выступлений: конфронтация сторонников сурового Бога с теми, кто решил отойти отчего, принимает невиданный прежде размах. Состав первых, похоже, был более гомогенным, нежели состав вторых, но не исключено, что причина заключается всего лишь в ретроспективной оценке. Во всяком случае, монополия на догму наконец-то рухнула. Часть христианских интеллектуалов принялись искать смягченные варианты веры. Во Франции, точнее, в католических странах в целом, подводили черту под решениями Тридентского собора и, вернувшись к некогда потерпевшему поражение мирному видению религии сторонниками Эразма, начинали пропагандировать оптимистические, гуманистические воззрения на природу человека. В Соединенных Провинциях по такому пути следовали кальвинисты-арминиане, противостоявшие гомаристам55. Тем не менее новые правила еще не сформировались: теология страха по-прежнему сохраняла свое могущество. Об этом свидетельствует полемика, разгоревшаяся во второй половине XVIII в., то есть в условиях торжества новых идей и активных выступлений философов против «суеверий». Начиная с 1746 г. из-под пера Августина Кальме стали одно за другим выпархивать сочинения, посвященные появлению ангелов, демонов, выходцев с того света и вампиров (вампиры происходили из Венгрии, Богемии, Моравии и Силезии). В 1764 г. аббат Эрвье де Лабуасьер опубликовал объемный «Трактат о чудесах, где рассмотрению подвергаются: 1 ) природа и способы распознавания чудес, дабы отличать чудеса истинные от чудес дьявольских, 2) зачем надобны чудеса, 3) как использовать чудеса», а следом, в 1767 г. вышла в свет «Защита трактата о чудесах от фанатиков». Однако начавшийся с 1780 г. дефицит новых демонологических сочинений (три издано до Революции, и пять на протяжении последнего десятилетия века) позволял сделать вывод, что в продолжительной борьбе, наконец, наступил перелом. Но демон еще не сказал своего последнего слова. Скрывшись в литературном пространстве, он ждал своего часа, чтобы вновь одержать верх и нанести удар христианской морали в самое сердце.
Дыхание вымысла
Исследование культурного воображаемого непростая задача. Воображаемое широких масс в основном ускользает от нас, так как представители их не оставляют в достаточном количестве письменных источников. Косвенное исследование, основанное на свидетельствах или описаниях, сделанных сторонними наблюдателями, в принципе возможно, но достаточно условно. Самый богатый материал поставляют судебные источники, особенно если суметь извлечь материал, касающийся непосредственно изучаемой среды, отделив его от точек зрения, сформулированных явно под влиянием людей образованных, которые ведут протоколы заседаний. Незначительное число ведовских процессов в XVIII в. как результат принятия эдикта 1682 г. 56 ограничивает материал, однако сведения о верованиях нередко можно почерпнуть и из материалов других процессов. В связи с этим., на наш взгляд, следует приложить максимальные усилия для изучения ментальных представлений именно элиты общества, а не народных масс. Разумеется, можно было бы ограничиться исследованием целенаправленных высказываний по данной теме, или же изучением полемики между противниками и сторонниками демонологии. Но в таком случае возникает риск принять за всеобъемлющую истину всего лишь верное решение, определившееся в процессе дебатов, подлинное значение которых зачастую от нас ускользает. Утверждения автора о том, что он пишет только истину, отнюдь не является доказательством его правдивости, особенно когда в век философов речь заходит о сочинениях, исполненных религиозного рвения. Желание избежать преследований или просто серьезных неприятностей заставляло многих авторов принимать соответствующие предосторожности, в том числе прибегать к сокрытию истины или наоборот, оспаривать свою приверженность определенным истинам, которые, если судить по его трудам, обладали для него достаточно важным значением. Был ли Сент-Андре на самом деле добрым католиком, или же он просто чувствовал себя обязанным об этом заявить, так как приход его располагался в Кутансе, регионе, где большинство населения верило в традиционные образы дьявола и колдуна, и где его сочинение вызвало настоящий скандал? Иключить подобный вариант мы не можем. Равно как и не можем ни опровергнуть Ги Патена, ни полностью согласиться с ним, когда он заявляет, что Жан Боден написал и в 1580 г. опубликовал свое жуткое пособие по борьбе с ведьмами исключительно с целью убедить общественность в своей непоколебимой вере в существование нечистой силы. Таким образом, осторожность требует рассмотрения одной и той же проблемы с разных точек зрения — разумеется, когда имеется такая возможность. Полемика по поводу предела власти дьявола позволяет сделать вывод, что пика дебаты достигали дважды — около 1700—1710 гг., а затем в 1725—1740 гг.; около 1750 г. последовал еще один небольшой всплеск, а в последнюю треть века споры эти и вовсе сошли на нет. Но если оставить в стороне дискуссии полемистов, можем ли мы утверждать, что вопрос этот имел, действительно, важное значение для людей образованных? Какое место — большое или незначительное — занимал демон в воображаемом мире повседневности?
Если нет прямой возможности исследовать души и сердца наших предков, можно попытаться сделать это, хотя бы косвенно, на основании сохранившихся сочинений и частоты употребления тех или иных вокабул, используемых авторами. Обнаружив в частных собраниях книги, посвященные магии и оккультным наукам, Даниэль Морне сделал из своего открытия скоропалительный вывод, утверждая, что владельцы этих собраний — дворяне, адвокаты и врачи — верили в дьявола. Макс Мильнер возразил: изобилие эзотерических сочинений не всегда отражает убеждения их владельцев, его можно трактовать и как признак метафизического беспокойства, и как штрих, подчеркивающий некое фольклорное любопытство к явлению, идущему по пути исчезновения58. Нельзя забывать и о тех книговладельцах, которые только покупали книги, но никогда их не читали, о коллекционерах, о книгах, переданных по наследству и т.п.
База данных текстов на французском языке, frantext, позволяет сделать ряд уточнений. На ее основании можно выделить группу примерно в 3000 текстов, отобранных на основании критерия частоты их появления в крупных библиографиях; большая часть этих текстов была использована при составления словаря Trésor de la langue française. Жанры, представленные по убывающей, распределились следующим образом: романы, пьесы, поэзия, мемуары, переписка, путевые заметки, памфлеты, ораторское искусство, трактаты и эссе по различным отраслям науки и ремесел. Выборка, составленная из изданий 1700—1800 гг., была обследована в соответствии с поставленной задачей: выяснить, как освещаются вопросы, связанные с колдовством и Сатаной59. В корпус отобранных текстов вошло 484 произведения, принадлежащие 168 авторам, из которых два анонима. Среди авторов чаще всего встречаются: Вольтер — 168 сочинений, Дидро — 32, Мариво — 22, и всего лишь 1 раз маркиз де Сад. Таким образом, классики явно пользуются популярностью, а вот авторы опусов, распространявшихся торговцами-книгоношами, составители брошюр и листовок и «страдальцы» из литературной богемы не представлены вовсе. Но в целом речь конечно же идет только о видимой верхушке айсберга «литературной республики», читателями которой были прежде всего «порядочные люди» и просвещенные личности XVIII в.
В отобранных нами произведениях тема демона не является ведущей, хотя нельзя сказать, что ею пренебрегают вовсе, тем более в интересующем нас времени, когда новые идеи интенсивно овладевают обществом. На основании системы отсылок, принятой в «Энциклопедии», Алан Масальски составил список из 33 терминов, и после обсуждения разделил его на несколько больших подгрупп. После проведения соответствующего обследования и подсчетов, получилось, что преобладают слова, обозначающие дьявола — они встретились соответственно 2605 раз, затем следуют 582 слова, относящихся к магии и 272 слова, относящихся к колдовству, то есть всего 3459 случаев употребления лексики, связанной с обозначением дьявола и важнейших понятий, с ним связанных, и это не считая ряда второстепенных терминов, таких, как, например, экзорцизм, также отражающих избранную нами тему и позволяющих довести число употреблений интересующей нас лексики до 3600. Довольно скромное число слов, относящихся к колдовству, вполне ожидаемо. Любопытно, что понятие ведовства представлено главным образом словом «колдун» в форме мужского рода множественного числа: 98 упоминаний о колдунах во множественном числе, и всего 8 в единственном, против 72 упоминаний колдуний во множественном числе и 8 колдуний в единственном числе. В разделе магии также преобладают мужчины (96 чародеев в единственном числе и 89 во множественном против 51 чародейки в единственном числе и 8 — во множественном). Однако среди жертв ведовских процессов женщин было в четыре раза больше, чем мужчин. В XVIII в. литературный стереотип передает привилегированное место в сфере колдовства мужчине, на первый план выходят шарлатаны и ложные маги, как определяет их эдикт 1682 г. Среди слов, обозначающих дьявола, предпочтение отдается единственному числу — 1568 случаев. Демон упоминается 424 раза, Сатана 163, и это помимо 185 демонов и 136 дьяволов во множественном числе. Определение «демонический» употребляется 13 раз, как в единственном, так и во множественном числе, слово «демономания» — 5 раз, а слова «сатанинский» и «сатанизм», строго говоря, и вовсе отсутствуют. Князь Тьмы похоже, утратил свою надменность. Сатана со своими подручными и преисподняя отступили, уступив первый план ряду достаточно расплывчатых характеристик, относящихся к дьяволу или демону, на которых теперь сосредоточено основное внимание как авторов, так и публики. Гений Гете еще не вывел на сцену Мефистофеля. Хронологическое распределение отобранных лексических единиц варьируется от минимального в 128 употреблений, приходящихся на период с 1700-го по 1709 г., и на периоде 1709-го по 1719 г., до максимального в 683 употребления, приходящегося на период с 1760-го по 1769 г. Если включить в сферу нашей статистики число заглавий, содержащихся в базе данных и распределенных по десятилетиям, то самым «дьявольским» периодом будет время с 1720-го по 1729 г.: за это время в 21 сочинении из 27 дьявол назван 427 раз. В 43 книгах из 55, вышедших за период с 1730-го по 1739 г., дьявол именуется 488 раз. На эти же два десятилетия приходится самый низкий процент сочинений без единого намека на интересующую нас тему — примерно 22%, в то время как в течение двух предыдущих десятилетий, равно как и двух последующих, этот процент удваивается, а потом, в 1760— 1759 гг. вновь немного опускается — до 33%, и в конце концов замирает на 25% и уже до конца века остается практически без изменений.
В литературе особенно интенсивное обращение к дьяволу наблюдается в период с 1720-го по 1739 г., то есть в эпоху яростной полемики демонологов с их противниками, эпоху писем Сент-Андре и дела Кадьер в Тулоне. Способствовали ли пылкие дебаты и процессы приданию теме вполне обыденного характера? Какие факторы более всего заставили ее в конце концов отступить в область вымысла? Возможно ли, чтобы слабое отражение дьявольской темы в текстах корпуса, относящихся к первым двум десятилетиям века, означало, что предмет все еще вызывал тревогу и страх и казался опасным для обсуждения? Как бы там ни было, начальник полиции д’Аржансон ужесточил меры по борьбе с шарлатанами, беззастенчиво пользовавшимися доверчивостью своих современников. После снижения интереса к дьяволу в 1740 г. (248 упоминаний дьявола в 30 сочинениях, но при этом в 22 трудах о нем нет ни слова), нечистый вновь всплывает на поверхность: в 49 сочинениях из 73, изданных с 1760-го по 1769 г., он упоминается 623 раза. Последнее десятилетие века сильно отличается от всех предшествующих: в 30 книгах из 40 дьявол упоминается всего 167 раз60.
В десяти сочинениях слово дьявол встречается более 50 раз в каждом, как в единственном, так и во множественном числе. Все эти труды вышли после издания в 1707 г. «Хромого беса» Лесажа (где дьявол упомянут 101 раз). Три сочинения относятся к четвертому десятилетию века: «Телемак наизнанку» Мариво (1736); «Еврейские письма» Жана-Батиста де Буайе, маркиза д’Аржанса (1736) и «Записки шевалье де Раванна» Варена (1740). В 1751 г. к ним присоединяются «Английские письма» аббата Прево (111 упоминаний дьявола). Все пять следующих сочинений принадлежат последней трети века: «Кум Матье» Дюлорана (1766); «Жак-фаталист» Дидро (1773 г., 79 упоминаний); «Объясненная Библия» Вольтера (1776); два сочинения Мирабо: «Письма из крепости» (1780) и «Высокородный либертен» (1783).
Асмодей, хромой дьявол Лесажа, оказывается пленником волшебной склянки. Освобожденный студентом, доном Клеофасом, он увлекает его за собой в полет над Мадридом, приподнимает крыши домов и показывает, что происходит внутри, а потом в знак благодарности женит его на богатой девушке. Дьявольская тема в шутливой форме всплывает вновь, когда речь заходит о взывании к демону, о чем, в частности, со множеством примеров пишет в 1702 г. в записке, направленной против ложных прорицателей и так называемых колдунов д’Аржансон. Так, начальник полиции утверждает, что некий Буайе «пытался заключить с дьяволом постоянный договор, однако ему это не удалось». Человек сей претендует на знание «тайны стакана», способа гадания на стакане с водой, состоящем в вызывании «Анариэля или Уриила» с целью заставить их «без лжи и обмана» явить просимое тому, кто к ним взывает. Развращенный священник Руйон «приносит жертвы для вызывания адских духов». Он уверяет, что знает тайну «зверушки». Для этого, говорит он, надобно взять три или пять волосков с поверхности половых органов необъезженной кобылы; вырывать эти волосинки следует в три приема, произнося при этом определенные слова; затем положить волосинки в ни разу не пользованный глиняный горшок, добавить воды из источника, закрыть горшок глиняной крышкой, запереть в комнате и девять дней туда не входить. По истечении срока входить в комнату надобно в тот самый час, когда туда был поставлен горшок, произнося при этом тайные заклинания. В горшке будет сидеть «маленькая зверушка, видом своим напоминающая либо гусеницу, либо жука, либо птичку; зверушка эта может кричать как ребенок». Надо, не касаясь руками «зверушки», осторожно подвести ей под брюшко красную шелковую нитку, вдетую в иголку, и с помощью этой нитки переместить ее в коробочку с отрубями. Через двадцать четыре часа в коробочку надо положить серебряную монетку, потом вместе с коробочкой лечь спать на два часа, и в первую же минуту третьего часа открыть коробочку, где будут лежать уже две монетки; но произойдет это только в том случае, если положенная монетка имела стоимость не больше двенадцати золотых луидоров, ибо «большую сумму зверушка наколдовать не сможет». В принципе, подобные практики имеют мало общего с верой в подлинные способности колдуна, однако и у д’Аржансона, и в эдикте 1682 г. можно обнаружить тревожные сомнения: неужели за всем этими ритуалами и вправду не скрывается дьявол? Предсказывая с помощью стакана воды, взывают именно к дьяволу. «Зверушка», появившаяся на свет путем самозарождения, толчком к которому послужили действия преступного священника, стремящегося получить богатство с помощью ведовства, имплицитно принадлежит к царству дьявола, ибо обстоятельства ее появления на свет и цель его столь сомнительны, что она никак не может быть порождением божественного чуда. В сущности, соглашение с дьяволом противозаконно, ибо закон запрещает заключать такой договор, но так много людей в него верит, что даже д’Аржансон усиленно ищет доказательства, желая убедить самого себе, что они не правы.
В 1707 г. «Хромой бес» Лесажа начисто лишает драматического характера все еще остро волнующую общество как в Париже, так и на местах, проблему дьявола. Роман открывает путь в мир чудесного, который постепенно отделяется от дьявольского: заключенный в склянку бес Лесажа предвосхищает литературный образ джинна в бутылке, гения в волшебной лампе. Освобожденный человеком бес поступает к своему спасителю на службу, и уже не может привязать его к аду посредством заключения страшного договора, хотя вполне способен сыграть с ним злую шутку. Однако в любом случае сверхъестественные способности означают уверенность в возможности вторжения в мир невидимых сил, добрых или злых. Вариант, избранный Лесажем, отдает пальму первенства человеку, что за последние полтора века может считаться поистине великим новшеством. Разумеется, одна ласточка еще не делает весны. Первая четверть XVIII в. является переходным периодом между двумя видениями мира. Антуан, граф Гамильтон (1636—1720), один из сторонников Стюартов, последовавший за ними в изгнание во Францию, в опубликованной в 1720 г. сказке «Тернинка» в последний раз воспроизводит тревожный стереотип вредоносной ведьмы. В его тексте слово «ведьма» встречается 45 раз, что более чем в половину превышает его употребительность во всем корпусе отобранных текстов; отметим, что если взять каждый текст, где встретилось данное слово, то самое частое его употребление на превышает 4. Ведьма Загрызу хочет женить своего уродливого сынка на дочери своей сестры, «благородной волшебницы». Она также хочет коварно устроить еще одну свадьбу — самой выйти за претендента на руку ее племянницы. В своем произведении автор сталкивает силы Добра и Зла, не намекая при этом ни на дьявола, ни на какой-либо сатанинский договор, ни на мошенничество. Вымышленное повествование выстраивается вокруг конфликта между двумя полюсами магической власти, рассматриваемой в качестве вполне реальной. Ужасная, страшная, уродливая, жестокая, бесчеловечная, вкрадчивая и льстивая, как называет ее автор, Загрызу — злобная, инфернальная, ужасная и вечная; три последних прилагательных имплицитно намекают на ее связь с демоном, однако без каких-либо уточнений. Для достижения своей цели она использует силу и чары, которые Гамильтон называет ведовством, порчей, чарами и колдовством. Сила чар заключена в принадлежащей ей кобыле, и после смерти кобылы у Загрызу остается только хитрость и внушение. В конце концов ведьма и ее сын находят свою гибель, чему способствует добрая волшебница, которая, как оказывается в конце истории, сестрой ее не является62.
Рассказ Гамильтона можно воспринимать как своего рода упражнение в экзорцизме для образованных взрослых 1720 г., еще толком не знающих, что им следует думать о колдовстве. Он настолько сгущает краски, рисуя портрет колдуньи, что делает ее смешной. Загрызу «бросала травы и корни в огромный котел, стоявший на огне. Помешивала она свое варево огромным зубом в два локтя длиной, торчавшим у нее изо рта. Дав прокипеть своему зелью, она бросила в котел трех жаб и трех летучих мышей» У нее был «палец с ногтем почти таким же длинным, как ее зуб», которым она пробовала, готово ли ее жуткое варево, куда «время от времени она подбрасывала новую порцию какой-нибудь отравы» 57. Гнев заставляет ее испускать такой страшный крик, что однажды она даже теряет от него свой страшный зуб, и тот ломается. Что могли подумать представители традиционной демонологии о таком портрете, воспроизводящем стереотипы сатанинского шабаша и ведьмовской кухни, только в высшей степени гиперболизированные? Для обычного читателя механизм, производящий ужас, разваливался под напором смеха, и торжествовала красота в лице пары молодых людей, оказавшихся под покровительством доброй волшебницы; Зло было побеждено, и Загрызу погибала вместе со своим сыном. Литературные страхи стали противоядием от все еще мрачной реальности, от жутких фактов из полицейской хроники, от чрезвычайных происшествий, приводивших в замешательство суды и целые провинции.
В дешевых книжках с лотков книгонош и в альманахах постоянно печатали устрашающие картинки, изображавшие магические искусства и вмешательство сверхъестественных сил. Однако после 1720 г. тема дьявола, похоже, заинтересовала и большую литературу. Тип, созданный Гамильтоном, вновь появляется на свет теперь уже под пером Жака Казота (1719—1792). Труабос, колдунья из сочинения под названием «Тысяча и один пустяк», изданного в 1742 г., — это «злая фея», которая борется с «доброй феей» Лизеттой. Труабос командует демоном, на котором, в случае нужды, может даже поскакать верхом. В рыцарской поэме в прозе «Оливье» (1763) «опасная Ба- гас», исповедующая культ Магомета, старается посредством чар завлечь героя к себе во дворец, однако никакого договора с Сатаной она не подписывает. Вольтер, вспоминая о демоне в своей «Царевне Вавилонской» (1768), являет его в виде огромной золотой птицы, однако колдовство считает исключительно небылицей. Что не мешает ему в «Гражданской войне в Женеве» (1767) злобно назвать Терезу Левасер, подругу Жан-Жака Руссо, «отвратительной адской ведьмой»63. Однако понятие «ведьмы» уже не сопрягается с четкими обвинениями демонологов, равно как и обвинениями, выдвигаемыми в адрес ложных прорицателей, официально заменивших колдунов в 1682 г. Образ ведьмы, как и образ дьявола, приобрел в литературном универсуме определенную автономию, перейдя непосредственно в сферу вымысла. И хотя негативная, уничижительная и даже бранная коннотация понятия «ведьма» по-прежнему сохраняется, «ведовская» тематика становится вполне банальной и благодаря легкости тона, иронии или же перегрузки деталями на манер Гамильтона, утрачивает свой мощный тревожный заряд.
Все говорит о том, что в течение 1720—1730-х гг. во Франции произошла решительная перемена в презентации дьявола, по крайней мере в творчестве художников и писателей первого ряда. Разумеется, вряд ли можно говорить об аналогичной перемене в настроениях широкой публики. Но по крайней мере есть основания полагать, что образованные слои общества, знакомясь с новыми художественными произведениями или научными трактатами, чьи авторы близки по своим взглядам к врачу Сент-Андре, переставали видеть Сатану таким, каким он виделся записным охотникам на ведьм. Вероятнее всего, именно вымысел сыграл первостепенную роль в изменении видения дьявола, и роль эта была прежде всего терапевтической, снимавшей тревогу; вымысел практически не оставил ни следа от жестокой полемики, бушующей с 1725 г., и в основном приводил к победе Добра над Злом. Так разве нельзя применить к нему высказывание Бруно Беттельхейма относительно чрезвычайно важного значения, которое сказки о феях, в том числе и страшные, оказывают на формирование психологии детей нашего времени?64 В начале царствования Людовика XV категория чудесного формируется посредством отделения от себя определения дьявола и его поступков, которое мы причисляем к верованиям, но которое в те времена было столь насыщенным, что могло быть приравнено к подлинной общественной реальности. Ради предотвращения совершенно конкретной дьявольской опасности всего несколькими десятилетиями ранее сжигали на кострах ведьм. Одержимость пустила глубокие корни как в народной среде, так и среди элиты. Сказка, написанная Гамильтоном, несмотря на свои гиперболы, а скорее, наоборот, благодаря своим гиперболам, обладала успокаивающим эффектом и позволяла уладить вопрос на онирическом уровне индивидуального сознания, в то время как слушая яростные нападки полемистов и «доказательства», собранные сторонниками демонологии во время громких процессов, многие, без сомнения, колебались, к какому лагерю им примкнуть. Демоническое воображаемое постоянно наполняло социальное пространство и доминировало в религиозном универсуме. Поворот, сделанный вымыслом, позволил каждому индивиду сформировать свое собственное впечатление об этом сложном предмете, и сделать это добровольно и не публично. В романах., дьявол становится философом. Он говорит о Добре и Зле, о мыслящем субъекте, и даже мельком не упоминает об аде. Вид у него теперь вполне современный, чем-то напоминающий «дикого человека», нарисованного Кристианом Вильгельмом Эрнстом Дитрихом. Элегантно одетый, с пистолетом за поясом, он выглядит знатным сеньором. С огромным кривым носом, выдающейся вперед нижней губой и острыми ушами, он очевидно не блещет красотой, но тем не менее лицо его не отличается от человеческого. И только растрепанная шерсть, покрывающая длинную шею, предплечья и верхнюю часть бедер, указывают на его происхождение из сумеречного тревожного мира; ноги его чем-то напоминают звериные, однако копыто, скорее всего, раздвоенное, скрыто сапогами.
Влюбленный Вельзевул
Еще один шаг и демон окончательно обустроится в литературном жанре, который в урочное время получит название фантастического. Но это не означает, что вера в дьявола отныне переместится в сферу вымысла. Поверья, связанные с дьяволом* останутся жить и бытовать в других секторах, и в частности в сфере религии и воспитания. Эти две дороги, не прекращая контактировать друг с другом, все больше расходятся в разные стороны. Появилась возможность обыгрывать инфернальные мотивы в литературе и искусстве, противопоставляя таким образом творческую работу человеческих верований, способных непосредственно влиять на жизнь и взгляды людей. Оба культурных образования происходят из области коллективного воображаемого, с той разницей, что одна из них определяется как самостоятельно существующая, в то время как защитники второй полагают, что верования имеют достаточную сильную власть над реальностью. Вторые верят, в то время как первые знают, что они воображают.
В 1772 г. «Влюбленный дьявол» Жака Казота формирует амбивалентный переход из области верований в область воображаемого. С 1760-х гг. полемика вокруг демона стихает, а интеллектуальный климат все больше проникается философскими идеями Просвещения. Внимательный ко всему, что было напечатано о сверхъестественном ранее, Казот создает рассказ, который многие называют первой фантастической повестью во французской литературе66. В нем получает развитие традиционная тема дьявольского наваждения: Вельзевул играет Альваром, молодым испанцем, любопытным и праздным, являясь к нему в разных обличьях, и в частности в виде хорошенькой Бьондетты. Основное новшество состоит в том, что Лукавый попадает в собственную ловушку: влюбляется в свою жертву. Начиная с Жерара де Нерваля, который в 1845 г. усмотрел в повести перенос эзотерических теорий в мир вымысла, новеллу толковали по-разному. Макс Мильнер не видит в ней ни нравственного рассказа, ни рассказа фантастического, а всего лишь повесть, насыщенную символами, в то время как Жозеф Андриано делает из писателя предшественника автор готических повестей67. И все же большая часть исследователей анализируют рассказ в свете теории фантастического, подлинное рождение которого во Франции отмечается в 1830 г., когда были опубликованы 20 томов переводов Гофмана. Казот — писатель своей эпохи. Он читал «Демономанию» (1580) Жана Бодена и «Зачарованный мир» Бальтазара Беккера (1691 г. — опубликован в переводе на нидерландский, 1694 г. — в переводе на французский), упоминаемые в конце его рассказа устами почтенного доктора, которому вменили в обязанность извлечь урок из необыкновенного приключения Альвара. Похоже, Казот также был знаком с сочинением аббата Пьера де Монфокона де Виллара под названием «Граф де Габалис, или Разговоры о тайных науках». В трактате, изданном в 1670 г., за несколько лет до трагической гибели де Виллара, содержались нападки на общество розенкрейцеров, что вызвало изрядный скандал.
Приключение, рассказанное Казотом, связано с различными традициями. В трагических рассказах, в частности у Россе и Камю, уже встречалась тема соблазна, являющегося в облике демона. На ведовских процессах много говорилось о сексуальных отношениях между ведьмами и демонами, по требованию судей обсуждались мельчайшие их подробности. Подлинная оригинальность повести заключается в авторской манере преумножать двусмысленные явления. С самого начала демон избирает облик не слишком традиционный. Он появляется в виде головы верблюда. Действительно ли это просто желание избежать привычных клише — обликов козла или змея? Затем Лукавый превращается не в огромного сторожевого черного пса, как того можно было бы ожидать, а в хорошенькую беленькую сучку. Задача рассказчика разъясняется, когда, наконец, появляется Бьондетта, красавица, которая, желая непременно соблазнить героя, исполняет любые его прихоти. Верблюд и собачка — это всего лишь символы видимого подчинения, точнее, подчинения дьявола человеку, которого он в конце концов соблазняет, хотя человек и попытался обмануть его. Вельзевул страстно влюбился. Более того, на протяжении всего рассказа Казот оставляет читателя в сомнении: действительно ли между суккубом и человеком произошел плотский акт, или же это всего лишь плод воображения героя? По крайней мере, такое впечатление остается от конечной версии рассказа, изданной в 1776 г. Изначально был предусмотрен другой финал. Понимая, что стал «одержимым», Альвар хватал Бьондетту за пуговицу и заклинал дьявола: «Лукавый дух, — произнес я отчетливо, — если ты явился лишь для того, чтобы отвратить меня от моего долга и увлечь меня в такую же пропасть, откуда я тебя отважно вытащил, так возвращайся же туда навсегда». С этими словами девушка исчезала, а в небо поднималось огромное облако в форме верблюжьей головы. Так вот, уточняет Казот в эпилоге, добавленном в 1776 г., «когда вышло в свет первое издание «Влюбленного дьявола», читатели нашли его развязку чересчур неожиданной. Большинство предпочло бы, чтобы ловушка, в которую попал герой, была прикрыта цветами, способными смягчить ему неприятность падения». Однако самым остроумным стало предусмотренное в одном из неизданных вариантов рассказа торжество Зла: «В этом варианте Альвар, поддавшийся обману, становился жертвой своего врага; повесть распадалась на две части: первая оканчивалась этой весьма прискорбной катастрофой, а во второй развертывались ее последствия. Альвар уже не просто был снедаем искушениями, он становился одержимым, орудием, с помощью которого дьявол сеял повсюду в мире разврат». Впрочем, и окончательная версия отнюдь не свидетельствует об абсолютной победе Добра: «В этом новом издании сделана попытка примирить мнения критиков. Альвар здесь становится жертвой обмана, но лишь до известного момента; чтобы соблазнить его, враг вынужден прикинуться честным, почти добродетельным, вследствие чего его собственные замыслы рушатся и торжество оказывается неполным»68. Таким образом, третий вариант, сознательно помещенный на равном расстоянии от позиций и демонологов, и их противников, также оставляет читателя в сомнении, ибо он никак не может понять, настаивает автор на реальности случившегося, или же просто рассказывает о событиях заведомо вымышленных.
Захватывающая история рукописи «Влюбленного дьявола», какой ее рассказывает сам автор, свидетельствует, что сам он также колебался между тремя вариантами.
Для нас они все располагаются в области вымысла, но для современников Казота это не очевидно. Первый вариант, подлежащий безоговорочному исключению, отражал взгляды все еще многочисленных сторонников реального существования бесов и намертво соединял человека с Сатаной. Второй вариант 1772 г., дурно принятый читателями, еще придавал достаточный вес учению демонологов, а простое заклинание, используемое для изгнания дьявола, несомненно, подтверждало существование нечистого. Вынужденный — как хотелось бы сказать — прислушаться к просвещенному мнению, в третьем варианте автор гениально воспроизвел собственно вымышленное пространство. Ибо дьявол, «враг рода человеческого удивительно изощрился в своих уловках», как утверждает почтенный доктор, появляющийся в заключении. Поражение демона ему также кажется неминуемым: «Правда, он соблазнил вас, но ему не удалось окончательно вас развратить. ...таким образом, его мнимая победа и ваше поражение были для вас и для него всего лишь иллюзией, а раскаяние в совершенном окончательно очистит вашу совесть»69. Предотвращенное падение подчеркивает вымышленный характер рассказа. Теперь уже писатель, а не находящийся под властью человека Вельзевул, занимает место Князя Двуличия. Для другого литературного героя, графа Габалиса, демоны являются всего лишь элементарными духами, гномами, саламандрами, ундинами и сильфидами, ошибочно наделенными Отцами Церкви пагубными свойствами. Возможно, Казот и не читал Виллара, но ему прекрасно известны подобного рода рассуждения. В одной из глав своего рыцарского романа «Оливье» он рассказывает необычайную историю Ангеррана, заколдованного феей-птицей Стригиллиной. Натершись чудесной мазью, Ангерран прибывает на шабаш. Там он встречается «с повелителем злых гениев», окруженным своими прислужниками. Демон рассержен на Стригиллину: ее поведение кажется ему излишне независимым. Он отсылает Ангеррана, открыв ему на прощанье секрет, как превратить фею и ее прислужниц в тех, кем они являются на самом деле: в «отвратительных гарпий» с крыльями как у летучих мышей. Разочарованный, понимающий, что власть от него ускользает, Сатана, превратившийся во вполне порядочного беса, доверительно говорит отъезжающему рыцарю: «Вот видите, что бы там про меня ни говорили, я не всегда творю зло». И он просит автора пощадить его, когда тот станет писать обо всем, что видел70. Авторский прием? Или, может, новый способ подачи образа Лукавого — в виде фантома, скрывающегося под внешностью монарха, чью власть вот-вот захватят стриги, отчего он вынужден обращаться к посредникам и даже просить вступиться за него? А почему бы и нет — ведь сам он существует только в прочной связке с воображением рассказчика!
И хотя Казоту прекрасно известны идеи Беккера о невозможности демонов вмешиваться в людские дела, он остерегается утверждать это безоговорочно, предпочитая сеять сомнения и пробуждать воображение читателей. В последней версии «Влюбленного дьявола» ему прекрасно удается до самого конца сохранить двусмысленность, или, иными словами, ключ от того, что впоследствии будет названо фантастическим в литературе. Он не ставит себе задачу создать новый жанр и не рассматривает все в этом ключе; в своем культурном универсуме он всего лишь желает оградить участок Лукавого и делает это, обращаясь к публике и ссылаясь на нее. Ведь если судить по составу книжных собраний этой самой публики, то образованные современники, многие из которых страстно увлечены оккультизмом и эзотерикой, по-прежнему испытывают смятение перед Вельзевулом; разумеется, они уже далеки от веры в его всемогущество, но сомнения все еще остаются. Балансирование на грани между собственно областью сновидений и воображаемым миром, насыщенным пугающими референциями, было, без сомнения, единственно возможным путем к примирению различных мнений. Жак Казот обращается одновременно и к сильным умам, уже не верящим или почти не верящим в дьявола, и к тем, кто, продолжая его бояться, хотел бы усомниться в его существовании, и к самым доверчивым, не посмевшим усомниться ни в чем. Каждый может толковать эту двусмысленную сказку по-своему. И все — в разной степени — получат доказательство привязанности демона к волеизъявлению человека. Сатана залез в бутылку. Будь то надменный дьявол, или же просто бесенок, отныне ему гораздо чаще приходится подчиняться, нежели повелевать. Его хитрости объединены «в виде аллегории, где принципы состязаются со страстями: поле битвы — душа»72.
В преддверии бурной волны романтизма, начавшейся в 1830 г. работой «О фантастическом в литературе» Шарля Нодье, успевшего лично увидеть Казота, погибшего в 1792 г., сверхъестественное постепенно перестает быть средством объяснения мира, используемым религией. После долгого пребывания в зоне религии и морали, пугающий образ дьявола отправляется в литературное воображаемое, где он утрачивает свое могущество и превращается в фантазмы, иллюзии и страхи, не имеющие тяжких социальных последствий, подобных тем, которыми отличалась эпоха охоты на ведьм. Лишившись плоти, воображаемый демон устраивается в художественном и литературном пространстве, постепенно трансформирующимся в пространство игровое. Разрушив в конце XVIII в. монополию теологов на соблюдение чистоты догматов, этот сектор культуры постепенно обрел свою автономию. Раскачиваясь, словно онирический челн на волнах образованных умов, он помогает этим умам избавиться от тирании религиозного, трагического видения человеческого существования. Следуя по дороге к чудесному, фантастическое устанавливает дистанцию между существом и миром, между личностью и верованиями, создавая универсум мечты, где все возможно и четко отличается от настоящей жизни. В своем рассказе «Валери» (1792) Флориан устами героини рассказывает историю о возвращении с того света: героиня утверждает, что умерла от любви, но потом возлюбленный вернул ее к жизни. Автор просто записывает ее рассказ, даже не пытаясь объяснить его. В повести «Ватек», написанной англичанином Уильямом Бекфордом по-французски в 1782 г., и опубликованной в 1786 г., речь идет о договоре с дьяволом и схождении в преисподнюю, однако авторрасцвечивает рассказ юмористическими эпизодами, например, сценой, где женщины из гарема устраивают черному евнуху всяческие каверзы.
Польский граф и ученый Ян Потоцкий в 1814— 1815 гг. незадолго до добровольного ухода из жизни, завершает «Рукопись, найденную в Сарагосе», готический роман, составленный из вставленных друг в друга рассказов, с вкраплениями оккультизма и эротизма, вдохновивший Нодье на написание повести «Приключения Тибо де ла Жакьера», опубликованной в 1822 г. В Англии Анна Вард (1764—1823), в замужестве Радклиф, продолжает линию готического романа и в 1794 г. выпускает «Удольфские тайны». В 1796 г. Мэтью Грегори Льюис пишет фантастический роман «Монах». Замки, тайны, привидения и скелеты населяют романы жанра, находящего во Франции множество поклонников и подражателей. Монтегю Саммерс составит внушительный, объемом более 600 страниц, каталог готических романов: A Gothic Bibliography. В 1816 г. Эрнст Теордор Амадей Гофман, вдохновившись повестью Казота, напишет и издаст на немецком языке роман «Эликсиры Сатаны». Подлинный изобретатель фантастической повести, Гофман в конце жизни становится автором очень короткой пьесы «Мой сон в ночь с субботы на воскресенье накануне дня святого Иоанна в 1791 г.».
В начале XIX в. во Франции, как и во всей Европе, назревает очередной решительный .перелом- Образ дьявола, претерпевший глубинные изменения, утратил свой устрашающий облик, некогда наводивший на человека леденящий страх; теперь он все чаще видится воплощением того Зла, которое каждый носит в себе самом. Из многочисленных вариаций, расположенных между этими двумя полюсами, одна принудительно завещана христианством прошлого, другая вытекает из философских различий, а иногда и противоречий, присущих избранной теме: вариации наблюдаются в зависимости от страны и социальной категории населения. Внутренний демон медленно начинает свое завоевание западной культуры.
1 Klaniczay Gabor. Buchers tardifs en Europe centrale et orientale // R. Muchembled (dir.), op. cit. p. 216, 220—221.
2 Minois Georges. Le Diable. Paris, PUF, 1998, p. 74—78 (Автор рисует график роста численности приверженцев скептицизма, но не приводит дефиниций данного понятия, предполагающего различные допущения в зависимости от конкретной исторической эпохи.)
3 Ibid., р. 75-76.
4 Mandrou R. Magistrats et Sorciers, op. cit., p. 122, 126—133, 429—433.
5 Febvre L Le Problème de l’incroyance au XVÏe siècle, op. cit.
6 Mandrou R. Magistrats et Sorciers, op. cit., p. 337—338.
7 Bastien Pascal. La Violence ritualisée. Le spectacle de l’exécution en France, XVI—XVIII. Mémoire inédit de DEA sous la direction de Robert Muchembled, Université Paris-Nord, 1998, dactyl.
8 Schilling H., op. cit., p. 208—209.
9 См. выше, гл. IV.
10 RusselJ.B. Méphistophéles, op. cit., p. 77 («The Devil between Two Worlds»).
11 Ibid.
12 Mandrou R Magistrats et Sorciers, op. cit, p. 560—561.
13 Rapley R, op. cit.; Certeau M. de, op. cit.; «Journal d’Antoine Denesde, marchad ferron a Poitiers et de Barbe Barre sa femme (1628— 1687)», Archives historiques du Poitou, Poitiers, t. XV, 1885, p. 66—70; Walker D.P., op. cit.; Hanlon G., Snow G., art. Cite.
14 Mandrou R Magistrats et Sorciers, op. cit., p. 561.
15 Hazard Paul La Crise de la conscience européenne. Paris, Boivin, 1985.
16 Muchembled R Sorcières, Justice et Société aux XVIe et XVIIe siècles. Paris, Imago, 1987.
17 René Pintard. Le Libertinage erudite pendant la première moitié du XVIIe siècle . Paris, 1943; rééd. Geneve, Slatkine, 1983.
18 Mandrou Robert. Des Humanistes aux hommes de science, XVIe— XVIIe siecle (Histoire de la pensee européenne, t. 3). Paris, Seuil, 1973; особенно см.: p. 164—167, 178—179.
19 Russel J.B. Mephistopheles, op. cit., p. 80.
20 Ibid., p. 81
21 Thomas Keith. Religion and the Decline of Magic. New York, Charles Scribner’s Sons, 1971, p. 476—477.
22 Minois G., op. cit., p. 86—87.
23 RusselJ.B. Mephistopheles, op. cit., p. 83.
24 Gellner Ernest. The Devil in Modem Philosophy. Londres-Boston, Routledge and Kegan Paul, 1974, p. 3—7.
25 Russel J.B. Mephistopheles, op. cit., p. 83.
26 Havelange C., op. cit.
27 Auslander Leora. Taste and Power. Furnishing Modern France. Berkley, University of California Press, 1996, p. 25, 27, 422—423.
28 Coquery Natacha. L’Hétel aristocratique. Le marche du luxe à Paris au XVIIIe siècle. Paris, Publications de la Sorbonne, 1998.
29 Muchembled R Le Roi et la Sorcière, op. cit., p. 74—75; R. Muchem- bled (dir.), op. cit., p. 187, 215-231
30 Mandrou R Magistrats et Sorciers, op. cit., p. 478—486.
31 Russel J.B. Mephistopheles, op. cit., p. 127; Minois G., op. cit., p. 88.
32 Minerva Nadia. Il Diavolo. Eclissi e metamorfosi nel secolo dei Lumi. Di Asmodeo a Belzebu, avec une preface de Max Milner. Ravenne, Longo Editore, 1990, p. 8.
33 Muchembled R La Société police, op. cit., p. 77—122; Habermas Jurgen. L’Espace public, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise. Paris, Payot, 1978 (Те немецкое изд.: 1962).
34 Viala A, op. cit., p. 132—133.
35 См. выше, гл. IV.
36 VialaA., op. cit., p. 242—247.
37 MuchembledR La Société police, op. cit., p. 123.
38 Bekker Balthasar. Le monde enchanté, ou examen des communs sentimens touchant les eprits, leur nature, leur pouvoir, leur administration et leurs opérations, édition en français. Amsterdam, Pierre Rotterdam, 1694, 4 vol. in—12.
39 Ibid., t. 1 (предисловие не имеет пагинации).
40 Ibid.
41 Minerva N., op. cit., p. 85 (отсыпка к Вольтеру)/
42 Daniel De Foe. Histoire du diable, traduite de l’Anglois. Amsterdam, 1729, 2 tomes, 264 et 302 p.
43Ibid., citations et références t.l, p. 4,6,54, et t. 2, p. 29, 61,103,183.
44 Gellner E., op. cit., p. 4.
45 Minerva N., op. cit., p. 9; также см. главу о доне Кальмете .
46 Yve-Plessis Robert. Essai d’une bibliographie française méthodique et raisonnée de la sorcellerie et de la possession démoniaque. Paris, Chacornac, 1900.
47 Mandrou R Possession et Sorcellerie, op. cit, p. 275—328.
48 Carrez. Jean-Pierre. Femmes en prison. Etude de 309 internées à la Salpétrière de Paris, d’après des interrogatories de police (1678—1710), mémoire de la maîtrise inédit, sous la dir. de R. Muchembled. Université Pris-Nord, 1993, p. 31, 51, 65.
49Mandrou R Magistrats et Sorciers, op. cit., p. 489. См. также примем. 10.
50 Ibid., p. 37 (крайне длинное заглавие немного сокращено).
51 Villeneuve R La Beauté du diable, op. cit. (на c. 204—205 воспроизведен офорт Креспи).
52 Ibid., p. 207.
53 Les Sorcières, op. cit., p. 132, 129—135.
54 Massalsky Alain. La Sorcellerie en France au XVIII siècle, mémoire de DEA inédit sous la dir. de R. Muchembled. Université Paris-I, 1992, analyse l’ouvrage p. 43—52.
55 Mandrou R Magistrats et Sorciers, op. cit., p. 490.
56 Ibid., p. 507-512, 532.
57 Ibid., p. 532-537.
58 Mornet Daniel «Les enseignements des bibliothèques privées (1750—1780)», Revue d’histoire littéraire de la France, t. XVII, 1910; Ссылаясь на работы M. Мильнера, Н. Минерва полемизирует с автором: N. Minerva, op. cit., p. 14.
59 Massalsky A., op. cit., p. 11—22 (суммирующие результаты исследования).
60 Ibid., таблицы, p. 15—17.
61 Mandrou R Possession et Sorcellerie, op. cit, p. 300—301, 308.
62 Massalsky A., op. cit., p. 23—27.
63 Ibid., p. 28-30.
64 Bettelheim Bruno. Psychanalyse des contes de fees. Paris, Robert Laffont, 1976 (предисловие).
65 Les Sorcières, op. cit., planche, p. 27. (Рисунок датирован XVIII в.; хранится в Лувре.)
66 Baronian Jean-Baptiste. Panorama de la littérature fantastique de langue française. Paris, Stock, 1978, p. 30.
67 Ibid., р. 30—31; AndtianoJoseph. Our Ladies of Darkness. Feminine daemonology in Male Gothic Fiction. University Park, The Pennsylvania University State Press, 1993.
68 Казот Жак. Влюбленный дьявол / Пер. Н. Сигала // Infernaliana. Французская готическая проза XVIII—XIX веков. М., 1999. С. 73.
69 Ibid., с. 72. Слово «иллюзия» подчеркнуто Казотом.
70 Cazotte Jacques. Le Diable amoureux et Autres Ecrits fantastiques. Paris, Flammarion, 1974, p. 145—190, «Enguerrand et Strigilline», p. 172.
71 Andriano J., op. cit., p. 20—21, 28—29.
72 Казот Ж, op. cit., с. 74.
ГЛАВА VI
Демон внутри нас. XIX—XX вв.
Ни вихрь Французской революции, ни объединенный натиск разума, науки и индустриализации не смогли обратить дьявола в бегство. Его образ продолжает тревожить воображение человека Запада, однако теперь образ этот соотносится не только с религиозной догмой, но и с интеллектуальными, культурными, общественными и прочими европейскими движениями ХIХ и ХХ вв. В одной только области литературы Макс Мильнер различает четыре уровня дьявольского присутствия: собственно сюжет, зачастую обусловленный модой; символика, отражающая определенную тенденцию, идею или порок; миф, «коллективная авантюра мысли, обладающая собственным динамизмом и управляемая присущим ей законом», способствующая определению человеческого предназначения; и, наконец, символ, появление которого обязано личности автора, ибо каждый поэт создает свои собственные образы, относящиеся к интересующей нас теме1. Уровневое распределение местонахождения дьявола является осуществленным во времени поступательным движением от коллективного к индивидуальному, начатое во времена итальянского Ренессанса в области искусства и философии. Постепенное формирование субъекта является, без сомнения, одной из основных черт западной цивилизации. История дьявола движется по аналогичной траектории. Покидая берега религиозного и морального консенсуса, достигнутого в века Реформации и Контрреформации относительно традиционного образа собственной персоны, Сатана, изрядно потрепанный критическими нападками со стороны философов эпохи Просвещения, отступает в границы ортодоксальной церковной догматики, благоговейно оберегаемой и пропагандируемой ничтожно малым числом авторов. Но хотя великая традиция уменьшается словно шагреневая кожа, однако исчезать полностью она не собирается. На ее бледном фоне набирает силу новое, внутреннее определение демона, неотрывное от человека: демон становится темной гранью человеческой натуры, личиной, скрывающей пустоту. Новое определение допускает всевозможные вариации, сюжеты, символику, мифы и символы, способные единовременно вместить в себя индивидуальные страсти и коллективные страхи. Одни исследователи работают в рамках психоанализа, другие предпочитают возделывать поля, где посеяны объяснения основ бытия: гуманитарные науки. Истинные отпрыски дьявола, психоанализ и гуманитарные науки формируют мощный механизм, толкающий Запад вперед, и одновременно заставляющий его размышлять о его сущности, его предназначении, его целях. Ибо для европейцев, вовлеченных благодаря науке и технике в завоевание мира и лучшей жизни, все чаще встает тревожный и вместе с тем сулящий большие перспективы в случае его решения вопрос о человеческой природе. Ответ на него может подкрепить, а может и отвергнуть веру в демона, притаившегося в человеческом сердце, ибо человеческая натура то добра, то дурна — все зависит от определения философов. Самые большие оптимисты легко отметают эту проблему, превращая дьявола в объект для осмеяния, достопримечательность или же суеверие, явившееся из темных времен. Те, кто по-прежнему верят в могущество Зла, но не разделяют полностью традиционное учение обеих Церквей, присоединяются к одному из двух противоположных подходов к проблеме: в Соединенных Штатах, жители которых являются выходцами из стран, сохранивших протестантские традиции, демона, таящегося в грешном теле, боятся значительно больше, чем в странах католического вероисповедания. Такое разделение происходит, скорее всего, по причине изначально различного восприятия религии, доставшегося в наследство современникам. Есть основания полагать, что искомая разница складывается из общего комплекса представлений, содержащегося в повседневном видении мира, а именно из чувства коллективности и общественного единения, равно как и из идей о естественной доброте человека, проповедуемых сначала философами Просвещения, а потом социалистами-утопистами XIX столетия.
Доктринальное постоянство
Устояв под натиском критики со стороны философов, католическая церковь неизменно продолжала насаждать традиционные представления о Лукавом. Впрочем, уже Жозеф де Местр (1753—1821) отождествлял его с революцией, разрухой, моральным вырождением и низвержением укоренившихся авторитетов, и в частности авторитета короля и папы. Энциклика Льва XIII Aetemi patris 58, изданная в 1879 г., признала непреходящую ценность уче-ния Фомы Аквинского. Соответственно, вопрос об объективном, реальном существовании дьявола решался положительно и более обсуждению не подлежал. Теоретическая поддержка реальности существования дьявола оставалась ведущим направлением в деятельности Римско-католической церкви до середины XX в. В это время некоторые теологи попытались смягчить крайние положения доктрины, однако об опровержении традиционных взглядов речи не было. Тем не менее протестант Карл Барт (1886—1968) определяет Сатану как некоего «не-ангела». «Он является не-существом, не-знанием. Он — ложь, ирреальность, пустота, не-личность». Еще больший радикал, Рудольф Бультман (ум. в 1996) утверждает, что научный прогресс «ликвидировал веру в духов и демонов». Герберт Гааг в изданном в 1969 г. «Прощании с чертом» рассматривает дьявола как персонификацию Зла и отрицает его реальное существование. Другие немецкие теологи делают заявления в духе «Нового голландского катехизиса» 1969 г.: утверждают, что существование дьявола никогда не являлось той истиной, на которых держится вера. Подобные прогрессивные сомнения отчетливо проявляются, скорее, в Церквях северной Европы, нежели южной. Католические иерархи все еще остаются приверженцами догмы о реальности существования дьявола. И в 1972 г. папа Павел VI в очередной раз это подтверждает. В изданном в 1992 г. «Катехизисе католической церкви» содержится аналогичное утверждение о реальности « этого существа, падшего ангела, именуемого Сатаной или дьяволом». В начале 1998 г. папа Иоанн Павел II ощутил необходимость вновь вернуться к теме. Ведь многие верующие, и в том числе теологи, испытывают смущение при подобных формулировках. Одни, сообразуясь с потребностями верующих в определенной модернизации Церкви, пытаются их смягчить, ибо для многих ортодоксальные положения становятся неприемлемыми. Другие, желая одновременно угодить и иерархам, и пастве, стараются сделать все на удивление гладко, как, например, доминиканец Доминик Сербело, который в 1997 г. в своем труде «Дьявол» написал: «Он существует, но верить в это не следует».
Но какими бы нюансами ни обладали подобные заявления, они нисколько не влияют на основной факт: католическая церковь не отказалась от образа Люцифера, пребывающего вне человека. В 1985 г. Иоанн Павел II разоблачил тактику Лукавого, «состоящую в том, чтобы таится до тех пор, пока Зло, кое он сеет изначально, не будет преумножено самим человеком и созданными им системами и отношениями между общественными классами и народами». Прежний сатанинский миф утратил значительную часть своей силы. Большинство европейцев не верит в него, и число их, похоже, продолжает увеличиваться. В период с 1966-го по 1979 г. в Нидерландах количество католиков, верящих в дьявола, сократилась с 60% до 50% г., верящих в ад — с 50% до 40% а верящих в чистилище — с 30% до 20%. Во Франции по данным опроса на тему «Европейские ценности», проведенного в 1990 г., 49% активных католиков утверждали, что верят в существование демона, равно как и 5% неверующих; в целом это составило 19% всего населения3. Разумеется, опросы общественного мнения не позволяют в точности уловить разницу между имеющимися концепциями столь поливалентной темы. Атеисты, как известно, подходят к вопросу о существовании дьявола иначе, чем верующие. Но общие тенденции от этого не становятся менее красноречивыми. Прежний коллективный страх уже не пронизывает с ног до головы даже активных католиков, и теологи, и священники вынуждены приспосабливаться к происходящим изменениям. «Христианство, обреченное на проклятие» явно утрачивает свои позиции в Европе. В последнее время процесс этот ускорился, о чем свидетельствует впечатляющая трансформация образа дьявола, все чаще связываемого с понятиями свободы и наслаждения4. Даже для самых активных верующих, чьи ряды неуклонно редеют, дьявол, похоже, становится пережитком прошлого, персонажем из истории религии. Процесс освобождения человека, начавшийся в эпоху Возрождения в узком кругу художников и интеллектуалов, вырвался на простор и на протяжении жизни нескольких поколений ширился во всех слоях общества. «Индивидуализация и психологизация образов Зла», о которой говорит Бернар Сишер5, приводит к явному отступлению страха перед Сатаной и одновременно ускоряет разрушение институтов сдающей свои позиции Церкви. Иоанн-Павел II прекрасно обозначил проблему коварства Лукавого: он таится, когда человек винит самого себя, и возникает, как только появляется повод поверить в его реальность. Рим находится в достаточно сложном положении: паства, требуя от христианского учения полной ясности, тем самым подрывает его основы. Европейское движение за освобождение от влияния конвенциональных религий сопровождается выдвижением на первый план личности, все быстрее избавляющейся от страха перед дьяволом. Во Франции среди активных католиков в ад верит вряд ли даже каждый второй, а, значит, больше половины этих верующих сомневаются в существовании рая, и — как следствие — эти люди больше внимания обращают на свое внутреннее «Я», нежели на далекого, хотя и благожелательного Бога. В обществе, состоящем из неверующих, гедонистов, сторонников сект, включая всевозможного толка милленаристов, ревностные католики образуют явное меньшинство. Исчезновение устрашающего и зловонного дьявола означает уход со сцены определенного типа религии, господствовавшей в Европе в XVI и XVII вв,, и сумевшей сохраниться вплоть до третьего тысячелетия. Впрыснув миф о злокозненном враге рода человеческого в литературу, «неистовые» начала XIX столетия первыми ступили на путь уничтожения возвышенного, драматического аспекта религиозно-моральной тематики.
Игра с демоном: готический роман и неистовая школа
Сатана всегда оставался героем сцены — как в средневековых мистериях, так и в барочных пьесах XVII столетия: трагедии, трагикомедии, пасторали и балеты охотно включали в свой состав сценки с дьяволом, разумеется, не слишком серьезные, свидетельствовавшие прежде всего о пристрастии к метаморфозам. Революционная публика также любила пьесы с участием нечистого6. Бытовая трактовка темы дьявола восходит, скорее, к Вельзевулу, и характерна для народной культуры, для многочисленных сказок и легенд, где вплоть до XX в. дьявола выставляют дураком, которого человек легко обводит вокруг пальца7. Но сказки нисколько не мешали людям продолжать бояться демона. Скорее всего, они служили своеобразной процедурой экзорцизма, их противопоставляли устрашающим описаниям Лукавого из религиозных наставлений и проповедей своего времени. В столь же устрашающей, демонической манере, стремясь заставить читателя содрогнуться, описывали и вампиров. В Mercure galant 59 за 1679 г. рассказывается о вампирах, свирепствующих в Польше и России. По ночам они приходят сосать кровь своих соседей, и уничтожить их можно, только отрубив им голову или же вытащив у них из груди сердце и разрезав его на части. Иначе труп похороненного вампира «будет находиться в гробу свежим, гибкими, распухшим от избытка крови, даже если человек этот давно умер». Некоторые собирают кровь, которая в изобилии струится из тела вампира, и делают на ее основе хлеб, «обороняющий от гнева духа»: того, кто съест этот хлеб, дух не станет преследовать. Появление этого обычая связано с действиями Искусителя, так как, по словам тех, кто утверждает реальность существования вампиров, демон может проникнуть в труп и поднять его из могилы. В 1723 г. случай в сербском городке Медведже заставил общество поверить в существование вампиров: по всей Европе только о них и говорили 8. [Речь идет о случае, описанном в трактате дома Кальме (см. гл. IV). В книге M.A. Орлова «История сношений человека с дьяволом» (М., 1992 — репринтное издание: СПб., 1904) приводится подробная выдержка из сочинения Кальме: «В одной сербской деревне близ Белграда появился упырь, производивший опустошения среди своей родни. [...] Упырь этот умер уже несколько лет тому назад, и с тех пор систематически опустошает ряды своей многочисленной родни. Получив это известие, герцог Виртембергский сейчас же снарядил в ту деревню целую комиссию для исследования дела на месте. [...] По прибытии на место комиссия собрала сведения путем опроса местных жителей. Все они в один голос показали, что упырь свирепствует уже давно и успел истребить большую часть своей родни: в последнее время он отправил на тот свет трех племянников и одного из своих братьев: потом напал на племянницу, красивую молодую девушку, к которой являлся уже два раза по ночам пить ее кровь. Девушка уже настолько ослабла от этих кровопусканий, что ее смерть ожидалась с минуты на минуту. Комиссия в полном составе, сопровождаемая громадной толпой народа, при наступлении ночи отправилась на кладбище, где местные жители сейчас же указали могилу подозреваемого упыря, который был похоронен уже почти три года назад. Над могилою все видели какой-то огонек или свет, напоминавший пламя лампы, но только слабое и бледное. Могила была вскрыта, затем открыли и гроб. Покойник лежал в нём как живой и здоровый человек [...]. Волосы на голове и на теле, ногти, зубы, полуоткрытые глаза держались крепко и прочно на своих местах; сердце билось. Труп был извлечен из гроба. В нем было заметно некоторое окоченение, но все же все члены были совершенно гибки, а главное, целы и невредимы, как у живого; на всем теле при осмотре не оказалось никаких следов разложения. Положив труп на землю, его пронзили насквозь против сердца железным ломом. Из раны появилась жидкая беловатая материя, смешанная с кровью [...]. Потом трупу отсекли голову, и из отруба опять-таки в изобилии вытекал такой же беловатый гной, смешанный с кровью. Наконец, труп бросили в назад в могилу и засыпали большим количеством извести, чтобы ускорить его разложение. После того девушка, племянница упыря, не погибла, как все ожидали, а напротив, начала очень быстро оправляться» (с. 79—80).]
В начале XIX в. демонологическая тематика принимает совершенно иное измерение. «Чтобы дьявол стал литературной темой, — утверждает Макс Мильнер, — необходимо было усомниться в его существовании и способностях». Это случилось к концу XVIII столетия. Разумеется, философы и прежде высказывали сомнения относительно существования Лукавого и его возможностей, однако робко и неуверенно9. Теперь эти сомнения укрепились и поселились в самом сердце культурного воображаемого. Растиражированный образ Сатаны стал приноравливаться к моде, приспосабливаться к эволюции нравов общества. Стремительно ворвавшись в литературу и в художественные сферы, дьявол демонстрировал многогранность своего облика, умножая связанную с ним символику и ослабляя унифицирующую силу христианского мифа, все еще поддерживаемого ортодоксальными теологами. Большое значение в становлении нового образа дьявола сыграл роман «Монах», написанный в 1796 г. девятнадцатилетним Мэтью Грегори Льюисом; сочинение молодого автора оказало глубокое влияние на развитие английской, французской и немецкой литературы. В романе, где фантазмы подростка сочетаются с привидениями, видениями, галлюциногенами, ядами, насилием и инцестом, Люцифер представлен в виде обнаженного восемнадцатилетнего юноши удивительной красоты, со звездой во лбу, двумя алыми крылами за плечами, в лучистом ореоле, окруженного розовым облаком и источающего сладостный аромат. Сюжет был подхвачен сатириками, и вскоре литературный мир наводнили пародии, где Лукавый выступал в высшей степени комическим персонажем. В это же самое время свою лепту в распыление стройной христианской традиции вносит Уильям Блейк (1757—1827). Отвергая ортодоксальный подход к вере, он тем не менее считает, что человек должен иметь религию: если ему не ведома вера в Иисуса, значит, ему надо верить хотя бы в Сатану10. И изобразив на гравюре 1808 г. Сатану в виде молодого прекрасного ангела, он называет свое произведение «Сатана, созерцающий Адама и Еву». Пример, поданный Льюисом в «Монахе», не забыт. Он стал основой для получившего долгую жизнь принципа художественного изображения, подчеркивающего сияющую извращенную красоту падшего ангела, справедливый бунт которого против тирании Бога прославляет Байрон.
В английском готическом романе конца XVIII в. воссоздается жуткая и волнующая атмосфера, отмеченная печатью «необъяснимого священного ужаса», нередко спасающая эти рассказы о жестокостях от скуки и второсортности. В черном романе сатанинский миф воспринимается вполне серьезно, что в принципе объясняет, отчего скороспелые французские подражания жанру кажутся еще более нелепыми и не имеют успеха. Во Франции к «роману ужасов» относятся с традиционным философским скепсисом, поэтому места для патетики практически не остается. Модную тему подхватывает театр Больших бульваров: к примеру, 5 декабря 1792 г. проходит премьера пьесы «Замок дьявола, героическая комедия в 4 действиях и в прозе» Лоэзеля де Треогата. Мода на дьявольские сюжеты идет новыми путями вместе с маркизом де Садом, не верящим в христианского демона, но убежденным в дурной природе человека («существование человеческое возможно только тогда, когда оно наполнено Злом», «История Жюльетты»), вместе с пародийными авторами, и вместе с наследниками фантастической повести Жака Казота. Для тех, кто пережил террор и кровавую реальность революции, смех становится освободителем. Дьявол втискивается в общество, где господствует выраженный антиклерикализм и, в соответствии с давними предрассудками, царит враждебное отношение к англичанам. Пародируя готический, «черный» роман, авторы, вновь обратившись к народным традициям, заметное место отводят осмеянному демону. В 1799 г. выходит брошюра «Долой дьявола, долой зверя», а также сочинение «Горшок без крышки, да вдобавок пустой», где непристойная интрига довольно слабо соотносится с персонажем Сатаны, которому отводится роль связующего звена между главами. Вот выдержка из финальной молитвы, адресованной Сатане: «Ты, кто посылает недомогания нашим дамам и колики нашим галантным кавалерам; ты, кто создает успех нашим романам и нашим современным драмам...» Анонимный автор антиклерикального сочинения «Замок демонов, или Влюбленный священник», опубликованного без даты, без ложной скромности утверждает, что на создание этого романа его подтолкнула публика, ибо теперь хорошо продаются только истории о выходцах с того света, домовых и подземных жителях11.
В начале XIX в. трагическое видение человеческого бытия на европейском континенте перестает быть доминирующим. Эпоха Просвещения, но в еще большей степени революционный излом породили новый взгляд на мир, усилив интериоризацию ощущения греховности для верующих и восприятия мира для остальных. Тропа, проложенная Казотом в литературе, стала значительно шире. Согласно объяснению Пьера Франкастеля, «каждый индивид рассматривается как отдельный микрокосм, а в глубине сознания этого индивида разыгрывается драма судьбы, разворачивается конфликт сил Добра и Зла. Судьба каждого отдельного человека перестаёт быть воплощением частички коллективной драмы человечества. Конфликт становиться внутренним. Человек борется против самого себя, и демон находится в нем самом...»12
В пережившей Революцию и Империю Франции эпохи Реставрации с 1818 г. начинает развиваться литература, эксплуатирующая тему ужаса, которую Шарль Нодье (1780—1844) с 1821 г. иронически именует «неистовой школой»13. На формирование эстетики жанра оказывает сильное влияние «черный» роман, современные переводы — в частности переводы Байрона — и сюжеты о пагубных силах, как, например, рассказ «Вампир» (1819) Полидори. Сам Нодье населяет свою повесть «Смарра» (1821) вампирами, чудовищами, принесенными в жертву новорожденными младенцами, но делает это в иллюзорных границах сна, даже не просто сна, а рассказа о наваждении во сне. Двое рассказчиков искупают гложащее их раскаяние в мире воображаемого. Следуя традиции, заложенной Казотом, основной упор делается одновременно и на центральное событие сюжета, и на амбивалентное колебание между реальностью и наваждением. Демон — это сам человек! Не воспринимая всерьез ни религиозные чувства, ни суеверия, Нодье использует их в качестве фона, чтобы внушить недоверие, заставить усомниться в реальности мифологических страстей, накал которых он доводит до предела. Поэтому импорт из-за границы сатанинских сюжетов, где дьяволу отводится грозная, то есть вполне в духе традиционной христианской теории роль, вызывает у него обоснованное раздражение. Представители же «неистовой школы» буквально заворожены жуткими монстрами, окружающими человека. Исполненные ненависти к человеку, чудовища вынуждены применять против него сверхъестественные силы, сродни тем, которыми наделен классический демон. Прототипом такого чудовища является герой романа Мэри Шелли «Франкенштейн» (1818), в 1821 г. переведенного на французский язык. Английская писательница превратила созданное ученым чудовище в символ отношений между Создателем и падшим Ангелом. Творение Франкенштейна восклицает: «Мне стало казаться, что участь Сатаны является точным отражением моей собственной». Наследие Мильтона востребовано чудовищем напрямую: именно читая «Потерянный рай», он осознает свое сходство с Сатаной. После Шиллера Байрон реабилитировал Люцифера, превратив его в прародителя всяческого мятежа, в эталон демонической личности. Затвердив урок, Мэри Шелли, повествуя о горестных странствиях своего героя, изобразила его существом чувствительным и добрым: злым его сделали люди, отталкивающие его, когда он пытается им помочь; эти люди часто именуют его «демоном». Благодаря подобной амбивалентности образа главного героя сочинение Шелли органично вписывается в канву английской культуры, где в гораздо большей степени, нежели в культуре французской, присутствует самостоятельная фигура дьявола, могущественного и одновременно несчастного, пребывающего под дланью грозного Бога, « крайне несправедливого по отношению ко мне, попирающего меня ногами, меня, кто более всех имеет право на вашу справедливость, ваше милосердие и вашу ласку», как жалуется сотворенное существо своему создателю Франкенштейну. В дальнейшем французские романтики станут требовать от самих себя аналогичных взглядов на мятежного ангела, однако их подражания не оставят заметного следа в национальном воображаемом. В Англии же дьявольская тематика является отражением продолжительного перехода от адского дьявола времен охоты на ведьм к эпохе персонализации Зла. Испытывая потребность избавиться от высочайшего мятежника, английская культура на протяжении долгого времени позволяла ему сопровождать человека, пока, наконец, с опозданием на один век, не принялась развивать концепцию интериоризации Зла, получившей свое выражение в повести Р.Л. Стивенсона «История доктора Джекила и мистера Хайда» (1886). Однако она никогда полностью не теряет из виду чудовище, рыщущее вокруг человека; мощная фигура такого монстра выведена Брэмом Стокером в романе «Дракула» (1897). Впрочем, между двумя великими культурами всегда существовала разница во времени и в восприятии, а в начале XIX в. эта разница стала просматриваться особенно отчетливо, поэтому мы вправе говорить о различии «дьявольских» традиций во Франции и в Англии, а если брать в более широком плане, то в католических странах Европы и в странах Северной Европы, а также Соединенных Штатах.
Во Франции с 1818-го по 1821 г. под пером десятка писателей, словно грибы после дождя, с неподражаемой скоростью вырастают «неистовые» романы. Однако далеко не все они созданы в одном ключе. Авторы одних развивают образ чудовища, другие, эксплуатируя моду на готический роман, сосредотачивают интригу на отношениях человека и сатанинских сил. Не остался в стороне от демонических веяний и молодой Оноре де Бальзак, опубликовавший в 1822 г. роман «Столетний Старец» (или «Колдун»). Впрочем, и в «Человеческой комедии» Сатана кочует из одного романа в другой. Небесной красоты героиню первого романа Бальзака под названием «Фальтюрн», написанного в 1820—1821 гг., обвиняют в злонамеренном колдовстве. Но автор делает все, чтобы показать безосновательность подобных утверждений, поддерживая заложенную Казотом и подхваченную Нодье традицию создания атмосферы глубокого сомнения в реальных способностях демона. Макс Мильнер называет прообразом героини молодого Бальзака юную англичанку из переведенного в 1821 г. на французский романа «Прекрасная чародейка из Глаз-Лин», авторство которого приписывали Вальтеру Скотту. Народ в романе видит в прекрасной чародейке колдунью, заключившую договор с дьяволом, а просвещенные люди объясняют ее сверхъестественные способности причастностью к знаниям друидов14. Ниже мы вновь отметим, что в отличие от Бальзака, английский готический роман опирается на определенную реальность.
Вышедшая к 1822 г. из моды неистовая литература произвела на свет многочисленных отпрысков, появившихся на свет в более позднее время: например, «Мадам Потифар» Петрюса Бореля, повесть, написанная в 1833 г. и опубликованная в 1839 г., «Два мертвеца» (1832) и «Мемуары Дьявола» (1837) Фредерика Сулье. Последнее сочинение Марио Праз назвал «жестокой фантасмагорией, где царствует отвратительно ухмыляющийся Вельзевул, хищным взглядом каннибала оглядывающий свою жертву, прежде чем пожрать ее». В этом же ряду пристроился роман маркиза де Сада «Жюстина». И хотя он посвящен женщине 61, вряд ли та, кто прочитает его, сумеет сохранить рассудок15.
В это же время вариации на сатанинскую тему множатся не только в литературе, но и в музыке, и в пластических искусствах; романтики, к 1830 г. вступившие в зрелый возраст, ощущают на себе колдовское влияние этих картин и звуков, наполнявших мир их юности. В отличие от «неистовых» авторов, стремившихся как можно больше ужаснуть своих читателей, писатели 1824—1830-х гг. культивируют опосредованный исторический и фольклорный подход к потусторонним силам: в этом сказывается непосредственное влияние Вальтера Скотта, считавшего призраков, духов, гномов и колдунов отражением народных верований определенной исторической эпохи. Такой поэтический и одновременно рациональный подход к истории отвечает настроениям нового поколения авторов, исповедующих, скорее, реакционные взгляды; прославляя культ прошлого, в душе они нисколько его не поддерживают. В 1928 г. тридцатилетний врач Фердинанд Лангле отдает на суд публики «Истории о веселой науке», написанные нарочито архаизированным языком, воздействие которого усиливается за счет использования готического шрифта; тем не менее автор явно не относится к предмету своего сочинения всерьез. Так, один из рассказов, а именно сказка «Удивительное приключение одного епископа, взявшего к себе на службу Дьявола» служит предлогом для придумывания забавных и откровенно шутовских сценок, полностью истребляющих тревожное чувство, обычно порождаемое сверхъестественным. Впрочем, к 1829—1830 гг., с появлением первых переводов Гофмана, и в частности, его романа «Эликсиры Сатаны», опубликованного под псевдонимом Шпиндлер, начинается период немецкого влияния. Читатели, без сомнения, отыскали в «Эликсирах» следы атмосферы черного романа, однако новшество заключалось главным образом в двойственном характере климата сверхъестественного. Гофман не просто воссоздавал обстановку, необходимую для романтического сюжета: по-настоящему веря в загадочных посредников, в знамения, сны, видения и предсказания, он наполнил свои тексты тревогой и ужасом. Тональность сочинений немецкого романтика созвучна фантастическому, восторжествовавшему во Франции в период с 1830-го по 1834 г., когда сатанинский реализм и вампирический ужас на английский манер отошли на второй план, уступив место вымышленной действительности. В опубликованной в 1830 г. в Mercure de France62 новелле под названием «Метемпсихоз», авторство которой долгое время приписывали Нервалю, хотя на самом деле она принадлежала ирландцу Мак Нишу, некий студент, по воле демона поменявшийся телом со своим товарищем, оказывается в могиле... а потом просыпается на сцене переполненного анатомического театра. Из чего Макс Мильнер делает вывод, что французские авторы отважно исследуют все тропинки необычного, но, похоже, «по причине еще сохранившихся остатков рационализма, не могут заставить дьявола вмешиваться в повседневную жизнь». Напротив, они стараются «сделать демаркационную линию [...] между возможным и невозможным как можно более туманной и подвижной»16. Подобно Гофману, многие авторы первой трети девятнадцатого столетия, попав под воздействие оккультизма, принялись извлекать на свет кошмары, фантомы и демонов, сохраняя при этом изысканную изощренность скептиков. Однако моды эфемерны, и с 1833 г., интерес публики к фантастической повести, также, как совсем еще недавно к неистовому жанру, начинает остывать17. Ученую составляющую нового, зарождающегося явления олицетворяет библиофил Жакоб, выпустивший в 1829 г. «Парижские вечера с Вальтером Скоттом». Он становится основоположником движения любознательных интеллектуалов, интересующихся народными поверьями, историей нравов, преступлений и магии. К 1835 г., когда фантастическая повесть постепенно сходит с литературной арены, неустанно возрастает интерес к фольклору. В 1836 г. Леру де Ленси пишет предисловие к «Книге легенд», а затем, начиная с 1842 г., коротенькие предисловия для «Новой голубой библиотеки», простонародным книжкам, которыми начиная с XVII в. торгуют коробейники-книгоноши, и где много места отводится сверхъестественному, чудесам и феям. В 1840 г. Амеде де Бофор издает «Народные легенды и предания Франции»18. В дальнейшем движение набирает силу, полученные результаты публикуют в научных журналах, а вскоре, в 1862 г., из-под лирического пера историка Мишле выходит сочинение «Ведьма».
Быстрому и уверенному распространению демонического на родине Вольтера способствует постоянное сомнение, положенное в основу большинства повествований, в том числе и сочинений неистовой школы. Во Франции мода на Сатану является модой на властителя непонятного, демона сна: дьявол становится темой, символом и стремительно отдаляется от великого христианского мифа. В «Человеческой комедии» Бальзак уделяет ему важное место, но как архетипу, без всякой соотнесенности с его традиционной религиозной ролью. В опубликованном в 1835 г. «Прощенном Мельмоте» возникает тема договора с дьяволом — для того, чтобы показать его бессмысленность, ибо каждый актер, занятый в спектакле купли-продажи, сбывает свои дары со скидкой, так что в конце концов они окончательно обесцениваются, а затем и вовсе исчезают в окружающем их мире торговцев. В Англии урок Мильтона, повторенный в различных формах, от черного романа до Байрона, насаждает не только веру в реальность Лукавого, но и еще большую тревогу, выходящую за пределы рационального и поддержанную архетипом абсолютного мятежника. Французские романтики попытаются сделать себе английскую прививку, однако без особого успеха.
Мятежный ангел поклонников Сатаны
Поголовное увлечение сатанинской тематикой в начале царствования Луи-Филиппа явно способствовало снижению образа дьявола до обыденного уровня, по крайней мере для горожан и образованной части населения Франции, являвшейся потребителями литературной и художественной продукции. Одержимость времен ведовских костров погрузилась в Лету, наступало время капризов моды. Любование ужасом, ставшее новомодным увлечением света, способствовало не только уменьшению страхов перед сверхъестественным, но напротив, превращению его в нечто забавное или курьезное. Страна философов и свершившейся революции заново вырабатывала свое отношение к восстановленной религии, возвращение которой отнюдь не напоминало торжество. Хаотичное кишение громоздящихся друг на друга многоликих инфернальных образов заняло пространство между двух противоположных феноменов культуры, а именно между новым подтверждением прежних догм и их абсолютным отрицанием. В этом смешении демонических фигур каждый мог узреть своего излюбленного Лукавого, отражавшего нестабильность, царившую в обществе, утратившем свою идентичность и тщетно пытавшемся ее обрести в период между революциями 1830 и 1848 гг.
Те, кого называли маленькими романтиками 1832— 1834-х гг., громко объявляют себя поклонниками Сатаны.
И в соответствии с этим начинают вырабатывать особую походку, придавать особое выражение лицу, по-особому разговаривать с красавицами и писать им письма. Теофиль Готье радуется своему бледному от природы лицу и оливковому оттенку кожи: «Женщины считали меня личностью демонической и разочарованной, а следовательно, очаровательным». Хорошим тоном считается восхищаться пагубными свойствами своих ближних: «У него глаза Сатаны, обожаю Сатану», заявляет одна романтически настроенная дама, в то время как некий воздыхатель сравнивает зрачки своей любимой с «окошками ада». Заявление о гибели Бога становится литературным штампом, на место Всевышнего заступает Дух Тьмы. Поэты Эжен Брен, О’Недди, Бунен оскорбляют Создателя, презрительно бросая ему вызов, и восхваляют демона. Жюль Фавр, воспевая демона, ссылается на Байрона: «Байрон — певец ада и небытия». И все же Макс Мильнер полагает, что новый идеал на самом деле не так мрачен, как кажется на первый взгляд, ибо это прежде всего мода, игра молодых авторов, не чувствующих за собой греха и не познавших упоения злом. Впрочем, демоническая модель никогда не применяется к героям, с которыми читатель имеет тенденцию идентифицировать себя; исключение составляет персонаж по имени Сцаффи в романе Эжена Сю «Саламандра»19. Таинственный г-н Сцаффи, прекрасный, молодой и бледный, отправляется на корабле в плавание, полное приключений. Взор его, грустный и печальный, в редкие минуты становится на удивление нежным. Он напоминает падшего ангела, выведенного Льюисом или Байроном.
Дьявольское воображаемое присутствует и в изданном в 1831 г. романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Но в нем речь идет о сознательной попытке восстановить ментальный климат Средневековья, отразить романтическое чувство потерянности, отличное как от присущей фантастическому двусмысленности, так и от претензий на реальность, свойственных готическому роману. Чудовищный Квазимодо слишком человечен, чтобы внушать метафизическую тревогу, хотя, если верить слухам, он настоящий демон. Подобно чудовищу из «Франкенштейна», старая цыганка из «Ведьмы» (La Strega) Эрнеста Фуине призывает месть на головы людей, оттолкнувших ее из-за ее уродства. Не имея возможности удалиться в пустыню и стать там отшельником, дьявол,востребованный на всех сценах сразу, все чаще выступает в облике мужчины или женщины. Пугающие ведьмы Гойи, созданные им в конце жизни (он умер в 1828 г.) уступают место наводящим чары юным красавицам бельгийского художника Антуана Вьертца (1806—1865). Восприняв урок Уильяма Блейка, Вьертц в 1839 г. на правой створке триптиха, посвященного «Положению во гроб», изображает Сатану в виде «прекрасной и сумрачной фигуры, странной и загадочной»20. Взгляд его черных глаз, ноготь, впившийся в чувственную грудь, порождают человеческие страсти, напоминающие как о юношеском бунте против тирании взрослых, так и о жестокосердии Бога, безжалостно осудившего столь восхитительное творение. В 1830 г. в «Фантастической симфонии» Берлиоза бес становится меломаном: пятая часть носит название «Сон в ночь шабаша». Подаваемый решительно под любыми соусами, черт воодушевляет художников-графиков, способствуя превращению собственного образа из грозного в обыденный, хотя в некоторых изображениях в нем по-прежнему сохраняется унаследованный от прошлого страх. На опубликованном в Le Charivari63 от 10 января 1833 г. рисунке Гаварни «Дьявол на прогулке» нечистый представлен в облике модно одетого молодого человека с двумя крохотными рожками, скрытыми под шевелюрой. Этого «дьявольского коммивояжера, клерка из нотариальной конторы, артиста, студента», который, судя по подписи, является «самым шумным, самым вольнолюбивым, самым веселыми и самым любимым всеми бесами», держат под руки две пылкие юные девицы. В той же газете Домье помещает целую серию рисунков под названием «Воображение»; гравюра, опубликованная 19 февраля 1833 г., являет собой фантазию на тему желудочной колики: вооружившись огромной пилой, два чертенка пилят живот больного. Подобным же образом представлена и головная боль: на гравюре, опубликованной 27 апреля 1833 г., черти бьют по наковальне и звонят в колокол. В скрытной, но от этого, пожалуй, более тревожной форме, Искуситель присутствует и в других гравюрах серии, где вожделеющий тех или иных благ главный герой, подобно даме, грезящей о нарядах, видит, как желания его исполняются весьма сомнительным персонажем, об истинной сущности которого можно догадываться только по его хвосту. Все в том же журнале Le Charivari от 8 и от 22 марта 1833 г. были опубликованы два рисунка Рамле из серии «Проделки дьявола». Какой-то бес читает проповедь о смерти перед аудиторией себе подобных; еще один приглашает девушек на танец, однако неподалеку показался осел, несущий в своих торбах грешников, которых надо препроводить в ад; окружающие главных персонажей бесы похожи не столько на выходцев из преисподней, сколько на денди, кормилиц или акробатов21. Чудовища напоминают образы с полотен Босха и Брейгеля, а при взгляде на повседневные занятия бесов вспоминаются нечистые из немецких Teufelsbucher, где читатель знакомится с множеством возможностей согрешить, а затем покаяться.
Приближается середина века, а королевская дорога Сатаны по-прежнему не расчищена. И хотя интерес к нему не ослабевает, он принимает настолько разные формы, что распыляет образ Лукавого до бесконечности. В 1832 г. Теофиль Готье в новелле «Онуфриус» привел описание беса-денди, одетого с иголочки, с рыжеватыми усиками, зеленоглазого, бледного, с ироническими складочками вокруг губ, намекавшими, что владелец их способен высмеять свою бедную жертву. Тип сардонически усмехающегося, рафинированного Мефистофеля заполонил искусство, оперу, затем рекламу, а еще позднее, с началом нашего времени, мультфильмы и комиксы22. В совершенно ином жанре пишет аббат Альфонс-Луи Констан (1810—1875); убежденный, что Люцифер был несправедливо осужден Божественным произволом, он в 1840-е гг. под псевдонимом Элифаса Леви издает ряд книг, где дьявол представлен вполне позитивной духовной силой. Следуя примеру Жорж Санд, представившей в романе «Консуэло» дьявола «богом всех бедняков, слабых и угнетенных» и «архангелом законного мятежа», Леви превращает его в символ революции и свободы. Затем, встав в ряды поклонников Наполеона III, Элифас Леви делает из дьявола священный столп законности и порядка. К концу века такой помпезный сатанизм вновь привлечет некоторое число активных сторонников и литераторов23. Третью группу пылких поклонников дьявольской тематики, составляют исследователи: по всей Европе начинается изучение ведовских процессов. В 1843 г. в Германии Вильгельм Г. Золдан публикует первый научно обоснованный анализ ведовских процессов, сделанный на основании документальных источников. Французы также не остались в стороне: выходят работы Колена де Планси и Артюра Дино из Валансьена; последний с 1844 г. занимается изучением массовой одержимости, случившейся в 1613 г. в монастыре св. Бригитты в Лилле; он же руководит местным печатным изданием Les Archives historiques et littéraires du Nord de le France et du Midi de la Belgique, на страницах которого публикуются различного рода документальные источники24. В 1862 г. в Бельгии вышла «Ведьма» Мишле — опасаясь скандала, французские издатели отказались ее публиковать. В основе этого труда лежит присущее романтизму лирическое — но совершенно ошибочное — видение взбунтовавшейся женщины, которая, стремясь избежать уготованного ей гнета и подчинения, добровольно отдает свою душу дьяволу...25 Истолкование отношений Евы со Змеем в положительном, точнее, в душещипательном ключе, очень характерно для романтизма. Виньи хотел написать пьесу про Лилит, подругу Люцифера и любовницу Адама.
Реабилитированный Жорж Санд и Элифасом Леви дьявол находит поддержку у Ламеннэ, Прудона, Альфреда де Виньи, Виктора Гюго. «Элоа», длинная поэма Виньи прославляет «того, кто несет свет», а именно Люцифера. За свою долгую жизнь В. Гюго неоднократно менял свое отношение к дьяволу; он даже посвятил ему целую эпопею под названием «Конец Сатаны», начатую в 1854 г. и опубликованную уже посмертно, в 1886 г. В ней грешник-дьявол не лишен привлекательности: он страдает от враждебного к себе отношения, и это чувство сближает его с человеком. Во время борьбы с Богом из крыла демона выпадает перо, принимающее облик прекрасного ангела женского пола по имени Свобода. Получив двойное разрешение — от Бога и от дьявола — ангел Свобода призывает человечество восстать против Зла и разрушить символическую тюрьму — Бастилию, препятствующую смертным достичь свободы. Настает пора примирения. Демон страдает, ибо весь космос отвергает его. Он кричит: «Бог меня ненавидит», но Создатель утверждает, что демон ошибается: «Сатана умер; возродись, о Люцифер небесный! / Приди, выйди из мрака, и пусть восход озарит твое чело». Так автор приходит к отрицанию Зла, ибо универсум — это любовь, беспредельная и терпеливая20.
На самом деле конец Сатаны является концом страха, вызванного к жизни старым христианским мифом, ведущим к порабощению души и боязни перемен. В 1876 г. «Бунт Люцифера и мятежных ангелов»-тш картине Делакруа выглядит как стремление к свободе27. Потрясая оружием, могучие обнаженные тела взмывают в небо, и только темные крылья источающего свет Люцифера указывают на то, кем на самом деле является этот преобразившийся положительный певец революции, готовый низвергнуть любое иго: в нем нет ничего от повелителя ада, уготованного непокорным. В Европе тема мятежного ангела соблазняет всех, кто причисляет себя к умам мятежным и революционным. В тот же самый год в Испании Рикардо Белвер создает статую мятежного ангела, получившего приз на Всемирной выставке в Париже в 1879 г., и примерно в это же время — в 1873, 1882 и 1883 гг. — выходит переиздание поэмы Мильтона «Потерянный рай» в переводе на испанский язык28. Однако романтическое видение не найдет массовых продолжателей, хотя в дальнейшем именно оно легло в основу фантазмов о всеобщем раскрепощении, столь популярных у членов сатанинских сект. К середине XIX в., несмотря на наличие специализированной католической литературы и вполне ощутимые всплески ортодоксальной реакции, дробление темы разрушило связность сатанинского мифа, особенно в интеллектуальных кругах общества. Бурно процветающий в период с 1845-го по 1860 г. романфельетон с готовностью подхватывает дьявольскую тему. В 1846 г. издатель Гюстав Сандре намеревается заняться переизданием готических романов и организует «Инфернальную библиотеку», однако начинание завершается уже на первом томе. Фантастическая повесть, на которую большое влияние оказал Эдгар Аллан По, практически не оставляет места для традиционного дьявола: авторы предпочитают плавать в океане спиритизма и магнетизма. Фантастическая драма, последние золотые денечки которой приходятся на период между 1845-м и 1850 г., больше нуждается в музыке, феерии и фарсе, нежели в дьяволе, ставшем «для взрослой публики персонажем совершенно несерьезным». Роман, поэзия, театр, опера продолжают эксплуатировать романтический образ демона, однако без особого успеха. Причину этого Макс Мильнер видит в существенном размывании границ между реальным и фантастическим, познаваемым и непознаваемым29.
Не исключено, что причиною непопулярности дьявольского образа является все возрастающая интериоризация понятия Зла. Усилия отдельных католиков, пытающихся оживить традиционный демонический миф, как это делает в 1853 г. Амеде Помье в своем сочинении «Ад», положения не спасают. Сторонники ортодоксальных взглядов прекрасно сознают, что конец Сатаны может стать и концом Бога, то есть типа религии, основанной на страхе перед вечным наказанием, страхе, который постоянно подпитывают жуткие картины ада. Осознают это и в стане интеллектуалов. Разум, наука и промышленность оставляют все меньше и меньше места для огромного сатанинского козла, правящего в преисподней. И козлообразный Сатана, и преисподняя рассматриваются как суеверия необразованной черни; как мы увидим дальше, подобные представления о дьяволе все еще сохраняются в тех социальных слоях, которые по-прежнему жестко контролируются церковью — по крайней мере до II Ватиканского собора. Мыслители, художники, люди, живущие на гребне моды, в массовом порядке отходят от устаревших взглядов, опровергаемых прогрессом мысли и развитием техники. Все устаревшее ассимилируется с реакцией, с подавлением восстаний и революций, а потому подвергается нападкам со стороны агрессивно-оптимистически настроенных вольнодумцев и почитателей науки, занявших места властителей умов. В процессе освобождения от тирании религиозных принуждений и страха перед адом формируется новый тип западной личности. Носительница гипертрофированного «я», личность чаще задается вопросом о своей собственной глубинной сущности, нежели о пребывающей где-то рядом съежившейся фигурке дьявола, высмеиваемого, а иногда и отрицаемого господствующей культурой. Нарастающая мода на автобиографии свидетельствует об активном постижении внутреннего мира. Всматриваясь в самого себя, индивид обнаруживает опасные бездны, незаслуженные обиды и подавленные желания, которые он обязан уметь контролировать, прилюдно сдерживая свои страсти и эмоции, ибо светское умение жить заключается в проявлении утонченной вежливости30. Не зная пока ничего о бессознательном, так как Фрейд еще не сделал свои открытия, индивид уже начинает догадываться о своей потенциальной необычности, о темной стороне своей личности. Мода на вызывание духов в 1853 г., повышенное внимание к делу одержимых в Морзине в 1857 г., объясняются именно этим новообретенным интересом. Середина XIX столетия предстает перед нами как переходный период от эпохи дьявола из преисподней к эпохе дьявольского чудовища, двойника человека, дремлющего в каждом индивиде, длительной фазой распада нервозного христианства, становление которого совпало с началом конфессионального конфликта XVI столетия.
Отныне функционирование европейского интеллектуального универсума подобно призме: в его гранях отражается бессчетное множество нюансов, занявших свое место между вновь поднявшей голову после революции католической традицией и воинствующим свободомыслием, идентифицирующим Люцифера с освободителем народов. «Бог — это Зло, Сатана — это прогресс, это наука», — заявляет в 1877 г. Кальвиньяк. В кипящем котле мысли есть место и крайне тревожным, взаимоисключающим друг друга идеям. Стремясь разрушить саму основу христианства, многие не задумываясь готовы повергнуть публику в шок. К таким разрушителям принадлежит бельгийский художник и гравер Фелисьен Ропс (1833— 1898), создавший цикл из шести гравюр, названных им «Лики Сатаны». В их число входит и насыщенная эротизмом и ощущением присутствия дьявола работа под названием «Голгофа». На красном фоне, высвеченном огнем высоких свечей, заставляющих вспомнить о черной мессе, виден крест, где, подобно распятому Христу, висит некая фигура с дьявольским оскалом; над головой у нее надпись «Вельз»; когтями ног она вцепилась в волосы замершей в экстазе обнаженной Магдалины, чья голова касается раздувшейся мошонки искусителя, над которой вздымается ввысь огромный член. «Изображение преследует вас и не дает покоя», — отозвался об этой гравюре Ропса Гюисманс31. Завороженные дьявольскими таинствами, многие серьезные ученые, исследовавшие традиционные верования и народные поверья, одновременно и разоблачали эти таинства и верили в них. В 1860 г. выходят два сочинения Элифаса Леви «История магии» и «Ключ к великим тайнам», возвестившие о начале мощного наступления иррационализма. И хотя члены существовавших на тот день эзотерических обществ отдали автора на растерзание критике за сумбур изложения и склонность к анекдотам, его книги оказали большое влияние на «невежественную» публику, пробудив пылкий

Фелисьен Ропс. Эскиз к картине "Искушение святого Антония"
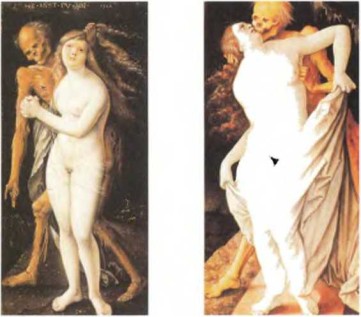
Лукас Кранах Старший. Смерть и девушка. Смерть и женщина

Лукас Кранах Старший. Две ведьмы
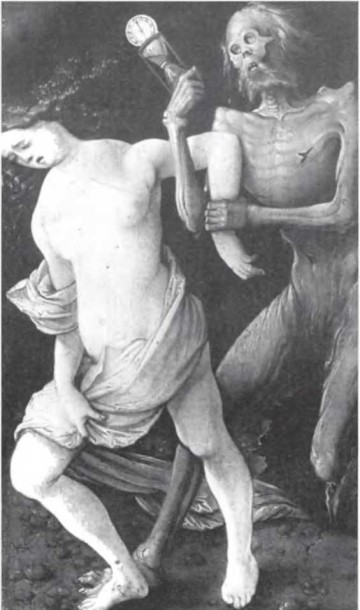
Лукас Кранах Старший. Девушка, преследуемая смертью

Лукас Кранах Старший. Три возраста и смерть

Лукас Кранах Старший. Девушка, женщина и смерть

Питер Брейгель. Триумф смерти
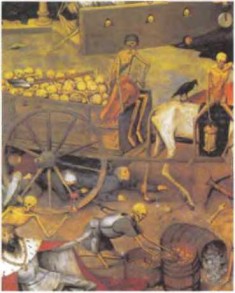

Литер Брейгель. Триумф смерти. Фрагменты
интерес к магии у тех, кто ей толком никогда не интересовался. В последнюю треть девятнадцатого столетия оккультизм вновь оказывается в моде, чему способствуют многочисленные сочинения не только Леви, но и других писателей: Станисласа Гаита («Очерки проклятых наук»), Эдуара Шюре («Великие посвященные») и мартиниста Папюса. Парижское общество усердно трудится над изучением оккультных наук. Гюисманс, Малларме, Мендес, Баррес, Сати, Руо, Пюви де Шаванн и многие другие знаменитости бурно обсуждают вопросы реинкарнации, демонизма, индийских таинств, озарения. Активизируют свою деятельность теософы, мартинисты [Мартинисты - мистическая секта, основанная в XVIII в. Мартинесом Паскалисом; члены ее считали себя визионерами.], адепты учения розенкрейцеров. Создаются новые тайные ложи. Поветрие охватывает как любопытствующих писателей, так и специфические общественные объединения32. Рядовые парижане, а тем более крестьяне, разумеется, далеки от того, чтобы разделять вновь возникшее пристрастие к оккультизму. Хаотичность процессов способствует вызреванию чувства неудовлетворенности у тех, кто, заранее зная, что ответит религия и наука, стремится отвечать самым последним веяниям моды, искусства и литературы. Ослабление влияния религии зачастую способствует усилению социального и культурного влияния. Неудовлетворенность порождает болезни века, затрагивающие не только интеллектуалов. Искусство, литература, рожденный в Вене психоанализ Фрейда, знаменитая повесть Р.Л. Стивенсона «Странная история доктора Джеки- ля и мистера Хайда», изданная в 1886 г., свидетельствуют о нарастании синдрома раздвоения личности. В лечебнице Сальпетриер невролог Шарко изучает женскую истерию, являющуюся как симптомом подлинного умственного расстройства, так и психологического перенапряжения, создавшегося у некоторых пациенток по причине непомерного подавления эмоций, причиною которого является чрезмерно жесткий контроль со стороны семейных или общественных структур. Тирания в сфере семейных отношений и общественных связей стимулирует постепенное формирование новой, нарциссической модели поведения, отбирающей власть Князя Тьмы в пользу «демона», притулившегося внутри человека: разумеется, присутствие его не может не тревожить, но разве это не просто темная, подавляемая сторона личности? Особый, глубокий и в то же время тревожный интерес пробуждает к себе женское тело, его исследуют и познают на всех уровнях, начиная с Мишле, разглядывающего тело собственной жены с неподдельным интересом, и до Фелисьена Ропса, с сардонической улыбкой прикрывающего патологический страх мишурными лохмотьями; где-то между ними проводит свои опыты доктор Шарко.
Творчество Шарля Бодлера (1821—1867) свидетельствует об исключительной амбивалентности переходного периода. Для Бодлера дьявол является существом необычайно близким и одновременно совершенно чуждым. Скептически относящийся к научным объяснениям, отвергающий атеизм, воспитанный в католической, но не ортодоксальной вере, он полагает, что Зло и отчуждение отражают глубинную реальностью удела человеческого. В каждом из этих понятий, пишет он в своих «Дневниках», единовременно сосуществуют две тенденции, одна из которых подталкивает человека к Богу, а другая к Люциферу. Зло и притягательно, и разрушительно. Демон воплощает в себе и поборника свободы, и лицемера. Представляет вполне реальную внешнюю силу: «Самая удачная хитрость дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что он не существует», — объясняет Бодлер и скептикам, и тем, кто превозносит передовые идеи Просвещения. Дьявол воздействует на разум человека при помощи разрушительных образов и желаний. За высказывание «Сатана являет собой самый совершенный тип мужской красоты» и строчку из «Литании Сатане»: «О, любезный Вельзевул, я тебя обожаю», многие обвинили поэта в сатанизме. Образ Сатаны у Бодлера, действительно, необычайно сложный, тем более что на протяжении всей жизни поэта он постоянно трансформировался. С одной стороны, Бодлер, обладавший пессимистическим взглядом на мир, напоминает о важном значении устрашающей религии, царившей на Западе в начале нового времени. С другой стороны, он открывает в самом себе бездны, противоречия, цветы Зла, отыскать корни которых он не в состоянии. Его ученик Верлен также, хотя и не столь глубоко, исследует проблему Зла; для подражателей Бодлера он изобретает термин «проклятые поэты». Рембо посвящает дьяволу «Сезон в аду», где описывает себя как поле битвы, где столкнулись силы Божественные и силы демонические, силы Добра и Зла. Изидор Дюкасс, опубликовавший под именем Лотреамона «Песни Мальдорора» (1868—1869), исследует самые мрачные извивы собственной души; он утверждает необходимость столкновения со Злом в его самых ужасных формах и считает жестокость признаком гениальности и порядочности34.
Дети дьявола
К середине XIX в. в Европе и в Северной Америке популярность демонической темы очевидно упала; в первую очередь с ней начали расставаться наиболее освоенные области философский мысли и искусство. Отныне основное внимание сконцентрировалось на темной стороне человеческой личности, изрядно оттеснив в сторону фигуру Лукавого. Однако эта «великая культурная традиция», воплощенная в образе демона, функционировала в обществе не одна. Базовая грамотность, изучаемая в школе, имела не менее важное значение, чем устная передача традиции и религиозное образование. Совокупность факторов, влиявших на формирование личности, изменялась в зависимости от страны. Во Франции времен Третьей республики распространение обязательного начального образования шло рука об руку с идеями Просвещения и движением за светский характер образования, преодолевая на своем пути сопротивление местных говоров, традиционных верований и христианских воззрений, внушавшихся с помощью катехизиса и действующего института исповеди. В результате в каждом регионе складывалась своя неповторимая культурно-языковая ситуация, никогда не отличавшаяся простотой, так как многочисленные мирки вынуждены были не только взаимодействовать, но и отстаивать свою неповторимость. Оживленные конфликты свидетельствовали о непрекращавшейся борьбе за господство над территорией веры, которую вели ученые-рационалисты с адептами Церкви, выступавшими против использования достижений науки для десакрализации церковных таинств; народ же, оказавшийся между двух огней, одних считал неверующим, других же, наоборот, легковерными и склонными к суевериям. Начиная с конца XIX в. в центр полемики выдвинулся вопрос о гипнотизме. В работе «Дьявол и гипнотизм», опубликованной в 1899 г., Шарль Эло утверждает без обиняков, что явление гипнотизирования основано только на демонических силах. Эрнест-Флоран Пармантье, автор вышедшей в 1908 г. работы «Ведовство в свете новых времен», считает иначе. Прежде, утверждает он, верили, что «прислужники дьявола говорили устами колдунов». Сегодня «на полном серьезе считают, что «духи» разговаривают устами медиума», что, по его мнению, можно объяснить посредством «активности неких психических сил» и «колебаний определенных подсознательных энергий». Дискуссия эта так и осталась бы одной из бесчисленных стычек между верующими и рационалистами, если бы участники ее не стали обременять суды жалобами на «чародейство», разбирать которые было крайне сложно. Ибо если гипнотизм принадлежал к так называемым «дьявольским практикам», то в силу закона от 1892 г. он не подлежал ведению судебных инстанций, но если считать его одной из форм терапевтического воздействия, методом лечения на грани шарлатанства и медицины, значит, дело следовало рассматривать в суде35.
Как и прежде, в XVI и в XVII вв. во время сражений католиков с протестантами, в схватках сторонников ортодоксальных взглядов с защитниками народных магических традиций, в борьбе идей поистине богатейшей ставкой становились детство и отрочество36. Попав под критический обстрел философов XVIII столетия, авторы французского катехизиса стали крайней осторожно ступать на сатанинскую почву, по крайней мере до 1890-х гг.37 В катехизисе, составленном еще при Старом порядке и переиздаваемом на протяжении всего XIX в. довольно сильно сокращена роль дьявола, но имеется утверждение, что колдуны морочат головы и обманывают людей не без его участия; не обходятся без дьявола и суеверия, и все те странные и причудливые явления, что с ними связаны. Новые издания катехизиса, выходившие в 1820—1840 гг., были сделаны по прежним образцам. В учебнике монсеньера Дюпанлу, ставшего епископом Орлеанским, но прежде, с 1837-го по 1845 г. преподававшего основы католицизма в Париже, о дьяволе, не упоминается даже когда речь заходит о прорицаниях и вызывании духов.
Кардинальные изменения происходят только к концу века. Возвращение Сатаны было подготовлено серьезными трудами, авторы которых пытались отграничить вмешательства губительных сил от природных явлений. К ним, в частности, относился и труд аббата Брюлона «Толкование катехизиса», изданный в 1891 г.; автор его категорически отказывался видеть дьявола за феноменами вращающихся столов и поддерживал гипотезу о существовании бессознательного. Похоже, в наступлении на католицизм объединились все его враги; усилилось также влияния протестантизма и прочих ложных верований, все большей популярностью пользовались современные заблуждения, осужденные Пием IX, иначе говоря, атеизм, материализм, рационализм, скептицизм, и, разумеется, франкмасонство. Брюлон ссылался на так называемое просвещенное мнение Лео Таксиля, согласно которому масонские ложи служили прикрытием для адептов Сатаны, подготавливающих его пришествие. Розыгрыш, устроенный в 1890-е гг. Таксилем, вызвал бурную реакцию католической церкви. Спириты и франкмасоны вполне серьезно боролись за отделение церкви от школы и поддерживали усилия Эмиля Комба64, направленные на изгнание церковных конгрегаций и на отделение Церкви от государства. В результате в 1905 г. был принят закон, отделяющий Церковь от государства. Атмосфера накалялась, Князь Тьмы под пером Брюлона вновь набирал силу. И хотя далеко не все католики верили в существование сатанинских лож, тем не менее все прекрасно чувствовали боевой настрой тех, кто хотел навсегда покончить с религией. Дьяволизация спиритизма, похоже, повлекла за собой появление демона во французском катехизисе, где он задержался вплоть до 1910-х гг., а также публикацию в конце XIX в. в парижском издательстве la Bonne Presse «Катехизиса в картинках»38. Гравюры нового иллюстрированного издания катехизиса должны были устрашить детей и отвратить их от семи смертных грехов, изображенных в виде ям, всегда готовых отверзнуться под ногами у виновных, которым суждено рухнуть в царство пламени, где правит гигантский черный Сатана с огромными крыльями и трезубцем.
Под давлением среды сатанинская тема получила аналогичное развитие и в чуждом для нее окружении, то есть там, где католики пребывали в меньшинстве, а именно в недрах протестантского общества. Опубликованный в Париже в конце XIX в. «Катехизис в картинках» в 1910 г. был переиздан в Нидерландах и распространялся с благословения пяти епископов. До 1964 г., иначе говоря, вплоть до исчезновения самого жанра катехизиса, издание 1910 г. способствовало формированию воображаемого подрастающих поколений, противопоставляя добротное христианское воспитание, в результате которого маленький человек должен был превратиться в ангелочка, воспитанию «дитяти дьявола». Дьявольский малыш изображается в виде хулигана, за которым неотступно следует его тень с крохотными рожками, крыльями как у летучей мыши и хвостиком; хулиган является настоящим маленьким демоном, поддающимся на любые искушения, отчего путь его неотвратимо лежит в ад. Наклонная плоскость Зла ужасна. Она начинается с малого: укравший яйцо, украдет и быка. Или еще более конкретно: мальчуган, стащивший пирожное, и сваливший вину на младшую сестренку, непременно станет злоумышленником, и его ангел —хранитель в бессилии будет взирать на него к вящей радости его личного демона, чьи размеры увеличиваются прямо пропорционально росту его подопечного.
Картинки в катехизисе не вызывают ужаса, но вселяют беспокойство, ибо на них изображен вездесущий черный демон и адское пламя, готовое поглотить нераскаявшихся грешников. Повторяющиеся сюжеты картинок внушают чувство страха, который, согласно религиозным установкам, должен внушать человеку как дьявол, так и он сам. Аналогичные иллюстрации украшают нидерландские наставления для детей, идущих на исповедь, выдержавшие с 1927-го по 1953 г. шесть изданий, и переведенные на индонезийский язык. В 1951 г. был издан один из последних катехизисов в картинках, получивший название «Тилбургский». К сожалению, воздействие на детей комикса, насыщенного инфернальными референциями, измерению не поддается. Но можно обнаружить определенную зависимость между исчезновением иллюстрированных катехизисов и отмиранием веры в дьявола среди нидерландских католиков: согласно опроса, в период с 1966-го по 1970 г. число верящих в дьявола, сократилось с 60 до 50%, а во все, что связано с преисподней, — с 50 до 40 %.
Влияние образования, равно как и постоянное воздействие визуального образа не может быть переоценено настолько, чтобы приписать отмеченные изменения только этим двум факторам. И слушатель, и читатель всегда фильтруют сообщения — в зависимости от особенностей собственной личности и от содержащегося в послании культурного заряда. Одних миссионерских картинок, где фигурировали ад и рай, явно не было достаточно, чтобы превратить в образцовых христиан созерцавших их индейцев Америки. В XVII в. благочестивые картинки не сумели искоренить суеверия бретонцев. Все же есть основания полагать, что они способствовали изменению религиозного чувства, а кого-то даже убедили начать поступать иначе, чем он поступал прежде. И преисподняя, изображена на картинках, и ад, что ощущаешь внутри себя, равно вызывают страх; степень воздействия этого страха измерить в точности практически невозможно; остается только довериться исповеди тех, кого долгое время воспитывали исключительно на подобного рода примерах. Так, Юго Кло в своей книге «Печаль бельгийцев» рассказывает о подростке, напуганном ужасами, внушенными воспитателями, постоянно твердившими ему о грехе и демоне40. Принцип подавления желаний был известен не только Фрейду. Оскал Сатаны, о котором напоминают детям, служил критерием для четкого отличия Добра от Зла, напоминал о самоконтроле, с помощью которого любой сможет оказать сопротивление атакам демонов и преградить путь порывам, поднимающимся из глубин его собственной сущности. В 1965 г. некий психиатр рассказал достаточно поучительную историю, случившуюся в стране басков. Ежегодно во время поста к нему присылали девушек из деревень, расположенных поблизости от селения Сен-Жан-Пье-де-Пор: у всех пациенток наблюдались психотические припадки. «В конце концов, — говорит врач, — я узнал, что каждый год в это время молоденький миссионер, несомненно, наделенный даром красноречия, в мельчайших подробностях и с нескрываемым садизмом расписывал в своих проповедях наистрашнейшие муки ада». И психиатр совершенно справедливо сделал вывод что причиною ежегодных заболеваний явилось необычайно обостренное восприятие этих проповедей, обусловленное жизнестойкостью «старых суеверий», на которых густо замешана местная католическая вера41. Нарастание чувства страха у субъекта зависит от его восприятия широкого культурного субстрата. Дети дьявола должны понять, какая опасность грозит им, и какую опасность для других представляют они сами, только тогда они всерьез воспримут устрашающий катехизис. Для этого им надо жить в среде, где царит приверженность к трагическому восприятию человеческой участи, а не в окружении оптимистических воззрений Просвещения или веры в науку.
Дьявольское бессознательное
Гуманитарные науки — изобретение Запада — заняли по-настоящему большое место в сознании людей в тот момент, когда индивид отверг демонологию, знания о дьяволе, и превратил самого себя в главный объект собственной любознательности. Такой интеллектуальный нарциссизм был, в сущности, отходом от веры в Бога, своеобразным гуманизмом, который, подхватив вызов, брошенный мыслителями Ренессанса, ступил на тропу, проложенную философами XVIII столетия. Когорта жаждущих знания бросилась на поиски безумного ученого, личности, соединившей в себе Франкенштейна с мятежным и блистательным Люцифером романтиков. Во всяком случае, в сердце нашей культуры утвердился именно миф о Люцифере, отбрасывающий все дальше и дальше Князя Тьмы. Основополагающая амбивалентность переместилась из космоса в самого человека, существо, непостоянное по своей сути, состоящее из величия и слабости, божественного и инфернального, великого и ничтожного одновременно.
Одним из первых исследователей этой великой, вновь оказавшейся в центре интересов тайны стал доктор Зигмунд Фрейд (1856—1939). Час Фрейда настал в конце XIX столетия: он прибыл в Вену, город, где кипела жизнь, где всюду можно было встретить артистов и художников, город, ставший перекрестком цивилизаций, соединительным звеном между Западной Европой и остальной частью европейского континента. Вряд ли влияние Фрейда было бы столь значительным и сохранилось вплоть до наших дней, особенно в американском мире, где самоанализ под наблюдением психоаналитика стал своего рода обязательным ритуалом, если бы ему не было суждено сыграть роль проводника от одного ментального универсума к другому. Став выразителем глубинных культурных изменений, затронувших Запад, он оказывается как раз на перепутье ускоренно движущейся вперед современности. Тайным кинжалом свершившейся эволюции стал все возрастающий приоритет индивида над коллективом, создавший динамичную атмосферу на континенте, до сих пор пребывавшем прилежным данником велений и нормативов, выработанных церковью, государством и прочими системами, формирующими связи в обществе. И хотя вышеуказанные инстанции никуда не исчезли, а кое-где и вовсе превосходно приспособились к произошедшим изменениям, тем не менее их влияние неуклонно умалялось в пользу возведенного в культ «Моего Я». В интеллектуальном и культурном плане для конца XIX в. на Западе характерно нарастание противостояния между групповым интересом и интересом личности, стремящейся стать самостоятельной единицей и самой устраивать свою судьбу. А в самом центре пересечения силовых линий развития общества стали формироваться новые системы, одни для скрепления расшатанных социальных устоев, другие для утверждения прав личности. Воинствующий национализм, равно как марксизм, претендующий на изобретение человека, освобожденного от своих цепей, принадлежат к системам первой группы. Начавшие постепенно выдвигаться на первый план гуманитарные науки можно рассматривать как вместилища мыслительных образов, способных поддержать чувство принадлежности к коллективу, а также способов выявления неисчерпаемых возможностей субъекта, используемых пропагандистами индивидуальных вкусов и пристрастий. Если роль таких вместилищ для истории или социологии неоднозначна, то для психоанализа, психологии, а также этнологии и антропологии она совершенно очевидна, ибо в этих науках приоритет принадлежит кропотливым исследованиям «на местности». В отличие от естественных наук, основанных на экспериментах a la Клод Бернар65, а также ригидных теорий, допускающих трактовать историю или развитие цивилизации только с застывших и неприкасаемых позиций, гуманитарные науки, действительно, являются в своем роде дочерьми дьявола. Но не потому, как наверняка бы решили их противники, страшившиеся исчезновения традиционного теологического видения человеческого существования. А потому что, возникнув на обломках традиционного сатанинского мифа, они заменили его спуском в бездну того, что первоначально Фрейд и его последователи назовут бессознательным, а затем и еще проще — желаниями, потребностями и правами неповторимой личности, смотрящейся в зеркало и видящей там свое собственное отражение.
Личные идеи Фрейда по поводу Сатаны имеют ограниченное значение. В основном они позволяют уловить затронувший всех его современников процесс «снятия с мира зачарованного покрова», подготовленный в течение последней трети XIX в. многочисленными авторами, приближавшими открытие бессознательного — подобно тому как господин Журден, сам того не зная, разговаривал прозой. По утверждению Луизы де Юртюбей, Фрейд поднял вопрос о дьяволе, занявшись анализом собственной личности. На ее взгляд, концепция дьявола Фрейда состоит из грех понятий. Прежде всего демон является олицетворением темных сил, бессознательных и отторгаемых. Вокруг демона или же вокруг ведьмы выстраиваются пороки, порожденные извращенной детской сексуальностью. Дьяволу достается роль Vatererzatz, заместителя отца- соблазнителя: в начале карьеры эта тема более всего привлекала внимание основателя психоанализа. Третью позицию занимает с трудом пробившаяся идея, которую Фрейд предпочитал подавлять: идея, согласно которой отец-дьявол и женщина-ведьма тесно связаны между собой, образуя «смешанного родителя»42. Заинтересовавшись темой дьявола, Фрейд написал работу под названием «Невроз на почве одержимости демоном в XVII в.» (Eine Teufelsneurose), где анализирует один из договоров с Сатаной, заключенный в XVII в. в Австрии. В одном из писем он сообщал, что выписал себе «Молот ведьм», знаменитый трактат по демонологии конца XV в. и теперь намеревается «с живейшим интересом изучить его»; в этом же письме он толковал поверье о полетах ведьм, убеждая своего корреспондента, что «большая ведьминская метла, скорее всего, является великим господином Пенисом», и высказывал уверенность в том, что ведьмовские извращения являются следами некоего «примитивного сексуального культа»: «Мне кажется, речь идет о крайне примитивной дьявольской религии, обряды которой совершаются в полной тайне»43. Подобные высказывания плохо согласуются с привычным видением того самого Фрейда, для которого Бог и Люцифер всего лишь мифы. Разве не он писал, что дьявол был всего лишь коллективной иллюзией, построенной по модели параноидального бреда, и подтвержденной исключительно фантазмами? «Для нас демонами являются дурные желания, достойные порицания, порожденные подавленными и отторгнутыми побуждениями. Мы просто устраняем изображение, созданное Средневековьем из этих порождений психики и вытолкнутое им во внешний мир; мы позволяем им родиться во внутренней жизни больных, там они и остаются («Невроз на почве одержимости демоном в XVII в.»). При такой трактовке происходит «демонизация» побуждений, ибо сами по себе побуждения не являются ни дурными, ни хорошими, и только осознание их в системе нравственности заставляет расценивать их как дурные. Как делает вывод один из комментаторов, для Фрейда демонические силы не являются дурными в отличие от «высшего принципа, сверх-я, Бога-отца, отвечающих за нравственные законы и стремящихся отринуть очень важную часть психической жизни человека»44.
Не желая ссориться с великим психоаналитиком, чья мысль никогда не стояла на месте, особенно во вторую половину его жизни, когда его интерес к феноменам цивилизации резко возрос, отмечу лишь важное внутреннее противоречие, связанное с образом Сатаны. Разве демон не ассоциируется у него с идеей смерти, как ассоциировался он у Ранка в 1914 г.? Исследователь духовного наследия Фрейда Луиза де Юртюбей заметила непоследовательность в подходе Фрейда к демону, ибо «тревога, связанная с imago дьявола, приводит в действие разнообразные механизмы защиты, но в основном неудачные, не способные воспрепятствовать появлению странных, алогичных или обманных сущностей»45. Наверное, лучше на этом остановиться, воздав должное Фрейду, явившемуся в мир в одну из его наиболее тревожных переходных эпох. Среди простонародья вера во внешнего дьявола, без сомнения, оставалась доминирующей. У детей ее поддерживали преимущественно с помощью уроков катехизиса по крайней мере во Франции и в Нидерландах. Было бы любопытно узнать, что значил дьявол для юного Фрейда и его сверстников. Совершенное Фрейдом открытие бессознательного предполагало, что он наверняка был способен укрощать страх, возникавший при обращении к теме нечистого, пусть даже прибегая к способам не всегда последовательным и логичным. В то время внутренний демон не был привычной безопасной литературной игрой для интеллектуалов, охваченных, хотели они того или нет, пламенем мощной христианской культуры. В таких условиях становится более понятен хорошо известный пессимизм Фрейда, равно как и многих мыслителей и художников «конца века». Но Фрейд не просто отвергает страхи, связанные с дьяволом: из глубины его сущности иногда поднимается совершенно нелогичная вера в культ Сатаны, а, следовательно, в реальное существование этой фигуры, которую он в другом месте назвал мифической. В 1921 г. английский египтолог Маргарет Мюррей, следуя его примеру, претендует на «научно обоснованное» доказательство реальности шабаша ведьм, усматривая в нем тайное выживание культа рогатого европейского Бога46. Человек своего времени, Фрейд также отталкивается от романтической концепции мятежного ангела, вдохновлявшей Гюго и Делакруа. Но в силу своей профессии его влекут к себе извивы человеческого подсознания, он рассматривает мятеж против Бога как модель отношений сына, отвергающего приказы тиранического Бога-отца, и отца, принудившего сына отринуть свои неосознанные устремления, превратив их в дьявольские. В реабилитации этих устремлений нет ничего от сатанизма. Она, скорее, сродни движению по снятию вины с личности, широко распространившемуся в то время в Европе. Но если вы выгнали дьявола в дверь, он влезет в окно, но уже без своих христианских лохмотьев, почти такой же прекрасный, как Люцифер, выведенный на сцену романтиками, и наделенный комплексом нарциссизма, порожденным прогрессом культуры индивида.
Путь, ведущий к превращению Лукавого в метафору жизни, секса и смерти, и — доводя самокопание до высшего предела — позволяющий заявить: «дьявол — это я», необычайно длинен47. Однако тех, кто идут по этому пути, было немало как до Фрейда, так и в одно время с ним, и им совсем не обязательно разделять воззрения знаменитого венца. Ибо для процесса интериоризации демона в большой степени характерна смена взглядов, как политических, так и религиозных, уход из искусства и обратный процесс, а иногда даже сохранение веры — в большей или меньшей степени — в стародавнего инфернального Сатану. Популярный романист Поль Феваль в 1874 г. сочинил «Город-вампир», пародию на готический роман, где главной героиней стала сама Анна Радклиф. И все же Селена, город-призрак с тысячами могил, все еще допускает существование дьявола вне разума, занятого мыслями о нем. Урок повторяется в 1897 г., в знаменитом романе «Дракула» Брэма Стокера, вдохновившего Фридриха Вильгельма Мурнау на создание знаменитого фильма «Носферату» (1922). Известно, что укус вампира неизбежно приводит его жертву в стан живых мертвецов. Полностью уничтожить вампира сможет только та милосердная душа, которая забьет осиновый кол в сердце этого существа, давно уже утратившего человеческие свойства. Два царства, дьявольское и человеческое, четко разграничены: укушенный страшными зубами вампира переходит извторого в первое, и обратно ему возврата нет. За десять лет, с 1850-го по 1860 г., Эмиль Эркман и Грасьен-Александр Шатриан пишут несколько фантастических повестей, где границы обоих царств становятся более размытыми. Авторы заворожены тем, что есть в человеческой натуре от зверя. Их герои превращаются в животных, традиционно связанных с миром Сатаны: сову, филина, кошку, ворона, летучую мышь или даже грозного хищника из рассказа «Гюг-волк». Литературная нить вышивает по канве дедовских верований, и узор ее заставляет содрогаться от страха перед тем, что скрыто в человеческих глубинах. В этот узор вплетен сумеречный и жестокий мир Огюста Вилье де Лиль-Адана, тонкого знатока творчества Эдгара По и американской литературы, писателя, умеющего создавать ужас и вселять тревогу необычайно простыми средствами — описывая испорченные души; говорили, что в рассказах его «виден не дьявол, а лишь плоды его трудов».: «Жестокие рассказы» (1833), «Трибюла Бономе» (1887), «Новые жестокие рассказы» (1888). Писатель находился под сильным влиянием спиритизма и эзотеризма; например, в рассказе «Предзнаменование» молодой человек оказывается в обществе священника, уже перешагнувшего границу смерти, о чем свидетельствует плащ, некогда покрывавший гробницу. Ги де Мопассан (1850—1893) без всяких дьявольских штучек, а просто описывая обыденную жизнь второй половины XIX столетия, неожиданно сталкивается с вторжением из потустороннего мира («На воде», 1881), с нарушением сложившегося порядка («Привидение», 1883), с необычным («Магнетизм», 1882). Прозорливый пессимист и безжалостный психолог, писатель вплоть до наступления безумия исследует самого себя, нагоняя на читателя ужас, порожденный, без сомнения, его собственными страхами48. Современник Фрейда, он принадлежит к числу тех, для кого в цивилизованном мире нарастает чувство дискомфорта, ибо открытие личности, не поддерживаемой как прежде столпом веры, превращается в тяжкое бремя.
«Приручить тьму»
Дальше всех по дороге сомнения уходят те, кто, столкнувшись с наступлением позитивизма и сциентизма, начинают дерзко выступать против любых философских установок. Во Франции этих людей называют декадентами. С восторгом встречающие все тревожное и нездоровое, они со свойственным юности нетерпением ставят перед предержащими бразды правления нешуточные вопросы о неизведанном и сумрачном49. Эпоха всплеска интереса ко всему иррациональному сопровождается постоянными стычками Церкви, ощущающей нависшую над ней угрозу, с ее многочисленными хулителями. Как уже было отмечено, фигура дьявола вновь обрела силу в речах и в детском катехизисе. Появляется Лукавый и в самом сердце необычайно сложного, подвижного универсума сверхъестественного, порожденного воскресшим интересом к оккультизму и сатанизму, начавшемуся в последнем десятилетии XIX в. Многочисленные посмертные издания сочинений Элифаса Леви — например, «Книга сокровищ» (1894), «Великий Аркан, или Разъясненный оккультизм» (1898) — активно способствуют распространению моды на дьявольскую тематику. Писатель Барбе д’Оревильи, с трудом сдерживая энтузиазм, с невиданным восторгом превозносит роман Жозефена Пеладана «Смертный грех», первый том задуманного цикла из 21 произведения, посвященных «Латинскому декадансу» периода 1884—1908 гг., где автор намеревался показать, как высшие силы вершат человеческие судьбы.
Подготовка к возвращению демона была начата в 1874 г изданием 2 200 экземпляров сборника Жюля Барбе д’Оревильи «Дьявольские истории», работа над которым была начата еще в 1858 г. Автор, убежденный сторонник традиционных католических ценностей, исследует в 6 новеллах тему порока и коррупции, и в каждой непременно выводит на сцену женщину, создание, губительное par excellence. В рассказе «Изнанка карт» мадам Страсвиль убивает свою дочь и младенца, зачатого в результате нечестивой любви, а затем с сознанием выполненного долга принимает яд. Возможно, сам того не замечая, Барбе вновь вступает на тропу морализаторства, свойственного , трагическим историям и в частности историям, сочиненным епископом Камю в начале XVII в.50 Исполненная горести участь человеческая, какой ее видели современники великой охоты на ведьм, в эпоху торжества позитивизма вновь обретает свой мрачный блеск. Персонажи, обуреваемые тягой к роскоши, гордыней, истерией или иными тщательно скрываемыми пороками, представлены людьми из плоти и крови, что дает благомыслящим согражданам основание для возмущения и поставляет всевозможные элементы для литературного процесса. Словом, дьявола возвращают из изгнания, предоставив ему возможность продолжить свою вакханалию в самых глубинах человеческой души: происходит своеобразный синтез церковных традиций и современной культуры со свойственным ей индивидуалистическим началом. Обвиненный в подрыве моральных устоев общества, Барбе д’Оревильи подвергается преследованиям: это существенно способствует успеху его книги. Творчество его оказывает значительное влияние как на христианских писателей, таких, как Гюисманс до и после своего обращения, Леон Блуа и Леон Доде, так и на «декадентов»: Жана Лоррена, Октава Мирбо, Пьера Луиса, Жюля Буа.
Следуя примеру старшего товарища, ближайший друг Барбе, Леон Блуа также пишет об отчаянии человека, утратившего Бога. Стремясь внушить людям «священный страх перед вечным проклятием», он в своих сочинениях «Кровавый пот» (1893) и «Неприятные истории» (1894) описывает «гниение души», причиною которого являются происки Лукавого, противодействующего божественному плану организации универсума. Перу Жюля Буа, являющегося, как и Пеладан, «чародеем» и страстным поклонником эзотеризма и символизма, принадлежат множество художественных произведений, исторический труд «Сатанизм и чародейство» (1895) и очерк о «метемпсихозе», озаглавленный «Современное чудо» (1907). Блистательно исполняет роль культурного проводника и Жорис-Карл Гюисманс (1848—1907). В романе «Наоборот», изданном в 1884 г., он, отбросив модные эстетические веяния, обращается к ценностям забытых или вышедших из моды творцов, таких, как Сера, Фелисьен Ропс, Верлен, Вилье де Лиль-Адан. В романе «Там, внизу», опубликованном в 1891 г., он продолжает развивать свои идейно-эстетические взгляды, описывая пагубный ажиотаж современной ему парижской жизни. Выводя на сцену образ Жиля де Ре, Гюисманс связывает сатанизм прошлого, каким его видели демонологи, с сатанизмом своего времени и в частности с черными мессами, практикуемыми адептами тайных обществ. Демонические ритуалы, завершавшиеся коллективными оргиями, поистине завораживают людей начала первого века второго тысячелетия: в 1903 г. Габриэль Леге издает труд «Черная месса» об участии в черных мессах мадам де Монтеспан. В конце того же года журнал L’Assiette au beurre66 публикует номер, полностью посвященный сатанизму51. Однако «декадентская» мораль, без сомнения, претерпевает кризис идентичности, с тревогой обнаруживая, что Париж не является ее единственным пристанищем: вдали от него ее адепты — в иных формах — еще громче воспевают ее идеалы: Фрейд в Вене, Роберт Луис Стивенсон и ирландец Оскар Уайльд в Англии. Обожаемый островными интеллектуалами вплоть до своего скандального процесса 1895 г., Уайльд оказывает большое влияние на французов и на моду; в частности в январе 1892 г. в Париже с его легкой руки модными становятся зеленые гвоздики, символизирующие «эстетизм Уайльда, продолжением которого являлись его нравы». Отчаянное выдвижение собственной личности сопровождается обостренным чувством трагизма, хотя, быть может, у него оно не столь навязчиво, как у Стивенсона в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» (1886), еще одном исследовании душевного «подполья» личности. В 1911 г., в Нью-Йорке единомышленник Фрейда Эрнст Джоунс издает книгу «Ночные кошмары, ведьмы и демоны»32. Он полагает, что христиане совершенно справедливо считают дьявола своим главным врагом, ибо в образе его сосредоточены энергии либидо, которое религия пыталась искоренить. Для него все фигуры Зла, а особенно ведьмы, связаны с проблемами власти и подавления. Демон может символизировать как ненависть отца к сыну, так и бунт сына против своего родителя: узнаваемая мешанина из христианских, фрейдистских и романтических воззрений, ставшая фундаментом американского способа самоконтроля посредством психоанализа, в основу которого заложены религиозно-моральные ценности.
Завороженность пороком, прослеживающаяся в творчестве Жана Лоррена (1855—1906), свидетельствует о действующем во Франции аналогичном культурном механизме. «Созерцатель нечистых душ», как именуют одного из персонажей его романа «Господин де Фока» (1901), Лоррен воспевает тщательно скрываемые пороки. Ни люди, ни предметы никогда не являются тем, чем они кажутся на первый взгляд. Для него весь мир отмечен печатью одержимости, тайно обуреваем зловредными силами, насыщен ложью, извращением, безнравственностью: это настоящая преисподняя, где действуют маски, сквозь которые проникает острый взор писателя, пьянящая реальность, сбивающая с толку своим поразительным сходством со сном. Но если определить общественные силы, способствовавшие возвращению сатанизма, достаточно сложно, то совершенно ясно, что сам феномен вышел далеко за рамки узкого круга тайных сектантов и избранных поклонников декадентской литературы. Морис Ренар (1875—1939) публикует десятки рассказов о сверхъестественных явлениях, и многие из них появляются на страницах таких крупных газет, как Le Matin67. Внимательно следя за последними достижениями науки, он использует их в своих бульварных фантазиях, примером которых может служить роман «Доктор Лерн» (1908), где действует безумный ученый, необычайно напоминающий Франкенштейна; образ такого ученого и по сей день бередит воображаемое западного человека, о чем в частности свидетельствует целая серия фильмов о Джеймсе Бонде. Проповедуя могущество разума, Морис Ренар тем не менее напоминает, что «все может существовать иначе». В рассказе «Неподвижное путешествие» (1909) мужчина соблазняет женщину, с помощью волшебства заставив ее приходить к нему в точно назначенное время, и она продолжает делать это даже после своей смерти, несмотря на то, что с каждым разом тело ее несет на себе все больше следов тления. Ужас порожден вещами вполне банальными. Автор подобного рода «ужастиков» хочет заставить читателя ощутить нечто, неподдающееся познанию, но вместе с тем роковым образом присутствующее в человеческой жизни. К нему присоединяется Жозеф-Анри Рони-старший, уроженец Брюсселя, автор изданного в 1887 г. романа «Ведьма». В романе «Молодая вампирша» (1920) героиня неоднократно задается тревожным вопросом о своей собственной природе, «необычной для этого мира». Анализируя явление вампиризма в «наукообразной манере», рассматривая его как своего рода болезнь, писатель, напротив, ослабляет у своих современников веру в науку, ибо тут же приоткрывает дверь навстречу сверхъестественному, выражая убеждение в возможности существования на земле не только расы людей, но и других разумных существ, к которым относятся вампиры. Тема скрытой угрозы, исходящей от чуждого, инородного разума, будет активно подхвачена как в Америке, где найдет своей яркое выражение в телесериале «Секретные материалы» (X-files), так и в Европе, где также проявился интерес к подобного рода сериалам ужасов. В мире, где постоянно нарастает процесс индивидуализации и психологизации понятия Зла, подобные пристрастия являются отражением очередной формы выживания представлений о внешнем дьяволе, утратившем свое классическое христианское обличье. Ужас порождается страхом как перед тем, что не принадлежит к человеческому миру, так и перед тем, что прячется в глубине души любого из нас. Каждый автор исполняет свою партию в выбранной им тональности, начиная от решительного, научно обоснованного отказа от веры в сверхъестественное, до апофеоза этой веры, когда сверхъестественное представлено в виде внутреннего демона или загадочной угрозой извне.
Наиболее тревожным моментом нарастающей популярности дьявольского дискурса является развитие сатанизма как эзотерической доктрины, руководящей социальными, крепко сплоченными группками. В 1893 г. доктор Батай издает труд «Дьявол в XIX в., «где содержатся откровения Дианы Воган, бывшей жрицы Палладиума, секты поклонников Люцифера, состоявшей в основном из евреев и франкмасонов. Она заявляет читателям, что, раскаявшись, решила разоблачить заговорщиков, стремившихся захватить власть над миром. Как свидетельствует журнал La Croix, дело привлекает внимание католической общественности. Даже благочестивая монахиня Тереза из Лизье, канонизация которой состоится в 1925 г., обращается к Диане Воган с письмом53. Поэтому легко себе представить, какой скандал разразился в 1897 г., год смерти Терезы и публикации написанной ею автобиографии «История одной души», когда антиклерикальный журналист Лео Таксиль публично заявил, что никакого Палладиума и никакой Дианы не было, и вся эта история является его собственной выдумкой. Особенно тяжело переживали розыгрыш церковники: в последнее десятилетие века Церковь, давно занявшая оборонительную позицию, намеревалась, потакая вкусам публики, вновь поместить демона в катехизис. История эта свидетельствует о непрекращающейся борьбе за господство в культурной и духовной сферах, а также о важности сатанинского воображаемого для тогдашнего общества, пронизанного идеями рационализма и научного прогресса. Однако речь идет не о простом возвращении традиций веков минувших, а о новой волне сверхъестественного, переосмысленного различными писателями и художниками. Успешное интеллектуальное охмурение становится понятным только на фоне пессимизма, монополия на который уже не принадлежит Церкви. Чтобы справиться с собственными страхами, многие прибегают к помощи литературных и художественных страхов, одни ищут способы позабыть об одиночестве человека, оставшегося без Бога, другие стремятся укротить зверя, спрятавшегося в недрах их собственного тела, третьи стремятся заклясть привидения, вампиров и демонов, которые, по их мнению, во множестве расплодились повсюду, хотя зачастую и являют собой персонажей, значительно менее ортодоксальных, чем прежде. Ни зарождающийся психоанализ, ни утрата некогда присущих миру магических чар не благоприятствовали формированию оптимизма; множащиеся причины для страхов давали понять, что нет ни одной системы, способной полностью расшифровать мрачную книгу природы; не может этого ни торжествующая наука, порождающая безумных ученых или безмерно горделивых Франкенштейнов, ни религия, над которой теперь можно безнаказанно смеяться. На этой нездоровой почве собственно сатанизм вполне мог прорасти как крайнее выражение отказа от общепринятых догм, как утверждение неповторимой истины, обрести которую можно только в необузданных устремлениях индивида, этого единственного повелителя окружающей его вселенной, где нет места надежде. Ибо все программные заявления основателей сатанинских сект, в сущности, являются замаскированным утверждением приоритета темперамента личности, надрывный отказ от любого Бога, любого иного проводника, кроме самой личности. Сатанисты идут на поводу у своих бессознательных устремлений и желаний, открытых к этому времени психоанализом, и одновременно усваивают новую идею, согласно которой подавление этих темных сил самой личностью является фактором положительным, в то время как контроль извне следует отвергать, ибо его воздействие сказывается негативно. Стремясь полностью освободиться от чувства вины, сатанисты перестают считать себя членами общества, полагая таким образом приблизиться к своему идеалу. Один из основателей такого типа сатанизма, Алистер Кроули (1875—1947), родившийся в английской пуританской семье, начинает интересоваться эзотеризмом после окончания курса в Кембридже. Став в 1912 г. членом Ордена Восточного Храма (ОВХ), он организует отделение Ордена в Англии. Приняв имя Бафомета, бисексуального идола, в поклонении которому обвиняли тамплиеров во время суда над ними, он одновременно извлекает на свет символы оккультизма, что ясно указывает на родство с идеями Элифаса Леви. В 1920 г. на Сардинии Кроули создает обитель сатанистов, где устраивают сексуальные оргии, во время которых участники их принимают наркотики. После смерти одного из участников Кроули был выслан из страны. Он умер в Соединенных Штатах, оставив после себя множество различных работ и основанный им журнал Luzifer. Среди его учеников числятся Кеннет Грант, Чарльз Стэнфилд Джоунс и Уилфред Смит, лица, стоящие во главе ОВХ, равно как и основатели диссидентских групп «Ангелы ада» и «Прислужники Сатаны». К подобного рода деятелям принадлежит также основатель «Церкви последнего суда» Чарльз Менсон. Его приверженцы убили пять человек, среди которых Шарон Тейт, супруга кинорежиссера и актера Романа Поланского, погибшая в 1969 г.; прежде чем уничтожить свои жертвы, убийцы их кровью делали на стенах сатанинские надписи. Как будет показано ниже54, такого рода преступления происходят в Соединенных Штатах и в наши дни.
Бумажный дьявол?
По сравнению с сатанинским нашествием в конце века XIX в., в первой половине XX в. люди практически раззнакомились с дьяволом. Разумеется, проблема Зла никуда не исчезла и продолжала будоражить и терзать умы на протяжении двух мировых войн, особенно во время Холокоста. Сатана оставался советчиком только в узких специфических кругах, в основном же образ его, съежившийся до размеров бумажного дьявола, обрел местожительство на страницах литературных сочинений, хотя современные литература и искусство относились к нему с гораздо меньшим вниманием чем прежде, заставляя его отступать на второй план. Кривая снижения интереса к дьяволу, берущая начало в XVIII столетии, решительно поползла вниз. Впервые после обращения Константина все больше людей Запада стали отходить от христианской традиции — зачастую исключительно по причине банального невежества и незнания ее основ. Такое положение сложилось в угледобывающем регионе на севере Франции, где дехристианизация была проведена весьма рано. Посещать церковь продолжали только женщины, да и то иногда по воскресеньям, в то время как мужчины проводили время в кафе, играли в коллективные игры, состязались в стрельбе из лука, играли в шары, гоняли голубей. Сюда, на угольные шахты, приезжало работать множество поляков, и все они отличались крайней набожностью, не свойственной никаким другим рабочим, обычно находившимся под влиянием либо профсоюзов, либо коммунистов или социалистов. Для всего XX в., а не только для второй его половины55, характерен отход от соблюдения религиозных обрядов, причем в каждой стране процесс этот обладал своими локальными характеристиками. Часть пустоты, образовавшейся на идеологическом поле, заполнилась марксизмом, идеологи которого предлагали, уповая на новые идеалы, возложить все надежды на прогресс истории и освобождение человека. Возникало все больше учений, основанных на постулате о положительном характере человеческой натуры, или же просто подвергавших сомнению преходящие ценности, выдвигая на их место ценности нравственные. Призывы, исходившие от мечтателей о социальной утопии и адептов возвышения индивида, разумеется, были разные, однако все они дружно обрушивались на веру в сурового и непоколебимого Бога, лишившего людей права распознавать его замыслы; эта борьба подрывала и основы давних страхов перед дьяволом.
Несмотря на все свои усилия, а иногда даже на усилия своих самых рьяных противников, существующие конфессии не сумели затормозить движение европейского механизма выдвижения на первый план личности, индивида, индивидуальной свободы, приведшего во второй половине века к катастрофическому снижению процента населения, исполняющего религиозные обряды. Этот процесс находит свое отражение в литературе, где проблема демона переходит из разряда первостепенных в маргинальные. Теперь демон интересует лишь немногих крупных христианских писателей или же авторов таких специфических жанров, как фантастический, бодрым шагом идущий к смычке с научной фантастикой, или полицейский роман, где еще сохранились отголоски «черного» романа, в свою очередь связанного с трагическими историями XVI в. Уведя людей из церкви, Сатана уходит из умов. Уходит на время, чтобы в последней трети века, уже на совершенно новых, не имеющих ничего общего с прошлыми основах вновь возродиться во всей своей красе в наипопулярнейших и наиновейших средствах массовой информации.
Писатель Пьер Мак-Орлан (1882—1970) дает свою интерпретацию снижения интереса к теме. В 1920 г. в романе «Негр Леонар и мэтр Жан Мулен» он придумывает ситуацию, когда Зло полностью исчезает с лица земли. Но уже в 1923 г. в романе «Злость» он извлекает на свет идею договора с дьяволом, а в романе «Ночная Маргарита» (1924) исследует миф о Фаусте. Обладая умением возбуждать разум без излишних потрясений, придавать событиям характер необычного, овевать магическим ветерком многочисленные полицейские загадки, автор продвигается по стезе, лавирующей между фантастическим и криминальным. Следуя его примеру, Пьер Вери, Александр Арну, Жан Кассу также вторгаются в сферу таинственного, но без особого успеха. Марсель Эме (1902—1967) изобретает призрачный мир, окрашенный юмором и иронией, и населяет его «Зеленой кобылкой» (1933), «Человеком, проходившим сквозь стены» (1943), «Вуиврой» (1943). Многие черпают сюжеты в народных источниках: в сказках и легендах; так, Вуивра, девушка, повелевающая змеями, родом из народных поверий департамента Юра. На основе бретонских поверий Анатоль де Враз сочиняет «Сказки солнца и тумана». Используя легенды как обрамление, автор сосредотачивает внимание на особом восприятии смерти, которое в Бретани персонифицировано в образе анку. Сверхъестественное — это нечто туманное, еще более непроницаемое, чем туман, окутывающий землю. В романе «Гаспар с гор» писатель Анри Пурра воспевает исконный уклад жизни овернской деревни, работает над составлением «Сокровищницы сказок», 13 томов которой издаются с 1948-го по 1962 г., пишет исполненные вдохновения романы «Сельская ведьма» (1933) и «Человек с волчьей шкурой» (1950). В творчестве Клода Сеньоля фантастические произведения — «Дьявол в сабо» (1959) и «Оборотень» (1960) — чередуются с фольклорными сборниками, среди которых выделяется объемное «Евангелие от дьявола» (1964). На протяжении его 900 страниц демон, такой, каким его представлял себе простой народ, редко появляется мохнатым и рогатым, как его рисует теологическая традиция; чаще всего он действует через своих слуг-людей: колдунов, вожака волков, одержимых, чародеев, колдунов... Осмеянный, одураченный, наделенный едва ли ни теми же страстями, что и его жертвы, черт может даже умереть, если кто-нибудь отыщет и разобьет яйцо, где заключена его жизнь56. Но значит ли это, что Князь Тьмы перестал пугать простого крестьянина? А может, он никогда и не внушал ему того страха, о каком пишут в канонических текстах или же говорят церковники, отправляющиеся из города в деревню заклинать нечистого? Или же следует предположить, что подобно всему остальному обществу, деревенский мир претерпел большие культурные изменения, приведшие к тому, что пальма первенства была отдана внутреннему демону, оставившему позади рогатого черта? В современной деревенской культуре пагубное присутствие нечистого заметно по-прежнему, но, скорее, как символа извращенных человеческих инстинктов, а отнюдь не в виде большого Сатаны из преисподней, карающего грешников. Подобные выводы были сделаны на основании полевых исследований, проведенных в 1970 г. одним из ученых-этнологов, отправившихся в поисках колдунов на запад Франции. В рассказах, собранных в тех краях, нет классического дьявола, но они изобилуют злыми силами, всегда связанными с человеческими страстями57. Быть может, сатанинская вакцина, привитая во времена охоты на ведьм, сошла на нет вместе с той наводящей страх культурой, которую она содержала в себе? Не совпадает ли срок действия этой вакцины с завершением некоего особого периода длиною в несколько веков, позволяющего разобраться, почему в деревне проще вызвать внутреннего демона, чем привнесенного со стороны трансцендентного Лукавого? Во всяком случае, совершенно очевидна необходимость в ускорении темпов сбора этнографического материала, проводимого под руководством многих ученых, среди которых одним из самых авторитетных, без сомнения, является Арнольд Ван Геннеп, автор 8 внушительных томов «Учебника современного французского фольклора», создававшегося с 1937-го по 1958 г. Ибо каждый раз, когда умирает один из обладателей коллективного фольклорного капитала, вместе с ним, по утверждению исследователей, неизбежно исчезает и частица самого капитала; отсюда настоятельная потребность срочно описать все то богатство, которым он владеет. Записанные тексты окрашены ностальгией по уходящему миру. Не выдержав натиска современности, Люцифер покидает бал, где он когда-то был главным, ему уже нет места ни в деревне, ни в универсуме интеллектуалов, ибо и там и тут стремительно идет процесс десакрализации повседневности, как бы ни пыталась замедлить его горстка писателей.
Некоторые из этих писателей упорно ищут признаки присутствия демона, например Жорж Бернанос находит их во всех своих сочинениях. В романе «Под солнцем Сатаны» (1926) он находит демона, а затем в романе «Господин Уинн» (1946) обнаруживает, что демон тесно связан с человеком, с тоской, с жизненными трудностями, и не способен действовать без сообщничества своей предполагаемой жертвы. Аббат Дониссан, герой романа «Под солнцем Сатаны», встречает дьявола, переодетого барышником, после того как до такой степени развил в себе чувство самопожертвования, что добровольно захотел стать жертвой дьявола. В результате, дойдя до крайней степени истощения, он принимает помощь демона; но не покидающий и оберегающий его дух молитвы подает ему спасение. Аббат подчиняет себе Сатану. Но пытаясь выведать у Сатаны его тайну, он совершает грех гордыни и дает дьяволу возможность убежать58. Напоминая о религиозном догмате, христианский писатель все же вводит в рассказ смягчающие обстоятельства, обусловливающие все возрастающую психологизацию демонологической концепции: он заставляет усомниться в реальности пережитого аббатом Донисаном, оставляя возможность предположить, что всему случившемуся аббат обязан галлюцинации, возникшей из-за крайнего утомления и сурового поста. Такой подход к дьяволу весьма напоминает подход Достоевского, изобразившего в «Братьях Карамазовых» (1878), романе, безжалостно анализирующем самые темные стороны человеческой личности, дьявола предельно будничным, слегка потасканным, седеющим субъектом, страдающим ревматизмом. Можно также вспомнить и «Влюбленного дьявола» Казота: в этом первом исследовании внутренней бездны, где может укрываться Зло, сон с трудом отличим от яви. Томас Манн, вышивающий своего «Доктора Фаустуса» по старой демонологической канве, знает, что демон неуловим, и постичь его можно только через человеческое бытие. Напротив, Дени де Ружмон в своем труде «Доля дьявола» (1945) пытается оживить утративший силу миф. Автор видит дьявола везде, он выглядывает из-за спины Гитлера, из-за плеча Сталина, обнаруживает себя в каждом проявлении человеческой страсти59. Погружая его во вселенский океан Зла, автор способствует окончательной утрате веры в традиционное определение повелителя преисподней, равно как и в понятие упорядоченного космоса, оправдывавшего начиная с XVI в. существование нечистого. Тем более, что фигура Гитлера и без совмещения с образом Лукавого внушает безымянный ужас. Разве не ее использовали сербы, клеймя Билла Клинтона, а американцы — обвиняя сербского президента в марте 1999 г., после вторжения войск НАТО в Косово? Растворение демонического мифа начинается в первой половине XX в. В 1948 г. вышел толстый специальный номер одного из католических журналов, целиком посвященный Сатане; в нем представлен широкий спектр мнений по теме, от экзорцизма, рассматриваемого как необходимое средство борьбы, до речи Франсуа Дольто, где на фоне религиозных понятий подход к проблеме Добра и Зла был сформулирован с классических позиций психоанализа — через проблему подавления желаний во имя внушенных воспитанием принципов90. Отныне многочисленные культурные посредники черпают из кладовой демонических образов простые референции, не утруждая себя уточнением конкретных черт, так, словно бессознательное читателя автоматически пребывало в состоянии подключения ко всему глубинному комплексу смутных и тревожных эмоций. Упрощенными популяризаторами фантастического стали школьные романы, выходящие в серии Fleuve noir (букв. «Черный поток»), созданной одним из издателей и включившим ее в свою коллекцию Angoisse (букв. «Тревожный страх»), начавшую выходить в 1950-е гг.; среди авторов серии числятся Б.Р. Брюс (псевдоним Роже Блонделя), Курт Штайнер (псевдоним Андре Рюэллана) и Бенуа Беккер, возродивший ученого Франкенштейна. Испытывая влияние англосаксонской школы, где владычествует Г.Ф. Лавкрафт, они тем не менее часто направляют сюжет в реалистическое русло, выстраивая его как детективную историю или просто мрачный рассказ. Писатели вновь открывают направление, вобравшее в себя народный роман-фельетон и повседневное фантастическое; истоки его восходят к трагическим историям, однако сегодняшние авторы, желая смягчить воздействие «ужаса» на читателя, нередко подмигивают ему между строк или же, подобно Гастону Леру (1862—1927), мистифицируют его61. Любопытно, что один из сыновей Бернаноса, Мишель, под псевдонимом Мишель Тальбер также писал «черные» романы, например «Смерть не дремлет» (1964)62.
Литературно-художественные метаморфозы дьявола в Европе XX столетия явно не поддаются обобщению. Можно всего лишь поставить несколько вешек, напомнив таким образом об исчезновении единого западного видения Добра и Зла, такого, каким оно было в XVII в., после которого национальные культуры, в зависимости от своей специфики, принялись свободно приноравливаться к использованию дьявольской тематики. Во Франции, где восторжествовали светские принципы, образ дьявола становится крайне расплывчатым, практически невидимым, а все, что от него осталось, тонкой туманной струйкой просачивается в выстроенный по законам реализма детектив. Во французском детективе присутствие демона ощущается значительно слабее, чем в детективе англосаксонском, воспринявшем традиции черного романа, и уж тем более не сравнимо с присутствием демона в американском триллере, где нечисть буквально кишит на каждом шагу. Продвигаясь дальше на Восток, мы попадаем в Австро-Венгерскую империю, где сформировалось собственное видение явления. В основу его легли как взгляды Фрейда, так и трех пражских евреев, родившихся в 1882 — 1883 гг., — Франца Кафки с его « однообразной чередой кошмаров», Эрнста Вайса, яростно переписывавшего «историю преступлений одной души» и Лео Перуца, «мэтра Страшного суда». В универсуме Перуца, эмигрировавшего в Израиль и умершего там в 1957 г., жизнь предстает сплошным ужасом. Человек в его романах («Мастер Страшного суда»; «Ночи под каменным мостом»; «Парикмахер Тюрлюпэн», «Третье ядро», «Эй, яблочко, куда ж ты катишься?» И т.д.) является игрушкой жестокого Бога, вознаграждающего себя за «скуку вечности посредством изысканных способов утоления жажды мести». Мыслящий человек — это всего лишь шут или бунтарь, восставший против Божественных замыслов, а потому обреченный на уничтожение всего того, что он любит; оставляя для себя последнюю пулю, он с трагической уверенностью полагает, что действует исключительно по собственному выбору. Ему неизбежно уготован ад, ибо он саморазрушается. Лучшими сочинениями Перуца по праву могут считаться «Маркиз де Болибар» (1930) и «Шведский кавалер» (1936). В первом романе рассказывается история без надежды. Призрак маркиза заставляет нескольких офицеров послать на смерть два полка исключительно ради любви к голубому цветочку, вытатуированному на груди покойной красавицы. В конце концов призрак вселяется в одного из молоденьких немецких офицеров. Пути демона неисповедимы. Но других путей у человека нет: в мире, где мертвые правят живыми, он может следовать только прямой дорогой к Апокалипсису63. Прочно укоренившийся в душе автора пессимизм находит подпитку и в еврейской культуре, к которой принадлежит Перуц, и в его восхищении XVI и XVII вв., эпохой культурной унификации Добра и Зла, осуществленной под стягом Церкви. Роман «Третье ядро» переносит нас в Мексику времен Кортеса: история о том, как немец-лютеранин пытается убить испанского конкистадора. В романе «Парикмахер Тюрлюпэн» читателю объясняют, что Французская революция вполне могла начаться в Париже времен Людовика XIII. Роман «Ночи под каменным мостом» погружает нас в колдовскую атмосферу астрологии, алхимии и каббалы, исполняющие роль своеобразного обрамления истории любви еврейки Эстер и императора Рудольфа II; действие разворачивается в Праге, в конце XVI в. Ничто не существует, история не имеет никакого смысла — внушает каждая книга Перуца. Эпилог последнего романа приводит читателя в Прагу, во времена детства автора, ставшего свидетелем разрушения еврейского квартала в Праге. И все, что муж прекрасной Эстер сумел построить благодаря своему состоянию, превращается в прах под ударами стенобитной машины!
В срединных землях, а именно в Бельгии, насквозь пропитанной, с одной стороны, наследием самоуверенной Контрреформации, а с другой — безудержным вольнодумством, расцвело оригинальное направление литературы необычного64. Оно явилось своего рода реакцией на конформизм той повседневности, о которой рассказывает в своих песнях Жак Брель. Авторы этой литературы, в отличие от Г.Ф. Лавкрафта и его англосаксонских коллег-соперников, не выставляли на первый план жестокости невыносимо тяжкого бытия, а показывали разрыв, искажение повседневности, тем самым исподволь вселяя в читателя неизъяснимое беспокойство. Не ссылаясь ни на Бога, ни на дьявола, не прибегая к психоанализу, Франц Хелленс (1881—1972) ищет «Живых призраков» (1944), «Глазами сна» (1964) изучает человеческие страсти и приходит к «Последнему дню мира» (1967). Трагическая тематика «Прелюдии к Апокалипсису» (1943) Робера Пуле напоминает о тревожных вопросах, заданных тремя уроженцами Праги, и в частности, Лео Перуцем, о человеческой участи. Самым известным бельгийским певцом необычного является Жан Рей (1887—1964), находящий удовольствие в вызывании призраков, чудовищ и демонов. Его вымыслы укрепляют веру в существование некой третьей реальности, находящейся между божественным универсумом и миром людей, реальности промежуточной, переходной, пугающей, ибо она полностью непознаваема для живых. Открытие этого третьего мира порождает перманентный страх. В романе «Мальпертюис» (1943), который по праву можно считать шедевром писателя, развязка подготавливается тщательно и задолго до конца; когда же герой, наконец, понимает, что те, кого он повстречал на своем пути, являются пережившими реинкарнацию древними божествами, время ушло и ничего изменить нельзя. В «Городе великого страха» (1942) параллельный мир населен падшими ангелами, которым смертные интересны только тогда, когда им хочется напугать их или же, развлечения ради, причинить ущерб их плоти и крови. Будучи христианином, изначально проникнувшись идеями греха, искупления и запрета, Жан Рей близок авторам к англосаксонской школы фантастического. В отличие от французов, бельгийцы являются пылкими поклонниками фантастического в литературе, и творчество Рея пользуется бесспорным успехом, особенно начиная с 1940-х гг. Влияние его еще больше возросло после приключенческой серии для молодежи, состоящей примерно из сотни приключений Гарри Диксона, подписанных псевдонимом Джон Флендерс. Молодежную часть своего творчества — «Рассказы о страшных приключениях» (1972), «Фантастический бестиарий» и «Чудовище из Боро» (обе книги 1974 г.) — сам писатель считал наиболее удачной64. Ряд авторов, как, например, Томас Оуэн, избравшей своей темой победу животных над людьми и превращение человека в зверя, стали непосредственными подражателями Рея; влияние мэтра прослеживается также и в комиксе, этом поистине бельгийском изобретении, и в кинематографе66. Мишель де Гельдерод (1892—1962) создал в своих пьесах головокружительный, ужасающий мир, где он играет с образом Фауста, персонифицированным образом смерти и самим дьяволом. За убедительный показ господства демона над каждым живым существом, за создание живописной картины преисподней Гельдерод был назван «техником-смотрителем дьявола». Авторская фантазия, отдаленно напоминающая живопись Босха, погружает читателя в сатанинские козни, но одновременно используя старинную народную традицию осмеяния нечистого, обращает эти козни в фарс, вызывая освобождающий от страха смех. Хотя в 12 сумеречных повестях, изданных под названием «Колдовские чары» (1941) и написанных от первого лица, соприкосновение с тайной и противоестественными явлениями вызывает откровенную тревогу. Многие авторы рассказывают об экзистенциальных ужасах. В романе «Я принадлежу тьме» Моник Ватто вызывает Люцифера. Жак Штернберг в своих произведениях всюду насаждает тревогу и страх, показывая абсурдность человеческого бытия; тревогой исполнен и его сборник «Обледенелые рассказы», составленный из историй, написанных в 1950-х гг., но изданных вместе только в 1974 г. Жерар Прево в своих романах, будь то «Февральский демон» (1970) и «Щедрое привидение» (1975) с бельгийской основательностью подходит к проблеме отчаяния, вызванного тяготами жизни. Люди у него — всего лишь призраки или тени, снующие в загадочном иллюзорном мире. Гастон Компер, напротив, не чурается ни бурлеска, ни насмешки, ни скабрезности. Обладающая выраженной общностью характера, правда, с трудом поддающаяся обрисовке, бельгийская литература фантастического очевидно отличается от англо-американской и французской. Возможно, это является отражением специфического католицизма, сформировавшегося во времена испанского владычества и внесшего в культуру дополнительный тревожный аспект и пессимизм, не свойственные стране Вольтера, где восторжествовало движение за светский характер общества. Тем не менее дьявольский образ в Бельгии гораздо более интериоризован, чем в Англии, а особенно в Соединенных Штатах, где личный демон, как мы это увидим в следующей главе, только и ждет, когда к нему вновь вернется его сера, пламя и кровавые ужасы ада.
Во Франции литература о сверхъестественном занимает не столь значительное место, как в Бельгии, и обладает гораздо меньшим культурным воздействием, нежели в англоговорящем мире. До недавнего времени среди авторов жанра преобладали мужчины — в отличие от англосаксов, среди которых с конца XVIII в. в «демоническом» жанре прославилось немало женщин-сочинительниц: Анна Радклиф, Мэри Шелли, Вирджиния Вульф, Эдит Вартон и многие другие; не забудем и о большом издательском успехе детективных романов таких выдающихся мастеров, как Агата Кристи и Эллис Питерс, чья интрига выстраивается на дьявольских страстях, бушующих в людских сердцах67. Эти культурные и эстетические различия обусловлены как религиозными и нравственными феноменами, так и положением женщины во французском обществе, особенно когда эта женщина стремится сделать писательскую карьеру. Изгнанная в дверь под насмешки и хихиканье рационалистов и атеистов дьявольская тема возвращается в форточку и утверждается в относительно ограниченных сферах. Одна из них получила свое отражение в фантастических, относительно христианских, очевидно инициационных и умеренно патологических романах Ноэля Дельво: «Мистический пресс» (1948), «Бал у Альфеони» (1956), «Ящерица бессмертия» (1977). Все романы прекрасно вписываются в реакцию протеста на десакрализацию повседневного существования, на отрицание божественного. Ибо если Церковь сознавала, как значительно сократилось ее влияние, то и ее противники, яростно нападавшие на нее в начале века, также вынуждены были потесниться, ослабив, таким образом, вдвойне память о сверхъестественном. Оккультизм и эзотеризм отошли в область маргинальных жанров, оставшись только в крайне популярных среди читателей сочинениях о паранормальных явлениях. Скрывшись в дебрях верований, эксплуатируемых составителями гороскопов, гуру различных сект и просто любителями тайн, оккультные и эзотерические учения, блуждая в поисках применения, перестают являться идеологией, пребывающей на переднем крае борьбы с господствующей религией. Высмеиваемые интеллектуальным истеблишментом, они получают широкое распространение в повседневной жизни, однако исключительно в механических формах, и, покрывшись налетом банальности, превращаются в своеобразные пустые раковины, забавные игрушки, не требующие глубокого понимания. Большинство тех, кто читают гороскопы и ходят к гадалкам, предсказывающим по хрустальным шарам, делают это скорее инстинктивно, из любопытства или желания, вырвавшись из круга привычных повседневных забот, слегка пощекотать себе нервы. Дополнительные свидетельства относительной непопулярности темы сверхъестественного во французском обществе можно извлечь из опыта работы журнала Fiction. Основанный в 1953 г., он долгое время был единственным, где печатались американские комиксы на темы необычного, фантастического и научно-фантастического. Благодаря этому журналу получили известность ряд французских писателей, и среди них Ален Доремье, знаток вампиров, с упоением расписывавший всякие ужасы и похоронные штучки («Запрещенные миры», 1967). За то время (с 1958-го по 1974 г.), которое Доремье занимал пост главного редактора журнала, в нем в 1960 г. дебютировал, а затем продолжил работу художник и писатель Ролан Топор. И все же большинство сочинений, опубликованных в Fiction, были англосаксонского происхождения, их авторы подражали манере чрезвычайно популярного в то время в Соединенных Штатах Г. Ф. Лавкрафта. Французских литераторов 1970-х гг. традиции Лавкрафта интересовали весьма умеренно. В 1962 г. журнал основал рубрику, названную «про необыкновенное», но фантастические рассказы печатались в ней все реже и реже, пока в 1968 г. не исчезли совсем. Несмотря на появление целого рядафранцузских авторов, снискавших известность в жанре научной фантастики, в частности таких признанных мастеров, как Рене Баржавель, Пьер Буль и Жерар Клейн, жанр по-прежнему оставалась епархией англосаксов. Что же касается романа Клода Клотца (alias Патрика Ковена) «Париж-вампир», написанного в 1974 г., то его следует причислить, скорее, к жанру бурлеска: речь в нем идет о последней аватаре, которую довелось пережить графу Дракуле.
Непревзойденный знаток фантастического Ж.-Б. Барониан в 1978 г. пишет труд, в конце которого приходит к выводу, что научная фантастика, этот подлинный «дискурс контр-культуры», во Франции оказалась на положении маргинального жанра, в отличие от таких стран, как Англия, Соединенные Штаты, Германия или Россия, где она обладает огромной популярностью68. Эта разница, причин которой Барониан не уточняет, на мой взгляд, связана со статусом демонического в обществе каждой из указанных стран. Литературный след приводит нас к убеждению, что на протяжении XX в. фигура Сатаны, подобно шагреневой коже, изрядно сократилась, а главное, переместилась в глубины человеческого сознания для подавляющего числа жителей Запада. Фольклор также свидетельствует о том, что Лукавый начал возвращаться в человека, проникаться его страстями, страдать его недугами; он становится уязвимым, зачастую просто жалким, напоминая тем самым простого смертного. Но этот глобальный процесс не везде проходит с одинаковой интенсивностью. В северо-западной Европе и на европейском побережье Атлантики на трансформацию образа дьявола реагируют двумя совершенно противоположными способами, демаркационная линия между которыми пролегает по территории Бельгии. На юге, где находится Франция, государство, формировавшееся под влиянием идей философов-просветителей, впитавшее в себя принципы революции 1789 г. и испытавшее сильное влияние воинствующего движения за светский характер всего и вся, дьявол превратился в простое определение Зла, частичка которого есть в каждом человеке; иногда Лукавый даже выступает в роли массовика-затейника, партнера по играм с аккуратно подпиленными когтями. На севере, где располагается Англия Анны Радклиф, Брэма Стокера, Роберта Льюиса Стивенсона, Агаты Кристи и Альфреда Хичкока, с нарастающим ужасом взирают на выход демона из телесной бездны с целью уничтожить своего носителя, а заодно с ним и весь мир. Пуританская Америка в полной мере захлестнута той же культурной волной, равно, как и, на наш взгляд, территории бывшей австро-венгерской империи, где фрейдово бессознательное ведет борьбу с мощными образами карпатских вампиров и экзистенциальной бесовщиной Кафки и Лео Перуца. Чтобы, наконец, сделать выводы по избранной нами теме, осталось проанализировать последний период — самый конец XX в. Можно ли, обнаружив демона в кино, в музыке, в комиксе, в рекламе, определить, насколько глубоко ему удалось внедриться в эти основополагающие культурные направления современной цивилизации и на основании полученных результатов сопоставить завоевательный менталитета Соединенных Штатов с личностным менталитетом французов?
1 Milner Max. Le Diable dans la littérature française de Cazotte à Baudelaire (1772—1861). Paris, Corti, 1960, 2 vol.; t. II, p. 485.
2 Russel J.B. Mephistopheles, op. cit., p. 170; Minois G., op. cit., p. 111—114; Haag Herbert. Liquidation du diable, DDB, 1971 (1-е немецкое изд., 1969); Cerbelaud Dominique. Le Diable. Paris, Les Editions de l’atelier, 1997. См. также: «Le diable a bonne presse», liste d’articles de journaux sur le thème à la suite de la bibliographie.
3 Duivels en demonen, op. cit., p. 101, note 3; G. Minois, op. cit., p. 121.
4 См. ниже, гл. VII.
5 Sichere Bernard. Histoire du mal. Paris, Grasset, 1995, p. 27, 170.
6 Rousset Jean. La Littérature de l’âge baroque en France: Circée et le Paon. Paris, Corti, 1953; Milner M., op. cit., t.I, p. 193, note.
7 Seignolle Claude. Les Evangiles du diable. Paris, Maisonneuve et Larose, 1964. p. 723.
8 Faivre Tony. Les Vampires. Essai historique, critique et littéraire. Paris, Losfeld, 1962, p. 154—156.
9 Milner M., op. cit., t. Il, p. 487—488.
10Ibid., t.I, p. 175; J.B.Russel. Mephistopheles, op. cit, p. 176—177.
11 Milner M., op. cit., 1.1 p. 190-192, 200-201.
12 Сообщение Пьера Франкастеля на коллоквиуме на тему «Демоническое в искусстве и его философское значение», организованном Энрико Кастелли: Pierre Francastel, communication au colloque «Le Démoniaque dans l’art. Sa signification philosophique», organisé par Enrico Castelli. Paris, Vrin, 1959. См. также: Milner Max. Le dialogue avec le diable d’après quelques oeuvres de la littérature moderne / Entretiens sur l’homme et le diable, sous la direction de Max Milner. Paris- La Haye, Mouton, 1965, p. 237.
13 Milner M., op. cit., t. I. (произведения и выдержки из них— с. 275, 280—281, 314—315) О Шарле Нодье см.: Baronian J.-B., op. cit., p. 61-61.
14 Milner M., op. cit., 1.1, p. 324—325.
15 Baronian J.-B., op. cit., p. 29—53 (об истоках фантастического жанра); Praz Mario. La Mort, la Chair et le Diable dans la littérature du XIXe siècle. Le romantisme noir. Paris, Denoel, 1977.
16 Milner M., op. cit., 1.1, p. 402—403, 422—423, 464, 473, 514—515.
17 Castex Pierre-Georges. Le Conte fantastique en France de Nodier à Maupassant. Paris, Corti, 1951.
18 Milner M., op. cit., t. II, p. 187, 195-196.
19 Ibid., 1.1, p. 518-519, 544-545, 553, 562.
20 Брюссель, музей Вьертца. Bruxelles. Изображение сатаны воспроизведено на обложке книги: Villeneuve R. La Beauté du diable, op. cit., et. p. 27
21 Milner M., op. cit., 1.1, p. 563, 568, 620—621.
22RusselJ.B. Mephistopheles, op. cit., p. 201—202 (о демонах Теофиля Готье и Элифаса Леви). О дьяволе в комиксах см. гл. VII, а также список комиксов в конце книги.
23 Milner М., op. cit., t. II, p. 246—256.
24 Soldan Wilhelm G Geschichte der Hexenprozesse aus den Quellen dargestellt. Stuttgart, 1843 (в 1880 г. дополнено Генрихом Хеппе; в 1912 г. Максом Бауэром осуществлено переиздание; на сегодняшний день выступает незаменимым источником фактического материала); к многочисленным трудам Жака-Альбена Симона Колена де Планси в частности принадлежат: Jacques-Albin Simon Collin de Plancy. Histoire des vampires, 1820; le Dictionnaire infernal, 1825—1826 (неоднократно переиздавался); Le Champion de la sorcière et autres Légendes de l’histoire de France au Moyen Age et dans les temps modernes. Paris, Putois, 1852. За три десятка лет существования журнала «Les Archives historiques et littéraires du Nord de la France et du Midi de la Belgiqe», основанного в 1829 Артюром Дино из Валансьена, вышло 18 номеров.
25Jules Michelet. La Sorcière (1862), éd. par Robert Mandrou, Paris, Julliard, 1964 (Рус. изд.: Мишле Жюль. Ведьма // Мишле Ж. Ведьма. Женщина / Вступ. ст., подгот. текста В. Сапова; пер. с фр. М., 1997); Muchembled R. (dir.), op. cit.
26 Milner M., op. cit., t. II, p. 358—422. Вкратце предшествующая работа изложена в: Russel J.B. Mephistopheles, op. cit., p. 197—200
27 Картина воспроизведена в кн.: Villeneuve R., op. cit., p. 53.
28 Minois G., op. cit., p. 89.
29 Milner M., op. cit., t. II, p. 262, 310-311, 322, 332, 357.
30 Muchembled R La Société policée, op. cit.
31 Картина воспроизведена в кн.: Villeneuve R., op. cit, p. 209 (цит. из Гюисманса на с. 208).
32 Baronian J.-B., op. cit, p. 129—133.
33 Senett Richard. Les Tyrannies de l’intimité. Paris, Seuil, 1979.
34 Milner M., op. cit., t. II, p. 424—282; Russel J.B. Mephistopheles, op. cit., p. 205—209.
35 Martin J.-B. Introvigne Massimo (ed.). Le Défi magique, t. 2. Satanisme, Sorcellerie. Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1994, p. 162.
36 Muchembled Robert. Le Roi et la Sorcière. L’Europe des bûchers, XV-XVIII siècle. Paris, Desclee, 1993.
37 Ladous Regis. Les catéchisme français du XIXe siècle // J.-B. Martin et M. Introvigne (ed.), op. cit., t. 2, p. 205, 219.
38Гравюры воспроизведены в: Villeneuve R., op. cit., p. 77.
39 Paul Dirksee. Een kind van de duivelé [Un enfant du diableé], het beeld van de duivel binnen het katholiek geloofsonderricht, dans Duivels en demonen, op. cit., p. 87—102.
40 Klaus Hugo. Le Chagrin des Belges, traduction française. Paris, Juillard, 1985.
41 Ferdiere Gaston. Le diable et le psychiatre // Entretiens sur l’homme et le diable, sous la direction de M. Milner, op. cit, p. 321.
42 Urtubey Luisa de Freud et le diable. Paris, PUF, 1983, p. 54. Cm. также: Russel J.B. Mephistopheles, op. cit, p. 228—229.
43 Cite par Ermano Pavesi. Le concept du démoniaque chez Sigmund Freud et Carl Gustav Jung // Martin J.-B., Introvigne M. (éd.), op. cit., t. 2, p. 334.
44 Ibid., p. 335, et L. de Urtubey, op. cit., p. 62.
45 Urtubey L. de, op. cit., p. 55, 62, 101.
46 Murray M., op. cit. (См. введение и ссылку на работы.)
47 Vincent Jean-Didier. La Chair et le Diable. Paris, Odilejacob, p. 272.
48 Baronian J.-B-, op. cit., p. 89, 102—105, 118—126.
49Ibid., p. 127—163 (о декадансе во Франции).
50 См. выше, гл. IV.
51 «Messes noires», L’Assiette au beurre, 12 décembre 1903 (рисунки Храдецки, Орази и Арданго).
52 Russel J.B. Mephistopheles, op. cit, p. 229.
53 Minois G., op. cit., p. 98—99.
54 См. ниже, гл. VII.
55 Russel J.B. Mephistopheles, op. cit., p. 252 (автор ограничивает феномен рамками второй половины XX в.).
56 Baronian J.-B., op. cit., p. 209—211. Claude Seignolle. Les Evangiles du diable, op. cit., p. 822—825 (примеры смерти черта)
57 Favret-SaadaJeanne. Les Mots, la Mort, les Sorts. La Sorcellerie dans le Bocage. Paris, Gallimard, 1977; Favret-Saada Jeanne, Contreras José. Corps pour corps. Enquête sur la sorcellerie dans le Bocage. Paris, Gallimard, 1981.
58 Milner M, dans M.Milner (dir.), op. cit., p. 256.
59 Rougemont Denis de. La Part du diable, nouvelle version. Neuchâtel, La Baconnière, 1945.
60 «Satan», op. cit.
61 К мистическим романам Леру относятся в частности: Leroux Gaston. Le Fantéme de l’Opéra (1910), Le Fauteuil hanté (1911), L’homme qui a vu le diable (1912), La Poupée sanglante (1924). См. об этом: Baronian J.-B., op. cit., p. 178—182. (Рус. изд. Гастон Леру. «Призрак Оперы» (пер. В. Новикова). «Заклятое кресло» (пер. О. Сипягиной). М., 1997.
62 Baronian J.-B., op. cit., p. 230—234.
63 Перуц Лео. Маркиз де Болибар / Пер. К.К. Белокурова // Лео Перуц. Мастер Страшного суда. СПб., 2000.
64 Baronian J.-B., op. cit., p. 235—270.
65 Даты относятся к французским переводам.
66 Кино и комиксы рассматриваются в гл. VII.
67 Baronian J.-B., op. cit. (о периоде до середины 1970-х гг. см. с. 271—307. О всплеске женской фантастики см. на с. 288—293).
68 Ibid., р. 304, 306.
ГЛАВА VII
Наслаждение или кошмар. Демоны конца второго тысячелетия
Дьявол всегда сын своего времени. Великий христианский миф, родившийся во времена, когда люди Запада не имели возможности выбирать себе религию, когда преследовали еретиков и сжигали ведьм, постепенно трансформировался в романтический символизм эпохи мятежей и революций. И чем активнее общественные формации, в лоне которых дьявол продолжает претерпевать свои бесчисленные метаморфозы, не выдерживают искушения и выдвигают на первый план личность, тем дальше, подгоняемые мощной волной индивидуализма, отступают философские системы, стремящиеся навязать всем ставшее одиозным единообразие. Так, медленное отступление институтов церкви, особенно церкви католической, освобождает пространство для новых рубежей осмысления Зла. С таких же позиций следует расценивать и недавнее крушение коммунистических экспериментов, ибо страны за железным занавесом также были сплошь окутаны покровом унифицирующей догматики, вполне способной составить конкуренцию любым официальным религиями, ибо по сути своей и по структуре тамошняя догматика была совершенно идентична религии; коммунистические идеологи оспаривали у церкви гегемонию над человеческим сообществом, видевшимся им, как и церковным иерархам, одним большим единообразным коллективом. Разумеется, марксизм считал себя прогрессивной идеологией, и его адепты стремились установить на земле всеобщее счастье, но их идеальный град так никогда и не был построен.
Впервые за последние пять веков Европа остается без великих основополагающих коллективных мифов. Мифы сохраняются только в строго ограниченных секторах общества, ибо механизмов, заставлявших верить в них все общество в целом, больше нет. На смену титаническим идеологическим баталиям пришли многочисленные локальные столкновения. Исчезла одна из основных характеристик европейского континента со времен Христофора Колумба, Лютера и Кальвина, а именно постоянная динамика воспроизводства конфликтов, приводящих к беспрерывному столкновению между непримиримыми врагами, ни один из которых не может бесповоротно одержать победу: борьба католиков с протестантами, сторонников Революции и реформ с консерваторами, свободного мира с нацизмом и фашизмом, холодная война между Востоком и Западом... Вряд ли здесь будет уместно комментировать возникновение феноменов, предназначенных заполнить пустоту посредством создания новых коллективных объединительных мифов вроде Европейского сообщества или же поиска тревожной тропы воинствующего национализма и дьяволизации соседа, так, как это случилось на залитых кровью Балканах. Достаточно сказать, что в новых, еще непривычных рамках современности образ демона перестал выступать в качестве основной движущей силы человеческого общества. Но не потому, что в начале третьего тысячелетия Зло исчезло окончательно: наоборот, оно бушует на наших глазах. Скорее, из-за все возрастающей несоизмеримости обострившихся человеческих страданий и исторической фигуры Лукавого. Эволюция его образа, начавшаяся в конце XVIII в., в последние десятилетия века XX в. лишь ускорила свои темпы. Сатана больше ни за что не отвечает.
В мире, где все больше людей становятся приверженцами гедонизма, стремятся раскрыть себя как личность и найти свое счастье, наслаждаться и беспрестанно обновлять наслаждения, дьявол становится объектом потребления, причем, скорее, положительного свойства. Он перестал существовать не только как внешняя фигура, наводящая ужас, он перестал пробуждать страх человека перед самим собой, перед внутренним демоном, даже демоном, вычисленным психоаналитиком. А в качестве элемента рекламы он становится символом удовольствия и благосостояния. По крайней мере во Франции, где под влиянием романтизма и культуры равенства в течение двух веков происходило разоблачение дьявола. Если же говорить более обобщенно, то в странах, где прежде господствовала католическая религия, злокозненный дьявольский миф был низведен до уровня банальной повседневности, и интегрирован в обширный мир игрового воображаемого, носителями которого стали популярная литература, реклама, кино, комикс и т.п. Пальма первенства в банализации дьявола принадлежит Бельгии, где удовольствие обычно доминирует над эстетическим содроганием, кроме, разумеется, тех случаев, когда искусство, литература или фантастическое кино сознательно извлекают на свет тревожное дьявольское наследие.
Общество никогда не бывает полностью гомогенным. Нельзя сказать, что все жители католических стран более не ведают древнего страха перед демоном: активность экзорцистов наглядно свидетельствует об обратном. На разных уровнях общества происходит потребление игровой дьявольской культуры. Одни ищут в ней разрядки, другие верят в то, что видят на экране, о чем читают. Следовательно, чтобы попытаться лучше понять существование различных стратов верований, необходимо более подробно исследовать такое социально расплывчатое понятие, как «мифологическое пережитое», мельчайшими частицами которого пропитана наша культура. Молва и городские предания позволяют подступиться к этой проблеме.
Другой подход к рассмотрению демонической темы возможен в протестантских странах, включая Германию, где обе соперничающие конфессии, начав во времена Лютера, по-прежнему продолжают оспаривать власть над душами прихожан. В менталитете, сложившемся на основе скандинавских и немецких традиций, демону, похоже, отводится гораздо больше места, чем в каких-либо иных ментальных системах; начало дьявольскому засилью было положено в XVI в. бурным всплеском Teufelsbucher, следом эстафету подхватил Гете, а затем фантастическое кино датчанина Карла Дрейера и немецкий экспрессионизм. Огромный культурный тигель явили собой Соединенные Штаты, это своеобразное продолжение европейского северо-западного морского побережья. Культура WASP68, белого человека, пуританина англосаксонского происхождения, воспринятая многочисленными немецкими и скандинавскими иммигрантами построена на подлинной одержимости дьяволом. Спрятавшийся в глубине человеческой души, дьявол беспрестанно угрожает новому миру, который хотят построить американские пионеры. В экономической и технической областях американское время убыстряет свой ход. В сфере массовой культуры, впитавшей в себя самые различные течения, оно, скорее, замедляет его. Сложная, отличная от европейской, социальная структура оказалась в гораздо большей степени подверженной влиянию дьявола. Экстремальные формы сатанизма перерастают в одержимость, и в результате серийные убийцы и насильники множатся как грибы после дождя. Обыденное воображаемое обитателей Нового Света населено Сатаной и его творениями. Об этом свидетельствуют многочисленные истории о вампирах, оборотнях, зверолюдях, колдунах, бесчисленных разновидностях внутреннего врага; страшные истории врываются в Голливуд, проникают в городские слухи и истории, комиксы и рассказы в картинках. Во времена холодной войны русская угроза нередко сублимировалась именно в эти формы, в частности, в фильмах про космических захватчиков, где тайные злокозненные шпионы обманывали достойных граждан. Возрожденный к жизни в результате великого западного противостояния Добра и Зла, соперничеством между «землей обетованной» (в лице Соединенных Штатов) и «советской преисподней», Сатана все еще активно обозначает свое присутствие в американской цивилизации. Что не позволяет связать его образ с понятием наслаждения, хотя гедонизм и обрел свою настоящую родину в Калифорнии. Он по-прежнему остается символом ужаса. Но до каких пор? Ибо результаты революционных преобразований в Европе и исчезновение империи-соперника, претендовавшего на безраздельную мировую гегемонию, лишают Соединенные Штаты одной из опор дуалистического видения мира, на котором они основаны, оставляют их в одиночестве перед внутренним демоном, который в Старом Свете все больше и все быстрее утрачивает свое влияние. Во всяком случае, есть основания утверждать, что американская массовая культура не может растворить нечистого. Европейское потребление страха made in USA происходит в игровой форме значительно чаще, чем в стране-производителе, где, в отличие от Европы, просто немыслимо вести речь о нарастании демонического аспекта наслаждения.
Дьявол? Почему бы и нет. Осторожный экзорцизм
Со второй половины XX в. Зло все чаще причисляют к индивидуально-психологическим феноменам, и это определение получает все более широкое распространение. Существование дьявола неуклонно подвергается сомнению, побуждая папский Рим очередной раз напомнить о Лукавом и подтвердить реальность его существование, хотя, разумеется, с большой осмотрительностью, ибо сами верующие, включая священников, высказываются о том, кто издавна считался грозным оружием теологии, весьма уклончиво. О доктрине существования дьявола напомнили папа Павел VI — в 1972 г. и папа Иоанн- Павел II — в 1984 и 1988 гг.. В «Катехизисе католической церкви», опубликованном в 1992 г., также есть упоминание о дьяволе, что свидетельствует о стремлении сохранить эту важную, хотя и противоречивую фигуру1. Но когда Зло становится относительным, когда на него смотрят с субъективной точки зрения, назидания иерархов никого не убеждают. Тем более, что чрезмерное пропагандирование реальности Сатаны многим верующим, воспитанным в духе решений II Ватиканского собора, кажется неприемлемым, или, по меньшей мере детским. Тем не менее в обществе, где индивид с постоянно растущим вниманием начинает приглядываться к самому себе, отказываясь, как прежде, покорно смиряться перед лицом несчастья, возрастает потребность в экзорцистах, то есть власти и теологи оказываются между двух огней.
Хотя папа Павел VI распустил орден экзорцистов в 1972 г., должность экзорциста была сохранена. А в январе 1999 г. в Риме был продемонстрирован новый ритуал экзорцизма, разработки которого в обстановке полнейшей секретности, с привлечением к сотрудничеству врачей и психологов, велись с 1991 г.2 Экзорцист Римского диоцеза, Габриэль Аморт признает, что сам он исцелил всего 84 однотипных случая одержимости, в то время как за все годы своей трудовой деятельности он получил уведомление о почти 50 000 случаях3. Таким образом, он подтверждает существование дьявола и полагает, что не заниматься этой проблемой было бы неразумно. Рене Лорантен, при поддержке немногочисленных собратьев, вносит апокалиптический оттенок в видение проблемы, полагая, что в настоящее время «демон разворачивает беспрецедентное наступление, вполне сравнимое с тем, о котором говорится в пророчествах апостолов Петра и Павла об Антихристе»4. Подчеркивая важность работы экзорциста, он считает необходимым не допускать пациентов обращаться к шарлатанам или ясновидящим, так как те не только злоупотребляют их доверчивостью, но и заставляют платить втридорога. В данном случае под классическим доводом прячется глубоко укоренившаяся приверженность к заговорам, способствующая распространению традиционного образа Лукавого. Опрос, проведенный во Франции в 1989 г. журналистами Nouvel Observateur, убедительно показал, что силы шарлатанов и экзорцистов явно не равны5. Согласно данным, полученным на основании материалов налоговой инспекции, к 40 000 ясновидящих, имевших на территории Франции государственную лицензию на занятие частной практикой, ежегодно обращались 10 млн человек, плативших от 200 до 1000 франков за визит. Кроме них, имелось еще около 30 000 патентованных целителей и колдунов, не говоря уж об адептах стремительно развивавшейся парамедицины, среди которых насчитывалось немало врачей широкого профиля: 7% из них использовали методы лечения, не признанные официальной медициной. На канале RTL передача Дидье Дерлиша под названием Media Medium собирала более 2 млн слушателей, пока, наконец, в 1989 г. ее не закрыли. В 1985 г. для любителей гороскопов было издано 540 000 различного рода специализированных изданий, из которых 170 000 именовались кратким словом «гороскоп»6. А если вспомнить, что в настоящее время во Франции имеется 49 000 врачей, 38 000 кюре и 4300 психоаналитиков, то подобная массовая приверженность к иррациональному начинает откровенно настораживать. Экзор- цистов во Франции не более пятнадцати, да и те весьма неравномерно распределены по ее территории. За исключением Эльзаса, на севере страны, их очевидно мало. В епископствах Шампани и Лотарингии нет ни одного экзорциста, равно как и в большинство епархий парижского региона, кроме самого Парижа и Понтуаза. А вот ниже, к югу, экзорцисты есть практически в каждом диоцезе, а в некоторых даже двое или трое, особенно на Западе и на Юго-Западе (Байе, Кутанс, Анже, Ле Ман, Ангулем, Ажен), в Монпельео и в Лионском округе. Отец Ламбей из Отена, назначенный в 1977 г. председателем Французской ассоциации экзорцистов, считал, что с 1955 г., когда он только начинал свою профессиональную деятельность, иррациональное основательно расширило и укрепило свои позиции. В подтверждение своих слов он говорил, что теперь принимает до трех «околдованных» в неделю, тогда как раньше ему приходилось принимать не более двух десятков жалоб в год. По его словам, обратившиеся к нему пациенты становились на путь одержимости в тот момент, когда уверяли себя в том, что кто-то навел на них порчу, и начинали бояться, что не сумеют противостоять заклятию. Чаще всего жаловались на исчезновение молока у коровы или на слишком водянистое молоко, на импотенцию и прочие супружеские неприятности. Обычно клиенты сначала обращались к целителям, к колдунам или к ясновидящим, чтобы, например, попросить их «вернуть любимого человека». Когда же, по утверждению экзорциста, эти шарлатаны извлекали из них все имевшиеся деньги, они отсылали их к священнику. Во всех подобных историях видны пережитки древних магических верований, распространенных со стародавних времен в деревнях, равно как и традиционные пути исцеления: когда у индивида не хватало собственных сил с правиться с недугом, он обращался к посреднику, а когда не справлялся даже «самый сильный» посредник, оставался один выход: обратиться к местному экзорцисту7. Подобным путем пытаются совладать со своими недугами не только сельские жители. Так поступают многие, кто проживает в регионах, пребывающих со времен великих религиозных войн эпохи Реформации в ежовых рукавицах Церкви, и в частности жители Запада, Эльзаса и ряда средиземноморских регионов, где изначальная активность кальвинистов вызвала яростную ответную реакцию католиков, гораздо более сильную, чем в районе Парижского бассейна, где влияние протестантизма было значительно слабее, или же в Шампани и Лотарингии, провинциях, где процветал католицизм Гизов и сторонников Лиги 69.
Подобное многовековое постоянство свидетельствует о выживании воспитания страха перед дьяволом, которое уже с XVII в. в одних регионах было развито меньше, а в других больше; процесс этот, крайне важный также для Бельгии и Германии, изначально происходил в рамках религиозной реконкисты. С января 1999 г. число французских экзорцистов значительно увеличилось — с 15 до 120, став своеобразным ответом на зарождающийся в обществе страх, а также на вызов, брошенный католической церкви в форме снижения процента активных прихожан и увеличения числа разнообразных сект.
Горожане, составляющие теперь подавляющее большинство населения, разумеется, знают о взлете популярности всего иррационального. Сегодня уже можно с уверенностью говорить, что струя иррационального, не ограничившись сельскими жителями, мощным потоком захлестнула города. Ни одна социальная категория, никакой культурный страт, никакая власть не избежали его влияния. «Вера во многие паранормальные явления требует определенной культуры». Так, в 1981 г. было опрошено 2 350 человек, занимавших крупные руководящие посты, и в результате оказалось, что более половины опрошенных верили в телепатию (54%), в НЛО (37%), в гороскопы (30%), в колдовство (23%) и в вызывание духов (22%). Кадры среднего руководящего звена превзошли их только по второй позиции (верящие в НЛО составили 42%). Таким образом, сложилась компактная группа населения, члены которой с гораздо большей легкость верили в паранормальные явления, чем рабочие, земледельцы и мелкие коммерсанты. В 1988 г. аналогичный опрос был проведен среди студентов университета в Монпелье; в результате оказалось, что 24% студентов допускали существование дьявола. Из них 19% причисляли себя к несоблюдающим обряды католической церкви, в то время как 62% всех опрошенных считали себя регулярно исполняющими церковные обряды, и 38% — исполняющими нерегулярно. Подобная корреляция, без сомнения, объясняет мероприятие по оживлению веры в дьявола, предпринятое недавно католической церковью. По наблюдению социологов, активная религиозная интеграция тормозит веру в паранормальные явления. Возможно, новый упор на фигуре Сатаны, сделанный в самом конце второго тысячелетия означает стремление вновь завоевать умы, искушаемые многочисленными эзотерическими учениями, восстановить прежнюю связь между страхом перед демоном и верностью Богу. Будущее покажет, станет ли эта попытка успешной в странах Европы, где, по мнению некоторых авторов, недавнее «возвращение религиозного сознания», отнюдь не являющегося простой заменой веры в паранормальное на ортодоксальную веру, влечет за собой сосуществование обоих верований в умах тех, кто в той или иной степени был затронут атеизмом, агностицизмом или же «безмятежным» христианством9.
Представители так называемых точных наук далеко не всегда руководствуются исключительно разумом, особенно когда выходят непосредственно за рамки своей специальности. Здесь можно вспомнить и о «каникулах» интеллекта, и об их вторжении шутки ради в области, чрезвычайно далекие от их профессиональных интересов. В ряде случаев универсум новейших научных достижений с легкостью распахивает двери навстречу затхлому теологическому душку, позволяя ему расползаться по всем его уголкам. Допустим, кто-то из философов высказывается в поддержку тех, «кто верит в могущество загадочного Зла, ставшего, согласно предположениям, причиной некоего события, глубоко затронувшего человеческое общество, и обладающего своеобразной консистенцией, проявления которой не поддаются эмпирическому анализу». В данном случае философ всего лишь исполняет свою работу — высказывает свое мнение. Но что можно сказать о биологе, который завершает эссе по теме своих исследований следующими словами: «Подписавшись под мнением папы [Павла VI о Сатане как о «существе живущем»], я, в свою очередь, заметил живое присутствие дьявола, разумеется, не в качестве доказанной истины или же догмата веры, ибо подобное утверждение не соответствовало бы моему статусу биолога, имеющего дело исключительно с вещами материальными, но как наблюдение, которое в состоянии сделать каждый, если решит отказаться от традиционного представления о дьяволе, продолжающего загромождать наше воображение». Тот же самый ученый дает советы, какую стратегию лучше избрать, оказавшись «лицом к лицу с демоном», то есть перед самим собой, ибо «дьявол — это я»10. Отвергая замшелый образ дьявола с рогами и хвостом, трепетно подписываясь под замечанием Бодлера о самой удачной хитрости Лукавого, состоящей в том, чтобы убедить нас, что он не существует, сей достойный исследователь в конце концов с полным знанием дела устанавливает равновесие между недавно пересмотренной теологией и вкладом гуманитарных наук в дело психологизации демона. Обладая правом верить и высказываться в поддержку своей веры, он вместе с тем не вправе намекать, что уверовать его побудила именно биология. Не менее активно иррациональное вторгается и в мир политиков, разумеется, с большим, чем ученые, пристрастием относящихся к предсказаниям судьбы. Например, хорошо известно, что Рональд Рейган пользовался услугами астрологов; подобных примеров можно привести множество. Если говорить о Франции, отметим, что многие бывшие премьер-министры и по крайней мере три последних президента Республики консультировались с астрологами и ясновидящими. А некоторые продолжают делать это и поныне. История, слишком очевидная, чтобы быть выдуманной, утверждает, что на президентских выборах 1981 г. два кандидата неожиданно столкнулись в приемной у одной и той же ясновидящей. Члены самых влиятельных партий, как и положено, фигурируют в первых строках списков клиентов торговцев надеждами и прочих специалистов с хрустальными шарами. Напротив, представители «дикой» мысли — земледельцы, которых очень часто заносят в разряд легковерных, верят в дьявола, гороскопы, гадание на картах, астрологию и телепатию гораздо меньше, чем все остальное население11.
«Дьявол возвращается» — под таким заголовком в 1990 г. журнал Nouvel Observateur опубликовал подборку материалов, посвященных проблеме экзорцизма, где было помещено новое интервью с отцом Ламбеем, а также очерки о ритуальных убийствах, дьявольском роке и сатанистах секты Вика70, очередных новинках, прибывших из-за океана. Действительно, дьявол воскрес; лучше всего это ощущается в Соединенных Штатах, и, как мы увидим дальше, в рядах адептов католической церкви, предпринявшей в 1990 г. кардинальную реформу ритуала экзорцизма. В середине 80-х гг. с помощью моды, ряда еженедельников, газет и журналов, а также многочисленных специалистов, организовавших серию коллоквиумов, совершился подлинный переворот: интерес публики был направлен в сторону образа Сатаны. Дьявола подавали под всевозможными соусами. В полной мере использовались новые скоростные возможности распространения культуры во «всепланетном масштабе». Тем не менее во Франции злокозненная прививка иностранного происхождения результатов не дала: общество с неизменным равнодушием относилось к вопросам религии, направляя энергию на заботы об индивидуальных удовольствиях; не имея прочных локальных корней, дьявольский черенок, скорее всего, не нашел для себя благоприятной почвы. Разумеется, скандальное поведение нескольких молодых осквернителей могил и группки сатанистов вызвали негативную реакцию в обществе, однако его расценили как непонятную аномалию, но отнюдь не как прелюдию к грядущим великим потрясениям. Когда в 1990 г. руководство секты Вика, международный Орден колдунов-адептов Люцифера, утверждало, что в Соединенных Штатах в ее рядах насчитывается 2 млн членов, а в Великобритании — 500 000, во Франции секта имела всего лишь 500 сторонников, из которых вдобавок в 1983 г. выделилась секта Единорога. Адепты двух образовавшихся сообществ называют себя колдунами, среди покровителей числят самого Люцифера, почитают Лилит, поклоняются рогатому божеству Цернунну, бодрствуют ночами в периоды солнцестояния и переворачивают распятие вверх ногами. Основополагающая роль отводится сексу, совокуплениям в присутствии великого жреца и великой жрицы. Без сомнения, эти посвященные почитывали добрые старые демонологические трактаты, а, быть может, и кое-какие исторические труды. Их разъяснения странным образом напоминают измышления Маргарет Мюррей, связанные с культом рогатого божества и подхваченные Карло Гинзбургом, а также на сегодняшний день основательно позабытое «научное» объяснение колдовства, подвергшегося гонениям в Новое время. Тем временем предание о колдунах стало сращиваться с комиксами, в частности с комиксами Дидье Комеса. Последняя аватара колдуна? Возможно, именно она эхом отзывается в дебрях культурного багажа повзрослевших читателей комиксов14. Другие сатанинские секты, вызывавшие беспокойство общественности, такие как «Дети мрака», «Носители огня» или же ученики «Зеленого порядка», похоже, с начала 1990-х гг. впали в спячку. И все же автор репортажа сумел отыскать 37 разрозненных группок сатанистов, разбросанных по разным городам: в Лионе, Дижоне, Туре, Орлеане и Канне, а также ряд независимых адептов, каким, например, является папа люциферического учения, проживающий возле Пер-Лашез... скрываясь от грозной налоговой полиции...15
Разумеется, ко всем сенсационным сообщениям журналистов, проводящим опросы для специального номера, следует относиться с изрядной долей критики. Тем не менее концентрация интереса на предмете, начавшаяся в середине 1980-х гг., является достоверным индикатором пробуждения любопытства к теме — сначала среди тех, кто делает моду и ретранслирует идеи, прибывающие из- за границы, а затем среди широкой публики. Соответствующие материалы публикуются в изданиях, рассчитанных в основном на людей образованных, на избранное общество, именующее себя «Весь-Париж», на провинциальный бомонд, и на читателей Monde и крупных еженедельных изданий. Таким образом, речь не идет об упрощенном уровне публикаций, адресованных любителям облегченного чтения или статеек о сказочной жизни принцев и звезд эстрады и кино. Сатана возвращается при содействии прежде всего верхушки социальной пирамиды, хотя, разумеется, не гнушается он и членами сект, отыскивает крестьянские тропы, где прошли экзорцисты, и устраивается в воображаемом сумеречного города. Не имея отношения к упованиям на личное счастье, из которых делаются состояния астрологов, прекрасно обходящихся без помощи нечистого, Сатана в основном проявляется в отдельных сегментах коллективного восприятия: в учении немногочисленных поклонников Люцифера, в пережитках деревенских верований, в любопытстве наиболее образованных членов общества, попавших под влияние хлынувших в страну американских мифов. Новые меры предосторожности, проповедуемые экзорцистами, приводят к росту популярности европейских магов и африканских колдунов, у которых образуется многочисленная клиентура, состоящая из подверженных стрессам горожан, обеспокоенных невозможностью быстрого достижения абсолютного идеала: наслаждения без труда, удовольствия без границ, о чем беспрерывно твердит торговая реклама, новая религия конца века. Требование немедленного счастья множит несчастных, недовольных жизнью, срок которой постоянно увеличивается; жизнь становится носительницей бед, которые не в состоянии исцелить ни медицина утешения, ни психоанализ, ни разнообразные вспомогательные социальные службы; отсюда — неудовлетворенность, справиться с которой, похоже, не сможет никто. При отсутствии психологической поддержки в виде религии или помощи государства, надежды на которое обычно весьма шатки, в тревожном, отмеченном нестабильностью кругу персональных взаимоотношений, супружеских кризисов, потери прочных точек опоры, рост изоляционизма в городских джунглях толкают многих на отчаянные поиски доказательств своего собственного существования. Чтобы придать жизни смысл, перестать быть пустым местом в глазах окружающих, перестать быть никем, начать что-то значить для общества, они вручают себя в руки посредников, от которых ждут не столько исцеления, сколько внимания. Они готовы влезть в любые финансовые аферы, вытерпеть любые испытания, лишь бы только ощутить, что живут, почувствовать, что они являются центром интересов хотя бы для кого-то, что кто-то ведет их по дороге к тому обязательному счастью, к которому они рвутся, но которое никак не могут достичь. Между околдованными горожанами и их сельскими собратьями огромная разница. Для первых не важно, или почти не важно, кто станет козлом отпущения. В таких огромных городах, как Париж, где можно не знать своих соседей, умереть тихо, без друзей, и тело твое обнаружат только по трупному запаху, люди обычно не желают гасить латентный конфликт с окружающими их лицами. Их недуги не имеют ничего общего ни со страхом, ни с ненавистью к чужаку. Явившись на консультацию, они, в отличие от сельских жителей, не выражают желания ни восстановить порванные социальные связи, ни вновь интегрироваться в сообщество; им нужно получить от мага поддержку, утешение, причем немедленно, так что маг вполне имеет возможность воспользоваться смятением клиента к собственной выгоде. В ряду клиентов немало и политических деятелей, обеспокоенных своим будущим избранием и своей карьерой. Словом, страстная просьба о помощи, адресованная иррациональным силам, звучит не только в устах тех, кто обладает наименьшим интеллектом, кто наименее обеспечен, но распространяется на все общество, не минуя ни деятелей науки, ни тех, кто называет себя атеистами или рационалистами.
Чертовски здорово. Паб, пиво и комиксы
На смену страху перед рогатым демоном в Европе конца второго тысячелетия пришла боязнь самого себя, а также других, особенно когда индивид подозревает их в таких же тревожных мыслях, какими охвачен он сам. В отличие от XIX столетия, страх этот, со всей очевидностью, не является самым важным ментальным феноменом эпохи, ибо чаще всего он сублимируется в чтение или зрелища игрового характера, а иногда и просто и в отрицании во имя тирании счастья и религии наслаждения, насаждаемых на доброй части европейского континента. Почти никто уже не верит в традиционную преисподнюю, а некоторые даже не считают нужным подавлять ни свои жестокие импульсы, прячущиеся в глубинах бессознательного, ни рвущиеся наружу страсти. По мере отступления навязанного Церковью и коммунизмом морального порядка, прибывшая из Калифорнии гедонистическая волна беспрепятственно разлилась по всей территории Западной Европы. Там она обрела новый стиль, став своеобразным продолжением идеала прогресса и счастья, унаследованного от Французской революции и последующих социальных утопий. От освобождения народов она перешла к освобождению индивида, провозгласив в 1968 г. запрет на запреты, а затем начала сексуальную революцию 1970-х гг. Постепенно стала набирать силу идея, согласно которой человек живет на земле не для страданий, а для наслаждения, живет, чтобы радоваться жизни, собственному телу, и даже получать удовольствие от некоторых галлюциногенов и наркотиков. Так расшатывались, отступали, размывались границы между законом и наслаждением, между Добром и Злом. Но не стоит, руководствуясь традиционными христианскими представлениями, усматривать в этом процессе ловушку демона. Речь, в сущности, идет о глубоком изменении характера цивилизации, об отступлении владычества необходимости, царства тяжкого труда, направленного на выживание, и о воцарении основного права каждого индивида на немедленное счастье.
Дьявол, такой, каким представляла его Церковь, утратил главенствующее положение. Он больше не был ни повелителем, ни отталкивающим символом скотских желаний, которые следовало прятать как можно глубже ради обеспечения спасения града Христова, или, как сказали бы в другое время, для обеспечения выживания вида в трудных условиях. Романтики, наделившие дьявола мрачной красотой, реабилитировали бездну человеческих страстей и неукротимую энергию освободительной революции. Человек, перестав опасаться самого себя, принялся с удовольствием разглядывать свой образ в зеркале, не отказываясь от той части своей натуры, которая прежде именовалась звериной. Лукавый становился все более и более желанным. Таким образом, внутренний демон стал формироваться по нарциссическому образцу своего владельца, поставив с ног на голову все социальные коды и дополнив их греховным привкусом серы и извращенного наслаждения трансгрессией. После обжигающих экспериментов некоего Бодлера, Сатана, по- тихому сменив бунтарский боливар на респектабельный буржуазный галстук, покинул неспокойный универсум художников и интеллектуалов и стал столпом рекламы, востребованным продуктом, способным пробудить у покупателя, как у собаки Павлова, рефлекс наслаждения. Сегодня французское образное выражение «поместить дьявола в ад» означает «заняться любовью», что нисколько не соответствует наставлениям классического христианства, призывающего нас контролировать свои страсти.
Инверсия смысла произошло не за один день. Она была подготовлена всей позитивной тематикой, первоначально сосредоточившейся на ряде элементов, напрямую связанных с Люцифером. В Нидерландах некая социалистическая газета, выступавшая против монархии, биржи и религии, в 1892 г. берет себе название De mode duivel («Красный дьявол»). В этой же стране демон в нимбе из курительных трубок, как наисовременнейших, так и образца до 1914 г., заявляет, что табак является неизъяснимым наслаждением. В 1930 г. демона можно обнаружить на афише очередного музыкального представления: в образе музыканта-любителя он дует в трубу16. Франция не отстает от соседа. Реклама активно способствует банали- зации образа Лукавого, часто вписывая его в систему кодов, означающих удовольствие, иронию, победу человека над нечистым животным. Музей афиши и рекламы сохранил множество цветных шедевров из времен Belle Epoque71 и последующих лет. Изображенный на них Фауст или дьявол всегда подталкивает зрителя к потреблению не только театральных пьес или литературных произведений, но и товаровдля комфортабельной жизни и удовольствия. Так, Мефистофель приглашает в концертный зал «Олимпия», в театр Фоли-Бержер, в театр Робера Удена. Он следит за тем, чтобы жизнь стала еще приятнее благодаря «согревающему компрессу, производящему тепло и побеждающему кашель, ревматизм и колики в боку». Если верить производителям «великого открытия века» — эликсира Годино, — дьявол даже продлевает жизнь: на рекламной афише одетый в зеленое доктор Фауст пьет эликсир, уступив уговорам одетого в красное обладателя мефистофелевской бородки и шляпы с перьями. Дьявол в зеленом открывает бутылку с водой Maurin quina из источника Пюи, в то время как демонический силуэт в красном, устроившись на скале, вылавливает бутылку шипучки Velar, произведенной фирмой Wickes à С. «Дьявол удаляет мозоли. Совершенно безопасно», — написано на этикетке коробочки с пластырем. Даже детей призывают побороть страх перед повелителем преисподней. На почтовых открытках, отпечатанных в центральной Европе и в Венгрии в первые десятилетия XX в., дьявола все еще рисуют мохнатым и рогатым, но уже связанным и покорно несущим в корзине за спиной совершенно довольного ребенка; на открытках, выпущенных к празднику святого Николая, дьявол, конечно, гоняется за маленькими проказниками, но хватает только самых расшалившихся. Дьявол все чаще оказывается во власти женщины, и та делает из него все что захочет; так, на одной открытке две венгерские девушки вовсю тормошат и таскают за рога коленопреклоненного демона, а на другой красивая дама с улыбкой дергает за ниточки дьявольскую куклу-марионетку, скорее, смешную, нежели страшную17.
Подобного рода картинки призывают попробовать запретный плод, отведать удовольствий, несовместимых с суровыми правилами поведения образцового христианина, зато необычайно привлекательными с точки зрения рекламы, создатели которой, не стесняясь, заимствуют язык символов у Церкви. Более того, реклама занимает место церкви, отвращая от вещей духовных, она обещает потребителю не просто удовольствие — она сулит ему счастье18. Аналогичная тенденция развивается и в ряде произведений кинематографа. Фильм Рене Клера «Красота дьявола», поставленный в 1949 г. с участием Мишеля Симона и Жерара Филиппа, прекрасно иллюстрирует победу желания, не обремененного страхом перед демоном. Режиссер переосмысливает миф о Фаусте через призму вкуса к жизни, обостренного воспоминаниями о недавних бедствиях войны и оккупации. Профессор Фауст (Мишель Симон) сожалеет, что скоро ему придется умереть, так ничего и не совершив. Мефистофель расставляет ему ловушку: дарует ему без всякой компенсации молодость и красоту Жерара Филиппа. Полный жизни, Фауст становится очень богатым, а затем влюбляется в принцессу. Чтобы сохранить богатство, власть, почет и любовь, он решает подписать сатанинский договор. Далекий от драматического глубокомыслия Гете фильм утверждает главенствующую роль человеческих страстей и наглядно свидетельствует о том, насколько относительным стал страх перед дьяволом. Но время полного исчезновения драматического аспекта искомого персонажа еще не настало: религиозное образование и моральное давление неизменно напоминали множеству современников о карах, которые влекут за собой греховные поступки. Часть зрителей наверняка узнала себя в фильме Мориса Турнера «Рука дьявола» (1942), мрачной истории неудавшегося артиста (Пьер Френе), презираемого своей возлюбленной; чтобы стать «хоть кем-нибудь», он решает продать душу черту. Переместив этот сюжет в мир воображаемого, становится понятно, что идея его непосредственно вытекает из обвинений, предъявляемых охотниками на ведьм XVI и XVII вв. своим жертвам.
И умереть от наслаждения! В самом конце XX в. река гедонизма становится все более полноводной, питаясь чувством, которое в Европе 1990-х гг. неустанно внушает с телеэкранов реклама: каждый имеет право на исключительно высококачественное счастье. Бесчисленные знаменитости и манекены, расхвалив очередной шампунь, заявляют: «Ведь я этого достойна!» И вот уже бедняга Вельзевул тоже вовлечен в оголтелую погоню за наслаждением. Вовлечен до такой степени, что временами и вовсе теряет свою демоническую коннотацию, становясь простой игровой метафорой наивысшего наслаждения, самого верха благополучия. Что, надо признать, является крайне резкой «сменой имиджа» по отношению к той трагической миссии, которую он исполнял еще не так давно, внушая ужас зрителям, собравшимся поглазеть на костер, где сгорала ведьма; и это при том, что от эпохи охоты на ведьм нас отделяет менее десятка поколений. В Бельгии, бывшей некогда форпостом католического мира, границу которого во время «восьмидесятилетней» войны (1568—1648) усиленно стремились поколебать протестанты Соединенных Провинций, где сильное как нигде движение Контрреформации способствовало массовой охоте на ведьм, такой резкий поворот становится особенно примечательным. И все же нельзя говорить о полном исчезновении старинных верований. Их присутствие ощущается в областях, где наиболее сильны католические традиции. Они находят свое выражение в литературе и в фантастическом кино, в частности в произведениях Жана Рея и Андре Дельво. В фильме «Однажды вечером в поезде», поставленном Дельво в 1968 г. с участием Ива Монтана и Анук Эме, режиссер идет по стопам немецкого экспрессионизма, воссоздавая тревожную атмосферу, отмеченную непонятным злокозненным присутствием, в чьих замыслах до самого конца не могут разобраться ни персонажи, ни зрители; завершается фильм железнодорожной катастрофой, которую предчувствует герой, и торжеством смерти. Не исключено, что и кинематографическая, и литературная транспозиция свидетельствуют о начавшемся процессе коллективного экзорцизма, пришедшего на смену многовековому бремени веры. Ведь онирическая Фландрия вышеназванных авторов уже перестала быть краем жестоких преследований по религиозным мотивам, как это было в XVI в. Миграция в сторону воображаемого постепенно отвоевывает пространство для такой игры, которая даже после реальных ужасов и эсхатологических треволнений вызывает содрогание. Демонической темой завладел бельгийский комикс, один из самых активных и изобретательных представителей жанра в Европе.
Лукавый получает свое воплощение в произведениях двух рисовальщиков из Арденн, края, где в свое время всюду пылали ведовские костры19. Первый, Жан-Клод Сервэ, рисует истории со странными, а подчас и наводящими страх героями. Это старуха Чалетта, которая ради спасения своей деревни от козней колдуна по ночам превращается в белого волка. Это придуманная сценаристом Жераром Деваммом и обязанная своей дикой красотой в стиле 1910-х гг. карандашу Сервэ Виолетта девушка, одиноко живущая в лесу, собирающая травы и обожающая водить людей за нос. Приглашенная на шабаш адептами Сатаны в комиксе «Нежная Виолетта», она сеет смятение среди его участников, только потому, что там ей становится скучно. Второй рисовальщик, Дидье Комес, родившийся в немецкоговорящей деревне и воспитанный монахами-маристами, обращается к магическим обрядам, как например, обряд яйца, о котором рассказывается в комиксе «Тишина», немой герой которого вступает в поединок с судьбой, стойко выдерживая ее удары и нанося ответные. Комикс «Ласка» рассказывает подлинную историю одинокого немца, доведенного до самоубийства. «Однако он не заколол себя кинжалом, как это изображено в книжке, — уточняет автор, — а кастрировал себя. А потом, обнаженный и окровавленный, вышел на улицу показать этим людям, как в его понимании означало перестать существовать в их глазах». Сам Комес проявляет повышенный интерес к оккультизму и загадками социальных отношений в деревне. В то время как Сервэ считает, что «играет в то, что верит в это», Комес, похоже, действительно испытывает сильное влияние своего двойного воспитания — деревенского и монастырского. В его памяти одинаково четко запечатлелись и страхи селян перед колдовством, отразившиеся в отказе пожать руку незнакомцу или встретиться с ним взглядом, и уроки морали монахов-учителей. Как и в книгах фламандца Гуго Клауса, христианская закалка, полученная Комесом в юности, жива и будоражит воображение, побуждая интересоваться спиритизмом и феноменами, не имеющими своего объяснения. Успех этих комиксов свидетельствует о наличии воображаемого демонического пространства, расположенного между двумя противоположными полюсами — легковерием и сомнением. Возможно, именно комикс является тем средством, с помощью которого можно поговорить о том, что раньше нельзя было называть, попытаться приручить тьму, перейти от религиозного ужаса к ужасам игровым20.
Основная масса комиксов адресована читателю от 15 до 24 лет. Эта аудитория наиболее четко отражает такое важное явление в развитии культуры, как смена ориентиров, происходящая в результате исторической смены поколений. Франко-бельгийские комиксы 1945—1965-х гг. были адресованы преимущественно читателям от 11 до 14, поклонникам правдивых историй, с подозрением относившихся к миру воображаемого. В тогдашних комиксах фантастическое присутствовало в рамках детективных историй, завершавшихся торжеством разума, или в научной фантастике, имевшей алиби в лице научно-технического прогресса. С 1965 г. ситуация изменилась: жанр приспособился к читателям более старшего возраста; под влиянием журнала Pilote, печатавшего таких авторов, как Готлиб, Фред, Мандрика и Дрюйе, комикс стал ориентироваться на аудиторию от 15 до 24 лет. В Pilote авторы рисованных историй иллюстрировали стремление к совершенному обществу, к счастью, к природе, к свободе, к миру, и к раскрепощению воображения («Огородные похождения огурца в маске» Мандрика). Не забывали они и о детских утопических мечтаниях, о которых невозможно вспоминать без ностальгии. Традиционный герой комикса, конформист и обладатель «устойчивого морального облика» меняет стиль поведения — становится нонконформистом21. Добавим, что часть читателей также переключились с одного типа героя на другого; к ним относятся те, кто распрощавшись с детством в 1960-е гг., перешел в подростковый возраст, не расставаясь с любимыми журналами, которые активно приспосабливались к новым вкусам. Vaillant, явно отдававший предпочтение коммунистическим идеям, в 1965 г. стал называться Vaillant-Le journal de Pif, a затем, в 1969 г., Pif-gadget. Не следуя путем ни журнала Pilote, вставшего в том же 1969 г. на путь иронической критики культуры, ни политически ангажированного журнала для взрослых Hara-Kiri, журналы Tintin и Spirou пошли своим эволюционным путем. Поколение, родившееся непосредственно после войны, примеряло новые одежды воображаемого, пустившего на тряпки устаревшие модели. По крайней мере те молодые люди, которые мерили себя меркам утопических и гедонистических идеалов, отголосков взрослых протестов против существующего порядка и загрязнения окружающей среды, были вскормлены в лоне комиксов, созданных перед и после шестьдесят восьмого года, и их персонажи резко отличались от стерильных зверюшек из мира Микки-Мауса или католических комиксов22. Философия личного наслаждения, стремление к счастью на земле «тех, кто ходит на двух ногах», как выражается доисторический человек Роан, любимый герой комиксов, публикуемых в журнале Pif персонаж, как и сам журнал, отвергающий былые религиозные и моральные оковы, наносят Лукавому сокрушительные удары: в социуме с размытыми контурами происходит великое отступление дьявола. У бывших учеников конфессиональной школы, стремившихся отмежеваться от церковного влияния, отрицание могло принимать еще более резкие формы, превращаясь в своего рода самоэкзорцизм, по образцу Дидье Комеса, бывшего пансионера монахов-маристов. В его рисованных историях священники именуются «воронами», а в «Ласке» на сцену выводится ведунья, оборачивающаяся совой ради спасения женщины из когтей черного злокозненного кюре. Отвергая ту часть самого себя, которая хранит память об отроческом пребывании в пансионе у монахов, когда ему было велено произносить свое имя на немецкий лад, Комес реабилитирует старинную деревенскую магическую культуру, чей факел Церковь с переменным успехом пыталась загасить23.
Вряд ли стоит с пеной у рта доказывать, что на рубеже 1960-х гг. во французском и бельгийском воображаемом произошел переворот. Просто молодежь того времени вступила в мир взрослых, принеся с собой непоколебимую веру в могущество индивида и его личной воли и отрицание коллективной, пронизанной страхом веры, символом которой являлся рогатый дьявол. Как все прочие каналы распространения культуры, комикс оказался зараженным стремлением к освобождению, к вновь извлеченной на поверхность утопической мечте о немедленном счастье и наслаждении без границ. Разве можно сосчитать, сколько рисованных историй того времени были овеяны дыханием этой религии счастья, отвергавшей Черного ангела уже потому, что свободу действий предоставлял ему грозный Бог! Автор признается, что его первый труд, «Народная культура и культура элиты в современной Франции» (1978), был написан — хотя и неосознанно — под влиянием полноводного потока представлений, сбегавшего со страниц комиксов в океан большой культуры, предварительно пройдя через кино и телевидение. Деревенский мир, показанный автором книги таким, каким он был до наступления на него культуры элиты, являлся, как и выходившие почти в то же время истории Дидье Комеса, частью мифа об оставшемся в прошлом сельском золотом веке. Последующие десятилетия показали: речь шла об идеализации прошлого поколением «бэби-бум». Тем не менее молодые люди начала XXI в. по- прежнему читают комиксы и написанные в те годы книжки. Разумеется, не все им кажется в них одинаково интересным. Новые воображаемые миры возникают на почве прежних, они дают пищу для фантазий детям кризиса середины 1970-х, за которыми следует новое поколение. Никто не резервирует место для классического демона: для большинства сегодняшних европейцев он давно умер и похоронен. При этом очень важно помнить о временной разнице с американской культурой, о которой речь пойдет ниже. В 1973 г. вышел фильм Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола» с Эллен Берстин и Максом фон Сюдовым. И хотя фильм пользовался зрительским интересом во всем мире, в Соединенных Штатах успех его был поистине феноменальным: его посмотрели более 30 млн зрителей. Роман, по которому он был сделан, в США выдержал тираж в 6 млн экземпляров. Во Франции фильм подвергся живейшей критике, особенно в Nouvel Observateur и Теlerата, где сожалели, что дьявол был преподнесен как реально существующий, вместо того, чтобы пребывать в состоянии амбивалентности, этой специфической особенности французского фантастического еще со времен Казота. Только одна публикация в Nostradamus, издании, специализирующемся на всевозможных таинственных случаях, без обиняков утверждала, что фильм рассказывает о вечной и актуальной проблеме24. Французский интеллектуальный мир был охвачен сомнением. Красноречивым свидетельством тому было крайне малое число посмотревших его интеллектуалов; впрочем, большая часть населения страны также не стремилась посмотреть его. Вполне вероятно, что относительный провал фильма, особенно среди молодежи, был подготовлен комиксами, которые, начиная с середины 1960-х гг., во многом способствовали вытравлению понятия колдовства из мировоззрения своих читателей. Во Франции Сатана обладал сходством с шагреневой кожей.
Понятие коллективного бессознательного, вывешенное, словно стяг, над крышей общества, в глазах историков существенного отношения к делу не имеет. И все же есть нечто такое, некий воздух сродства, объединяющий членов одной национальной, региональной или локальной общности. И называют его стереотипом или пережитым и разделенным воображаемым, принципиального значения не имеет. Французский народ, бретонцы, жители городка Ландерно, все они переплелись в едином узоре верований и эмоций с присущими им метаморфозами, но узор этот являет весь свой смысл и все свое значение только в определенной ситуации, определенной среде и в определенное время. Бельгия, где все еще имеется проблема разобщенности французской и фламандской общин, тоже обладает характерными специфическими идентификационными чертами в сфере представлений, делающими ее несводимой ни к Франции, ни к Нидерландам, несмотря на то, что часть ее жителей говорит на языке одной, а часть — на языке другой страны. Возможно, мой собственный взгляд отчасти искажает положение вещей, но все же мне кажется, что недавно начатое снятие драматического аспекта с образа дьявола проходит вполне успешно и является характерным признаком всей страны. Хотя религиозный дух гораздо крепче засел в бельгийцах, нежели во французах, в чем можно убедиться на примерах из XVII столетия, когда бельгийские католики позволяли себе строго критиковать «умеренных» подданных Генриха IV, повинного в провозглашении терпимости, законодательно закрепленной Нантским эдиктом. Современное воображаемое, безусловно, по-прежнему испытывает сильное влияние символизма католического происхождения, распространившегося и на комиксы. Вот как использовал его Эрже, создатель Тенте- на: когда в комиксе «Тентен в Тибете» (1960) пес Милу хотел пить, появлялся чрезвычайно похожий на него демон и советовал ему выпить виски, в то время как добрый домашний ангел, как две капли воды напоминающий самого Милу, с увлажнившимся взором в испуге взирал на героя, опасаясь, как бы тот ни уступил искушению. Маленький читатель автоматически соотносит картинки комикса с иллюстрациями из катехизиса, где грех представлен в образе дьявольского двойника ребенка, а Добро — в идеальном образе того же самого ребенка25. Отмежевание от свободомыслия в Бельгии происходит в гораздо более резкой форме и продолжается значительно дольше, чем во Франции: там все еще актуальны университетская и школьная «войны». Тем не менее жители страны массово приобщаются к ряду символов, используемых для обозначения крайней степени удовольствия: например, чертовски здорово. А разве футболистов национальной команды не называют «красными дьяволами», являя редкий фактор единения нации во всеобщем порыве энтузиазма? На одном из телеканалов Мефистофель из мультика, краснолицый, с сардонической усмешкой, воспевает их спортивные подвиги. Реклама все больше использует фигуру Лукавого для напоминания о самых приятных радостях жизни. Следовало бы провести специальный опрос с целью инвентаризировать многообразие форм рекламного демона. Затрагивая потребление главного национального бельгийского напитка, а именно пива, действительно, одного из лучших в мире, отметим, что национальная гордость удваивает удовольствие от его потребления, а сам ритуал потребления укрепляет социальные связи. Несмотря на лингвистическое, политическое и религиозное расслоение, всеобщее желанное единение происходит — по воскресеньям, за столами просторной таверны «Король Испании» на Большой площади Брюсселя, а также в тысячах других питейных заведениях. Демон тоже участвует в празднике. Симптоматично: многие производители патентованных марок превосходного пива с обильной пеной используют нечистого в качестве метафоры ни с чем не сравнимого счастья. Знатоки ценят особым образом приготовленное бельгийское пиво под названием Morte subite (букв, «мгновенная смерть»). Пивоварня Huyghe недавно произвела пиво с чистым янтарным цветом, дав ему название Delirium tremens. Еще более наглядной иллюстрацией к названию является этикетка темного, крепкого — 8,8% alc — пива Verboden Vrucht de Hoegarden («запретный плод» Хоегардена), где изображена сцена «Искушения», вольное переосмысление эффектной композиции Кранаха, где в Эдемском саду стоят обнаженные Адам и Ева, символизируя ставший доступным рай, и не забывая при этом в приятной форме напомнить об остаточном чувстве вины христианской фактуры. Адам протягивает широкий бокал несравненного напитка Еве, и одновременно старательно дегустирует содержимое собственного бокала. Этикетка на французском и фламандском языках прославляет «единственное в мире пиво, густой красный цвет которого таит секрет его богатого и сложного вкуса», насыщенного ароматами пряностей. Quintine, «пиво с холмов», имеющее крепость почти 9 градусов, просто и без лишних слов именует себя волшебным напитком, и на его этикетке в стиле китайского театра теней в лучших демонологических традициях изображена колдунья, летящая на помеле. В стране, где искусство пивоварения является почти религией, где его преподают в Университете, тесная связь символики наслаждения с образами, некогда внушавшими ужас, наглядно свидетельствует об отступлении страха перед традиционным дьяволом. Он больше не страшен. Вместо того, чтобы следить за внутренним демоном и бояться его, европейцы, в отличие от многих американцев, похоже, предпочитают льстить ему, погружая в божественный нектар и покрывая с головой нежной пеной. Подобное отношение к дьяволу является показателем уверенно набирающего силу процесса поисков индивидуального счастья и крайней его востребованности. Разумеется, нельзя сказать, что этот процесс стал поистине всеобщим: некоторые по-прежнему испытывают традиционный ужас перед дьяволом, кое-кто побаивается появления тени с раздвоенным копытом. Фантастическая литература и фантастическое кино местного производства вместе с пришедшими им на помощь комиксами содействуют банализации дьявола в Бельгийском королевстве, но не следует забывать, что само королевство является частью Европы, иначе говоря, «одной большой деревни», подвергающейся ожесточенным бомбардировкам жуткими фантазмами, изготовленными в Соединенных Штатах.
Новая массовая культура Запада не может полностью игнорировать это влияние. Но во Франции и в Бельгии оно относительно ограничено. И объясняется это, похоже, именно банализацией образа демона: франкофонский комикс в отличие от комиксов американских не принимает дьявола всерьез. Ирония и юмор отличают Сатану-суперстар, опубликованного Лоро в июне 1972 г. в 658-м номере Pilote от его жуткого и деятельного кузена из фильма «Изгоняющий дьявола». Художник-рисовальщик Готлиб любит рисовать карикатуры на чудовищное создание доктора Франкенштейна, и, подражая ему, многие начинают создавать пародии на образы вампиров и зомби. Разве может французский зритель фильмов ужасов, прибывших из Америки, воспринимать их всерьез, как их воспринимают толпы зрителей в Новом Свете, когда в номере 663 того же журнала Pilote (июль 1972) вампир совершает самоубийство, впрыснув в себя дозу получившего благословение чесночного соуса? Конечно, часть рисовальщиков следуют традиционному черному направлению, унаследованному от тревожного универсума Лав- крафта: это и Филипп Дрюйе, завороженный чудовищами и прочей нечистью, наполняющей истории о придуманном им герое Лоне Слоане (Lone Sloane), и Энки Билал, и Юго Пратт, не забывающий вставлять истории о колдовстве в комиксы из цикла «Корто Мальтезе» (Corto Maltese). Глобальная разница восприятия, без сомнения во многом объясняется знаменитым законом от 16 июля 1949 г., на основании которого во Франции в комиксах было запрещено изображать сцены насилия и бандитов в масках; таким образом в жанре комикса сформировалась специфическая франко-бельгийская традиция, положительное воздействие которой на читателей третьей четверти XX в. неустанно отмечают историки26. Различие в эволюции культурных процессов формировало различное отношение к зрелищам ужаса и насилия, пришедшим из- за океана: в других регионах Европы, и прежде всего в Европе протестантской, влияние американской продукции ощущалось гораздо сильнее. Почва была подготовлена уже давно. Ведь именно на Севере континента, прежде всего в Германии, развивалась кинематографическая эстетика трагического, множество корней которой черпали живительные силы из черного романа, английской готики и немецких Teufelsbucher века Лютера.
Демон экспрессионистов: от «Голема» до «Дня гнева»
С самого начала седьмая муза с радостью поддалась соблазну изображения явлений, так или иначе связанных с дьяволом. Благодаря постоянно возраставшему техническому совершенству трюковых съемок, на экране стали появляться картины, возникавшие под пером писателей в рассказах о преисподней и глубинных недрах человеческой души. В отличие от других произведений искусства, кинематограф сделал свои формы подвижными, а вскоре снабдил их удивительным по выразительности звучанием. Впитывая уроки романтиков, мэтров черного романа, открывателей бессознательного, он одновременно расширял собственные возможности. Первые десятилетия XX в. были чрезвычайно богаты событиями в области кинематографа, особенно в период между 1913-м и 1933 г., когда немецкий экспрессионизм достиг своего апогея27.
Сатанинское дыхание обжигало Европу, стоявшую на пороге Первой мировой войны. В 1913 г. датчанин Стеллан Рие поставил в Германии фильм «Пражский студент» (Der Student von Prague), где главного героя сыграл Пауль Вегенер. Старый город стал вполне подходящей по мрачности декорацией, но еврейская община не разрешила снимать на своем старом кладбище, поэтому пришлось воссоздавать кладбищенские декорации посреди настоящего леса. Визуальный романтизм быстро нашел след своего старшего литературного брата, усвоил вклад театра Макса Рейнхардта, и в частности технику светотени. Контраст света и тени стал производственной маркой немецкой школы, осаждаемой демоническим воображаемым вслед за Гете. Во время съемок Вегенеру, зачарованному воссозданным на площадке необыкновенным миром, . пришла в голову мысль снять «Голема» (Der Golem), что он и сделал в 1914 г. Услышав в гетто легенду «о таинственной фигуре из глины, оживленной раввином Лоэвом» около 1580 г., он написал сценарий фильма, на сегодняшний день утраченного, и сам сыграл в нем. В 1920 г. он возобновил работу над темой, приступив к съемкам фильма Der Golem. Wie er in die Welt kam («Голем. Как он пришел в мир»); теперь действие ограничивалось рамками XVI в., тогда как в сценарии 1914 г. прошлое переплеталось с настоящим, с рассказом о встрече с Големом в период, когда снимался фильм28. Тема чудовища, порожденного гордыней человека, возомнившего себя равным Богу, с тех пор является одной из излюбленных в мировом кинематографе, реализуясь, в частности, в многочисленных версиях истории Франкенштейна или похождений безумного ученого.
В то время, когда во Франции Луи Фейад предлагает зрителю «Вампиров» (1915—1916), игровой фильм, содержание которого имеет мало общего с его названием, пока в Соединенных Штатах восторгаются очередным демоническим сюжетом (The Vampire, 1913, и The Vampires’ Trail, 1916), скандинавские и немецкие авторы прокладывают демоническую борозду, извлекая из нее подлинные бриллианты черной воды, шедевры седьмой музы. «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине (1920) выстроен по принципу амбивалентности: ужасные приключения героев, возможно, являются всего лишь игрой воображения. Но демоны пребывающей в состоянии хаоса и напуганной поражением Германии выпущены: жаждущий власти безумный убийца доктор Калигари выступает напоминанием о прусском авторитаризме и суровых карах, неминуемо ожидающих тех, кто дерзает сопротивляться. Некоторые критики полагают, что фильм предсказывает приход Гитлера. Сходные мысли должны были пробуждать и фильмы Фрица Ланга о Докторе Мабузе («Доктор Мабузе — игрок», 1922, и особенно звуковой фильм «Завещание доктора Мабузе», 1933). Годы после Первой мировой войны являются необычайно плодотворными для дьявольского кинематографа: изучая «демонический экран», Лотте Эйснер насчитывает четыре десятка фильмов, снятых до 1925 г., а затем не менее трех десятков, сделанных до 1929 г., когда в кино пришел звук. По примеру «Голема», «Доктора Калигари» и «Доктора Мабузе» ряд авторов сумели создать устойчивые типажи, вдохновлявшие как кинематографистов, так и зрителей. Первый фильм о докторе Мабузе Ланга наполнен галлюцинациями и видениями, снятыми при помощи техники наложения, когда, к примеру, фигура графа под гипнозом и его призрачные двойники повторяют все движения обманщика-гипнотизера. Свет и атмосфера используются для воссоздания ощущения чего-то необычного; так, например, когда Мабузе медитирует перед пылающим камином, отблески пламени освещают огромный портрет Люцифера, чрезвычайно похожего на самого доктора29. В снятом в 1920 г. «Големе» сцена вызывания духов раввином Лоэвом, окруженным со всех сторон огнем, была выполнена с помощью комбинированной съемки и превосходно исполненной техники наложения кадров. Оператору, «оживлявшему» глиняную фигуру с помощью незаметного перевода камеры на живого актера, потребовался поистине талант кудесника, чтобы отвлечь внимание зрителя от лишних деталей в кадре30.
Не прибегая ни к сценическим, ни к техническим уловкам, Фридрих Вильгельм Мурнау ставит в 1922 г. фильм, ставший поистине жемчужиной немецкого экспрессионизма. — «Носферату, симфония ужаса» (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens). Творение Мурнау, как следует из подзаголовка, является свободным переложением романа Брэма Стокера «Дракула». Снятый в основном в естественных декорациях (в окрестностях Любека и Бремена) , фильм объясняет причины эпидемии чумы, разразившейся в Бремене в 1838 г.: Носферату, карпатский вампир, питающийся кровью молодых людей, отбывает из своего родового замка в город сеять смерть и отчаяние; к этому путешествию его подтолкнул молодой служащий агентства недвижимости, прибывший к нему в его ужасный замок с предложением купить городской дом. После продолжительного плавания вампир пребывает в город, где поселяется рядом с несчастным служащим, и вскоре нападает на его молодую жену Нину. Однако гибель Нины не напрасна, ибо чудовище, самозабвенно высасывающее у нее кровь, не замечает, как наступает заря. Дневной свет губит его: он буквально рассыпается в прах31. Завораживающие картины, созданные без специальных эффектов, источают метафизическую тревогу: в корабельном трюме стоит гроб Носферату с землей из его родных мест, куда вампир укладывается каждое утро, а рядом, в точно таких же ящиках, кишат крысы. Вход проклятого корабля в порт; могильщики на пустых улицах; вампир, пропадающий с первым криком петуха... Корни этих тревожных картин уходят в самое сердце немецкой культуры, обремененной глубоким трагическим и фантастическим видением мира, о чем в свое время поведали романтики. Образ Носферату воплощает в себе сатанинский договор с дьяволом, заключенный отрекшимся от мира доктором Фаустом, и влечение к смерти, обнаруженное доктором Фрейдом в самом сердце жизни. Своеобразный перекресток, столкновение чувства виновности, внушенной человеку Запада, со сверхъестественными силами, влияние которых в Германии благодаря мощному таланту Гофмана превозмогало даже ощущение вины.
К этому времени между воображаемым немецким и воображаемым скандинавским устанавливаются интенсивные связи. Без сомнения, общность протестантской веры, и в частности лютеранства, важного для обеих наций, не могла на наложить отпечаток на сферу демонологии. Хотя Teufelsbucher вышли из моды еще в XVII в., тем не менее традиционные характеристики в восприятии демона сохранились не в пример лучше, чем в католических странах. Об этом свидетельствуют фильмы, исследующие тему колдовства. Датчанин Беньямин Кристенсен (1879—1959) великий, но не слишком известный режиссер, в фильме «Ведьмы» (1921) живо критикует все формы суеверий, подчеркивая роковую роль Церкви в их распространении. Режиссер, сам исполнивший — не без юмора — сразу две роли: дьявола и медика, пошел по пути Мишле, и, соединив документально выверенные исторические сцены с игровыми, создал фильм, разоблачающий садизм экзорцистов и массовую истерию одержимых дьяволом обитателей монастырей. Обосновавшись в Голливуде, Кристенсен, чьи эстетические принципы повлияли на фильм Бергмана «Седьмая печать», снимает сразу несколько «демонических» сюжетов: «Дьявольский цирк» и «Семь шагов к Сатане» (Seven Footprints to Satan, 1929).
Датчанин Карл Теодор Дрейер (1889—1968), на целых десять лет моложе Кристенсена, один из великих мастеров немого кино, получивший образование как у себя на родине, так и в Германии и Швеции, ставил строгие, лишенные каких-либо украшательств фильмы, отмеченные влиянием суровой лютеранской этики. После «Страстей Жанны д’Арк» (1928), приходит черед «Вампира» (1932), первого звукового фильма режиссера, затем следуют «День гнева» (1943), «Слово» (Ordet, 1955) и, наконец, «Гертруда» (1964). В «Вампире, или Загадочном приключении Дэвида Грея» царит сверхъестественное. Старуха оказывается вампиром, и храбрец-герой в конце концов уничтожает ее: явившись на кладбище, он вскрывает могилу и загоняет в тело старухи осиновый кол. Труп тотчас превращается в скелет. Эксперимент этот, внушенный самим адом, завершается в вязкой и обволакивающей тишине, нарушенной всего лишь несколькими фразами, после которых гигантское лицо старухи в окружении пламени возникает за стеклом медицинского кабинета32.
Последующие произведения автора, в душе которого явно живет незаживающая рана несчастного детства, в еще большей степени являются отражением его внутреннего мира, исполненного лихорадочного возбуждения. «День гнева» (Vredens Dag) переносит действие в XVI в., в дом пастора Абсалона и его юной жены Анны. Прибытие Мартина, старшего сына Абсалона от первого брака, становится завязкой драмы: молодых людей отчаянно тянет друг к другу. Действие фильма, исследующего закоулки человеческой души, разворачивается в атмосфере веры в злокозненное колдовство и невыразимой злобы. Запретная любовь пробуждает в Анне ее магические способности: она — дочь сожженной на костре ведьмы; ее саму наверняка постигла бы та же участь, если бы влюбленный в нее Абсалон тогда не спас ее. Ее тайная страсть губит Абсалона, тот умирает страшной смертью на глазах у неумолимой собственницы-свекрови, которая публично обвиняет Анну в колдовстве. Теперь Анну гложет чувство вины и терзают угрызения совести. Дьявол невидим, но он бдит, и сидя в засаде, напоминает о себе бурными вспышками страстей. Как бы остро ни осознавал грешник свою вину, какие бы формы ни принимало его раскаяние, он никогда не сумеет удовлетворить Бога, требующего от него невозможного, и никогда не сможет бежать от демона, от которого никто не может избавиться окончательно и навсегда. Мрачный психологический настрой режиссера-постановщика совпадал с настроением, царившим не только в датской, но и во всей скандинавской культуре в период между двумя мировыми войнами.
Пока история, завершив первый великий мировой конфликт, топчется на месте, восприятие, доминирующее на Севере Европы, и прежде всего в Германии, стимулирует выход на экраны сюжетов, исполненных контрастов, сумрачных, серых и откровенно беспросветных.
К числу повелителей мрака относится Мурнау, проделавший путь от «Носферату» к «Фаусту» (1926), а затем снявший «Четыре дьявола» (1928), драматическую историю, случившуюся за кулисами цирка. Его сопровождают Роберт Вине («Руки Орлака», 1924), Фриц Ланг («Метрополис», 1927; «М», 1931) и Георг Вильгельм Пабст («Лулу», с легендарной Луизой Брук; в оригинале фильм назывался «Ящик Пандоры», 1929); вместе они идут по дороге, где их ждет вездесущий Сатана, забравшийся в самые глубины человеческого тела, дабы привести человека к погибели. И все же впечатляющее множество шедевров экспрессионизма, созданных в эту эпоху, не может ввести в заблуждение. В Германии под влиянием поражения 1918 г. происходит великое изменение — интериоризация Зла. Безумный хирург, одержимый идеей дать новое лицо своей дочери в «Руках Орлака» является братом-близнецом Убийцы («М»), сыгранного Петером Лорре. Лулу, окруженная ореолом черного эротизма, — его сестра, также, как и Лола-Лола, сыгранная Марлен Дитрих в «Голубом ангеле» Джозефа фон Штернберга (1930). Женская чувственность и спуск в ад достойного профессора вновь возвращают нас к теме Фауста, снятой поистине магической камерой фон Штернберга; американец, родившийся в Вене, он открыто провозглашает себя почитателем одноименного фильма Мурнау и экспрессионизма. Женщина, источающая яд, этот цветок зла, и мужчина, неспособный сопротивляться внутреннему демону, составляют обжигающую пару, царящую над помрачившимся воображаемым. Чувство неизбежности собственного краха, настигающее человека после поражение, нанесенного его родине, лучше всего выразил Убийца («М»), пойманный воровской шайкой после убийства маленькой девочки: «Но я же не могу ... не могу ничего поделать... Ведь оно, это проклятие, во мне, разве нет? А этот огонь? Этот голос? Эта пытка? Я не могу бежать от самого себя, никак не могу. Не могу». — оправдывается он перед импровизированным судом.
Кинематографические школы северных стран используют выразительные средства кино для создания исследований — талантливых и не очень — великого западного мифа о дьяволе. До начала Второй мировой войны в этом универсуме главенствуют немцы и скандинавы, и то, что они делают, очевидно нравится гражданам этих стран33. Травма, нанесенная великой войной, становится подлинным потрясением для немецкой цивилизации. Соединение прежней одержимости дьяволом, мрачного блеска нордических легенд, и — в качестве главного элемента — глубокого пессимизма протестантских бесовских книг, порождает болезненное осознание сумерек человечества, окруженного и одержимого Злом. Бытие — всего лишь свет и тень, и никакой надежды. Для художников, вовлеченных в процесс создания произведений исключительно черного романтизма, необычайно далекого от католических утопий Просвещения и мечтаний революционеров об изменении удела человеческого здесь и сейчас, счастья в этом мире очевидно нет. Один из самых великих режиссеров прошлого века, швед Ингмар Бергман (род. в 1918) вложил в уста персонажа фильма «Тюрьма» (1948) такие слова: «Жизнь — это всего лишь жестокое и бессмысленное путешествие к смерти». Нордическая традиция, представленная в 1921 г. самым удачным фильмом шведа Виктора Шёстрёма «Возница», продолжала процветать довольно долго, в частности, еще в 1956 г. она была представлена фильмом «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, где побеждает Смерть, выигравшая у Рыцаря партию в шахматы. Смерть щадит «маленьких людей» — ничем не примечательную супружескую пару: только «молоко человеческой нежности» может смягчить фундаментальный пессимизм.
Католические страны никогда не сталкивались со столь мощным нашествием мрачных образов — в отличие от Соединенных Штатов, где сильное влияние протестантизма совпало с огромной коммерческой выгодой, получаемой от эксплуатации демонических форм искусства.
«Черный» кинематограф: ужас, напряжение и извращения
Зло торжествует в десяти душераздирающих сериях «Вампиров» (1915—1916) Луи Фейада. Правда, в них речь идет не о существах, пьющих кровь, а о преступниках, жестоких и безжалостных, как их предводители: Великий Вампир, Сатанас и Вененос, как Ирма Baп (анаграмма вампира), вдохновительница преступников в черном облегающем трико, сыгранная Мюзидорой, первой женщиной-вамп в кинематографе. Образ бандитской шайки, безраздельно властвующей над ночным Парижем, унаследован от легендарного «двора чудес», сборища ужасных разбойников времен абсолютизма; в 1923 г. об опасном уголке Парижа, где собирался «двор чудес», напомнили в фильме, снятому по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Неожиданно французский кинематограф увидел преисподнюю у собственных дверей, в своем собственном доме, а не в онирических пейзажах шведского кино или немецких экспрессионистов. Фейад снимает еще одну серию фильмов, значительно более благопристойных, чем первые, вызвавших восторг у сюрреалистов, но возмутивших добропорядочных буржуа: теперь в серии о приключениях «Жюдекса» Добро одерживает верх. И все же Лукавый во Франции не забыт. Он принимает формы двусмысленные и крайне разнообразные. С 1896 г. Жорж Мельес пытается показать его многоликость: сначала в «Замке дьявола», затем в монастыре, в трактире, в лаборатории Мефисто, и, наконец, заставляет нечистого сыграть в «Четырехстах шутках дьявола» (1906). В 1942 г. «Рука дьявола» Мориса Турнера низводит Сатану с пьедестала, показав его в облике мелкого клерка. В том же году Марсель Карне дает Лукавому пугающее, но совершенно человеческое лицо Жюля Берри в фильме «Вечерние посетители», завораживающей истории любви, действие которой перенесено в Средние века. Дьявол сумел проскользнуть в самое сердце популистской драмы «День начинается» (1939), созданной под сильным влиянием американского черного кино тем же Марселем Карне; герой Жана Габена, выступающий носителем всех горестей мира, убивает подлеца, мучившего любимую им девушку, а затем добровольно уходит из жизни. Некоторым дьявол видится, скорее, очаровашкой, нежели неотесанным простолюдином — как, например, Рене Клеру в его фильме «Красота дьявола» (1949). Фильм, нередко называемый тяжеловесным и занудным, несмотря на искрометного Жерара Филиппа и талантливого Мишеля Симона, является своеобразной вариацией на тему Фауста, точнее, банальной идеи, согласно которой человечество продало свою душу науке. Под собственным поэтическим соусом подает демона Жан Кокто в фильме «Красавица и чудовище» (1945), роскошном сне, навеянном детской сказкой. Но как известно, именно сказка преподает юным душам уроки бессознательного. Даже в версии Кокто сказка учит и жить, и умирать. Чудовище, волшебным образом наделенное привлекательными чертами Жана Марэ, приводит смерть и Зло в беззаботный мир заблудившегося в лесу купца. Роза, неосмотрительно сорванная беспечным путником, сродни яблоку Евы, ибо владеющее ей ужасное
Чудовище требует от нарушителя спокойствия жертвы — в обмен на прощение отдать ему одну из его дочерей. Чудовище обходится с Красавицей так хорошо, осыпает ее столькими благами, что ее сестры начинают ревновать и в конце концов отправляют младшего брата и его юного друга Авенана добывать ту часть сокровищ, которая, как они считают, принадлежит им. В пути Авенан погибает. Взгляд Красавицы превращает Чудовище в прекрасного принца. Даже счастливый конец, этот тиранически навязанный Голливудом закон, именуемый happy end, не мешает разоблачению Зла. Создается впечатление, что Зло возможно укротить — убить зверя, пробудив в нем любовь, иначе говоря, любовью исторгнуть из человека зверя. Но можно ли исторгнутьего полностью?
Скорее всего, нельзя, особенно если верить гангстерским фильмам, сделанным в Соединенных Штатах с 1929-го по 1934 г.; героями 250, или даже всех трех сотен фильмов, выпущенных за этот период на экраны и оказавших значительное влияние на мировой кинематограф, были бандиты и нарушители закона. Им предшествовали работы Джозефа фон Штернберга «Подполье» (Underworld, 1927) и «Доки Нью-Йорка» (The Drag Net, 1928). К наиболее примечательным гангстерским фильмам принадлежат истории по мотивам жизни и похождений Аль Капоне: они рассказывают о взлете и неизбежном падении мошенника, иначе говоря, являются своего рода черной пародией на американскую мечту. Среди них «Маленький Цезарь» (1930) Мервина Ле Роя, с участием Эдуарда Дж. Робинсона, «Враг общества» (1931) Уильяма Уэлмана, где сыграл Джеймс Кегни, и «Лицо со шрамом» (1932) Хоуарда Хоукса. В 1934 г. сильный удар по жанру нанес кодекс Хейса, потребовавший удалить с экрана даже малейший намек на аморальность. В ожидании появления частного детектива 1940-х гг., режиссеры принялись воспевать федеральную полицию. В этот перестроечный момент актер Джеймс Кегни, снискавший известность в ролях бандитов, сумел превосходно устроиться, сменив амплуа и начав играть блюстителей порядка. Гангстеры возвратились на экран несколько позже: начало положил фильм «Дилинджер» (1945) Макса Носсека, затем были сняты «Бонни и Клайд» (1967) Артура Пенна и «Крестный отец» (1972) Фрэнсиса Форда Копплоы.
Во Франции черные американские фильмы эпохи мирового экономического кризиса не нашли прямых подражателей. Кинематографистов больше привлекали образы не честолюбивых нарушителей законов, а мрачных безумцев, руководящих королями преступного мира и охотно вступающими в сговор с силами Зла, как было в «Вампирах» Фейада. Впрочем, чтобы утвердить свое присутствие у французской публики, демону не требовались ни спецэффекты, ни сцены ужасающего насилия: французы улавливали его перманентное злокозненное присутствие в человеческих характерах, тщательно прорисованных в череде фильмов, где тревога рождалась из простенького детективного сюжета. Мастером воссоздания атмосферы жестокости в кинематографе стал Анри- Жорж Клузо; в его работах, использующих криминальные сюжеты, черные стороны личности обрисованы с точностью, граничащей с цинизмом. Фильм «Ворон» (1943), где сыграл Пьер Френе, показывает, какие кошмарные тайны и ужасные пороки скрываются за фасадами самых респектабельных домов. Режиссер размещает весь комплекс общественных отношений под роковым знаком Зла. В «Набережной ювелиров» (1947), где во всей полноте раскрылся редкостный талант Луи Жуве, Клузо создает тревогу посредством превращения насилия в банальность. Сняв «Дьяволиц» (1955), режиссер приступил к работе над фильмом с примечательным названием «Ад» (1964), где действие разворачивается в совершенно реальном мире, ибо демон обретается на земле, прячется в глубинах каждого из нас; к сожалению, работа осталась незавершенной.
Французских режиссеров никогда не прельщала тема монстра, явившегося из кинематографа ужасов. Когда в Европе в начале 1930-х гг. нацисты объявили экспрессионизм декадентским искусством, американцы, успевшие подхватить тему, принялись активно ее разрабатывать. За период с 1927 по 1945 гг. в Соединенных Штатах было снято более дюжины фильмов о вампирах, в том числе «Лондон после полуночи» (London after Midnight, 1927), «Дракула» (1931), «Знак вампира» (Mark of the Vampire, 1935) Тода Браунинга и «Дом Франкенштейна» (House of Frankenstein, 1944) Эрла К. Кентона34. Исполнивший роль графа Дракулы Бела Лугоши тотчас стал знаменитым, а кровожадный граф получил фирменный знак, сына, дочь и непременное упоминание в титрах о своем будущем возвращении: монополизировав жанр, Голливуд выжимал максимум выгоды из его успеха у зрителя. В 1958 г. на экраны вышел фильм «Ужас Дракулы» (Horror of Dracula) Теренса Фишера, положивший начало новой — теперь уже английской — моде на вампиров. Любопытно, что до этого времени за пределами Соединенных Штатов «вампирский» сюжет вдохновил всего лишь одного режиссера — Карла Дрейера, снявшего в 1932 г. картину «Вампир», страной-производителем которой в титрах значилась Франция. Поистине, нет слов, особенно если учесть, что Дракула является порождением богатого воображения англичанина Брэма Стокера, наделившего жертвы вампира всеми качествами истинных британцев! Теренс Фишер еще не раз выступил с блеском, создав ряд фильмов с участием Кристофера Ли. В 1960-е гг. демонический вызов, наконец, приняли мексиканские, итальянские и французские режиссеры. «Умереть от наслаждения» (1960) заявил Роже Вадим, приглашая всех следовать его примеру.
В период экономического кризиса в Соединенных Штатах страх шел нарасхват. В начале 1930-х гг. студии компании «Юниверсал» сделали его своим основным «блюдом», пополнив золотоносную жилу похождений графа Дракулы несчастьями сотворенного Франкенштейном чудовища, образ которого воплотил Борис Карлоф; он же сыграл главную роль в фильме Карла Фройнда «Мумия» (1932). Не осталась в стороне и студия MGM: в 1932 г. Тод Браунинг поставил фильм «Уроды», жуткую трагедию любви и мести, случившуюся в мирке уродцев, выступающих в цирке на потеху зрителям. Рассказ, превратившийся сегодня в один из мифов современности, вначале навлек на себя громы и молнии со стороны цензуры, что, впрочем, не помешало ветерану детективного кино Тоду Браунингу поставить в 1936 г. «Дьявольскую куклу» (The Devil Dolt). В атмосфере отчаяния, когда перед каждым во весь рост высился призрак безработицы, после великого биржевого краха и последовавшей за ним серией самоубийств, общество было подготовлено к появлению на экранах галереи монстров, служивших своеобразным лекарством против страхов повседневной жизни. С удвоенным рвением американцы выплескивали на экран свое чувство неудовлетворенности и свои тревоги, вместо того, чтобы загонять их внутрь, как, похоже, делали французы. Это означало, что за океаном еще не покончили со страхом перед внешним Врагом, способным отравить любое живое существо, войти в любое тело; образ этого Врага олицетворял вампир Дракула: жертва, укушенная вампиром, утрачивает всякую надежду на спасение. Секта высасывателей крови напоминает о ведьмах, сожженных в Салеме. И за всем этим стоит непобедимый и неуязвимый Сатана. Единственный способ спастись от него — это избегать контактов со злом и истреблять зло при первом же его появлении. В «Кинг Конге» (1933) Эрнста Б. Шедсака и Мериана К. Купера эмоциональность предложенного зрителю сеанса коллективного экзорцизма достигает поистине заоблачных вершин: Чудовище, вожделеющее Красавицу, должно быть уничтожено, и происходит это в современном лесу, на небоскребе, куда Чудовище забирается в поисках спасения. Расхождение с предыдущим фильмом Кокто — а в более общем плане и с французским вкусом — очевидно. Американские пуритане не могут согласиться с образом дьявола, в котором есть хотя бы крупица красоты. Демон — это только ужас, он изменяет человека, человек становится волком и ведет себя по-волчьи по отношению к другим людям. Так показано и в фильме «Самая опасная игра» (1932), где идет охота на человека, и в картине «Остров потерянных душ» (Island of Lost Souls, 1933), героя которой, живущего на острове безумного ученого с садистскими наклонностями, сыграл Чарльз Лаутон.
Вряд ли можно безапелляционно утверждать, что именно католицизм явился вакциной против массовой одержимости. Однако не исключено, что именно католицизм умеряет ее, превращая прямую угрозу в опосредованную и переводя ее во внутренний регистр. Европейские страны эпохи великого кризиса, включая Германию, похоже, менее одержимы разного рода драматическими образами. Как уже отмечено, во Франции демон ведет себя в основном как философ. А кинематографисты зачастую относятся к нему и вовсе легкомысленно — как Рене Клер, пребывающий в то время в изгнании в Соединенных Штатах: один из своих фильмов Клер дерзко называет «Моя жена — ведьма» (1942). Конечно, не следует забывать, что в стране Вольтера уже со времен Французской революции 1789 г. активно развивается светская эгалитарная культура, оставляющая мало места классическому демону, чей образ вдобавок был основательно потеснен прекрасным мятежным ангелом, сотворенным романтиками. Разумеется, в Соединенных Штатах есть немало блестящих комедийных режиссеров: работы Фрэнка Капры, Джорджа Кьюкора, Лео МакКери, Эрнста Любича заставляют не только забыть о кризисе, но и облегчают бремя религиозных убеждений — так, как это сделано в незатейливой фантазии Любича «Небо может подождать» (1943), где драма смерти заменяется показом счастливой жизни в раю. Но исследование пагубных сторон универсума в Соединенных Штатах ведется значительно более интенсивно, в результате чего возникает буквально целый букет ярких кинематографических образов. В Англии ироничный и кровожадный католик Альфред Хичкок в начале своей творческой карьеры, то есть до конца 1930-х гг., наоборот, предпочитает всего лишь напоминать о зыбкости границы между Добром и Злом, расстояние между которыми не так уж и велико. А в картинах «Тридцать девять шагов» (1935), «Молодой и невинный» (1937) и «Леди исчезает» (1938) он затрагивает вопрос о спасении и проклятии. Как и многие другие европейцы, Хичкок переносит эту проблему в область психологии личности, обходя чудовищные формы, напрямую свидетельствующие о появлении Лукавого. Страх возникает из тревоги, порожденной напряженным ожиданием (suspense), а не внезапным явлением ужаса. Отторжение происходит только после прохождения неоднозначной стадии неодолимого влечения к Злу и неуклонного нарастания всеохватного ужаса. Так как герои Хичкока всегда «молоды и невинны», то коварным марионеткам, чьи ниточки дергает сама судьба, ничего не стоит заманить их в свои дьявольские сети, раскинутые в универсуме, где, как сказал Франсуа Трюффо, посмотрев фильм «Тридцать девять шагов», «все находится под знаком беды, все несет в себе угрозу». Но разве сам Хичкок, присвоив себе роль верховного режиссера, саркастически подмигивающего, когда револьверные пули рикошетом отлетают от спрятанной под пиджаком Библии, не претендует хотя бы на частичку дьявола? Приняв приглашение и переехав в Соединенные Штаты, мэтр Альфред развернулся там со всей мощью своего редкостного таланта, продолжив эксплуатировать тему человеческого подсознания в фильме «Завороженный» (Spellbound, 1945). Вступив в пору творческой зрелости, мэтр обнаруживает у себя склонность к морализаторству, каковой в свое время обладал епископ Жан-Пьер Камю, завершавший свои «трагические истории» назидательными наставлениями35. Словно возвращаясь в начало XVII в., «готический» фильм, возможно даже вопреки воле своих создателей, отыскивает проторенный в эпоху барокко путь разоблачения греха и интенсивного внушения человеку чувства вины. В одном из шедевров Хичкока, картине «Незнакомцы в поезде» (Strangers on а Train, 1951) все персонажи до единого напоминают марионеток, ибо их души уже вступили в сговор со Злом. Режиссер-демиург дергает их за ниточки, устраивая на сцене мрачную процессию страстей, неумолимо подводящую к мысли о тотальной обратимости принципов, лежащих в основе морали. Пустая болтовня в поезде двух совершенно незнакомых молодых людей приводит к своеобразному обмену преступлениями: второй, не желая быть вовлеченным в преступление, задуманное первым, вынужден вступить в смертельный поединок, происходящий на поломанной карусели с деревянными лошадками. Тема обмена виновностью красной нитью проходит через все творчество одного из величайших гениев седьмого искусства («Ребекка», 1940; «Мнимый виновник», 1957 и т.д.). Разрешая своим героям в фильме «Птицы» (1963) воспользоваться установленным — неизвестно с какой целью — пернатыми агрессорами перемирием и бежать из городка, он лишает зрителя уверенности в возможности обуздать Зло, и тем самым нагнетает еще больший страх.
В Америке изначальное послание Хичкока приходится как раз на послевоенный период, а значит очень вовремя. Война придала врагу дьявольские черты и в целях пропаганды до передела упростила его облик. Значительная часть публики уже устала от показа страшных нацистов и кошмарных японцев и противостоящих им безукоризненных, образцовых американских солдат, жертвующих собой в борьбе за свободу и добро. Ей хочется наслаждаться более изысканными, порой даже более извращенными зрелищами, и в этом она сходна с западной молодежью, вновь открывающей радости жизни после нескольких лет лишения и опасностей. Героем вестерна Рауля Уолша «Преследуемый» (Pursued, 1947), сыгранным великолепным Робертом Митчамом, становится человек, стремящийся изгнать воспоминания о своем тяжелом детстве: режиссер делает попытку дать вторую жизнь жанру, изрядно обедневшему с середины 1930-х гг. Еще ближе к хичкоковскому направлению стоят истории о частных детективах, занявших в черных фильмах места гангстеров; фильмы эти придали новый притягательный блеск преступлению и темным сторонам личности, явив разительный контраст с зрелищной традицией гангстерских историй. Некоторые критики усмотрели в этом метафору коллективного кошмара, который вполне можно расценить как изнанку американской мечты. Не исключено, что таким образом делается шаг вперед по пути психологизации сюжета и интериоризации Зла; процесс этот разворачивается в Соединенных Штатах значительно позднее, чем в Европе, но при этом пугающие картинки отнюдь не исчезают вовсе. В 1941 г. Джон Хьюстон задал тон фильмом «Мальтийский сокол», где началась блистательная карьера его друга, актера Хэмфри Богарта, создавшего «архетип» «частного детектива», умело уклоняющегося от пуль, подозревающего всех и вся, живущего в городе дождя и тумана, где врагом его выступает куртуазный и необычайно опасный злодей, талантливо сыгранным Петером Лорре, снова (как и в фильме «М») получившему роль убийцы. Успех не изменяет жанру вплоть до 1955 г. («Бешеный», 1949; «Меченая женщина», 1951 и т.д.). В 1943 г. в фильме «Седьмая жертва» камера Марка Робсона, руководимая талантливым продюсером Валом Льютоном, непосредственно соединяет черный фильм с мутными водами сатанизма, показывая бегство гонимого всеми героя через напоминающий ад город Нью-Йорк.
Разумеется, демон не дает забыть о себе. В 1942 г. в Соединенных Штатах с огромным успехом прошел фильм «Кошачье племя» (Cat People) Джека Тоурнера, продюсером которого выступил также Вэл Льютон. В фильме речь идет о людях-кошках, скрывающихся среди обыкновенных людей и тайком совершающих преступления. На свет вновь извлекается Салемский синдром тайного внутреннего врага, сообщника дьявола. Менее чем через десять лет тема как в кино, так и в литературе получит своего кропотливого исследователя в лице Олдоса Хаксли36. Зрительский успех очевидно заставляет киностудии повторить опыт. Вэл Льютон решает исчерпать тему до дна. Одну за другой, он финансирует картины «Вуду» и «Человека-леопарда» (The Leopard Man), обе сняты Джеком Тоурнером в 1943 г.; в том же году поставлена и «Седьмая жертва». В 1945 г. на экраны выходит «Похититель трупов» (The Body Snatcher) Роберта Уайза с Борисом Карлофом в главной роли, по одному из романов Роберта Луиса Стивенсона, профинансированный все тем же Вэлом Льютоном, который на этот раз принял участие в написании сценария. Антикоммунистическая паранойя, присущая периоду холодной войны, отбрасывает на задний план вновь поднявшееся на поверхность адское чудовище: теперь самым отвратительным демоном становится «красный». Начиная с 1949 г. научная фантастика превращается в скопище страхов перед другим, внеземным существом, зачастую символизирующим дьявольского русского, ни на минуту не ослабляющего своей бдительности; русский дьявол является завоевать кроткий народ, проживающий под звездно-полосатым флагом, а иногда даже вторгается в тела добропорядочных звездно-полосатых граждан. Словом, Салемский синдром повторяется во всех его вариантах, свидетельствуя о долговечности панического страха перед губительным нашествием, видоизменившимся в соответствии с изменениями, произошедшими в обществе. И хотя многие из этих фильмов не более чем халтура, наивная пропаганда, тем не менее они были хорошо встречены публикой, жаждущей чудесного и комиксов, где Супермен защищает Америку от грозящей ей опасности. «Красная планета Марс» (1952) Гарри Хорнера, как следует из названия фильма, разоблачает новую «красную» опасность. Роберт Уайз боится «Дня, когда остановилась Земля» (1951), но страх этот нисколько не помешал ему спустя десять лет поставить «Вестсайдскую историю». Многие кинематографисты снимают фильмы о конце света, приближают который, разумеется, козни Сатаны, к которым, в частности, относится и атомная угроза, разоблаченная Раналдом МакДоугалом в картине «Мир, плоть и дьявол» (1959). Невольно задаешься вопросом, как Соединенным Штатам, или, по крайней мере, тамошним зрителям, удалось отразить бесчисленные атаки инопланетян, крабов, кукол, похитителей тел (фильм «Invasion of the Body Snatchers» Дона Сигела, снятый в 1959 г.; новая версия снята Филиппом Кауфманом в 1978 г.), бушевавших на американских экранах. Видимо, они рассчитывали на поддержку своих английских друзей, великих создателей и потребителей демонических фантазмов. С конца 1950-х гг. Дракула и Франкенштейн делали в Англии полные сборы. В 1961 г., не удовлетворившись созданием любовниц для Дракулы, Теренс Фишер вспомнил о новом проклятии в фильме «Проклятие оборотня» (The Curse of the Werewolf). Когда в 1955 г. Вэл Гест по сценарию Найджела Нила снял «Эксперимент профессора Квотермаса» (The Quatermass Experiment), первый фильм о приключениях профессора Квотермаса, положивший начало созданию популярного телесериала, с успехом шествовавшего по телеэкранам вплоть до 1979 г., в то время известная английская киностудия Хаммер обнаружила, что фантастическое являет собой настоящую золотую жилу. Мировой успех американского телесериала «Х-файлы», начавшего выходить в 1993 г., обусловлен постоянным интересом зрителей к теме нападения на человека злобных существ, вторгающихся в его тело; интерес этот, пробудившийся в эпоху ведовских процессов Нового времени, во времена процесса Салемских ведьм, не угасает и в наши дни.
Меняются поколения, меняются и пристрастия, особенно если пристрастия к определенным сюжетам вдалбливались в голову гвоздями, выкованным в кузницах киностудий Хаммера или Голливуда. Однако как только новые формы, явившиеся на смену старым, перестают пользоваться спросом, старое постепенно начинает возвращаться — чтобы через определенное время вновь уступить место очередной новинке. Стремление познать, что такое Зло, постоянно присутствует в глубинах культурного потока. Основные демонические рецепты 1968— 1977-х гг. перешли в полицейские фильмы, в основном в те, где герои, проникнувшись отвращением к работе в каменных джунглях города, становятся на путь вершителей справедливости, как, например, «Грязный Гарри» (Dirty Harry) Дона Сигела, появившийся на экранах в 1971 г. В этом же году, несмотря на очевидный спад интереса к популярным прежде историям о вампирах и монстрах, когда собственно демонический жанр практически себя исчерпал, в Англии вышли «Дьяволы» Кена Расселла, где рассказывалась о ведьмах и кострах, о нетерпимости и преследованиях. В Соединенных Штатах снятый в 1973 г. «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина снискал поистине неслыханный успех. Газеты запестрели сообщениями о приступах массовой истерии среди зрителей, случившихся в Бостоне и на Восточном побережье Штатов. Зрелище католического ритуала изгнания дьявола из тела одержимой произвело сильнейшее впечатление на пуритан. Европейский же зритель, посмотрев этот фильм, о котором говорилось столько, что, казалось, сама атмосфера вокруг него была насыщена серой, напротив, испытал, скорее, разочарование. К 1975 г., согласно данным статистики, в Соединенных Штатах фильм посмотрели 30 млн зрителей, что заставляет задуматься о его идеологическом воздействии.
Американское воображаемое 1970-х гг. оставляло большой простор для одержимости разного рода заговорами, которые устраивают шпионы или убийцы. «Грязный Гарри», полицейский, действующий грязными методами, как в прямом, так и в переносном смысле, воплощал отвращение к коррупции в целом. Попав в ловушку в фильмах Мартина Скорсезе, личность начинала задумываться о смерти, настигавшей ее в фильме «Беспечный ездок» (1969) Денниса Хоппера, ставшего культовым фильмом молодежи. Наступивший кризис именовался Вьетнамом. Питательной почвой его стала утрата веры — относительная, если судить об этом уже в ретроспективе — в завтрашний день, пусковым механизмом которой в 1960-е гг. послужило убийство президента Кеннеди и усиление советской угрозы. После начавшегося в 1950-х гг. падения интереса публики к научно-фантастическим и устрашающим сюжетам, подобного рода фильмы начали рассматриваться как низменные жанры и заняли свое место в категории Б; однако вскоре фантастика и ужасы вновь вернулись на экран, став самой кассовой кинопродукцией. Жизнеутверждающее звучание фильмов «Звездные войны» (1977) Джорджа Лукаса и «Близкие контакты третьего вида» (1977) Стивена Спилберга, где торжествовало Добро, объясняло пристрастие к ним публики. Впрочем, зритель в массе своей также любил, когда его пугали; для этого снимались фильмы катастроф с устрашающими спецэффектами, такие, как «Адская башня» (1974) Джона Гиллермина. Толпы тех же самых зрителей ломились на показы откровенных ужасов, к которым причисляли и фильм «Изгоняющий дьявола». Во всех случаях основной причиной грандиозного успеха стало срабатывание механизма высвобождения латентного страха, означавшее, что боязнь демона, показанная в «Изгоняющем дьявола, по-прежнему являлась важным структурирующим элементом психики большей части населения. Элемент этот был гораздо более действенным и гораздо глубже укоренившимся в Соединенных Штатах, чем в Европе, где названные выше фильмы собирали в основном молодежную аудиторию и среди игровых картин часто получали вторую категорию. Аналогичное расхождение наблюдается и в 1990-е гг. в отношении фильмов о насильниках и серийных убийцах, ставших причиной многочисленных преступлений, совершенных в Соединенных Штатах лицами с ущербной психикой; в Старом Свете таких преступлений практически не наблюдалось.
История кинематографических страхов 1970-х гг. читается как краткий очерк о расчленении культуры. В ней вновь оживают давние дьявольские фантазмы, впрочем, превосходно сохранившиеся среди членов сект поклонников Люцифера. В 1968 г. поляк Роман Поланский открыл ящик Пандоры фильмом «Ребенок Розмари», историей о дьявольском ребенке, которого, впрочем, ни разу не показывают на экране; оставив, таким образом, место для сомнения в реальности данного факта, режиссер следовал традициям Казота и французских мастеров фантастического рассказа. А дальше случился настоящий кошмар. Спустя год, жена режиссера, актриса Шарон Тейт при загадочных обстоятельствах была зверски убита в Калифорнии группой сатанистов, и хотя связи между работой мужа и убийством установлено не было, таковая вполне могла существовать. Ведь 1967 г. Поланский сделал пародию на тему Дракулы под названием «Бал вампиров».
С начала 1970-х гг. принципиально новой характеристикой фильмов ужасов, сделанных в Соединенных Штатах, является участие в них детей. Похоже, что, отводя главные роли детям, утратившее стержень общество извещало о нарастании трудностей в отношениях между поколениями, об усилении чувства вины взрослых, убежденных, что они оставляют после себя одни развалины, что, в свою очередь, неминуемо породит ненависть тех, кто придет следом за ними в этот мир. Во всяком случае, так можно истолковать многочисленные примеры, когда молодые люди становились привилегированными направлениями действий сил Зла. Мы видим это в фильме «Изгоняющий дьявола» и «Изгоняющий дьявола II: Еретик» (1977), снятом уроженцем Англии Джоном Бурменом, проталкивающим в своих картинах идею о необходимости возвращения к истокам посредством болезненной, но очистительной инициации («Избавление», 1972). Еще более отчетливо детский феномен представлен в фильме «Керри» (1976) Брайана Де Пальмы. Дети-мутанты, опасные и безжалостные, наводняют телесериалы, к ним присоединяются подростки-убийцы и жуткие чудовища. В «Ночи живых мертвецов» (Night of the Living Dead, 1968) Джордж А. Ромеро выводит на сцену полуразложившихся вампиров-каннибалов, не оставляющих на своем пути ничего живого. Последнего человека, сумевшего выбраться из проклятой фермы, прибывшие спасатели по ошибке принимают за одного из чудовищ и забивают насмерть. Аллегория вьетнамской войны? Или попросту назойливое повторение идеи демонического загрязнения, заставляющего беспощадно уничтожать каждого зараженного индивида, как в фильмах про графа Дракулу? Существо, задетое крылом дьявола, не вправе надеяться на спасение.
Сатана по-прежнему буйствует в Америке как в кино, так и на телевидении, где множатся истории о фантомах, оборотнях, колдунах и разного рода хищниках. Живой мертвец Фредди Крюгер, герой знаменитой серии фильмов под названием «Кошмар на улице Вязов», олицетворяющий собой мрачную одержимость насилием и кровью, с 1984 г. без устали преследует свою добычу. В англосаксонской культуре демон, поистине, вездесущ. И вряд ли итальянец Риккардо Фреда по чистой случайности выбрал себе псевдоним Роберт Хэмптон, выпуская в 1962 г. фильм «Ужасная тайна доктора Хичкока», а затем в 1963 г. его продолжение под названием «Привидение». Он очевидно хотел воспользоваться фантастическим успехом, выпавшим в 1958 г. на долю фильма Теренса Фишера «Кошмар Дракулы», в то время как его собственный фильм 1956 г. «Вампиры» лавров не снискал. Сходство имени героя с именем мэтра ужаса, порожденного напряженным ожиданием (suspense), создает дополнительную мотивацию проследить за приключениями отчаявшегося ученого, пытающегося воскресить собственную дочь, используя для этого кровь ее сестры. Ужас по-итальянски редко находил отражение в качественных оригинальных произведениях, таких, как «Маска демона» (1960) Марио Бавы, а начиная с середины 1960-х гг. и вовсе удовлетворялся бледными копиями «Франкенштейнов» и «Изгоняющих дьявола». Потребность публики в фильмах ужасов существует даже в тех случаях, когда дьявольский феномен не имеет такой глубокой культурной подпитки как в Англии или — в особенности — в Соединенных Штатах. Впрочем, весьма вероятно, что зритель-католик сохраняет определенную дистанцию между собой и теми выразительными образами, явившимися из англосаксонских фильмов ужасов, которые у себя на родине стали уже стереотипами, но которые далеко не всегда являются таковыми в католических странах. Что же касается ленты «Носферату — призрак ночи» (Nosferatu, Phantom der Nacht, 1979) немца Вернера Херцога, то вряд ли этот в высшей степени эстетский ремейк шедевра экспрессионизма можно назвать фильмом ужаса. Несколько недавних высокохудожественных французских фильмов также отражают демоническую тематику — например, наполненный интенсивным внутренним содержанием фильм Робера Брессона «Вероятно, дьявол» (1977), утверждающий постоянное присутствие Лукавого. (S7)
Американец Стэнли Кубрик (1928—1999), с 1961 г. живший в Англии, занимает основное и вместе с тем особенное место среди мастеров передачи дьявольского присутствия средствами кинематографа. Этот скандально знаменитый затворник, не получивший признания голливудской киноиндустрии и не имеющий ни одного Оскара, является автором, чье творчество, несмотря на всю его сложность, не оставляет никого равнодушным. Он снял всего 13 полнометражных фильмов, 3 из которых включены в список 100 лучших американских картин XX в., составленный Американской Академией киноискусства: это «Доктор Стрейнджлав» (Dr. Strangelove, 1964), «Космическая Одиссея 2001 года» (1968) и «Заводной апельсин» (A Clockwork Orange, 1971)38. Еще в 1958 г. его фильм «Тропы славы» (Paths of Glory) вызвал настоящий скандал: показывая войну, режиссер нарушил все патриотические стереотипы, пометив своих персонажей знаком безумия. Экранизация повести В. Набокова «Лолита» (1962), где режиссер открыто бросил вызов благопристойности, стала его первой картиной, принесший коммерческий успех. Затем, в эпоху популярности фантастических историй про вампиров в постановке студии Хаммер, наступает время стразу трех победоносных фильмов Кубрика. «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил бомбу», гротескный фарс на тему атомной опасности, запоминается сценой родео на бомбе, смертоносным безумием зашоренных генералов и пугающим образом безумного ученого, ведущего мир к гибели. Строго говоря, Кубрик разрушает традиционные формы англосаксонского жанра раздвоения личности под воздействием опасных научных экспериментов, представленного на экране различными вариациями на тему «Доктора Джекила и мистера Хайда», по повести Стивенсона, вышедшей в 1886 г. Статистика, проведенная в начале 1980-х гг., отмечает 22 ее экранизации, среди которых лучшими были названы версии Джона Стюарта Робертсона (1920), Рубена Мамуляна (1931) и Виктора Флеминга (1941). Насмешка, используемая в «Докторе Стрейнджлаве», нисколько не мешает сделать традиционное заявление: зверь скрывается в самом человеке. Годом раньше, в 1963 г., Джерри Льюис создал и сыграл свою собственную версию повести под названием «Сумасшедший профессор» (The Nutty Professor), получившую во французском прокате название «Доктор Джерри и мистер Лав». Фильм, снискавший автору репутацию шута, затрагивает вполне серьезную проблему: оставаясь в пределах комического регистра, он рассказывает о том, что волнует и пугает многих американцев, для которых тема сумасшедшего ученого столь же важна, как тема Гамлета в Англии или Фауста в Германии. Кубрик и Льюис затрагивают тот аспект культуры своих сограждан, который более всего этих сограждан пугает. Смех обоих режиссеров, напоминающий, скорее, зубовный скрежет, нисколько не похож на смех в фильме 1925 г. «Доктор Пикль и мистер Прайд», где сыграл Стэн Лаурел. Тем не менее оба вытаскивают на свет белый то, с чем многие отнюдь не хотят сталкиваться: проблему всевластия науки и миф о прогрессе, пришедшие в состояние конфронтации с безднами человеческой души.
Загадки этой души всегда занимали Кубрика. «Космическая Одиссея 2001 года» был снят в 1968 г., на заре мощной волны интереса к научной фантастике. Необычный, поставленный с размахом фильм увлекает зрителя за пределы звездного мира. В нем есть постоянно присутствующее в творчестве режиссера напоминание о Зле, кроющемся в самом сердце человеческой природы, о неизбежной катастрофе, о безумии, процветающем повсюду, даже на далеких тропах славы. Скандал, вспыхнувший в 1971 г. после выхода на экраны фильма «Заводной апельсин», предельно жестокой истории-предупреждения, предсказавшей наступление эпохи урбанистических войн, с силой вспыхнувших Соединенные Штаты в самом конце XX в., а затем переместившихся в Европу, был соразмерен провидческой проницательности режиссера-постановщика. Он вновь осмелился показать то, о чем желательно было умалчивать, а именно необоримую и бесконечно губительную власть, кроющуюся под коркой огромного американского апельсина, хотя декорациями, где разыгрывался сюжет, героями которого были молодые безумцы и убийцы, стала Англия. В это же время «Грязный Гарри» и прочие полицейские вещали с экрана те же самые истины. Однако полицейские истории создавали у зрителя впечатление, что и он, и его брат, и его ближний, защищены от ухмыляющегося демона непреодолимым барьером. Поэтому творчество Кубрика, постоянно бередившего совесть и утверждавшего, что вина в равной степени лежит на всех, не могло не вызывать негодования.
В 1980 г. лента «Сияние» (The Shining) начинает наступление на фильмы ужасов, пользующиеся в это время поистине невиданным коммерческим успехом, включая продолжения и подражания «Изгоняющему дьявола» и «Керри», а также «Предзнаменованию» (1976) и «Чужому» (1979). В «Сиянии» рассказывается о кошмаре, преследующем мальчика, остановившегося вместе с родителями в уединенном отеле, где, собственно, и разворачивается действие фильма. Отель становится тайным источником страха, в нем содержится необычайно сильный деструктивный заряд, свидетельством которого становятся лужи крови, просачивающиеся под дверь и потоком мчащиеся по коридору. Эта кровь связывает зрителя с наводнившими экран многочисленными фильмами ужасов. Воздействие фильма заключается в том, что он проецирует опустошительное безумие гостиницы на отца, роль которого сыграл Джек Николсон. Переродившись и исполнившись демонической силы, отец начинает жуткую погоню за сыном, стремясь его убить. Очередной раз вторгшись в самое средоточие американских навязчивых идей, режиссер одновременно опровергает их. В то время, когда на экране кишат дети-маньяки, он выстраивает ситуацию с целью получить возможность сказать, что и у взрослых в глубине души живет инстинкт убийства: исполнитель роли отца Джек Николсон показывает этот инстинкт с редкостной выразительностью. Кубрик рассказывает, как цивилизованный человек, обнаруживает теневые стороны своего характера, свою поразительную предрасположенность неосознанно следовать дорогою Зла, теряется от совершенного им открытия. «Барри Линдон» (1975), «Цельнометаллическая оболочка» (1987) и «С широко закрытыми глазами», фильм, завершенный автором перед самой смертью, в 1999 г., являются последними вехами его выдающегося творчества, напоминающего о мрачном видении человеческой природы, свойственном экспрессионистическому кинематографу и картинам Карла Дрейера уже в то время, когда Кубрик только что появился на свет.
Возможно, дьявол... Америка явно не покончила с демоном. Нефтяной кризис, наступивший после 1973 г., последствия вьетнамской войны, увеличение числа бедных и рост безработицы усилили страх перед закатом, перед разрушением. Таков подтекст «Титаника» (1997) Джеймса Камерона: мир, погрязший в роскоши, не ведающий реальной жизни, должен исчезнуть, ибо такова его кара, носительницей которой является неумолимая судьба. Правда, сладенькая сусальная история любви, как всегда, оставляет глоточек надежды. Впрочем, не исключено, что в Европе молодые люди проглотили эту голливудскую продукцию под другим соусом, а именно с чувством завороженности, и одновременно с осознанием собственного отличия от показанного в кино мира. Во всяком случае довольно сомнительно, чтобы традиционный пуританский лейтмотив сумел в одинаковой степени затронуть всех зрителей Старого Света. Тем более, что выражен он был гораздо более тонко, чем в тяжеловесном «Армагеддоне» (1998) Майкла Бэя, где главную роль сыграл Брюс Уиллис. Спасти планету, которой грозит столкновение с астероидом, могут только Соединенные Штаты: идея, достаточная, чтобы выразить простенький смысл этого «скучного рекламного ролика, снятого во славу армии и Америки белого человека, англосакса и протестанта»40. Тем не менее исключительно высокие сборы, полученный фильмом в стране дяди Сэма, дают основание для производства фильмов-катастроф, сменивших ленты 1970-х гг., для упорного поиска новых смертельных опасностей, которые после исчезновения коммунистической угрозы были бы способны заставить содрогнуться тысячи и тысячи зрителей. С Библией под мышкой очередные герои противостоят ужасной «Годзилле», гигантской ящерице, впервые появившейся на американских экранах еще в 1956 г. и хорошо известной японским детям, обезвреживают комету («Столкновение с бездной», 1998) или же вполне миловидных марсиан, оказывающихся на поверку свирепыми хищниками (фильм «Марс атакует!», 1996). К счастью, ничто не может устоять перед новыми суперменами, защищающими лучшую цивилизацию в мире. Разумеется, при условии восстановления основополагающих национальных ценностей. В том числе и демона... А если даже демона никогда не было, то ради сплочения общества, лишившегося последнего внешнего врага, достойного его по своему масштабу, то его следует выдумать. Пусть даже с риском стать адептами Сатаны, на что в процессе эксперимента иногда решаются наиболее легковерные, к числу которых чаще всего принадлежат самые молодые люди, охваченные желанием приблизить ту демоническую часть самих себя, о которой без устали твердит им культура. Построенный на навязшей в зубах схеме Зла, укоренившегося в человеке, «Простой план» (1998) Сэма Рэйми, являет такой пример, один из многих тысяч. Этот отличный полицейский фильм категории Б доказывает, что не в деньгах счастье: алчность высвечивает тайные пороки трех обывателей из штата Миннесота. В декорациях небольшого городка в американской глубинке терпят крах семья, любовь, дружба, свидетельствуя о том, что, в сущности, модель американского образа жизни работает не всегда идеально.
Демоны Америки
Дьявол вполне мог быть и из бумаги, мог надежно спрятаться между страниц романа или же угодить в ловушку экранного формата, кинематографическую или телевизионную. Суть дела не меняется. В Соединенных Штатах сохраняется непоколебимая вера в его дурные наклонности. Именно эта вера отличает американцев от большей части европейцев и зачастую она же объясняет разницу в восприятии многих зрелищ американского производства и провал в Европе некоторых из них. Американская цивилизация досуга и fast food гораздо легче внедряются в европейское общество, чем пуританская идеология, носителями которой являются многочисленные книги, фильмы и телесериалы. Разумеется, следует отличать произведения высокой культуры от продукции массового игрового потребления. Во Франции и странах католического мира американские подтекстовые клише воспринимаются с гораздо большими сложностями, чем на севере Европы, в частности в Англии, Германии и Нидерландах, и связано это не только с языковой близостью или одинаковостью языка. Местный культурный субстрат должен быть готов для восприятия новых готовых образов. Старинная пропитка духом протестантизма играет важную, но не эксклюзивную роль. К ней совершенно необходимо добавить сходное отношение к фантастической и дьявольской традициям скандинавов и немцев, для которых ярким напоминанием об обширном поле деятельности, открывшемся перед демоном со времен Лютера, стал период экспрессионизма в кинематографе. Коллективное чувство вины, охватившее немцев после Второй мировой войны, еще больше сроднило их с американцами, привыкшими нести в себе Салемский синдром, суть которого сводится к необходимости уничтожения всего нечистого и возникающим следом чувством вины, заставляющим неустанно задаваться вопросом о правильности содеянного. И, наконец, необходимым элементом объединения является приобщение к одним и тем же мифам. Сведение до минимума сильных сторон американского воображаемого или же простое дистанцирование от них, отношение к ним как к порождению чуждой культурной традиции, не располагает к разделению основополагающих убеждений. Так, не знать таких важных символических фигур, как волшебник из страны Оз или доктор Джекиль, смеяться, а не дрожать при упоминании о плаще Дракулы, не знать о злодеяниях Керри и Фредди, с трудом представлять себе, кто такие Рип Ван Винкль, Питер Рагг и Чарли Браун, Снупи и его друзья, разумеется, не предполагает погружения в самое сердце американских фантазмов. Те, кто просто смотрит на них как на неких забавных персонажей, как на игрушки для «взрослых детей», вряд ли поймут, что именно они являются зеркалом глубинных процессов, происходящих в американском обществе.
Написанная в 1819 г. Вашингтоном Ирвингом новелла «Рип Ван Винкль» рассказывает историю деревенского жителя, отправившегося в горы и заснувшего там на целых двадцать лет; проснувшись, он обнаруживает совершенно новую Америку, где и будет жить счастливо. Герой рассказа Уильяма Остина «Питер Рагг исчезнувший» (1825) — голландец, отправившийся на поиски новых земель и, наказанный за сквернословие и за непочтительное отношение к небу и к земле, обреченный вечно бродить, волоча за собой свою тележку. Оба рассказа стали легендами, столь же хорошо известными в Соединенных Штатах, как сказки о Красной Шапочке или Мальчике-с-пальчике во Франции. И обе они осуществляют эксплицитную связь с демонологией, которой была насквозь пропитана культура первых поселенцев Новой Англии41. Упрочившись в конце XVII в. во время процессов над колдуньями из Салема, связь эта сохранилась в устной сатанинской литературе, продолжавшей оказывать воздействие на последующие поколения вплоть до наших дней. Г.Ф. Лавкрафт очень искусно сумел переместить весь скопившийся дьявольский запас в свои произведения. Он прекрасно знал, что является должником Ирвинга, отца «страха с мурашками по коже». По его мнению, «первые поселенцы отличались крайней впечатлительностью, мистицизмом и религиозным рвением», а потому, оказавшись в одиночестве посреди бескрайних просторов, темных и опасных лесов, полных грозных индейцев, у них развился дополнительный комплекс одержимости тайной, дополнивший традиционные одержимости, привезенные из Европы. «Постоянное пребывание под надзором придирчивого и мстительного Бога кальвинистов, Бога, постоянно противостоящего своему воняющему серой противнику, а именно Дьяволу [...] только укреплял эти комплексы»42.
Литература, кино, телевидение хранят неизгладимый след традиций, ставших основополагающими в формировании американского менталитета. Совершенно очевидно, что эмоциональное воздействие этих традиций зависит от конкретной социальной среды, равно как и от многих других параметров, таких, как возраст, пол, принадлежность к национальному меньшинству. Американские интеллектуалы тщетно пытаются доказать, что фильмы ужасов имеют успех главным образом среди необразованной части населения. Они справедливо отделяют массовую культуру от культуры элитарной и культуры артистической богемы, не забывая упомянуть при этом про новаторские движения, вполне способные соперничать с новомодными идеями из Нового Света. Однако это нисколько не мешает таким шаблонным фильмам как «Армагеддон» или история про зеленую ящерицу Годзиллу давать стране по 130 и более млн долларов каждый, что означает массовый приток зрителей в кинотеатры. Кинематографическая индустрия работает с поразительной точностью. Она с размахом закрепила колоссальный успех «Изгоняющего дьявола», размножив дьявольские продолжения, созданные различными режиссерами:«Предзнаменование» (1976), «Изгоняющий дьявола II: Еретик» (1977), «Дамиан: Предзнаменование II» (1978), «Последнее предзнаменование» (1981) и т.д. В каком бы виде ни подавался демон, образ его привлекает внимание прежде всего в Соединенных Штатах. Он питает многочисленные городские предания, т.е. повседневную культуру невероятного, существующую на уровне молвы, этой своеобразной разветвленной сети тайных ментальных трубопроводов, служащих главным образом для ободрения напуганного субъекта, проживающего в современном мегаполисе. Большинство утверждений, циркулирующих в качестве слухов, имеют исключительно формальные доказательства, поэтому они в основном даются со ссылкой на «того-кто-это-видел»; сам же говорящий никогда не может подтвердить реальность сообщаемого им факта, зачастую весьма комического: кошку посадили сушиться в микроволновую печь и она взорвалась вместе с печью; чтобы лучше загореть, женщина слишком долго пролежала под ультрафиолетовыми лампами и изжарилась; самолет разгонял грозовые облака; цирковой слон раздавил автомобиль, приняв его за манежную тумбу...43 Подобные слухи-преувеличения выражают недоверие ко всему новому, незнакомому, к непонятным для простого обывателя достижениям науки, и одновременно помогают этому обывателю сохранить присутствие духа, когда он сталкивается с аналогичными явлениями; ибо, собирая слухи, он испытывает чувство солидарности с теми, кто думает точно также, как и он. Существует множество городских историй, посвященных демону, караулящему свою жертву; об этом, в частности, говорится в рассказах о проглоченных заживо животных. Эта тема имеет свою параллель в кинематографе, представленную, в частности, фильмом «Вторжение похитителей тел» (1956) Дона Сигела; фильм имел огромный успех, и в 1978 г. по нему был снят ремейк. Во французском прокате название фильма, похоже, вполне сознательно было переведено несколько иначе: «Нашествие осквернителей могил», хотя речь в картине идет именно о вторжении нечисти в тело. Однако столь специфически американский сюжет, не имеющий достаточных откликов во французской культуре фантастического — в отличие от осквернения кладбищ — вряд ли смог бы собрать полные залы. Американский фильм «Чужой» (1979) Ридли Скотта, суперуспех которого тотчас повлек за собой целую вереницу продолжений, рассказывает о чудовище, встреченном на неизвестной планете. Чудовище откладывает яйцо в желудок одного из членов экипажа космического корабля. Появившийся на свет из этого яйца отвратительный хищник убивает своего носителя, вырвавшись на свободу прямо у него из груди и сопровождая свое рождение зрелищным фонтаном крови; затем новорожденное чудовище начинает искать себе пристанище в новом теле... Сюжет «Спрятавшегося» (1987) Джека Шолдера выткан по той же самой, четко обозначенной демонической канве: паразитическое создание придает абсолютную злобу и необычайную сопротивляемость тому, кто дает ему пристанище, однако когда хозяину его грозит смерть, паразит тотчас покидает его тело. Городские истории являются отражением одержимости страхом перед опасным нашествием через одно из телесных отверстий, давней боязни человека, подталкивающей его к защите этих отверстий посредством амулетов: отсюда берет начало современная мода на пирсинг. В них также отразился страх умереть на рабочем месте: работа выступает в качестве своеобразной метафоры, означающей болезнь44. Более того, городская история напрямую связан с демонической темой, ибо жертвы сожженных в Новое время ведьм нередко вменяли в вину своим обидчицам, что те с помощью колдовства напускали болезни, и в частности, производили змей и всяких омерзительных тварей в желудках людей и главным образом животных, обреченных таким образом на неминуемую гибель. Одержимые, когда над ними проводили ритуал экзорцизма, выплевывали множество отвратительных существ, свидетельствовавших о присутствии в их теле дьявола. Забытый клубок Сатаны катился к «Чужому», не минуя ни городские легенды, ни боязнь «кормящейся в лоне змеи», которая может означать всего лишь прожорливого ребенка.
Другое современное предание, где говорится о призраке, тормозящем машины знаком автостопа (the vanishing hitchhiker), уводит нас в область воображаемого, особенно любимую американцами45. Оживший покойник, практически не представленный в современном французском воображаемом46, является не только специфически шотландским призраком. Он буквально наводняет фантастическое англосаксов, где появляется как в ужасных обликах, так и во вполне респектабельных, например, в виде компаньона, помогающего справляться с тяготами жизни, как это показано в прекрасном фильме Джозефа Л. Манкиевича «Привидение и миссис Мюир» (The Ghost and Mrs. Muir, 1947), где главную роль сыграла волнующая и блистательная Джин Тьерней. Французские составители сборников городских легенд признают, что пренебрегли сюжетами, не получившими распространения «в нашей стране»: это тревожные рассказы о злодейских выходках групп сатанистов, обвиняемых в принесении в жертву младенцев, а также истории, где утверждают, что во время Хэллоуина, праздника, сходного с французским Днем Всех Святых, «американские дети переодевшись в маскарадные костюмы, ходят по соседям, выпрашивая сладости, а в ответ получают отравленные конфеты»47. Более наглядного доказательства непохожести двух потоков культурных образов, каждый из которых орошает свое культурное поле, даже представить себе нельзя. Несмотря на недавно возникшую моду Отмечать Хэллоуин и собирать в мешки праздничную дань, на разгул ужасов в кино и на телевидении, американская одержимость дьяволом практически не поддается пересадке на иную культурную почву. Глубинная легендарная реальность живет по своим собственным правилам. Массовый психоз, вспыхнувший в Соединенных Штатах от силы полтора десятка лет назад в ответ на обвинения в «ритуальном надругательстве» над детьми, предъявленные родителями и родственниками-сатанистами этих детей, в Европе не имеет аналогов48. Расследования случаев педофилии, и в частности дело убийцы Дютру в Бельгии, относятся к совершенно иному измерению: здесь речь идет о вполне реальных уголовных преступлениях, хотя, разумеется, они также порождают злободневные коллективные страхи и способствуют дестабилизации и без того хрупкого государства.
В самом сердце американского общества конца ХХ в. по-прежнему живет одержимость демоном, в то время как по другую сторону Атлантики влияние демона заметно пошло на убыль. Именно постоянно действующая одержимость объясняет существование, разумеется, маргинальных, но от этого не менее грозных сект, активность которых гораздо более заметна, чем деятельность их собратьев в Европе; многие из этих сект открыто объявляют себя адептами Сатаны. По непроверенным данным, секта Вика насчитывает в наши дни около 2 млн членов, почти 1% населения Соединенных Штатов. Сторонники возвращения к так называемому языческому культу, некогда вытесненному христианством, они называют себя новыми колдунами и заявляют, что не имеют с сатанистами ничего общего 72. Осознающие свою близость к примитивным культам, представителей которых в Соединенных Штатах не так уж мало, исповедующие в основном левые убеждения, числящие в своих рядах как воинствующих экологов так и радикальных феминисток, ярким примером которых является новая ведьма Зузанна («3») Будапест, члены Вика не афишируют свои симпатии к нацистам, моральным предписаниям и правым партиям, что обычно характеризует сторонников Люцифера. Final Church («Церковь последнего суда») Чарльза Мэнсона приобрела печальную известность в 1969 г. после зверского убийства Шарон Тейт, супруги Романа Поланского, и еще четырех человек, чьей кровью были сделаны дьявольские надписи на стенах. Антон Ла Вей, основавший в 1966 г. «Церковь Сатаны», в 1975 г. издал Сатанинскую библию, у которой оказалось изрядное количество читателей. С тех пор появилось немало групп диссидентов и новых левых, и многие из них, бросая вызов обществу, писали на своем щите имя Сатаны, Люцифера, Нефтиды или Сета49. Однако к слухам, которые о них распространяют, следует подходить с осторожностью, особенно когда речь заходит о человеческих жертвоприношениях, хотя в подобном контексте такую возможность исключить нельзя. Активность сатанинских сект пересекла границы Канады, Англии, Германии, Австралии, Нидерландов и даже Франции, хотя за границей она чаще всего представлена в достаточно урезанном виде, нежели у себя на родине. За последние несколько лет во Франции произошло несколько из ряда вон выходящих случаев осквернений кладбищ, совершенных подростками, увлекшимися идеями нацизма и сатанизма. В самих же Соединенных Штатах симптомы сатанинской угрозы становятся все более очевидными50. Ни в одной другой стране феномен сатанизма, объединившегося с нацизмом, не приводит к столь ужасной эскалации насилия. 20 апреля 1999 г. в Литлтоне, зажиточном предместье Денвера, штат Колорадо, два лицеиста во время большой перемены расстреляли своих товарищей и учителей, а затем уничтожили самих себя; всего они убили тринадцать человек и ранили более двадцати. Надев маски и облачившись во все черное, они, по утверждению некоторых комментаторов, устроили эту бойню в честь дня рождения Гитлера. Являясь членами «банды в шинелях», приходивших в класс в длинных черных пальто, они охотно причисляли себя к маргиналам, не скрывали своего пристрастия к фашистской символике и оружию, и исповедовали откровенно расистские идеи. Подобное деструктивное поведение в определенной степени означает скольжение к безумию, свойственное культуре, одержимой Сатаной. Эта бойня является всего лишь одним из целого ряда трагических случаев, произошедших за последнее время в американских школах: 1 октября 1997 г. при аналогичных обстоятельствах в Перле, штат Миссисипи, было убито 2 человека; 1 декабря 1997 г. в Падьюке, штат Кентукки, убито трое; 24 марта 1998 г. в Джонсборо, штат Арканзас, убито четверо; в апреле того же года в Эдинборо, штат Пенсильвания из огнестрельного оружия был застрелен преподаватель; 21 мая 1998 г. в Спрингфилде, штат Орегон 2 ученика были убиты и 25 ранены51. Однако федеральные власти не сумели использовать эти трагедии, чтобы убедить общественность поддержать запрет на свободную продажу оружия, давнюю традицию, ставшую впоследствии статьей в Конституции. В штате Колорадо любой человек, достигший 18-летнего возраста, может беспрепятственно приобрести оружие. В сущности, здесь речь идет о бессознательной игре с демоном, построенной на уверенности в возможности победить его: In God we trustl («Мы верим в Бога!») Пресса вплотную проявила интерес к юным убийцам, провела расследование тайной жизни подростков52, но, пожалуй, никто не в силах реально сдержать поток дьявольских фантазмов, выплескивающийся на молодых людей из различных источников культуры, основная роль среди которых принадлежит кино и музыке heavy-metal. Среди легендарных городских персонажей представлена, в частности, фигура сумасшедшего с крюком, нападающего на молодые парочки, когда те начинают целоваться. Мораль очевидна, однако подобный урок не столько учит, сколько травмирует юную психику, тем более, что его постоянно повторяют фильмы ужасов, например, знаменитая серия «Пятница, 13» (Friday, 13), выходившая с 1980-го по 1989 г. Главным героем ее является живой мертвец Язон, своеобразный «обмирщенный дьявол», чей крюк выступает в качестве субститута когтей Сатаны53. Группу Led Zeppelin, исполняющую инфернальный рок, обвинили в том, что в свой шлягер Stairway to Heaven («Лестница в небеса») она включила демонические послания, воспринимаемые на уровне подсознания. Обвинение доказано не было, однако ряд штатов, воспользовавшись прецедентом, стали требовать, чтобы наличие такого рода подтекста указывали на обложках дисков, подчеркивая тем самым, что потребление подобного рода музыки является личным делом каждого гражданина, его личным отношением со Злом. Что же касается музыкальной группы Judas Priest, родиной которой является Англия, то ее привлекли к суду за пробуждение стремления к самоубийству. После прослушивания вышедшей в 1978 г. песни «Лучше ты, чем я» двое подростков, проведя бурную ночь с наркотиками и алкоголем, застрелились из пистолета; это случилось 23 декабря 1985 г. Родители считали, что самоубийство произошло именно по причине постоянного повтора фразы «Сделай это!», оказавшей сильное влияние на уровне подсознания. В 1990 г., после шестнадцати лет сценической деятельности, те же самые рокеры, одетые как ангелы ада, то есть в черную кожу и с заклепками, продолжали завораживать американскую молодежь. Они выиграли процесс, заплатив четверть миллиона долларов54.
Нет никакой нужды повторяться: результат и так получается неутешительный. Открытое распространение явно патологических, откровенно сатанистских и расистских контекстов осуществляется в обществе, глубоко пораженном страхом перед демоном. Остается только спросить самого себя, почему скатывание по наклонной плоскости все еще не происходит в массовом порядке: ведь ничто этому не препятствует — подобно тому, как ничто не препятствует владению оружием. Основа хороша, уверенно отвечают сторонники американской модели мира. Не исключено, что это, действительно, так. Психозы и прочие пограничные состояния подобны накипи на поверхности дымящегося ведьмовского варева. Большинство населения не имеет ничего общего с этими отклонениями, хотя и потребляет те же самые ведьмовские ингредиенты, созерцая перманентное масштабное шоу, предлагаемое кинематографом и телевидением. Но разве дьявол и олицетворяемое им искушение не являются главной лакмусовой бумажкой этой культурной системы, позволяющей отделить доброе зерно от плевел? Не лучше ли приблизить Люцифера — не слишком, разумеется, а чуть-чуть, так, чтобы самому не обжечься, а затем изо всех сил оттолкнуть его навсегда? Американский сатанизм и насилие имеет смысл анализировать только в таком аспекте. Обращения, содержащиеся в картинах «Дракула» и «Чужой», в фильмах ужасов, в книгах Стивена Кинга и его многочисленных последователей, идентичны: смотрите, читайте, но не поддавайтесь искушению! Надо всегда помнить о существовании Зла, тогда вы никогда не попадете в ловушку, расставленную жизнью. Разумеется, при условии, что вы не позволите дьяволу искушать вас. Нельзя безнаказанно прикоснуться к демону: даже крохотный укус вампира означает приговор без права на обжалование. Американская цивилизация уповает только на сохранение чистоты: малейшее, ничтожнейшее пятнышко требует пожертвовать зараженным членом ради спасения остальной общины. Для материализации границы между Добром и Злом совершенно необходим Князь Тьмы: этой потребностью объясняется и его постоянство, и его метаморфозы, с помощью которых он приспосабливается к эволюции нравов. Он отделяет добрых, составляющих основную массу американского народа, от дурных, которых безжалостно швыряет к себе в ад. Костры Салема должны зажигаться постоянно, пусть даже в различных формах: только так можно помешать распространению заразы, способной полностью разрушить град Чистых. Быть может, именно поэтому общество снисходительно относится к свободной продаже оружия, свободе открыто объявлять себя приверженцем Сатаны или Гитлера, к демоническому року, к безумной страсти к игре (по крайней мере в Лас Вегасе) и множеству других аномальных явлений: их терпят, подобно гнойнику, которому бдительность порядочных граждан не позволяет разрастаться. Своеобразный способ отдать дьяволу дьяволово; чтобы помешать ему вселиться во все тела, ему приносят в жертву тех, кто принял его закон и, подобно проклятым героям «Диких сердцем» Дэвида Линча (Wild at Heart, 1990), встал на путь погибели. Убийства учеников, совершаемые их же товарищами, серийные убийства, совершаемые «чудовищами», могут только продолжаться, подсознательно укрепляя коллективную веру в возможность остановить Зло и причиняемые им опустошения только в том случае, если каждый столкнется со Злом лично и победит его прежде всего в себе. Никто не может полностью считать себя невиновным, мог бы сказать католик Альфред Хичкок. Американское сознание, разумеется, вполне соглашается с этим утверждением; усиленное тиражирование призраков страшного и отвратительного демона, вампира, ящерицы, гигантских насекомых, гнусной рептилии, живого мертвеца, внеземного существа, «чужака», воплощающего в себе почти все вышеуказанные отрицательные свойства, делается для того, чтобы несмотря на все препятствия направить греховное человеческое существо на узкую тропу добродетели.
Пик беспрецедентной жестокости, когда убийства совершаются примерно в соотношении 10 жертв на 100 000 жителей, в Соединенных Штатах зарегистрирован в 1991 г., в то время как во Франции в этом же году на такое же количество жителей пришлось всего 2,3 жертвы, а в Канаде — 2,8. С 1966 г. по начало 1990-х гг. число убийств, совершенных на территории Соединенных Штатов, увеличилось до 113 %. Сообщения о кровавых преступлениях наводняют средства массовой информации и бульварную литературу, предлагая всему миру модель пронизанной жестокостью культуры, сомнительными героями которой выступают serial killers. Одной из граней американского мифа, глубоко личностного и одновременно общинного, является убежденность в том, что общество представляет собой лишь хрупкий барьер на пути зверя, дремлющего в человеке: насилие источает само сердце индивида, постоянно колеблющегося между дикостью и цивилизованностью. Дени Дюкло называет это «комплексом оборотня». Он полагает, что столь острое противоречие создает «амбивалентную энергию, способную порождать бесконечное богатство»55. Однако когда он пытается доказать, что речь идет о древнем нордическом наследии, доставшемся от воспетых в сагах берсерков или из истории бога Одина, его доводы кажутся значительно менее убедительным. Ибо страх перед варварством, глубоко сокрытым в каждом из нас, восходит главным образом к культурному и религиозному наследию протестантов из Северной Европы, утвердившемуся в XVII в. в форме пуританства и поддержанного отцами основателями Реформации. Укрощение проклятой части человеческого существа составляет часть американской мечты. Утрата доверия, вызванная травмой, нанесенной войной во Вьетнаме, и экономический кризис 1973 г. в значительной степени обострили исконный синдром. Исчезновение дьяволизированного до предела советского конкурента, также не могло повлиять на истребление зверя: зверь является неотъемлемой частью цивилизации, в недрах которой он скрывается. Ибо речь идет об оригинальном пути обуздания насилия — без привлечения централизованного государства, которое вполне в состоянии взять борьбу с насилием в свои руки, без ограничения мифологических свобод, унаследованных от первых пионеров, при сохранении мистического отношения к оружию, что вдвойне отличает Соединенные Штаты от Европы, где процесс цивилизации нравов опирался как на процесс физического разоружения так и сильный психологический контроль со стороны граждан.
Конец цепочки американских мысленных образов находится у индивида, чья личная роль в деле обеспечения коллективного спасения становится решающей. В Старом Свете, чаще всего все бывает наоборот: защитный кокон коллектива не позволяет личности вооружиться и непосредственно взять на себя ответственность за борьбу за выживание, а плотное кольцо Церквей, резко отличающихся от многочисленных сект Нового Света, ограждает верующего, не позволяя ему вступить в единоборство с демоном. Совершенно очевидно, что повседневное состояние напряжения потенциально гораздо более важно для заокеанского гражданина, нежели для европейца. Например, система социального страхования, защитная сеть которой опутывает большую часть французов, включает в себя также и своего рода ментальное страхование, уверенность в возможности побороть страх, чувство, явно не характерное для американского универсума, где на первом месте стоит обостренное сознание личной ответственности. Особенно если вспомнить о сомнениях кальвинистов относительно замыслов Господа, и их уверенность, что не всем верующим суждено спастись. Пуританская религия в стране Дяди Сэма явно утратила свое влияние, однако урок ее остался и пребывает в самой толще массовой культуры, вселяя отчаяние в тех, кто задается вопросом: зачем бороться против Зла, когда оно уже коснулось вас своим крылом? Построенный в Соединенных Штатах универсум рассчитан прежде всего на чистых,на сильных. Остальніе же оказавшись в мире, беспощадном по отношению к слабым, скользят без остановки в преисподнюю, в крайнем случае, попадают в затруднительные положения и в конце концов пополняют ряды маргиналов. Их стремление отыскать искусственный рай, чтобы хоть как-то компенсировать постигшие их неудачи, становится дополнительным доказательством их неприспособленности, свидетельством того, что суровый Бог больше не интересуется ими, отдав их Сатане, который всего лишь исполняет Его неисповедимые решения. Это же самое объяснение может служить оправданием ожесточения, царящего в обществе той Америки, где единственным мерилом значимости индивида является его успех. Не забывая при этом о неумолимом шествии Салемского комплекса, несущего в себе неразрешимое противоречие между одержимостью чистотой и уверенностью, что человек не создан для этой чистоты, что он должен неустанно следить за собственным поведением, жертвовать собой, чтобы попытаться к этой чистоте приблизиться. Ну как тут обойтись без дьявола?
1 Minois G., op. cit., p. 112—114. О доктринальном постоянстве в XIX в. также см. выше, гл. VI.
2 Радио Нотр-Дам, протестантская волна, цикл передач «Дьявол во всех его ипостасях», транслировавшийся с 13 по 18 марта 1999 г. В передаче от 13 марта была сделана ссылка на промелькнувшие во французских газетах и средствах массовой информации сообщения о представлении этого нового ритуала. .
3Amorth Gabriel (Dom). Un exorciste raconte. Paris, Oeil, F.X. de Guibert, 1993.
4 Laurentin Rme. Le Demon, mythe ou realiteé Paris, Fayard, 1995.
5 «Le pouvoir des magiciens». Parapsychologie. Numerologie. Chiromancie. Médecines parallèles. Voyances». Le Nouvel Observateur, ler-7 juin 1989, p. 12, 14, 29.
6 «La France envoutee. Exorcistes. Astrologues. Voyants. Marabouts». Dossier coordonnée par Josetta Alia. Le Nouvel Observateur, 22—28 février 1985, p. 49.
7 Подобная структура мышления существовала во времена охоты на ведьм. См.: Muchembled R. La Sorcière au village, op. cit.
8 Renard Jean-Bruno. «Ellements pour une sociologie du paranormal». Religiologiques, Université de Quebec a Montreal, n 18, automne, 1998, p. 34, 40.
9 Ibid., p. 41-43.
10 Sichere B., op. cit., p. 14; Vincent J.-D., op. cit., p. 271—275 (подчеркнутые слова выделены авторами).
11 «Le pouvoir des magiciens», op. cit., article de Bertrand Deveau. «Les politiques et leurs voyantes», p. 24; Renard J.-B., art. cite, p. 34.
12 «Le diable revient. Sectes. Crimes rituels. Envoûtements. Rock satanique». Le Nouvel Observateur, 20—26 décembre 1990.
13 «La France envoutee», op. cit.; «L’art et la maniéré de magnétiser les gogs», dossier coordonne par Michel de Pracontal. L’Evenement db Jeudi, 26 octobre—Ire novembre 1989, p. 74—105; «Contre les margoulins de l’irrationnel». L’Evenement du Jeudi, 26 octobre—Ire 1989; «Le diable». Panorama, mensuel chrétien, hors sérié, n 12, 1990; «Satan le beat». Liberation, 7 mars 1990; «L’Eglise croit-elle encore au diableé». Panorama, mensuel chrétien, n 284, septembre 1993, p. 70—71; «Les citoyens et les parasciences» (colloque organise par la Cite des sciences et de l’industries et le journal Le Monde), Paris, Albin Michel, 1993; «Satan revien», par Luc Ferry. L’Express, n 2187, lOjuin 1993, p. 120—122; «Qui a peur du diableé», La Vie, n 2561, 29 septembre 1994, p. 58—61; «Delivrez-nous du diable», Le Monde, Ire janvier 1996, p. 9; «Satan et son empire», Notre Histoire, n 143, avril 1997.
14См. выше: Введение, прим. 7, и ниже, раздел «Чертовски здорово», где речь идет о комиксах. О знакомстве Комеса с теориями М. Мюррей (op. cit., изд.в 1921, франц. перев. в 1957 г.) и Карло Гинзбурга, чья работа «Ночные битвы» (op. cit.) вышли во Франции в 1980 г., за год до появления в (A Suivre) первых выпусков рисованной истории «Ласка», см.: Renard Jean-Bruno. Bandes dessinees et Croyances du siecle. Essai sur la religion et le fantastique dans la bande dessinee franco-belge. Paris, PUF, 1986, p. 199—202. О вышедших недавно исследовательских работах, посвященных преследованиям ведьм см.: Muchembled R. (dir.), op. cit.
15 «Le diable revient», op. cit., article de Henri Guirchoun, «La sorcière de Bicetre», p. 30—32
16 Duivels en demonen, op. cit., p. 103, 143.
17 Фотографии объектов воспроизведены в: Villeneuve R. La Beaute du diable, op. cit., p. 55—58.
18 RenardJ.-B., op. cit., p. 173; Potel Julien. Religion et Publicité. Paris, Cerf, 1981.
19 Dupont-Bouchat Marie-Sylvie, Frijhoff Willem, Muchembled Robert. Prophètes et Sorciers dans les Pays-Bas, XVI—XVIII siecle. Paris, Hachette, 1978. (Раздел, посвященный Люксембургу, написан М.-С. Дюпон-Буша.)
20 Servais Jean-Claude. La Tchalette et Autres Contes de magie et de sorcellerie. Ed. du Lombard, 1982; Servais Jean-Claude, Dewamme Gerard. Tendre Violette. Casterman, 1982; Cornes Didier. Le Maitre des tenebres. Casterman, 1980; Cornes Didier. La Belette. Casterman, 1983; Cornes Didier. Silence. Casterman, 1980. Voir aussi Francois Craenhals. Les Cavaliers de l’Apocalypse. Casterman, 1980; Cuvelier Paul. Le Royaume des eaux noires. Ed. Du Lombard, 1974.
21 Renard J.-B., op. cit., p. 11, 213—217.
22 Francart Roland. Trésors de la BD religieuse de 1941 a 1985. Bruxelles, Centre religieux d’information et d’analyse de la Bande Dessinee, 1985.
23 Renard J.-B., op. cit., p. 199—202.
24 Renard Jean-Bruno. «Le film L’Exorciste a travers la presse», 1975 (неизданный материал; благодарю автора, любезно предоставившего мне возможность ознакомиться с ним).

Питер Брейгель. Триумф смерти. Фрагмент
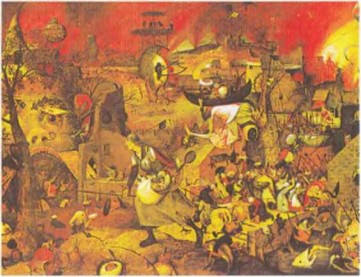
Питер Брейгель. Безумная Грета

Питер Брейгель. Безумная Грета. Фрагмент


Кадры из фильма Альфреда Хичкока "Психоз", 1960

Кадры из фильма Альфреда Хичкока "Птицы

Кадры из фильма Джорджа А. Ромеро "Ночь живых мертвецов", 1968

Кадры из фильма Вернера Херцога "Носферату - призрак ночи", 1978

Костюм персонажа из фантастического фильма ужасов Ридли Скотта "Чужой"
25 Об изданиях катехизиса в картинках см. выше, гл. VI. Теме ангела в комиксе посвящена работа Ж.-Б. Ренара: Renard, op. cit., р. 19—21, 53. В журнале Pilote с 1962-го по 1969 г. печаталась рисованная история Жана Шакира о приключениях толстого симпатичного проходимца Тракассена, обладателя персонального ангела-хранителя Серафена и персонального демона Анжелюра, каждый из которых старался перетащить Тракассена на свою сторону.
26 Renard J. B., op. cit., p. 5, 138, 140, 154, 157.
27 Eisner Lotte H. L’Ecran démoniaque. Les influences de Max Reinhardt et de l’expressionisme. Paris, Le Terrain vague, 1965; издание, дополненное иллюстрациями и текстами: Paris, Losfeld, 1981 (список фильмов с. 259—272). См. также: Leutrat Jean-Louis. Vies de fantômes. Le fantastique au cinema. Paris, Editions de l’Etoile/Cahiers du cinema, 1995.
28 Eisner L.H., op. cit., p. 37—41.
29 Ibid., p. 164-165.
30 Ibid., p. 245—249. Карл Безе описывает технические приемы, использованные в 1920 г. при съемках фильма «Голем».
31 Ibid., р. 69-76.
32 Faivre T., ор. cit., р. 203—205.
33 На киностудии, расположенной в берлинском пригороде Бабельсберг, где в 1913 г. снимался фильм «Пражский студент», организована постоянная выставка, посвященная фантастическому в кино; имеется каталог этой выставки: Cinefantastique, par Rolf Giesen (Potsdam Stiftung Deutsche Kinemathek), Berlin, Argon Verlag GmbH, 1994.
34 Faivre T., op. cit., p. 205—210.
35 См. выше, гл. IV.
36 Huxley Aidons. The Devils of Loudun. Londres, Chatto and Windus, 1952.
37 Критический анализ фильма Робера Брессона «Вероятно, дьявол» (Robert Bresson, Le Diable probablement) см.: L’Anvant-Scene. Cinema, n 408—409, janv.—février 1992, p. 1—130. Критический анализ фильма Анджея Зулавского «Дьявол» (Andrzej Zulawski, Le Diable,1972) см.: La Revue du cinema, n 456, janvier 1990, p. 60—69.
38 Подборка материалов, посвященных Стэнли Кубрику, скончавшемуся 7 марта 1999 г., см. в: Le Monde du 10 mars 1999, p. 30—31.
39 LeutratJ.-L., op. cit., p. 122—125.
40 Blumenfeld Samuel. «La fin du monde est proche, et seuls les Etats- Unis peuvent sauver la Terre», Le Monde, 6 août 1998, p. 17.
41 Terramorsi Bernard. Le Mauvais Reve américain. Les origines du fantastique et le fantastique des origines aux Etats-Unis. Paris, L’Harmattan, 1994, notemment p. 23—24, 30, 59, 103.
42 Lovekraft Howard-Philippe. Epouvante et Surnaturel en littérature. Paris, UGE, 1969, p. 87.
43 Campion-Vincent Véronique, Renard Jean-Bruno. Legendes urbaines. Rumeurs d’aujourd’hui. Paris, Payot, 1992.
44Ibid., p. 28—44 (дополнено библиографией вопроса).
45 Ibid., p. 57.
46 RenardJ.-B. «Elements pour une sociologie du paranormal», art. cite, p. 34 (согласно опросу, проведенному в 1981 г., только 4% опрошенных верят в привидения (правда, среди них 64% принадлежат к руководителям среднего и верхнего звена).
47 Campion-Vincent V., RenardJ.-B., op. cit., p. 14.
48 Victor Jeffrey S. Satanic Panic. The Creation of a Contemporary Legend. Chicago, Open Court, 1993; Campion-Vincent Véronique. «Description du sabbat et des rites dans les peurs antisataniques contemporaines», Cahiers internationaaux de sociologie, vol. XCVIII, 1995, p. 43—58. Благодарю Жана-Брюно Ренара за то, что он привлек мое внимание к данной теме.
49 Russel J.-B. Mephistopheles, op. cit., p. 253 sq.
50 Martin J-В., Introvigne M. (ed.), op. cit., p. 23, 64. См. также: Massimo Introvigne. Enquête sur le satanisme. Satanistes et antisatanistes du XVIIe siecle a nos jours. Paris, Bibliothèque de l’Hermetisme, 1997.
51 Всем этим трагедиям посвящена статья в Le Monde: Le Monde du 23 avril 1999, p. 9; в сообщении о трагедии в Литлтоне, опубликованном накануне (Le Monde du 22 avril 1999, p. 36), говорится о трех убийцах, одни из которых был одет в белое, и указано число жертв — 25. Молва не щадит и журналистов...
52 «The Secret Life of American Teens», Newsweek, 10 May 1999, p. 44—60 (подборка материалов, составитель которой пытается понять мотивы, руководившие юными убийцами из Литлтона).
53 Campion-Vincent V., Renard J.-B., op. cit., «Le fou au crochet», p. 160-167.
54 «Le diable revient», op. cit., article de Chantal de Rudder, «Judas Priest, Heavy Metal», p. 27.
55 Duclos Denis. Le Complexe du loup-garou. La fascination de la violence dans la culture américaine. Paris, La Decouverte, 1994, p. 11, 25.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Танцы с дьяволом
Последняя глава должна стать для читателя путеводной нитью к настоящей книге. Для меня история не является пыльным музейным экспонатом, свидетелем блистательной славы прошлого. Пребывая в постоянном движении, бурный поток истории рвется вперед, захлестывая общество и формируя каждого его члена; не замедляя бега, он перемешивает все те явления, из совокупности которых образуется культура. Культура — это то, что объединяет и одновременно разъединяет людей, уверенных, что они сами и только сами решают свою судьбу. Поэтому отправившись на поиски дьявола, я двинулся к истокам этой бурной реки, то есть пошел против ее течения. Чтобы понять, какое место занимает демон в ментальном универсуме наших современников, в нашем воображаемом, какие представления, хранящиеся в закромах памяти индивида, оказывают влияние на его поступки, мне пришлось отыскивать все следы нечистого. Тем более, что на пороге третьего тысячелетия многие историки и социологи поднимают вопрос о возрождении религиозного чувства. Но автор оставляет проблему веры как таковой в стороне, уверенный, что каждый должен позиционировать себя в этом вопросе по своему усмотрению. Соединив тему дьявола с темой живой культуры с целью определить специфику Западного общества, он ищет ответ на вопрос: могут ли активные силы Запада преодолеть отчаяние, в бездну которого постоянно ввергают их трагические события современной жизни? На протяжении тысячи лет или около того в Европе либо прямым, либо косвенным источником всех несчастий и пороков считался исключительно дьявол — чтобы ни у кого не было повода усомниться в Боге. Драматическое напряжение, переживаемое субъектом, сублимировалось, производя мощнейший выброс коллективной энергии, толкавший вперед цивилизацию и пробуждавший неукротимое стремление к познанию и завоеванию. Поистине маниакальная одержимость демоном, укоренившимся в самом сердце американского общества, имеет европейские истоки: демон прибыл на американский континент вместе с первыми переселенцами из Европы. Драматический настрой сохранился и на Севере Европе, достигнув своего пика в потерпевшей в 1918 г. поражение Германии, что с незабываемой выразительностью показали создатели экспрессионистского кинематографа. Возможно, поэтому демонические образы, прибывшие из Соединенных Штатов, в северных странах имели больший успех, нежели во всей остальной Европе. Однако недавние изменения свидетельствуют, что демон северных стран отнюдь не сводим к импортной модели. В соответствии со стремлением значительной части верующих к более спокойному культу, к меньшему, нежели было в прошлом, количеству принудительных ритуалов, католические иерархи в Германии и Нидерландах высказываются в пользу укрощения дьявольского террора. В протестантском лагере также зарождаются сомнения относительно имеющейся концепции Сатаны, а в ряде высказываний звучит желание избавиться от нее вовсе. Католические страны, к которым можно присоединить и Бельгию, уже давно и неуклонно следуют по этому пути, начав его в эпоху Французской революции, ускорив шаг в эпоху романтизма и завершая его в наши дни. Возросшая интериоризация страха перед Лукавым, доставшаяся в наследство от XIX столетия, натолкнулась на препятствие, а именно на силы противодействия, выявленные психоанализом, ускорившим десакрализацию темы. Но главным противодействием стал мощнейший заряд оптимизма, внесенный Просвещением. Корни сегодняшнего стремления к немедленному счастью, гедонизм, позволяющий извлекать удовольствие из потребления «чертовски хороших» продуктов, в рекламе которых без колебаний используется комедийный образ Люцифера, следует искать в философии Просвещения. Трагическое уменьшается, разъедается, а иногда и вовсе отступает под напором уверенно движущегося вперед тиранического «Я». Рост продолжительности жизни, заметный прогресс медицины, отступление в тень темы смерти, вкус к безмятежному существованию свидетельствуют об отречении от тревоги и, как следствие, о значительном сокращении территории страха в индустриально развитых странах. Сокращение, для которого понадобился всего лишь один век, отмеченный невиданным прежде подъемом экономики, породившим потребительское изобилие. И как следствие, в Европе и в Америке возникает огромная жажда фантастического, сверхъестественного, «жажда чуда», как называют ее социологи. Но это новое «возвращение поверженного противника», иначе говоря, понятий, связанных некогда с религиозной сферой, а затем отвергнутых Разумом, не является самопроизвольным. В католических странах, в Бельгии, а также в отдельных регионах Северной Европы, сверхъестественное в основном играет роль отдушины и вполне мирно вписывается в окружающую действительность. Ибо в основе восприятия сверхъестественного лежит игровое восприятие, способное истребить экзистенциальную тревогу, даже когда речь заходит о явлениях «чистого ужаса» по-американски. Культурные матрицы по обе стороны Атлантики не являются идентичным, а, следовательно, восприятие «ужасов» тоже разное. За исключением горстки наиболее ортодоксальных верующих и скудного числа адептов сект Люцифера, во Франции большинство зрителей, потребляющих продукцию голливудской индустрии развлечений, воспринимает страх, содержащийся в их дьявольских посланиях, исключительно как игру. Поэтому, не желая оказаться в культурной изоляции, изготовители этих посланий с помощью средств массовой информации приспосабливают свою продукцию к особенностям местного восприятия; впрочем, чтобы наши собственные мифы имели успех у зрителей за океаном, их также следует «приспосабливать» в тамошней специфике.
Недавнее отступление дьявола, его уход в глубинную сущность человеческой натуры вполне можно считать великой революцией западного сознания. Традиционная религия, формировавшая коллективную убежденность в невозможности счастья в этом мире, сложив оружие, отступила в тень, и сделала это прежде всего в католических странах. Великая «жажда чуда», обуявшая граждан этих стран в конце XX в. свидетельствует, без сомнения, о череде поражений, которые потерпела официальная Церковь, а также, на наш взгляд, об отчаянной потребности в чувстве безопасности, разумеется, в сочетании с новым пристрастием к счастью и наслаждениям, практически не свойственным послевоенному поколению и тем, кто вступили в отроческий возраст до 1965 г. Младшие братья и сестры этого поколения были вскормлены уже гораздо более сладким молоком. Пребывая под постоянным огнем звучащих со страниц комиксов и модных журналов, с кино- и телеэкранов призывов к раскрепощению, к личному наслаждению, под прицелом голосов, зовущих немедленно стать счастливыми, они усвоили прежние дьявольские понятия не напрямую, а опосредованно. Трагические структуры западного сознания продолжали продуцировать дьявольские послания, но они постепенно покидали сферу реальности, и, преломившись в зеркале фантасмагории, становились образами, продуцирующими преимущественно приятные эмоции. Нынешнее возвращение фантазмов сопряжено с эстетическим или чувственным наслаждением, прежние страхи, заполнявшие все человеческое нутро, неизбывный ужас перед неизбежным концом, жуткое липкое ощущение неумолимого приближения вонючей адской пропасти, где предстоит бесконечно искупать свои прегрешения, остались в прошлом1. «Трагические истории» в стиле Россе или епископа Камю, производившие огромное впечатление на публику начала XVII в. и формировавшие ее мир чувств по христианской модели, согласно которой дьявол выглядел бесконечно грозным, лишились идеологической основы, и, разбредаясь во все стороны обширного литературного поля, утратили свой устрашающий характер. Являясь непременной составляющей раздела происшествий, особенно криминальной хроники, обильно представленной в газетах и на телевидении, дьявольская тематика открывает дверь навстречу случайному, непредвиденному, управляемому богами или демонами, позволяющими почувствовать свое незримое присутствие в нашей обыденной жизни. Драматическое по сути, но зачастую смешное по форме, это присутствие будоражит нас, притягивает, но не вызывает сильных эмоций, не повергает в ужас, а просто позволяет с комфортом выскользнуть из ярма повседневности. Такое воздействие производят сообщения о паранормальных явлениях, жадно поглощаемые многими нашими современниками. Гороскопы, талисманы, целители, ясновидящие позволяют без вреда для себя прикоснуться к материям, наделенным определенной сакральностью. Опрос, проведенный агентством SOFRES в 1981 г. показал, что 58% французов в возрасте от 15 лет и старше, верят в возможность отыскать источник при помощи ореховой лозы, 41% — в целительные способности магнетизеров и исцеление с помощью наложения рук, 40% — в способность обнаруживать излучения, исходящие от разного рода тел, 37% — в телепатию, 36% — в зависимость характера человека от его астрологического знака. А всего лишь три-четыре века назад таких легковерных судили, а иногда даже сжигали, особенно тех, кто предавался — как тогда их называли — дьявольским наукам. Сегодня, в отличие о прошлых лет, вера в инопланетян или НЛО (а в них верят 31% опрошенных), в сущности, означает веру в того же самого демона, только в современной форме,; эта вера вселяет уверенность в тех, кто чувствуют себя одинокими, затерявшимися в безымянном и тревожном Городе. Для тех, кто лишился земных богов, существа, прибывшие из иного мира, становятся новыми божествами. Для других же, наоборот, инопланетяне видятся новой силой, угрожающей человечеству2. Именно такое представление, характерное для американского воображаемого, нашло свое отражение в фильме Тима Бертона «Марс атакует!» (1996), где милейшие марсиане превращаются в кровожадных хищников.
Очистительная функция фильмов ужаса общеизвестна. Если исключить конкретные случаи извращений или убийств, спровоцированных такими фильмами в Соединенных Штатах, где между реальностью и фантасмагорией нет такой четко выраженной дистанции, как в Старом Свете, то настаивать на этом нет нужды. Очень европейский режиссер Хичкок, гениальный изобретатель кинематографического жанра suspense, фильмов, порождающих тревогу и одновременно активно содействующих избавлению от нее. Непосредственно используя прежнюю западную систему представлений, основанную на страхе перед сверхъестественным, перед грехом, перед дьяволом в его островном варианте, он вышивает свою метафору, тесно переплетая нить основы с последующими культурными наслоениями. К первым смысловым стежкам тянутся ниточки от Шекспира и Марло, блестящих знатоков «трагических историй», родившихся во Франции в середине XVI в. и благодаря таланту епископа Камю снискавших огромную популярность в эпоху Людовика XIII. Затем нить ведет нас к английским готическим романом конца XVIII в., к фантастическому жанру и его авторам — от Гофмана до Жана Рея и Г.Ф. Лавкрафта. Не остается в стороне и полноводная река детектива, блистательные примеры которого дают романы Агаты Кристи, Эллис Питерс и многих других. Французский детектив, отличающийся большей глубиной психологической проработки образов, развивается параллельно, но следует своим собственным путем, начавшимся с повестей Жака Казота и продолженного мэтрами сладостной неуверенности и фантастического сомнения XIX столетия, чье творчество стало отличительным признаком национального подхода к демонической теме, получившей свое развитие как в литературе, так и в кинематографе, и в иллюстрированных изданиях для юношества. Желая избежать давления со стороны разного рода обществ защиты добродетели, Стэнли Кубрик, снявший «Лолиту» (фильм вышел на экраны в 1962 г.), уехал в Англию, однако американская культура, в самом сердце которой глубоко укоренился демон, всегда будет оказывать на него глубочайшее влияние. Впрочем, есть основания полагать, что за океаном его скандальная репутация соответствует силе его грозногопроницательного взора, извлекающего на свет скрытые от глаз вещи, которые его сограждане не желают замечать. Неизбывное Зло, в котором не оставляющее никого равнодушным творчество Кубрика черпает дополнительную эмоциональную нагрузку, требует выхода наружу через насилие, реальное или символическое, плодящееся в Новом Свете гораздо интенсивнее, чем в Старом. Зрители Соединенных Штатов не любят, когда смеются над демоном, как этот делает поляк Роман Поланский в фильме «Бал вампиров» (1967), равно как и Джерри Льюис, который хотя и родился в Соединенных Штатах, тем не менее безжалостно разрушает зловещий стереотип двойника, создав комедию по мотивам классического сюжета о докторе Джекиле и мистере Хайде (фильм «Сумасшедший профессор», 1963). Фильм Поланского «Ребенок Розмари» (1968) тоже не соответствует вкусам американских зрителей, ибо «заражен» сомнением, чьи корни кроются во французском восприятии фантастического. Не слишком интересует американцев, за исключением интеллектуалов, и мир эмоций Вуди Аллена, от которого без ума европейцы, и в первую очередь французы: весь беспредельный трагизма человеческого бытия Аллен выражает в предельно гротесковой манере, дистанцируя себя от зрителя. Его разрушительный юмор, особенно в области истинно американского института психоаналитиков, на самом деле гораздо ближе к европейской фантасмагории, нежели к общей для всех американцев вере в могущество Сатаны.
Сегодня существует множество различных путей к дому дьявола Запада. Если говорить об эмоциональной шкале, то наивысший уровень страха перед Лукавым с раздвоенным копытом, способным захватить все тело грешника и изменить его, как это делает Дракула, одним укусом превращающий свои юные невинные жертвы в вампиров, сохраняется именно в Соединенных Штатах. Затем следует Англия. За ней идут немецкие и скандинавские страны, царство мрачного романтизма и экспрессионизма, хотя уже очевидно, что глубинные пласты воображаемого этих народов довольно давно подвергаются изменениям. На другом полюсе находится Франция, универсум, где Просвещение и особое направление романтизма, скрывшего образ падшего ангела за дикой красотой гения свободы, давно уже сделали обществу прививку против сатанинских уловок. Начиная с 1960-х гг. молодые французы постоянно смеются над Лукавым, ставшим героем комиксов, над вампиром, совершившим самоубийство, впрыснув себе в вену замешанный на святой воде чесночный соус, в то время как их ровесники американцы идут дорогой неизбывного ужаса, осаждаемые Фредди Крюгером, Кэрри, Чужими и всеми оборотнями мира, которые просто обожают танцевать под полной луной в прериях Нового Света. Впрочем, французы также испытывают огромную потребность в паранормальном. И все же, каков ментальный образ демона, в которого, как свидетельствуют результаты опроса 1988 г., верят 24% студентов университета в Монпелье? И как — по-разному или одинаково — видят его студенты, не соблюдающие церковные обряды (19% из них признает существование дьявола) и студенты, регулярно исполняющие церковные предписания (62% из них признают существование дьявола)3? Разумеется, есть все основания говорить о разном его видении, ибо если предположить, что в начале XXI в. сверхъестественное возвращается, и не просто, а стремительно, то очевидно, что воздействие его на индивид будет зависеть от возраста последнего, от его пола, социальной принадлежности и стиля жизни, а также от всей совокупности культурных влияний, испытанных им на протяжении всей жизни. Однако основное различие, несомненно, будет формироваться на основании принадлежности индивида к тому или иному культурному ареалу, иначе говоря, зависеть от того, в какой стране он воспитан: там, где демоническая культура вступила в стадию умиротворенности (примером такой страны является Франция), или же там, где она, напротив, отличается повышенной тревожностью, характерной, в частности, для Соединенных Штатов. Относительная маргинализация сатанинской темы в подавляющем большинстве франко-бельгийских комиксов, свидетельствует о стадии умиротворенности, в то время как характерные для Америки мода на музыку heavy-metal, сатанинские секты и появление множества серийных убийц (serial killers), в том числе и среди школьников, свидетельствуют о буйстве демона. Городские легенды, откликающиеся на все коллективные поветрия, также свидетельствует о разном уровне одержимости дьяволом в Старом и Новом Свете. Разумеется, ни одно общество не может полностью устранить трагическое из жизни своих членов, а тем более его коллективную культурную формулировку, необходимую для внутреннего сплочения членов этого общества. Тем не менее процесс приручения трагического происходит в Европе более динамично, чем за океаном, особенно в тех краях, где его традиционные христианские рамки распались уже несколько десятилетий назад. Возможно, этим объясняется недавнее парадоксальное воскрешение Сатаны в речах папских иерархов, за которыми последовала реформа католического обряда экзорцизма. Неужели официальная Церковь осознала, что увеличение числа адептов католицизма одновременно уменьшает шагреневую кожу дьявола?
Недавние социологические опросы показывают, что усиление веры в сверхъестественное становится конкурентом устоявшейся религиозной практики, как, впрочем, и воинствующего агностицизма; вера эта не является ни остаточным фактором, ни культовой игрушкой наименее образованных слоев населения. Опрос, проведенный в 1981 г., показывает, что во Франции работники высшего и среднего руководящего звена значительно чаще, чем остальное население, верят в телепатию, астрологию, гороскопы, карты, НЛО, чары, вращающиеся столы и призраки. Они реже, чем крестьяне, верят в лозоходцев, зато в два раза меньше крестьян верят в карты и вращающиеся столы, и всего лишь 19% крестьян (против 22—23% руководящих кадров) верят в колдовство, что по сравнению с XVII в. кажется совершенно неслыханным. Ряд ученых объясняют этот феномен вытеснением традиционных институтов христианской веры и заменой их верой в паранормальное — как в Европе, так и в Соединенных Штатах, где указанное явление характерно прежде всего для безликого универсума больших городов. Еще один опрос, проведенный на европейском уровне, показал, что 14% горожан верят, что сталкивались со сверхъестественным, в то время как в деревне к таковым причисляют себя всего 11 % опрошенных. Деревенские жители чаще посещают церковь и слывут более доверчивыми, нежели вечно стремящиеся выпятить собственное «Я» горожане4. Рост спроса на паранормальное охватил, несомненно, весь Запад. Но какие явления скрываются под столь острым, вновь пробудившемся интересом? Если говорить о такой стране, как Франция, то скорее всего, этот интерес лишь подтверждает неуклонное отступление трагической культуры, унаследованной из прошлого тысячелетия, уступая место иному видению человека, дарованному эпохой Просвещения. Проявления этого интереса сродни игре с дьяволом, точнее, с темной стороной человеческой личности, в процессе которой привлекаются книги, кино, комиксы и прочие каналы информации, по которым циркулирует пропитанная гедонизмом индивидуалистическая философия, способствующая истреблению страха и выведению его за пределы человеческой личности. Эта философия предназначена заменить прежнюю потребность в добровольном коллективном согласии страдать ради выживания вида в опасном для него окружении на потребность наслаждаться жизнью, или хотя бы заботиться о том, чтобы во имя какого- то сомнительного потустороннего мира не нарушить того счастья, которое общество изобилия и досуга готово в любой момент обеспечить и телу, и уму. Из сферы действия этой философии, скорее всего, придется исключить Соединенные Штаты, где пуританские традиции сохранились в исключительно активной форме. Во всяком случае, боязнь самого себя там гораздо более сильна, более разрушительна, чем в Европе, и происходит она на фоне Салемского синдрома, то есть духовного восприятия нацией возложенной на нее миссии, осуществить которую повелел ей Создатель: In God we trust. Ценой дьявольского искушения, по-прежнему обладающего необычайной силой, ибо неисповедимый промысел божества предполагает перманентное присутствие демона в человеческом обществе. С исторической точки зрения Америка благоговейно увековечивает доставшийся ей в наследство западный динамизм, неуклонное стремление вперед, являвшееся двигателем европейской цивилизации с того самого времени, когда в коллективном воображаемом Запада стал воцаряться Сатана, т.е. в период с XII по XV вв. Постоянное напряжение, сконцентрированное в индивиде, было и остается той стрелкой компаса, которая способна вести индивида как к лучшему, так и к худшему. Совокупность положительных и отрицательных энергий, порождавшая жизнеспособность европейского сообщества, выплеснулась за пределы Европы в эпоху Христофора Колумба и Великих географических открытий; в начале третьего тысячелетия она способствовала установлению в мире экономической и военной гегемонии Соединенных Штатов.
Исходно пессимистическая философия грозного Бога и вездесущего демона, дожив до начала XVIII в., попала под огонь освободительного оптимизма философии Просвещения, заставившего ее отступить: в Старом Свете пускает ростки более оптимистическое восприятие человеческой участи. Заигрывая со своими трагическими истоками, современное европейское сознание проникается ностальгией по «дивным наслаждениям, даруемым страхом перед невыносимыми мучениями», о которой писал Роже Кайуа5. Это сознание заменяет ад Данте фантасмагорией, сладостным, исполненным содрогания погружением в темный зачарованный мир, откуда, как известно, можно подняться в любую минуту. Погружение в бескрайний океан мифов и символов Запада не связано с риском потерять ни душу, ни надежды. «Царство черных вод», комикс Поля Кювелье, опубликованный в 1974 г., и выходивший в серии «Тентен», суммирует сложный комплекс явлений западного сознания. На обложке комикса нарисован его главный герой Корантен и девушка Зайла: оба падают в адскую пропасть. Так начинается инициационное путешествие в населенный демонами подземный мир, где царствует Шайтан (Сатана). Преодолев все препятствия, Корантен удостаивается посвящения в мужчины, однако ему не удается ни уничтожить неуязвимого Шайтана, ни добиться любви Зайлы: девушка заявляет, что любит другого6. В этом комиксе я различаю неизгладимый след западного дьявольского воображаемого, переосмысленного для молодых людей 1970-х гг., равно как и специфический след католицизма, ведущий к триумфу воли и выдвижению личности, ценностям, сменившимся в 1990-е гг. на постоянно растущее стремление к безграничному наслаждению тем лучшим, что дарит человеку жизнь. Несмотря на кисло-сладкий финал истории, в котором Корантен, удачно завершив приключение, терпит поражение в любви, несмотря на отчисления в пользу издательства, любой журнал для юношества очевидно станет использовать более сдержанный дьявольский материал французов, нежели американцев. Что поделаешь, два разных способа использовать тысячелетнее наследие!
Избранные комиксы
Аристофан. «Дьявольская сказка» (Aristophane. Conte démoniaque. Ed. l’Association, 1996).
Энки Билал и Пьер Кристен. «Затерянные в океане» (Enki Bilal et Pierre Christin. La Croisière des oublies. Dargaud, 1975).
Каза (Филипп Казамайу, именуемый), «Мандрагора» (Caza (Philippe Cazamayou, dit), «Mandragore», dans: Pilote, n 78 bis, 1980).
Каза (Филипп Казамайу, именуемый), «Век сумерек: под плащом тени» (Caza (Philippe Cazamayou, dit. L’Age d’Ombre: Les Habits du Crépuscule. Dargaud, 1982).
Каза (Филипп Казамайу, именуемый), «Век сумерек: бастионы ночи» (Caza (Philippe Cazamayou, dit. L’Age d’Ombre: Les Remparts de la Nuit. Dargaud, 1984).
Пьер Кристен и Жан-Клод Мезьер. «Птицы Повелителя» (Pierre Christin et Jean-Claude Mezieres. Les Oiseaux du Maître. Dargaud, 1974) (Приключения Валериана (Valerian), героя, впервые появившегося в 1967 г. на страницах журнала Pilote).
Пьер Кристен и Жак Тарди. «Тайны Руэрга» (Pierre Christin et Jacques Tardi. Rumeures sur le Rouergue. Futuropolis, 1976) (опубликовано в журнале Pilote в 1971 г.)
Дидье Комес. «Тишина» (Didier Comes. Silence. Castreman, 1980).
Дидье Комес. «Повелитель Тьмы» (Didier Comes. Le Maître des Tenebres. Casterman, 1981) (герой, Эрген Странник впервые появился на страницах журнала Pilote в 1973 г.).
Дидье Комес. «Ласка» (Didier Comes. La Belette. Casterman, 1983).
Франсуа Краэньяль «Всадники Апокалипсиса» (Francois Craen- hals. Les Cavaliers de l"Apocalypse. Casterman, 1980).
Поль Кювелье и Ж. Ван Амм. «Королевство Черных Вод» (Paul Cuvelier et J. Van Hamme. Le Royaume des Eaux noires. Ed. du Lombard, 1974 (входит в цикл «Корантен»)
«Дьявол», коллектив авторов. (Diable, par un collectif. Ed. Vents d’Ouest, 1993).
Фруадваль и Понте. «Суккуб. Война душ» (Froideval et Pontet. Succubus. La guerre des âmes. Glenat, 1996).
Эрже. «Тентен в Тибете» (Herge. Tintin au Tibet. Casterman, 1960) (искушение Милу).
Жак Мартен и Жиль Шайе. «Врата ада» (из цикла «Лефранк») (Jacques Martin et Gilles Chaillet. Les portes de l’Enfer. Casterman, 1978).
Пат Миле и Симон Бислей. «Слен. Рогатое божество» (Pat Mills et Simon Bisley. Slaine. Le dieu cornu. Zenda, 1991) (выводит на сцену кельтского бога Цернунна).
Шанталь Монтелье. «Змеиный ров» (Chantal Montellier. La Fosse aux serpents. Casterman, 1990) (приключения Юлии Бристоль).
Шанталь Монтелье. «Нелюди» (Chantal Montellier. Faux Sanglants. Dargaud, 1992) (приключения Юлии Бристоль).
Шанталь Монтелье. «Остров демонов» (Chantal Montellier. L’Ile aux demons. Dargaud, 1994) (приключения Юлии Бристоль).
Николле. «Дьявол» (Nicollet. Le Diable. Ed. Humanoides Associes, 1978).
Тьери Робен. «Издохни, бес» (Thierry Robin. Creve, le Malin. Ed. Rackham, 1990).
Жан-Клод Сервэ. «Чалетт и другие сказки о магии и колдовстве» (Jean-Claude Servais. La Tschalette et autres contes de magie et de sorcellerie. Ed. du Lombard, 1982).
Жан-Клод Сервэ и Жерар Девам. «Нежная Виолетта» (Jean- Claude Servais et Gerard Dewamme. Tendre Violette. Casterman, 1982).
Сорель. «Дьявол» (Sorel. Le Diable. Ed. Les Amis de la BD, 1977).
Тасито и Фруадваль. «666. Ante Demonium» (Tacito et Froideval. 666. Ante Demonium. Zenda, 1993 (продолжение: 666. Demonio fortissimo, 1966; 666. Lilith imperatrix mundi, 1997).
Жак Тарди. «Демон льдов» (Jacques Tardi. Le Demon des glaces. Dargaud, 1974).
Анри Верн и Уильям Вэнс. «Узница Желтой тени» (Henri Vemes et William Vance. La Prisonnière de l’Ombre Jaune. Dargaud, 1972) (Приключения Боба Морана; продолжения: «Куклы Желтой Тени» (Les Poupees de l’Ombre Jaune, Ed. du Lombard, 1975) и «Чары Желтой тени» (Les Sortileges de l’Ombre Jaune, Ed. du Lombard, 1976).
Библиография
Aconce (Aconcius) Jacques. Les Ruzes de Satan recueillies et comprinses en huit livres. Bale, Pierre Peme, 1565.
Amorth Gabriel (Dom). Un exorciste raconte. Paris, Oeil, F.X. de Guibert, 1993 (traduit de l’italien).
Andreesco Ioanna. Ou sont passes les vampiresé Paris, Payot, 1997.
Andriano Joseph. Our Ladies of Darkness. Feminine Daemonology in Male Gothic Fiction, The Pennsylvania State UP, 1993.
Ankarloo Bengt, Hennigsen Gustav (ed.). Early Modern European Witchcraft. Centres and Peripheries. Oxford, Clarendon Press, 1990.
Archives historiques et littéraires du Nord de la France et du Midi de la Belgique (Les). Fondées en 1829 par le Valenciennois Arthur Dinaux, elles ont publie 18 volumes en une trentaine d’annes.
Aries Paul. Le Retout du diable: satanisme, exorcisme, extreme droite. Villeurbanne, Golias, 1997.
Aries Philippe, Duby Georges (dir). Histoire de la vie privée. Paris, Seuil, 1985, 5 vol.
Auge, Marc. Théorie des pouvoirs et Idéologie. Etude de cas en Cote-d’Ivoire. Parius, Hermann, 1975.
Auge Marc, Herzlich C. (ed.). Le Sens du mal. Anthropologie, histoire, socilogie de la maladie. Paris, Archives contemporaines, 1984.
Auslander Leora. Taste and Power. Furnishing Modem France. Berkeley, University of California Press, 1996.
Baissac Jules. Le Diable. La personne du diable. Le personnel du diable. Paris, Maurice Dreyfous, s.d.
Bakhtine Mikkail. L’Oeuvre de Francois Rabelais et la Culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance. Paris, Gallimard, 1970.
Бахтин Михаил. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990.
Baltrusaitis Jurgis. Le Moyen Age fantastique. Paris, A. Colin, 1955.
Baltrusaitis Jurgis. Reveils et Prodiges. Le gothique fantastique. Paeis, A. Colin, 1960.
Barchilon Jacques. Le Conte merveilleux français de 1690 a 1790. Cent ans de feerie et de poesie agnorees de l’histoire littéraire. Paris, Librairei Honore Champion, 1975.
Barkab Leonard. The Gods Made Flesh: Metamorphosis and the Pursuite of Paganism. New Haven: Yale University Press, 1986.
Baronian Jean-Baptiste. Panorama de la littérature fantastique de langue française. Paris, Stock, 1978.
Baschet Jerome. Les Justices de l’au-dela. Les representations de l’enfer en France et en Italie (XHe—XVe siecle). Rome, Ecole française de Rome, 1993.
Baschet Jerome. Les conceptions de l’Enfer en France au XlVe siecle: imaginaire et pouvoir. Annales ESC, 40e annee, 1985, p. 185—207.
Bastien Pascal. La Violence ritualisée. Le spectacle de l’execution en France, XVIe—XVlIIe siecle, mémoire inédit de DEA sous la direction de Robert Muchembled, Université Paris-Nord, 1998, dactyl.
Baudrillard Jean. La Transparence du Mal. Essai sur les phenomenes extremes. Paris, Galilee, 1990.
Bayard Jean-Pierre. Le Diable dans la cathédrale. Paris, Morel, 1960.
Bayardjean-Pierre. Le Diable dans l’art roman. Paris, Tredaniel, Ed. De la Maisnie, [1982].
Bayardjean-Pierre. Les Pactes sataniques. Paris, Dervy, 1994.
Bechtel Guy. La Sorcière et l’Occident. La destruction de la sorcellerie en Europe des origines aux grands bûchers. Paris, Plon, 1997.
Beckman Jaques. Le diable d’apres les procès de sorcellerie en Wallonie //Le Diable dans le folklore de Wallonie, op. cit., p. 52—67.
Béguin Albert. Balzac et la fin de Satan // Satan. Etudes carme- litaines, op. cit.
Behringer Wolfgang. Witchkraft Percecutions in Bavaria. Popular Magic, Religious Zealotry and Reason of State in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge UP, 1997.
Bekker Balthasar. Le Monde enchante, ou examen des communs sentimens touchant les esprits, leur nature, leur puovoir, leur administration et leurs operations. Amsterdam, Pierre Rotterdam, 1694, 4 vol. In—12 (Ire ed. Néerlandaise 1691).
Belien H.M., Van der Eerden P.C. Satans trawanten: heksen en heksenvervolging. Haarlem, J.H. Gottmer, 1985.
Bellemin-Noel Jean. Notes sur le fantastoque (textes de Théophile Gautier), Littérature, n 8, décembre, 1972, p. 3—23.
Bergeron Richard. Damne Satan! Quand le diable refait surface. Montreal, Fodes, 1988.
Bernanos Georges. Sous le soleil de Satan. Paris, Plon, 1926.
Рус. изд.: Бернанос Жорж. Под солнцем Сатаны / Пер. О. Пичугиной. М., 1978.
Bernheimer Richard. Wild Men in the Middle Ages: A Study in Art, Sentiment and Demonology. New York: Octagon Books, 1970.
Berriot-Salvadore Evelyne. Un corps, un destin. La femme dans la medecine de la Renaissance. Paris, Champion, 1993.
Besnard Philippe. Protestantisme et Capitalisme. La controverse postwebwrienne. Paris, A. Colin, 1970.
Bethencourt Fransisco. O imaginario de magia. Feiticeiras, saludadores e nigromantes no seculo XVI. Lisbonne, Projecto Universidade Aberta, 1987.
Bettelheim Bruno. Psychanalyse des contes des fees. Paris, Robert Laffont, 1976.
Beuzart Puai. Les Heresies pendant le Moyen Age et la Reforme, jusqu’à la mort de Philippe II (1598), dans la region de Douai, d’Arras et au pays de l’Alleu. Le Puy, Imprimerie Peyriller, 1912.
Beziau Claude. Les exorcistes parlent face a la sorcellerie. Les Sables d’Olonne, Le Cercle d’Or, 1978.
Biniek Aurelie. Odeurs et Parfums aux XVIe et XVII siècles, mémoire de maitrise inédit, sous la direction de Robert Muchembled, Université Paris-Nord, 1998.
Bozouard Joseph. Des rapports de l’homme avec le Demon: Essai historique et philosophique. Paris, Gaume et Duprey, 1864—1866, 6 vol.
Boaistuau Pierre. Histoires tragiques extraictes des oeuvres italiennes de Bandel et mises en nostre langue francoise par P. Boaistuau, surnomme Launey, natif de Bretaigne. Paris, Sertenas, 1559.
Boaistuau Pierre. Histoires tragiques, ed. critique par Richerd A. Carr. Paris, Champion, 1977 (Ire ed. 1559)
Boaistuau Pierre. Le Theatre du Monde (1558), edition critique par Michel Simonin. Geneve, Droz, 1981.
Bodin Jean. On the Demon-Mania of Witches, traduit par Randy A. Scot, avec une introduction de Nicole Jacques-Chaquin. Paris, Le Sycomore, 1980.
Boguel Henri. Discours exécrables des sorciers, texte adapte par Philippe Htivri. .ivre une introduction de Nicolejacques-Chaquin. Paris, Le Sycomore, I'(HO
Bois Jule» Le Satammnr et la Magie, avec une etude de J.-K. Huys- inens. Paris, Iruii ( Ih.iillry, 11897].
Bosquiri Philippe. Tragoedie nouvelle dicte Le Petit Razoir des ornemens mondains, en laquelle toutes les miseres de nostre temps sont attribuée tant aux heresies qu’aux ornements superflus du corp. Mons, Charles Michel, 1589 (Geneve, Slatkine Reprints, 1970)
Bouchard Jean-Jacques. Journal. I. Les confessions, Voyages de Paris a Rome. Le carnaval a Rome, ed. Par Emmanuelle Kanceff. Turin, Giapichelli, s.d.
Boucher Ghislaine. Dieu et Satan dans la vie de Catherine de Sainte- Augustin, 1632—1668. Tournai, 1979.
Bouchet Guillaume. Les Serees, ed. Par C.E. Roybet. Paris, A. Le- merre, 1873—1882, 6 vol.
Boudet Jean-Patrice. La genese medievale de la chasse aux sorcières // Nathalie Nabert (dir.), op. cit., p. 35—52.
Bourdieu Pierre. La Distinction: critique sociale du jugement. Paris, Minuit, 1979.
Bourrât Marie-Michele, Soupa, Anne. Faut-il croire au diableé Paris, Bayard-Centurion, 1995.
Boyer Paul, Nissenbaum, Stephen. Salem Possessed. The Social Origins of Witchcraft. Cambrige (Mass.), Harvard UP, 1971.
Brabant Hyacinthe. Médecins, Malades et Maladies de la Renaissance. Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1966.
Brasey Edouard. Enquête sur l’existence des anges rebelles. Paris, Filipacchi, 1995 (comtre rendu dans Paris Match, n 2415, 7 septembre 1995, p. 3-6.
Bricaud Joanny. J.-K. Huysmans et le satanisme. D’apres les documents inédits. Paris, 1913.
Briggs Robin. Communities of Belief. Cultural and Social Tensions in Early Modem France. Oxford: Clarendon Press, 1989.
Briggs Robin. Witches and Neighbours. The Social and Cultural Context of European Witchcraft. London: Harper Collins, 1996.
Briggs Robin. Le sabbat des sorciers en Lorraine // N. Jacques- Chaquin et M. Preaud (dir.). Le Sabbat des sorciers, op. cit., p. 169—172.
Brincourt Andre. Satan et la poesie. Paris, Grasset, 1946.
Bmyn Lucy de. Woman and the Devil in Sixteenth-Century Literature. Tisbury (Wiltshire): Compton Press, 1979.
Burguire Abdre, Revel, Jacques. Histoire de France, t. 2. L’Etat et les Pouvoirs; t. 4. Les Formes de la culture. Paris, Seuil, 1989 et 1993.
Caillois Roger. Metamorphoses de l’Enfer // Diogene, n. 85, 1974, p. 70-90.
Campion-Vincent Véronique. Demonologie dans les legendes et paniques contemporaines // Ethnologie française, t. XXIII, 1993, p. 120-130.
Campion-Vincent Véronique. Description de sabbat et dees rites dans les peurs antisataniques contemporaines // Cahiers internationaux de sociologie, vol. XCVIII, 1995, p. 43—58.
Campion-Vincent Véronique, Renard Jean-Bruno. Legendes un- baines. Rumeurs d’aujourd’hui. Paris, Payot, 1992.
Camporesi Piero. L’Officine des sens. Paris, Hachette, 1989.
Camporesi Piero. Les Effluves du temps jadis. Paris, Plon, 1995.
Camus Dominique. Pouvoirs sorciers. Enquête sur les pratiques actuelles de sorcellerie. Paris, Imago, 1988.
Camus Jean-Pierre. Les Spectacles d’horreur. Geneve, Slatkine Reprints, 1973 (ed. De 1630).
Camus Jean-Pierre. Trente Nouvelles, choisies et presentees par Rene Favret. Paris, Vrin, 1977.
Carmona Michel. Les Diables de Loudun. Paris, Fayard, 1988.
Caro Baroja Julio. Les Sorcières et leur monde. Paris, Gallimard, 1972 (Ire ed. Espagnole 1961)
Carr Richard A. Pierre Boaistuau’s Histoires tragiques: A Study of Narrative Form and Tragic Vision. Chapel Hill, North Carolina Press, 1979.
Carrez Jean-Pierre. Femme en prison. Etude de 309 internees a la Salpetriere de Paris, d’apres des interrogatoires de police (1678—1710), mémoire de maitrise inédit, sous la direction de Robert Muchambled, Université Paris-Nord, 1993.
Cassirer Ernst. La Philosophie des formes symboliques (traduction de l’allemand). Paris, Minuit, 1972, 3 vol.
Castelli Enrico. Le Démoniaque dans l’art. Sa signification phili- psophiques. Paris, Vrin, 1959.
Castex Pierre-Georges. Le Conte fantastique en France, de Nodier a Maupassant. Paris, Corti, 1951.
Catéchisme en images: 70 gravures en noir avec l’explication de chaque tableau en ragard. Paris, Maison de la Bonne Presse, 1908 (les gravures sony des reductions des chromolithogtraphies de 0,48 a 0,66 m du Grand Catéchisme en images. Voir les Explications de Grand Catéchisme en images, par E. Fourrière. Paris, Maison de la Bonne Presse, 1900, et le Nouveau Catéchisme en images, par un vicaire de Saint-Sulpice. Paris, Lethielleux, 1909).
Cave, Terence. Pre-histoires. Textes troubles au seuil de la modernité. Geneve, Droz, 1999.
Cazotte Jacques. Le Diable amoureux, preface et notes de Francine de Martinoir. Paris, Seuil, 1992 (ed. Originale 1772) (Рус. пер.: Казот Жак. Влюбленный дьявол / Пер. Н. Сигал // Infernaliana. Французская готическая проза XVIII—XIX веков. М., 1999).
Ceard Jean. La Nature et les Prodiges. L’insolite au XVIe siecle en France. Geneve, Droz, 1977.
Ceard Jean (etudes reunies par). La Folie et le Corps. Paris, Presses de l’Ecole normale supérieure, 1985.
Ceard Jean. Le Diable singe de Dieu selon les demonologuess des XVIe et XVIIe siecle //Le Diable, op. cit., p. 31—45.
Cerbelaud Dominique. Le Diable. Paris, Les Editions de l’atelier, 1997.
Certeau Vichel de. Le Possession de Loudun. Paris, Gallimard- Julliard, 1980.
Chastel, Andre. La Crise de la Renaissance. Geneve, Skira, 1966.
Chiara (Dr). Les Diables de Morzine en 1861, ou les nouvelles possédées // Gazette medicale de Lyon, Lyon, 1861.
Cinefantastic, par Rolf Giesen (Potsdam Stiftung deutsche Kine- mathek). Berlin, Argon Verlag GmbH, 1994.
Clasen, Constance, Howes, David, Synnott, Anthony. Raoma. The Cultural History of Smell. Londres-New York, Routlege, 1994.
Cohn, Norman. The Pursuit of the Millenium. Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of Middle Age. Londres, 1978 (Ire ed. 1957).
Cohn Norman. Demonolatrie et Sorcellerie au Moyen Age: fantasmes et realites. Paris, Payot, 1982 (Ire ed. Anglaise 1975).
Collin de Plancy, Jacques-Albin Simon. Le Champion de la sorcière et Autres Legendes de l’histoire de France au Moyen Age et dans les temps modernes. Paris, Putois, 1852 (nombreux autres titres don’t Histoire des vampires (1820); Dictionnaire infernale (1825—1826, souvent réédité par la suite).
Coquery Natacha. L’Hotel aristocratique. Le marche de luxe a Paris au XVIIIe siecle. Paris, Publications de la Sorbonne, 1998.
Corbin Alain. Le Miasme et la Jonquille. L’odorat et l’imaginaire social, XVIIIe—XIXe siecle. Paris, Aubier, 1982.
Рус. изд.: Корбен Ален. Миазм и Нарцисс (главы из книги) / Пер. М. Неклюдовой, Е. Ляминой, М. Божович, Е. Гальцовой //Ароматы и запахи в культуре. Кн. 1. М., 2003.
Corbin Alain. Le Temps, le Désir et l’Horreur. Paris, Flammarion,
Corbin Alain. Histoire et anthropologie sensorielle // Anthropologie et Sociétés, vol. 14, 1990, p. 13—24.
Costel Louis. Car ils croyaient brûler le diable en Normandie. Les Sables d’Olonne, Sodirel, 1978.
Costel Louis. Un cas d’envoûtement. Paris, Fayard, 1979.
Courtine Jean-Jacques, Vigarello Georges. La Physionomie de l’homme impudique. Bienséance et «impudeur»: les physiognomies au XVIe et au XVIIe siecle // Parure, Pudeur, Etiquette, revue Communications, n 46, 1978, p. 79—91.
Cristian Leon. Actualité de Satan. Paris, Centurion, 1954.
Cristian Leon. Presence de Satan dans le monde moderne. Paris, 1959.
Cuttler Charles C. Two Aspects of Bosch’s Hell Imagery // Scriptorium, 23, 1969, p. 313—319.
Dainvill Francois de. La Naissance de l’humanisme moderne. Paris, Beaichesne, 1940.
Dainvill Francois de. L’Education des jésuites (XVIe—XVIIIe siecle). Paris, Minuit, 1978.
Dansereau Michel. Le diable et la psychanalyse // Relations, t. 34, 1979, p. 168-172.
De Foe Daniel. Histoire du diable, traduite de l’Anglois. Amsterdam, 1729, 2 tomes.
Debongnie Pierre (C.SS.RR.). Les confessions d’une possédée. Jeanne Fery (1584—1585) // Satan, Etudes carmelitaines, op. cit., p. 386— 419.
Delcambre Etienne. Le Cocept de la sorcellerie dans le duché de Lorraine au XVIe et au XVIIe siecle. Nancy, Socite d;archeologie lorraine, 1948-1951, 3 vol.
Delpech Francois. La «marque» des sorcières. Logique(s) de la stigmatisation diabolique // N.Jacques-Chaquin et M.Preaud (dir). Le Sabbat des sorciers, op. cit., p. 347—368.
Delumeau, Jean. La Peur en Occident, XlVe-XVIIIe siecle. Paris, Fayard, 1978.
Рус. изд.: Делюмо Жан. Ужасы на Западе / Пер. с фр. Н.Епифанцевой. М., 1994.
Delumeau Jean. Le Peche et la Peur. Paris, Fayard, 1983.
Рус. изд.: Делюмо Жан. Грех и страх / Пер. И.Б. Иткина, Е.Э. Ляминой, Е.И.Лебедевой, А.Г. Пазельской. Екатеринбург, 2003.
Demos John Putnem. Entertaining Satan. Witchcraft and the Culture of Early New England. Oxford, Oxford University Press, 1982.
Denis Philippe. Les Eglises d’etrangers en pays rhénan (1538—1564). Paris, Les Belles Lettres, 1984.
Descartes Rene. Oeuvres choisies, t.2. Morale. Paris, Garnier, 1955. Deschaux Robert. Le Livre de la diablerie d’Eloy d’Amerval //Le Diable au Moyen Age, op. cit., p. 183—193.
Descrains Jean. Jean-Pierre Camus (1584—1652) et ses «Diversités» (1609—1618), ou la culture d’un eveque humaniste. Lille, Atelier de reproduction des theses, (1984), 2 vol.
Descrains Jean. La Culture de l’eveque humaniste. Jean-Pierre Camus et ses «Diversités». Paris, Nizet, 1985.
Descrains Jean. Esais sur Jean-Pierre Camus. Paris, Klincksieck, 1992.
Diable (Le). Paris, Dervy, 1998 (colloque de Cerisy, publie par les Cahiers de l’Hermetisme).
Diable au Moyen Age (doctrine, problèmes moraux, representations) (Le). Senefiance, n 6, Université de Provence, 1979.
Diable dans le folklore de Wallonie (Le). Bruxelles, Ministère de la Communauté française, 1980.
Diable, Diables et Diableries au temps de la Renaissance. Paris, Jean Touzot, 1988.
Diables et Diableries. Le representation du diable dans le gravure des XVe et XVIe siècles (coordonne par Jean Wirth). Geneve, Cabinet des estampes, 1977.
Dinaux Arthur. Exorcisme des brigittines de Lille (1613) // Belgique judiciaire, t.II, n 90, 1844, col. 1471—1479.
Dinzelbacher Peter. Angst im Mittelalter. Padeborn, Schoningh,
Dirksee Paul. Een kind van de duivelé [Un enfant du diableé], Het beeld van de duivel binnen het katholiek geloofsonderrich // Duivels en demonen, op. cit., p. 87—102.
Duby Georges, Perrot Michel (dir.) Histoire des femmes en Occident. Paris, Plon, 1991, 5 vol.
Duclos Denis. Le complexe du loup-garou. La fascination de la violence dans la culture américaine. Paris, La Decouverte, 1994.
Duerr Hans Peter. Nudité et Pudeur. Le mythe du processus de civilisation. Paris, Ed. De la Maison des sciences de l’Homme, 1998.(lre ed. Allemande 1988).
Duivel in de beeldende kunst (de). Amsterdam, Stedelijk Museum, 1952.
Duivel en demonen. De duivel in de nederlandse beeldcultuur (dir. Par Petra van Boheemen et Paul Dirksee). Utrecht, Museum Het Catha- rijneconvent, 1994.
Duivelsdeelden. Eeen cultuurhistorische peurtocht door de Lage Landen (dir. Par Gerard Rooijakkers, Lene Dresden-Coenders et Margreet Geerdes). Baarn, Ambo, 1994.
Dunoi-Canette Francois. Les Pretres exorcistes: enquete et témoignages. Paris, Robert Laffont, 1993.
Dupont-Bouchat Marie-Sylvie, Frijhoff Willem, Muchembled Robert. Prophètes et Sorciers dans les Pays-Bas, XVIe—XVIIIe siecle. Paris, Hachette, 1978.
Duviols Jean-Paul, Molinie-Bertrand Annie (dir.). Enfers et Damnations dans le monde hispanique et hispano-américain. Paris, PUF, 1996.
Eco Umberto. De Superman au surhomme. Paris, Grasset, 1993.
Eisner Lotte H. Ecran démoniaque. Les influences de Max Reinhardt et de l’expressionisme. Paris, Le Terrain vague, 1965; ed. Enrichie d’illustrations et de textes. Paris, Losfeld, 1981.
Eliade Mircea. Mephistopheles et l’androgyne. Paris, Gallimard, 1962.
Рус. изд.: Элиаде Мирча. Мефистофель и андрогин / Пер. Е.В. Баевской, О.В. Давтян. СПб., 1998.
Elias Norbert. La Civilisation des moeurs. Paris, Calmann-Levy, 1974.
Рус. изд.: Элиас Норберт. О процессе цивилизации. T. I, II // Пер. А.М. Руткевича. М.; СПб., 2001.
Elias Norbert. La Société de Cour. Paris, Calmann-Levy, 1974.
Рус. изд.: Элиас Норберт. Придворное общество / Пер. А.П. Кухтенкова, К.А.Левинсон, А.М. Перлова, Е.А. Трубниковой, А.К. Судакова. М., 2002.
Elias Norbert. La Dynamique de l’Occident. Paris, Calmann-Levy, 1975.
Рус. изд.: Элиас Норберт. Общество индивидов / Пер. А. Антоновского, А. Иванченко, А. Круглова. М., 2001.
Enfers et Paradis. Conques, Les Cahiers de Conques, 1995.
Epstein Jean. Le Cinema du diable. Paris, Jacques Melot, 1947. Ercker Alain. Archéologie de l’Europe conquérante. Contribution a une anthropologie de l’Occident, these inédite, sous la direction d’Eric Navet, Université de Strasbourg-II, 1997.
Faivre Tony. Les Vampires. Essai historique, critique et littéraire. Paris, Losfeld, Le Terrain vague, 1962.
Falkenburg Reindert L. De duivenbuiten beeld. Over duivela- fwerende krachten en motieven in de beeldende kunst rond 1500 // Duivelsbeelden, op. cit., p. 107—122.
Favret-Saade Jeanne. Les Mots, la Mort, les Sorts. La sorcellerie dans le Bocage. Paris, Gallimard, 1977.
Favret-Saade Jeanne, Contreras, Josee. Corps pour corps. Enquête sur la sorcellerie dans le Docage. Paris, Gallimard, 1981.
Febvre Lucien. Amour sacre, Amour profane. Autour de «L’Hep- tameron». Paris, Gallimard, 1944.
Febvre Lucien. Le Problème de l’incroyance au XVIe siecle. La religion de Rabelais. Paris, Albin Michel, 1968 (Ire ed. 1942).
Febvre Lucien. Combats pour l’histoire. Paris, A. Colin, 1992.
Рус. изд.: Февр Люсьен. Бои за историю / Пер. А.А. Бобовича, М.А. Бобовича, Ю.Н. Стефанова. М., 1991.
Febvre Lucien. Sorcellerie, sottise ou revolution mentaleé // Annales ESC, 3e anne, 1948, p. 9—15.
Рус. изд.: Февр Люсьен. Колдовство: глупость или переворот в сознаниие // Февр Л. Бои за историю / Пер. А.А. Бобовича, М.А. Бобовича, Ю.Н. Стефанова. М., 1991.
Febvre Lucien. Pour l’histoire d’un sentiment, le besoin de sécurité // Annales ESC, lie annee, 1956, p. 244—247.
Ferdiere Gaston. Le diable et 11 psychiatre // Entretiens sur l’Homme et le Diable, sous la direction de Max Milner, op. cit., p. 317—331.
Ferreiro Alberto (dir.) The Devil, Heresy and Witchcraft in the Middle Ages: Essays in Honor of Geffrey Burton Russel. Leyde, Brill, 1998.
Fornari B. «Felicien Rops ou la modernité satanique», Rops et la modernité, catalogue de l’exposition du musee d’Ixelles (Belgique), 1991.
Forsyth Neil. The Old Enemy: Satan as Adversary, Rebel, Tyrant, and Heretic. Princeton, Princeton UP, 1986.
Forsyth Neil. The Old Enemy. Satan and the Combat Myth. Princeton, Princeton UP, 1987.
Francart Roland. Trésors de la BD religieuse de 1941 a 1985. Bruxelles, Centre religieux d’information et d’analyse de la Bande Dessinee, 1985.
Francastel Pierre, communication au colloque Le Démoniaque dans l’art. Sa signification philosophique, organisée par Enrico Castelli. Paris, Vrin, 1959.
France Anatole. La Revoke des anges. Paris, Calman-Levy, 1913 (reed., Paris, Presses Pocket, 1991)
Рус. изд.: Франс Анатоль. Восстание ангелов / Пер. М.П. Богословской, Н.Я. Рыковой // Франс А. Собр. соч. Т. 4. М., 1984.
Freud Sigmund. Totem et Tabou. Interpretation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs. Paris, Payot, 1968 (Ire ed. allemande 1913).
Рус. изд.: Фрейд Зигмунд. Тотем и Табу / Пер. с нем. М., 1997.
Freud Sigmund. Une névrosé démoniaque au XVIIe siecle // Essais de psychanalyse appliquée. Paris, Gallimard, 1978, p. 211—251.
Froc Isidore (dir.). Exorcistes. Paris, Droguet et Ardant, 1992.
Frossard Andre. Les 36 preuves de l’existence du Diable. Paris, Albin Michel, 1978.
Garçon Maurice, Vinchon, Jean. Le Diable. Etude historique, critique et medicale. Paris, Gallimard, 1926.
Garnot Benoit. Le Diable au Couvent: les possédées d’Auxonne (1658-1663). Pris, Imago, 1995.
Gaudriault Raymond. Repertoire de la gravure de mode française des origines a 1815. Paris, Promodis, 1988.
Geertz Clifford. Savoir local, Savoir global. Les lieux du savoir. Paris, PUF, 1986.
Geertz Hildred. An Anthropology of Religion and Magic //Journal of Interdisciplinary History, t. 6, 1975, p. 71—89.
Gellner Ernest. The Devil in Modem Philosophy. Londres-Boston, Routledge and Kegan Paul, 1974.
Ginzburg Carlo. Les Batailles nocturnes. Sorcellerie et rituels agraires en Frioul, XVIe—XVIIe siecle. Lagrasse, Verdier, 1980 (Ire ed. italienne 1966).
Ginzburg Carlo. Le Sabbat des sorcières (traduit de l’italien par Monique Aymard). Paris, Gallimard, 1992 (Ire ed. italienne 1989).
Godbeer Richard. The Devil’s Dominion. Magic and Religion in Early New England. Cambridge, Cambridge UP, 1992.
Goulemot Jean-Marie. Demons, Merveilles et philosophie a l’Age classique // Annales ESC, 35e annee, 1980, p. 1223—1250.
Greenblatt Stephen J. Learning to Curse. Essays in Early Modern History. Londres, Routledge, 1990.
Greenblatt Stephen J. Ces merveillauses possessions. Decouverte et appropriation du Nouveau Monde au XVIe secle. Paris, Les Belles Lettres, 1996.
Grillot de Givry. Le Musee des sorciers, mages et alchimistes. Paris, Librairie de France, 1929.
Grillot de Givry. Witchcraft, Magic and Alchemy. New York, Dover Publications, 1971.
Grmek Mirko D. (dir.), avec la collaboration de Bernardino Fantini. Histoire de la pensee medicale en Occident. T. 1. Antiquité et Moyen Age. Paris, Seuil, 1995.
Grmek Mirko D. (dir.) avec la collaboration de Bernardino Fantini. Histoire de la pensee medicale en Occident. T. 2. De la Renaissance aux Lumières. Paris, Seuil, 1997.
Guerrand Roger-Henri. Les Lieux. Histoire des commodités. Paris, La Decouverte, 1985.
Haag Herbert. Liquidation du diable, DDB, 1971 (Ire ed. allemande 1969).
Haag Herbert. Teufelsglaube. Tuebingen, Katzmann, 1974.
Habanc Vente. Nouvelle Histoire tant tragique que comique [1585], ed. annotée par Jean-Claude Arnould et Richerd A. Carr. Geneve, Droz, 1989.
Habermas Jurgen. L’Espace public, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise. Paris, Payot, 1978 (Ire ed. allemande 1962).
Hanley Sarah. Engendering the State: Family Formation and State Building in Early Modern France // French Historical Studies, vol. 16, 1989, p. 4-27.
Hanlon Gregory, Snow Geoffrey. Exorcisme et cosmologie tridentine: trois cas agenais en 1619 // Revue de la Bibliothèque Nationale, 1988, n 28, p. 12-27.
Hasquin Herve (dir.). Magie, Sorcellerie, Parapsycologie. Bruxelles, Editions de l’Universite de Bruxelles, 1985.
Havelange Cari. De l’oeil et du monde. Une histoire du regard au seuil de la modernité. Paris, Fayard, 1998.
Hazard Paul. La Crise de la conscience européenne. Paris, Boivin, 1935.
Houdard Sophie. Les Sciences du diable. Quatre discours sur la sorcellerie, preface d’Alain Boureau. Paris, Cerf, 1992.
Howes David (dir.). The Varieties of Sensory Experience: A Sourcebook in the Anthropology of the Senses. Toronto, University of Toronto Press, 1991.
Howes David, Lalonde Marc. The History of Sensibilities: Of the Standard of Taste in Mid-eighteenth Century England and the Circulation of Smells in Post-revolutionary France // Dialectical Anthropology (Dordrecht-Boston-Londres, Kluwer Academic Publ.), vol. 16, 1991, p. 125—135.
Huxley Aldous. The Devils of Loudun. Londres, Chatto and Win dus, 1952.
Huysmans Karl-Joris. La-bas. Paris, 1891.
Рус. изд.: Гюисманс Жорис-Карл. Там, внизу, или Бездна / Пер. Ю. Спасского // Гюисманс Ж.-К. Там, внизу, или Бездна. А. де Мюссе. Гамиани, или Две ночи сладострастия. М., 1993.
Institoris Henry, Sprenger Jacques. Le Marteau des sorcières, présente par Amand Danet. Paris, Plon, 1973.
Рус. изд.: Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм / Пер. с лат. Н. Цветкова. Предисловие С. Лозинского. М., 1990.
Introvigne Massimo. Enquête sur le satanisme. Satanistes et antisa- tanistes du XVIIe siecle a nos jours. Paris, Bibliothèque de l’Hermetisme, 1997.
Introvigne Massimo, Melton, J. Gordon (dir.). Pour en finir avec les sectes. Le débat sur le rapport de la commission parlementaire. Paris, Dervy, 1996.
Jacques-Chaquin Nicole, Preaud, Maxime (dir.). Le Sabbat des sorciers en Europe, XVe—XVIIIe siecle. Grenoble, Jerome Millon, 1993.
Janson H.W. Apes and Ape Lore in the Middle Ages and the Renaissance. Londres, The Wartburg Institute, 1952.
Joubert Laurent. Traite des Erreurs populaires au fait de la médecine et du regime de santé. Bordeaux, 1570 (nombreuses rééditions, don’t celle de la premiere partie a Bordeaux en 1578, de la seconde a Paris en 1579).
Joubert Laurent. Traite du ris, contenant son essence, ses causes, et mervelheus essais curieusement recerches, raisonnes et observes. Paris, Nicolas Chesnay, 1579 (Geneve, Slatkine Reprints, 1973).
Journal d’Antoine Denesde, marchand ferron a Poitiers et de Barbe Barre sa femme (1628—1687) // Archives historiques du Poitou, t. XV. Poitiers, 1885, p. 53-332.
Journal d’un bourgeois de Paris sous Francois 1er, ed. par Philippe Joutard. Paris, UGE, 1963.
Kadaner-Leclercq Jaqueline. Typologie des scenes de sorcellerie au Moyen Age et a la Renaissance. Esquisse d’une evolution // Herve Hasquin (dir.). Magie, Sorcellerie, Parapsychologie, op. cit., p. 39—59.
Kelly Henry Ansgar. Le Diable et ses’Demons. Le demonologie chrétienne hier et aujourd’hui. Paris, Cerf, 1977 (Ire ed. américaine 1974).
Klaniczay Gabor, Poes Eva (ed.). Witch Beliefs and Witch-Hunting in Centrait and Eastern Europe, colloque de 1988 a Budapest, dans: Acta Ethnographica Hungarica, vol. 37, 1991—1992.
Kolakowski Leszek. The Devil and Scripture. Londres, Oxford UP, 1973.
Krynen Jacques. L’Emrire du roi. Idees et croyances politiques en France, XlIIe—XVe siecle. Paris, Gallimard, 1993.
La Fontaine Jean Sybil. Speak of the Devil. Tales of Satanic Abuse in Contemporary England. Cambridge, Cambridge UP, 1998.
Lacroix Michel. Le Mal. Paris, Flammarion, 1999.
Ladous Regis. Les catéchismes français du XIXe siecle // J.-B. Martin et M. Introvigne (ed.), op. cit., p. 203—228.
Lafond Jean, Stegmann Andre (etudes reunies par). L’Image du monde renverse et ses representations littéraires et paralitteraires de la fin du XVIe siecle au milieu du XVIIe siecle. Paris, Vrin, 1979.
Lafond Jean, Stegmann Andre (etudes reunies par). L’Automne de la Rfenaissance. Paris, Vrin, 1981.
Lagree Michel (dir.). Figures du démoniaque, hier et aujourd’hui. Bruxelles, Faculté Saint-Louis, 1992.
Lagree Michel. Le démoniaque et l’histoire // Figures du démoniaque hier et aujourd’hui, op. cit, p. 13—29.
Lalouette Jaqueline. Le combat des Archanges (Saint-Michel et Satan dans les luttes politiques et religieuses de la France contemporaine) // Le Diable, op. cit., p. 69—85.
[Lambert de Saumery Pierre]. Le Diable hermite ou avanture d’Astarot bani des enfers, par Mr. De M***. Amsterdam, chez Francois Joly, 1741.
Lamer Christina. Enemies of God. The Witch-Hunt in Scotland. Baltimore, The Johns Hopkins UP, 1981.
Lamer Christina. Witchcraft and Religion. The Politics of Popular Belief. Oxford, Basil Blackwell, 1984.
Lascaut Gilbert. Le Monstre dans l’art occidental. Un problème esthétique. Paris, Klincksieck, 1973.
Laurentin Rene. Le Demon, mythe ou realiteé Paris, Fayard, 1995.
Le Goff Jacques. La Naissance du Purgatoire. Paris, Gallimard, 1981.
Lea Henry Charles. A History of the Inquisition of Spain. New York, MacMillan, 1906-1907, 4 vol.
Lebigre Arlette. L’Affaire des Poisons. Bruxelles, Complexe, 1989.
Legros H. Le diable et l’ebfer: representation dans la sculpture romane // Le Diable au Moyen Age, op. cit., p. 307—330.
Lehner Ernest et Johanna. Picture Book of Devils, Demons and Witchcraft. New York, Dover Publications, 1971.
Lemne (Lemnius) Levin. Les Occultes Merveilles et Secretz de Nature. Paris, Galot du Près, 1574 (Ire ed. latine 1559).
Leneuf Nicolas, Vemette, Jean. Exorciste aujourd’huié Milhouse, Salvator, 1990.
Leutrat Jean-Louis. Vies de fantômes. Le fantastique au cinema. Paris, Ed. de l’Etoile/Cahiers du cinema, 1995.
Lever Maurice. Canards sanglants. Naissance du faits divers. Paris, Fyard, 1993.
Lever Maurice. De l’information a la nouvelle: les «canards» et les «histoires tragiques» de Francois de Rosset // Revue d’histoire littéraire de la France, 79e annee, 1979, p. 577—593.
Levron Jaques. Le Diable dans l’art. Paris, Picard, 1935.
Levy Maurice. Lovecraft, ou, Du Fantastique. Paris, UGE, 1972.
Levy-Valensy J. (Dr). La Medecine et les Médecins français au XVIIe siecle. Paris, J.-B. Bailliere et fils, 1933.
Lhermitte Jean. Vrais et Faux Possédés. Paris, Fayard, 1956.
Link Luther. The Devil: A Mask Without a Face. Londres, Reaktion Books, 1995.
Lorenzi Lorenzo. Devils in Art:Florence, from the Middle Ages to the Renaissance. Florence, Centro Di, 19997.
Lougee Carolyn C. Le Paradis des femmes. Women, Salons and Social Stratification in Seventeenth-Century France. Princeton, Princeton UP, 1976.
Lovecraft Howard-Phillips. Epouvante et Surnaturel en littérature. Paris, UGE, 1969.
Lowe Thompson R. The History of the Devil. The Horned God of the West. Londres, Kegan Paul, 1929.
MacFarlan Alan D.J. Witchcraft in Tudor and Stuart England. A Regional and Comparative Study. Londres, Routledge and Kegan Paul, 1970.
Maeterlinck Louis. Le Genre satirique, fantastique et licencieux dans la sculpture flamande et wallonne. Les miséricordes de stalles (Art et folklore). Paris, Jean Schemit, 1910.
Maitre Jacques. La consommation d’astrologie dans la société contemporaine // Diogene, n 53, 1966, p. 92—109.
Maldonat Jean (R.P.). Traicte des Anges et Demons. Mis en francois par maistre Francois de la Borie. Paris, 1605.
Mandrou Robert. Introduction a la France moderne. Essai de psychologie historique, 1500—1640. Paris, Albin Michel, 1961.
Mandrou Robert. Magistrats et Sorciers en France au XVIIe siecle. Une analyse de psychologie historique. Paris, Plon, 1968.
Mandrou Robert. Des Humanistes aux hommes de science, XVÏe et XVIIe siècles (Histoire de la pensee européenne, t. 3). Paris, Seuil, 1973.
Mandrou Robert. Possession et Sorcellerie au XVIIe siecle. Paris, Fayard, 1979.
Mandrou Robert. Le baroque européen: mantalite pathétique et revolution sociale // Annales ESC, 15e anne, p. 898—914.
Martin Jean-Baptiste, Laplantine Francois (ed.) Le Défi magique, t. I. Esotérisme, Occultisme, Spiritisme. Lyon, Presse universitaires de Leon, 1994.
Martin Jean-Baptiste, Introvigne Massimo (ed.). Le Défi magique, t. 2. Satanisme, Sorcellerie. Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1994.
Massalsky Alain. La Sorcellerie en France au XVIIIe siecle, mémoire de DEA sous la directionde Robert Muchambled, Université Paris, 1992 inédit.
Matthews-Grieco Sarah F. Ange ou Diablesseé La representation de la femme au XVIe siecle. Paris, Flammarion, 1991.
Mello e Souza Laura de. Autour d’une ellipse: le sabbat dans le monde luso-bresilien de l’Ancien Regime // N. Jacques-Chaquin et M. Preaud (dir.). Le Sabbat des sorciers, op. cit., p. 331—343.
Der Mensch um 1500. Werke aus Kirchen und Junstkammern. Berlin, Staatlichen Museen preussischer Kulturbesitz, 1977 (catalogue d’exposition).
Merival Patricia. Pan and the Goad-God. Cambridge, Cambridge UP, 1969.
Meslin Michel (dir.). Le Merveilleux; l’imaginaire et les croyances en Occident. Paris, Bordas, 1984.
MesnardJean. Genese d’une modernité //J. Lafond, A. Stegmann (etudes reunies par). L’Automne de la Renaissance, op. cit.
Messadie Gerard. Histoire generale du diable. Paris, Rodert Laf- fond, 1993.
Michelet Jules. La Sorcière (1862), ed. par Robert Mandrou. Paris, Julliard, 1964.
Рус. изд.: Мишле Жюль. Ведьма // Мишле Ж. Ведьма. Женщина / Вступ. ст., подгот. текста В. Сапова / Пер. с фр. М., 1997.
Midelfort Н.С. Eric. Witch-Hunting in Southwestern Germany 1562—1684. The Social and Intellectual Foundations. Stanford, Stanfort UP, 1972.
Milner Max. Le Diable dans la littérature française de Cazotte a Baudelaire (1772—1861). Paris, Corti, 1960, 2 vol.
Milner Max (dir.) Entretiens su l’Homme et le Diable. Paris-La Haye, Mouton, 1965 (Centre culturel international de Cerisy-la-Salle).
Milner Max. La Fantasmagorie. Essai sur l’optique fantastique, Paris, PUF, 1982.
Milner Max. Le dialogueavec le diable d’apres quelques oeuvres la la littérature moderne // Entretiens sur l’Himme et le Diable, sous la direction de M. Milner, op. cit., p. 235—265.
Minerva Nadia. Il diavolo. Eclissi e metamorfosi nel secolo dei lumi. Da Asmodeo a Belzebu. Ravenne, Longo Editore, 1990.
Minois Georges. Histoire des enfers. Paris, Fayard, 1991.
Minois Georges. Histoire de l’enfer. Paris, PUF, 1994.
Minois Georges. Le Diable. Paris, PUF, 1998.
Monter E. William. Witchcraft in France and Switzerland. The Borderlands during the Reformation. Ithaca, Cornell UP, 1976.
Monter E. William. Frontiers of Heresy. The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily. Cambridge, Cambridge UP, 1990.
Morand Georges. Sors de cet homme, Satan!, preface de Mgr Daniel Perrot. Paris, Fayard, 1993.
Momet Daniel. Les enseignements des bibliothèques privées (17501780) // Revue d’histoire littéraire de la France, t. XVII, 1910.
Moureau Francois, Simonin Michel. Tabourot, seigneur des Accords. Un Bourguignon poete a la fin de la Renaissance. Paris, Klinck- sieck, 1990.
Muchembled Robert. Culture populaire et Culture des elites dans la France moderne (Xve—XVIIIe siecle). Essai. Paris, Flammarion, 1978 (2e ed. coll. «Champs», 1991).
Muchembled Robert. La Sorcière au village (XVe—XVIIIe siecle). Paris, Gallimard-Julliard, coll. «Archives», 1979 (reed., coll. «Folio Histoire», 1991).
Muchembled Robert. Les Derniers Buchers. Un village de Flandre et ses sorcières sous Louis XIV. Paris, Ramsay, 1981.
Muchembled Robert. Sorcières. Justice et Société aux XVe et XVII e siècles. Paris, Imago, 1987.
Muchembled Robert. L’Invention de l’homme moderne. Culture et sensibilité en Frannce du XVe au XVIIIe siecle. Paris, Fayard, 1988 (2e ed. Hachette, coll. «Pluriel», 1994)
Muchembled Robert. La Violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du XVe au XVÏIe siecle. Turnhout, Brepols, 1989.
Muchembled Robert. Le Temps des supplices. De l’obeissance sous les rois absolus, XVe—XVIIIe siecle. Paris, A. Colin, 1992.
Muchembled Robert. Le Roi et la Sorcière. L’Europe des bûchers, XVe—XVIIIe siecle. Paris, Desclee, 1993.
Muchembled Robert (dir.). Magie et Sorcellerie en Europe du Moyen Age a nos jours. Paris, A. Colin, 1994.
Muchembled Robert. La Société policée. Politique et politesse en France du XVIe au XXe siecle. Paris, Seuil, 1998.
Muchembled Robert. L’autre cote du miroir: mythes sataniqyes et realites culturelles aux XVe et XVIe siècles // Annales ESC, 40e anne, 1985, p. 283-305.
Mulhern Sherrill. Satanisme électronique: le sabbat high-tech // Scientifictions. La revue de l’imaginaire scientifique (Amiens, Encrage), n 1, vol. 2, 1997, p. 11-28.
Murray Margaret Alice. The Witch-Cult in Western Europe. Oxford, Oxford UP, 1921 (trad. Française: Le Dieu des sorcières. Paris, Denoel, 1957).
Nabert Jean. Essai sur le mal. Paris, PUF, 1955.
Nabert Nathalie (dir.). Le Mal et le Diable. Leurs figures a la fin du Moyen Age. Paris, Beauchesne, 1996.
Niderst Alain (textes reunis par). Le Diable. Paris, Nizet, 1998.
Nodier Charles. Du Fantastique en littérature, preface de D. Gravier. Paris, Chimères, 1989.
Рус. изд.: Нодье Шарль. О фантастическом в литературе / Пер. Е. Гречаной // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
Obendiek Harmannus. Der Teufel bei Martin Luther: Eine theolo- gische Untersuchung. Berlin, Furche, 1931.
Ouellet Bertrand, Bergeron Richard (dir.). Croyances et Sociétés. Communications presentees au dixième colloque international sur les nouveaux mouvements religieux. Montreal, août 1996. Montreal, Fides, 1998.
Pagels Elaine. The Origin of Satan. Londres, Allen Lane, The Penguin Press, 1995.
Pare Ambroise. Des monstres et prodiges, preface de Gisele Mathieu-Castellani. Paris-Geneve, Sletkine, 1996 (ed. originale 1573; ed. critique par Jean Ceard, Geneve, Droz, 1971, avec 92 figures).
Parival Jean-Nicolas. Histoire tragiques de nostre temps arrivées en Hollande. Leyde, 1656.
Pavesi Ermanno. Le concept du démoniaque chez Sigmund Freud et Carl Gustav Jung //J.-B. Martin et M. Introvigne (ed.). Le Défi magique, t. 2, op. cit.
Pearl Jonathan L. Aschool for the Rebel Soul’: Politics and Demonic Possession in France // Historical Reflections/Reflexions historiques, t. 16, 1989, p. 186-306.
Pensee scientifique, les citoyens et les peresciences (La), colloque de La Villette. Paris, Albin Michel, 1993.
Picard Raymond, Lafond Jean (ed.). Nouvelles du XVIIe siecle. Paris, Gallimard, 1997.
Pinelli Antonio. La Belle Maniéré. Anticlassicisme et maniérisme dans l’art du XVIe siecle. Paris, Livre de Poche, 1996 (Ire ed. italienne 1993).
Pintard Rene. Le Libertinage érudit pendant le premiere moitié du XVIIe siecle. Paris, 1943 (reed. Geneve, Slatkine, 1983).
Platelle Henri (chanoine). Les Chretiens face au miracle. Lille au XVIIe siecle. Paris, Cerf, 1968.
Poissenot Benigne. L’Este [1583], ed. établie, commentée et annotée par Gabriel-A. Perouse et Michel Simonin, avec la collaborationde Denis Baril. Geneve, Droz, 1987.
Poissenot Benigne. Nouvelles Histoires tragiques [1586], ed annotée par Jean-Claude Arnould et Richard A.Carr. Geneve, Droz, 1996.
Poli Sergio. Histoire(s) tragique(s). Anthologie/Typologie d’un genre littéraire. Bari-Paris, Schena-Nizet, 1991.
Pollmann Judith. Another Road to God. The Religious Development of Arnoldus Buchelius (1565—1641), s.l.n.d. (Université d’Amsterdam, these sourenue le 16 avril 1998].
Potel Julien. Religion et Publicité. Paris, Cerf, 1981.
Potters Petrus. Verklaring van den Katechismus des Nederlandsche bisdomen. Bois-le Due, Teulings, 2e ed. 1928—1931, 7 vol.; 5e ed. 1946, 7 vol.
Pourrai Henri. Le Diable et ses diablerie. Paris, Gallimard, 1977.
Pozzuoli Alain, Kremer Jean-Pierre. Dictionnaire du fantastique. Paris, Jacques Grancher, 1992.
Praz Mario. La Chair, La Mort et le Diabke dans la litteraturw du XIXe siecle: le romantisme noir. Paris, Denoel, 1977 (reed. Gallimard, 1999; Ire ed. italienne 1928).
Pynsant Robert. The Devil’s Stench and Living Water: A Study of Demons and Adultery in Czech Vernacular Literature of the Middle Ages and Renaissance // The Slavonic and East European Review, 1993, t. 71, p. 601-630.
Quaife G.R. Godly Zeal and Flurious Rage. The witch in Early Modem Europe. Beckenham, Croom Helm, 1987.
Rapley Robert. A Case ofWutchcraft. The Triel of Urbain Grandier. Manchester, Manchester up, 1998.
Rauch Abdre. Le corps. Objets et territoires actuels de l’histoire (1972—1985) // Ethnologie française, t. XVI, 1986, p. 379—390.
Renard Jean-Bruno. Bandes dessinees et Croyances du siecle. Essai sur la religion et le fantastique dams la bande dessinee framco-belge. Paris, PUF, 1986.
Renard Jean-Bruno. Le film L’Exorciste a travers la presse, 1975 (inédit, mes remerciements a l’auteur pour la communication de ce texte).
Renard Jean-Bruno. Elements pour une sociologie du paranormal // Religiologique. Universote du Quebec a Montreal, n 18, automne 1998, p. 31-52.
Renaut Alain. L’Individu. Reflexions sur la philisophie du sujet. Paris, Hatier, 1995.
Reville Albert. Histoire du diable. Ses origines, sa grandeur et sa decadence. Strasbourg, Treuttel et Wurtz, 1870.
Ribemond Bernard (dir.) Le Corps et ses enigmes au Moyen Age. Caen, Paradigme, 1993.
Richardson James T., Best Joel, Bromley David (ed.). The Satanisme Scare. New York, Aldine de Gruyter, 1991.
Ride Jacques. Diable et diableries dans les Propos de Table de Martin Luther // Diable et Diableries, op. cit.
Riviere Claude. Les Rites profanes, Paris, PUF, 1995.
Rooijakkers Gérard, Dresden-Coenders Lene, Geerdes Margreet (dir.). Duivelsbeeldene. Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen. Baarn, Ambo, 1994.
Roos Keith L. The Devil in Sixteenth-Century German Literatur: The Teufelsbucher. Berne-Francfort-sur-le-Main, Lang, 1972.
Roper Lyndal. Oedipus and the Devil. Witchcraft, Sexuality and Religion in Early Modem Europe. Londres, Routledge, 1994.
Roskoff Giustav. Geschichte des Teufels. Leipzig, FA. Brockhaus, 1869, 2 vol.
Rosset Francois de. Les Histoires tragiques de notre temps, avec une preface de Rene Godenne (ed. de 1615, car la Ire, celle de 1614, est perdue). Geneve, Slatkine Reprints, 1980.
Рус. изд.: Франсуа де Россе. Трагические истории. Истории X, XX / Пер. Е. Морозовой // Новая Юность. 1997. № 5—6.
Rougemeont. Denis de. La Part du diable. Nouvelle version. Neuchâtel, La baconniere, 1945.
Rousset Jean. La Littérature de l’age baroque en France: Circe et le Paon. Paris, Corti, 1953.
Rousset Jean. Anthologie de la poesie baroque. Paris, A Colin, 1961.
Rublack Ulinka. Magd, Metz’ oder Morderin. Frauen vor fruhneuzeitlichen Gerichten. Francfort-su-le-Main, Fischer Verlag, 1998 (ed.
anglaise, The Crimes of Women in Early Modern Germany. Oxford, Clarendon Press, 1999).
Rudwin Maximilian. Satan et le satanisme dans l’oeuvre de Victor Hugo. Paris, Les Belles Lettres, 1926.
Rudwin Maximilian. Romantisme et Satanisme. Paris, 1927.
Rudwin Maximilian. The Devil in Legend and Littérature. Chicago- Londres, The Open Court Publishing Company, 1931.
Russel Jeffrey Burton. The Devil. Perceptions of Evil from Antiquity to Primitive Christianity. Ithaca-Londres, Cornell UP, 1977.
Russel Jeffrey Burton. Satan. The Early Christian Tradition. Ithaca- Londres, Cornell UP, 1981.
Russel Jeffrey Burton. Lucifer. The Devil in the Modern Wordl. Ithaca-Londres, Cornell UP, 1984.
Russel Jeffrey Burton Mephistopheles. The Devil in the Modern Wordl. Ithaca, Cornell UP, 1986.
Russel Jeffrey Burton. The Prince of Darkness: Radical Evil and the Power of Good in History. Ithaca-Londres, Cornell UP, 1988.
Salisbury Joyce E. The Beast within. Animals in the Middle Agews. New York-Londres, Routledge, 1994.
Sartre Jean-Paul. Le Diable et le bon Dieu: trois actes et onze tableaux. Paris, Gallimard, 1951.
Рус. изд.: Сартр Жан-Поль. Дьявол и Господь Бог: Пьеса в трех актах и одиннадцати картинах / Пер. Г. Брейтбурда // Сартр Ж.-П. Пьесы. М., 1967.
Satan, numéro special de la revue Etudes carmelitaines. Paris, 1948.
«Satan» dans le Dictionnaire de Théologie chrétienne, par une équipé internationale de théologiens, edition française dirigée par Joseph Dore, t. 1, Les Grands Themes de la foi. Paris, Desclee, 1979.
Schilling Heinz. Religion, Political Culture and the Emergence of Earle Modem Society. Leyde, E.J. Brill, 1992.
Schmidt Albert-Marie. Histoires tragiques // Etudes sur le XVIe siecle. Paris, Albin Michel, 1967, p. 247—259.
Scott Walter. Letters on Demonology and Witchcraft addressed to J.G. Lockhart. Londres, 1830 (reed. New York, Citai Press, 1970).
Рус. изд..: Скотт Вальтер. Письма о демонологии и колдовстве / Пер. А. Лактионова, М. Тимофеева. М.; СПб., 2002.
Seguin Jean-Pierre. L’Information en France avant le périodique. 517 canards imprimes entre 1529 et 1631. Paris, Maisonneuve et Larose, 1964.
Seignolle Claude. Le Diable dans la tradition populaire. Paris, s.l., 1959.
Seignolle Claude. Les Evangiles du diable, selon la croyances pupolair. Paris, Maisonneuve et Larose, 1964.
Рус. изд.: Сеньоль Клод. Сказания о дьяволе согласно народным верованиям / Пер. В. Ломм, Е. Меникова. М., 2002.
Senn Bryan. Fantastic cinema Subject Guide: A Topical Index to 2 500 Horror, Science Fiction and Fantasy Films. Jefferson (NC), McFarland and Co, 1992.
Sennett Richard. Les Tyrannies de l’intimite. Paris, Seuil, 1979.
Sharpe James A. Instruments of Darkness. Witchcrzft in Europe, 1550—1750. Londres, Penguin, 1996.
Sichere Bernsrd. Histoires du mal. Paris, Grasset, 1995.
Siecle de Saint-Augustin (le), numéro special de XVIIe siecle, 1982, n 135.
Simonin Michel. Vivre de sa plume au XVIe, ou La Carrière de Francois de Belleforest. Geneve, Droz, 1992.
Singer Gordon Andreas. «La Vauderie d’Arras», 1459—1491. An Episode of Witchkraft in Later Medieval France, these inédite, University of Maryland, 1974, microfilmée par University Microfilm International, Londres et Ann Harbor.
Skal David J. Hollywood Gothic: The Tangled Web of Dracula from Novel ti Stage to Screen. New York, Norton, 1990.
Soldan Wilhelm G. Geschichte der Hexenprozesse aus den Quellen dargestellt. Stuttgart, 1843 (complétée par Heinrich Heppe en 1880, reeditee par Max Bauer en 1912).
Sorcières (Les), catalogue d’expositionm. Paris, Bibliothèque nationale, 1973.
Stanford Peter. The Devil. A Biography. Londres, Heinemann, 1996.
Steinberg Sylvie. Le Travestissement a l’epoque moderne (XVIe— XVIIIe siecle). Recherches sur la difference des sexes, these inédite sous la direction de Jean-Louis Flandrin, Paris, EHESS, 1999.
Summers Montague. The History of Witchcraft and Demonology. Londres, Routledge and Regan Paul, 1926.
Tempere Catherine. Le Sang. Representations et pratiques medicales en France du XVIe au XVIIIe siecle,the de doctorat inédite sous la direction de Robert Muchembled, Université Paris-Nord, 1997.
Terramorsi Remard. Le Mauvais Reve américain. Les origines du fantastique et le fantastique des origines aux Etats-Unis. Paris, L’Harmattan, 1994.
Testa Carlo. Desire and the Devil: Demonic Contracts in French and European Literature. New York, Peter Lang, 1991.
Teyssedre Bernard. Le Diable et l’Enfer au temps de Jesus. Paris, Albin Michel, 1984.
Teyssedre Bernard. Naissance du diable: de Babylone aux grottes de la mer Morte. Paris, Albin Michel, 1985.
Thomas Keith. Religion and thje Decline of Magic. Studies in Pipular Deliefs an Sixteenth and Seventeenth Century England. Londres, Routledge and Kegan Paul, 1971.
Thomas Pascal. Le Diable, oui ou noné Paris, Centurion, 1989.
Thorndike Lynn. A History of Magic and Experimental Science. New York, MacMillan, 1923-1958, 8 vol.
Todorov Tzvetan. Introduction a la littérature fantastique. Paris, Seuil, 1970. Рус. изд..: Тодоров Цветан. Введение в фантастическую литературу / Пер. Б. Нарумова. М., 1997.
Thurmel Joseph. Histoire du diable. Paris, Rieder, 1931 (l’auteur a utilise le pseudonyme de pere Louis Coulange pour The Life of the Devil, New York, A.A. Knopf, 1930).
Urtubey Louisa de. Freud et le diable. Paris, PUF, 1983
Van Hoom Care] Maajo. Levinus Lemnius, 1505—1568. Zestiende- eews Zeews genesheer. Kloostertanzande, J. Duerinck-Krachten b.s.d. [1978], (these de doctorat en medecine, V.U. AmsterdamVanderbrouke, Francois Lyonnet S., Danielou J, Guillamont A., Guillamont C. Demon // Dictionnaire de spiritulite ascétique et meystique: doctrine et histoire, publie sius la direction de M. Valler, F. Cavallera, J. de Guibert. Paris, Beauchesne, 1932-1995, 17 vol., vol. 3, p. 142-138.
Vatter Hannes. The Devil in English Literature. Berne, Franke, 1978.
Vaucher Gravili Anne de. Loi et Transgression. Les histoires tragiques du XVIIe siecle. Lecce, Milella, 1982.
Venard Marc. La hantise du diable //Le Temps des confessions (1530—1620/30), sous la responsabilité de Marc Venard (Histoire du christianisme, t.8). Paris, Desclee, 1992, p. 1029—1059.
Vergnes Georges. Les exorcistes sont parmi nous. Paris, Robert Laffont, 1978.
Vernet Max. Jean-Pierre Camus: théorie de la contre-litterature. Paris, Nozet, 1995.
Vernettejean. Occultisme, Magie, Envoûtement: esoterisme, astrologie, réincarnation, spiritisme, sorcellerie, fin du monde: chrétien devant les mystères de l’occulte et de l’etrange. Milhouse, Salvator, 1986.
Viala Alain. Naissance de l’écrivain. Sociologie de la littérature a l’age classique. Paris, Minuit, 1985.
Viatte Auguste. Victor Hugo et les Illumines de son temps. Montreal, Les Editions de l’Arbre, 1942 (reed. Geneve, Slatkine, 1973).
Victor Jeffrey S. Satanic Panic. The Creation of a Contemporary Legend. Chicago, Open Court, 1993.
Vigarello Georges. Histoire du viol, XVIe—XX siecle. Paris, Seuil, 1998.
Villeneuve Roland. Dictionnaire du Diable. Paris, Bordas, 1989. Villeneuve Roland. La Beaute du diable. Paris, Pierre Bordas et fils, 1994 (Ire ed. 1983).
Vincent Jean-Didier. La Chair et le Diable. Paris, Odile Jacob, 1996. Vries Theun de. De duivel. Een essay. Amsterdam, De Beuk, 1992.
Wagner Robert-Leon. Sorcier et Magicien. Paris, Droz, 1940.
Walker Daniel Pieckering. Unclean Spirits: Possession and Exorcism in France and England in the Late Sixteenth and Early Seventeenth Centuries. Londres, Scolar Press, 1981.
Weber Eugen. Satan franc-macon: la mystification de Leo Taxil. Paris, Julliard, 1964.
Weber Max. L’Ethique protestante et l’Esprit du capitalisme. Paris, Plon, 1964.
Рус. изд: Вебер Макс. Протестантская этика / Пер. М.И. Левиной // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
Wegner Wolfgang. Die Faustdarstellung vom 16. Jahrhundeit bis xur Gegenwart. Amsterdam, Erasmus Buchhandlung, 1962.
Wheatley Dennis. The Devil and All His Works. Londres, Hutchinson, 1971.
Wolf Leonard. Horror: A Connoisseur’s Guide to Literature and Film. New York, Facts and Files, 1989.
Woods Barbara Allen. The Devil in Dog Form. A Partial Type-Index of Devil Legends. Berkeley, University of california Press, 1959.
Yonnet Daniel, Costel, Louis. Le Diable et l'Exorciste. Rennes, Ouest-France, 1993.
Yve-Plessis Robert. Essai d’une ibiliographie française méthodique et raisonnee de la sorcellerie et de la possession démoniaque. Paris, Bibliothèque Chacornac, 1900.
Zacharias Gerhard. Satanskult und Schwarze Messe: ein Beitrag zur Phanemonologie der Religion. Wiesbaden, Limes Verlag, 1964 (traduit en anglais, The Satanic Cult. Londres, Allen and Unwin, 1988).
Zika Charles. Les parties du corps, Saturne et le cannibalisme: representations visuelles des assemblées de sorcières au XVIe siecle // N.Jacques-Chaquin et M. Preaud (dir.). Le Sabbat des sorciers, op. cit., p. 389-418.
Zumthor Paul. Victor Hugo poete de Satan. Paris, Robert Laffont, 1946 (reed. Geneve, Slatkine, 1973).
Дьявольское кино
Указатель фильмов
1896. «Замок дьявола» (Le Manoir du diable), фильм Жоржа Мельеса (первый фильм о вампирах; жанр получил большую популярность, к нему обращались многие режиссеры; пик популярности жанра приходится на период с 1957-го по 1970 г: в то время в год выходило до полудюжины фильмов о вампирах).
1906. «Четыреста шуток дьявола» (Les Quatre Cents Fraces du diable), фильм Жоржа Мельеса.
1913. «Пражский студент» (Der Student von Prag), реж. Стеллан Рие (ремейк: Der Student von Prag, реж. Хенрик Гален, 1926 г., при участии Конрада Фейдта).
1914. «Голем» (Der Golem), фильм Пауля Вегенера.
1915—1916. «Вампиры» (Les Vampires), фильм Луи Фейада, с участием Мюзидоры.
1920. «Кабинет доктора Калигари» (Das Kabinett des Dr. Cali- gari), фильм Роберта Вине.
1920. «Доктор Джекиль и мистер Хайд» (Dr. Jekylll and Mr. Hyde), фильм Джона Стюарта Робертсона, с участием Джона Бэрримора (самая ранняя экранизация повести Р.Л. Стивенсона вышла в 1913 г., следующая — в 1920 г.).
1920. «Голем, как он пришел в мир» (Der Golem. Wie er in die Welt kam), фильм Пауля Вегенера.
1921. «Возница» (Korkarlen), фильм Виктора Шёстрёма (ремейк: «Призрачная тележка», фильм Жюльена Дювивье, 1939, с участием Пьера Френе и Луи Жуве)
1921. «Страницы из книги Сатаны» (Blad af Satans Dagbog), фильм Карла Теодора Дрейера.
1921 «Ведьмы» (Нахап), фильм Беньямина Кристенсена.
1922. «Доктор Мабузе — игрок» (Dr. Mabuse der Spieler), фильм Фрица Ланга (в сов. прокате — «Позолоченная гниль»),
1922. «Носферату, симфония ужаса» (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens), фильм Фридриха Вильгельма Мурнау, с участием Макса Шрека (в сов. прокате — «Вампир Носферату»).
1924. «Кабинет восковых фигур» (Das Waschsfigurenkabinett), фильм Пауля Лени.
1924. «Руки Орлака» (Orlacs Hande), фильм Роберта Вине, с участием Конрада Фейдта (ремейк: Mad Love, фильм Карла Фройнда, 1935, с участием блистательного Петера Лорре, и «Руки Орлака», фильм Эдмонда Т. Гревилля, 1961, с участием Мела Феррера, Дэнни Каррела, Кристофера Ли) (в сов. прокате — «Пляска нервов»).
1925. «Доктор Пикль и мистер Прайд» (Dr. Pickle and Mr. Pride), фильм Скотта Пемброка, с участием Стэна Лаурела.
1925. «Призрак Оперы» (The Phantom of the Opera), фильм Руперта Джулиана, с участием Лона Чани.
1926. «Фауст» (Faust), фильм Фридриха Вильгельма Мурнау.
1927. «Лондон после полуночи» (London after Midnight), фильм Тода Браунинга, с участием Лона Чани.
1927. «Мандрагора» (Alraune), фильм Хенрика Галена, с участием Бригитты Хельм и Пауля Вегенера (история злокозненной роковой женщины, рожденной от проститутки, оплодотворенный семенем повешенного).
1927. «Метрополис» (Metropolis), фильм Фрица Ланга.
1927. «Подполье» (Underworld), фильм Джозефа фон Штернберга, с участием Джорджа Бэнкрофта.
1928. «Падение дома Эшеров» (La chute de la maison Usher), фильм Жана Эпштейна.
1928. «Страсти Жанны д’Арк» (La Passion de Jeanne d’Arc), фильм Карла Теодора Дрейера, с участием Рене Фальконетти.
1928. «Четыре дьявола» (Four Devils), фильм Фридриха Вильгельма Мурнау (ремейк фильма 1911 г. De Fire Djaevle датчанина Роберта Динесена).
1928. «Доки Нью-Йорка» (The Drag Net), фильм Джозефа фон Штернберга.
1929. «Шантаж» (Blackmail), фильм Альфреда Хичкока, с участием Эни Ондра.
1929. «Ящик Пандоры» (Die Buchse des Pandora), фильм Георга Вильгельма Пабста, с участием Луизы Брукс (в сов. прокате — «Лулу»),
1929. «Семь следов Сатаны» (Seven Footprints to Satan), фильм Беньямина Кристенсена
1930. «Голубой ангел» (Der blaue Engel), фильм Джозефа фон Штернберга, с участием Марлен Дитрих, Эмиля Яннингса.
1930. «Конец мира» (La Fin du monde), фильм Абеля Ганса.
1930. «Маленький Цезарь» (Little Caesar), фильм Мервина Ле Роя, с участием Эдуарда Дж. Робинсона.
1931. «Доктор Джекиль и мистер Хайд», фильм Рубена Мамуля- на, с участием Фредрика Марча.
1931. «Дракула» (Dracula), фильм Тода Браунинга, с участием Белы Лугоши (можество ремейков, в том числе «Дракула» Теренца Фишера, 1958, с участием Кристофера Ли и Питера Кушинга.
1931. «Враг общества» (The Public Enemy), фильм Уильяма Уэлмана, с участием Джеймса Кегни.
1931. «Франкенштейн» (Frankenstein), фильм Джеймса Уэйла, с участием Бориса Карлофа (продолжение «Невеста Франкенштейна», 1935, реж. Дж. Уэйл и множество ремейков и продолжений, снятых различными режиссерами, в т.ч. «Франкенштейн против оборотня», 1943, и «Франкенштейн против адского чудовища, фильм Теренса Фишера, 1973).
1931. «М» («Убийца. Город ищет убийцу») (М. Eine Stadt sucht einen Morder), фильм Фрица Ланга, с участием Петера Лорре.
1932. «Самая опасная игра» (The Most Dangerous Game), фильм Эрнста Б. Шедсака и Мериана К. Купера., с участием Лесли Бэнкса.
1932. «Уроды» (Freaks), фильм Тода Браунинга.
1932. «Мумия» (The Mummy), фильм Карла Фройнда, с участием Бориса Карлофа (более двадцати ремейков, и в частности «Мумия» (The Mummy) Теренса Фишера, 1959, с участием Питера Кушинга. Сюжет восходит к фильму «Клеопатра» Жоржа Мельеса, 1899 г.; в 1999 г. фильм про мумию был снят Стивеном Саммерсом).
1932. «Лицо со шрамом» (Scarface), фильм Хоуарда Хоукса при участии Пола Муни (ремейк: «Лицо со шрамом» Брайана Де Пальмы, 1983, с участием Аль Пачино, Мишель Пфайфер).
1932. «Вампир, или Странное приключение Дэвида Грея» (Der Traum des Allan Gray), фильм Карла Теодора Дрейера (первый звуковой фильм этого режиссера), с участием Джулиана Веста, Сибиллы Шмитц (жизнь Сибиллы Шмитц вдохновила Райнер— Вернера Фасбиндера на создание в 1981 г. фильма «Смятение Вероники Фосс [Veronica Voss]»).
1933. «Человек-невидимка» (The Invisible Man), фильм Джеймса Уэйла.
1933. «Остров доктора Моро» (Islands of Lost Souls), фильм Эрла К. Кентона, с участием Чарльза Лаутона, Белы Лугоши (ремейк: «Остров доктора Моро» (The Island of Dr. Moreau), фильм Дона Тейлора, 1977, с участием Берта Ланкастера).
1933. Кинг-Конг (King Kong), фильм Эрнста Б. Шедсака и Мериана К. Купера., с участием Фэй Рэй (ремейк: «Кинг-Конг», .Джона Гиллермина, 1976).
1933. «Завещание доктора Мабузе» (Das Testament des Dr. Mabuse), звуковой фильм Фрица Ланга.
1935. «Знак вампира» (Mark of the Vampire), фильм Тода Браунинга, с участием Лайонела Бэрримора и Белы Лугоши.
1935. «Тридцать девять шагов» (The Thirty Nine Steps), фильм Альфреда Хичкока, с участием Мадлен Кэррол и Роберта Доната.
1936. «Дьявольская кукла» (The Devil Doll), фильм Тода Браунинга, с участием Лайонела Бэрримора и Моурин О’Салливан.
1937. «Молодой и невинный» (Young et Innocent), фильм Альфреда Хичкока, с участием Новы Пилбем и Деррика де Марнея.
1938. «Леди исчезает» (The Lady Vanishes), фильм Альфреда Хичкока.
1939. «День начинается» (Le jour se leve), фильм Марселя Карне, с участием Жана Габена.
1940. «Ребекка» (Rebecca), фильм Альфреда Хичкока, с участием Лоуренса Оливье и Джоан Фонтейн.
1941. «Доктор Джекиль и мистер Хайд» (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), фильм Виктора Флеминга, с участием Спенсера Треси и Ингрид Бергман.
1941. «Мальтийский сокол» (The Maltese Falcon), фильм Джона Хьюстона, с участием Хэмфри Богарта и Мэри Астон.
1941. «Оборотень» (The Wolf Man), фильм Джорджа Вагнера.
1941. «Подозрение» (Suspicion), фильм Альфреда Хичкока, с участием Кэри Гранта и Джоан Фонтейн.
1942. «Кошачье племя» (Cat People), фильм Джека Тоурнера продюсер Вэл Льютон, с участием Симоны Симон (ремейк Пола Шредера, 1982).
1942. «Я женился на ведьме» (I Married a Witch), фильм Рене Клера, с участием Вероники Лейк и Фредрика Марча.
1942. «Рука дьявола» (La Main du diable), фильм Мориса Турнера, с участием Пьера Френе.
1943. «Вечерние посетители» (Les Visiteurs du soir), фильм Марселя Карне, с участием Арлетти, Жюля Берри, Алена Кюни.
1943. «Небо может подождать» (Heaven Can Wait), фильм Эрнста Любича, с участием Джин Тьерней.
1943. «Ворон» (Le Corbeau), фильм Анри-Жоржа Клузо, с участием Пьера Френе и Жинетт Леклерк.
1943. «День гнева» (Vredens Dag), фильм Карла Теодора Дрейера.
1943. «Человек-леопард» (The Leopard Man), фильм.
1943. «Тень сомнения» (Shadow of a doubt), фильм Альфреда Хичкока, с участием Джозефа Коттена.
1943. «Седьмая жертва» (The Seventh Victim), фильм Марка Робсона, продюсер Вэл Льютон (рассказ о секте сатанистов в Нью- Йорке).
1943. «Я шел вместе с зомби» (I Walked with a Zombie), фильм Джека Тоурнера, продюсер Вэл Льютон.
1944. «Дом Франкенштейна» (House of Framkenstein), фильм Эрла К. Кентона, с участием Лона Чани.
1944. «Проклятие кошачьего племени» (The Curse of the Cat People), фильм Гюнтера фон Фрича и Роберта Уайза, продюсер Вэл Льютон, с участием Симоны Симон.
1945. «Глубокой ночью» (Dead of Night), фильм Алберту Кавалканти, Чарльза Крайтона, Бэзила Дирдена и Роберта Хемера (пять фантастических новелл).
1945. «Красавица и зверь» (La Belle et la Bete), фильм Жана Кокто, с участием Жана Марэ и Жозетты Дей.
1945. «Диллинджер» (Dillinger), фильм Макса Носсека (ремейк: 1973, 1991).
1945. «Остров смерти» (Isle of the Dead), фильм Марка Робсона, с участием Бориса Карлофа.
1945. «Завороженный» (Spellbound), фильм Альфреда Хичкока, с участием Ингрид Бергман и Грегори Пека.
1945. «Похититель трупов» (The Body Snatcher), фильм Роберта Уайза, продюсер Вэл Льютон (также принимал участие в создании сценария, под псевдонимом), с участием Бориса Карлофа и Белы Лугоши.
1947. «Привидение и миссис Мюир» (The Ghost and Mrs. Muir), фильм Джозефа Манкиевича, с участием Джин Тьерней.
1947. «Рожденный убивать» (Bom to Kill), фильм Роберта Уайза.
1947. «Набережная ювелиров» (Quai des Orfèvres), фильм Анри- Жоржа Клузо, с участием Луи Жуве.
1947. «Преследуемый» (Pursued), фильм Рауля Уолша, с участием Роберта Митчама.
1948. «Кровь на Луне» (Blood on the Moon), фильм Роберта Уайза, с участием Роберта Митчама.
1948. «Тюрьма» (Fangelse), фильм Ингмара Бергмана.
1949. «Красота дьявола» (La beaute du diable), фильм Рене Клера, с участием Жерара Филипа и Мишеля Симона.
1949. «Бешеный» (White Heat), фильм Рауля Уолша, с участием Джеймса Кегни.
1951. «Меченая жещина» (The Enforcer), фильм Бретейна Вин- даста (псевдоним Рауля Уолша), с участием Хэмфри Богарта.
1951. «Незнакомцы в поезде» (Stranger on a Train), фильм Альфреда Хичкока, с участием Фарлей Гренджер и Роберта Уолкера.
1951. «День, когда остановилась Земля» (The Day the Earth Stood Still), фильм Роберта Уайза.
1952. «Красная планета Марс» (Red Planet Mars), фильм Гарри Хорнера.
1953. «Восковой дом» (House of Wax), фильм Андре де Тота (ремейк: The Mystery of the Wax Museum Майкла Куртица, 1933).
1954. «Окно во двор» (Rear Window), фильм Альфреда Хичкока, с участием Джеймса Стюарта и Г рейс Келли.
1955. «Поцелуй меня насмерть» (Kiss me Deadly), фильм Роберта Олдрича.
1955. «Эксперимент профессора Квотермаса» (The Quatermass Experiment), фильм Вэла Геста. Первый фильм из серии фильмов о «Приключениях профессора Квотермаса», поставленный английской киностудией «Хаммер» по мотивам популярного телесериала, автором сценария которого являлся Найджел Нил; сериал с успехом шел вплоть до 1979 г. В кино одним из лучших фильмов о профессоре Квотермасе стал «Квотермас и пришелец» (Quatermass and the Pit) Роя Баркера, 1967.
1955. «Дьявольские души» (Les Diaboliques), фильм Анри-Жоржа Клузо, с участием Симоны Синьоре, Веры Клузо, Поля Мериса (ремейк: Diabolique Иеремии Чечика, 1966, с участием Шэрон Стоун, Изабель Аджани).
1955. «Слово» (Ordet), фильм Карла Теодора Дрейера.
1955. «Тарантул» (Tarantula), фильм Джека Арнольда.
1955. «День, когда погибла земля» (The Day the Wordl Ended), фильм Роджера Кормена
1956 «Годзилла, король чудовищ» (Godzilla, King of the Monsters), Фильм Терри Морсе (по мотивам японского фильма Gojira Иноширо Хонды, 1954, который в Японии имел множество продолжений).
1956. «Вторжение похитителей тел» (Invasion of the Body Snatchers), фильм Дона Сигела, с участием Кевина МакКарти, Дайна Винтер (ремейк: «Вторжение похитителей тел» Филиппа Кауфмана, 1978).
1956. «Седьмая печать» (Det sjunde inseglet), фильм Ингмара Бергмана, с участием Макса фон Сюдова.
1956. «Вампиры» (I Vampiri), фильм Рикардо Фреда, с участием Джанны Марии Канале.
1957. «Не тот человек» (The Wrong Man), фильм Альфреда Хичкока, с участием Генри Фонды, Веры Майльс.
1958. «Кошмар Дракулы» (Horror of Dracula), фильм Теренса Фишера, с участием Кристофера Ли и Питера Кушинга (огромный успех английской студии Хаммера, фильм вызвал множество подражаний, и в частности в Италии).
1958. «Дьвольская ночь» (Nigth of the Demon), фильм Джека Тоурнера
1958. «Месть Франкенштейна» (The Revenge of Frankenstein), фильм Теренса Фишера.
1958. «Тропы славы» (Path of Glory), фильм Стэнли Кубрика, с участием Керка Дугласа.
1958. «Печать зла» (Touch of Evil), фильм Орсона Уэллса, с участием Орсона Уэллса, Чарлтона Хестона, Дженет Лей.
1958. «Головокружение» (Vertigo), фильм Альфреда Хичкока, с участием Джеймса Стюарта, Ким Новак.
1959. «Собака Баскервилей» (The Hound of the Baskervilles), фильм Теренса Фишера, с участием Питера Кушинга, Кристофера Ли (в 1939 г. Сидней Лэндфильд снял свою версию рассказа Конан Дойля).
1959. «Ставки на завтра» (Odds against Tomorrow), фильм Роберта Уайза, с участием Гарри Белафонте и Роберта Райана.
1959. «Мир, плоть, дьявол» (The World, the Flesh, and the Devil), фильм Ранальда МакДоугала, 1959, с участием Гарри Белафонте.
1959. «К северу через северо-запад» (North by Northwest), фильм Альфреда Хичкока, с участием Кэри Г ранта, Евы Мари Сейнт.
1959. «Подсматривающий» (Peeping Tom), фильм Майкла Пауэлла, с участием Карла Беме.
1960. «Тысяча глаз доктора Мабузе» (Die tausend Augen von Dr. Mabuse), фильм Фрица Ланга.
1960. «Умереть от наслаждения» (Et mourir de plaisir), фильм Роже Вадима, с участием Аннеты Стройберг, Мел Феррер.
1960. «Фауст», фильм Густава Грюндгенса (запись на пленку спектакля гамбургского театра «Дойчес Шаушпильхаус», сыгранного Густавом Грюндгенсом).
1960. «Маска демона» (La masquera del demonio), фильм Марио Бавы, с участием Барбары Стил (ремейк: La masquers del demonio Ламберто Бавы, сына Марио Бавы, 1990).
1960. «Мельница каменных женщин» (Il muilino delle donne di pietra), фильм Джорджио Феррони.
1960. «Психоз» (Psycho), фильм Альфреда Хичкока, с участием Энтони Перкинса, Дженет Лей, Веры Майлс.
1960. «Глаза без лица» (Les Yeux sans visage), фильм Жоржа Франжю, с участием Пьера Брассера, Алиды Валли.
1961. «Мать Иоанна от ангелов» (Matka Joanna od Aniolow), фильм Ежи Кавалеровича (Луденское дело об одержимости, перенесенное в один из польских монастырей XVIII в.).
1961. «Проклятие оборотня» (The Curse of the Werewolf), фильм Теренса Фишера, с участием Оливера Рида (тема оборотня, успешно эксплуатируемая в кино: «Вой» Джо Данте, 1980; «Американский оборотень в Лондоне», Джона Лэндиса, 1981; «Голубой страх» Даниэля Аттиаса, 1985; «Волк» Майка Николса, 1994; «Оборотень в Париже», Энтони Уолкера, 1998 и т.д.).
1961. «Вестсайдская история» (West Side Story), фильм Роберта Уайза и Джерома Роббинса, с участием Натали Вуд (американский мьюзикл по мотивам трагической истории Ромео и Джульетты).
1962. «Ангел-истребитель» (El angel exterminator), фильм Луиса Бунюэля.
1962. «Ужасная тайна доктора Хичкока» (L’orribile segreto del dottore Hichcock), фильм Роберта Хэмптона (псевдоним Риккардо Фреды), с участием Барбары Стил.
1962. «Лолита» (Lolita), фильм Стэнли Кубрика, с участием Джеймса Мэсона, Сью Лайон, Питера Селлерса.
1963. «Сумасшедший профессор» (The Nutty Professor), фильм Джерри Льюиса, с участием Джерри Льюиса.
1963. «Преследование» (The Haunting), фильм Роберта Уайза.
1963. «Птицы» (The Birds), фильм Альфреда Хичкока, с участием Типпи Хедрен.
1963. «Привидение» (Lo spettro), фильм Роберта Хэмптона (псевдоним Риккардо Фреды), с участием Барбары Стил.
1964. «Часовня и инкуб» (La Cripta е l’incubo), фильм Томаса Миллера (псевдоним Камилло Мастрочинкве), с участием Кристофера Ли.
1964. «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил бомбу» (Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb), фильм Стэнли Кубрика, с участием Питера Селлера.
1964. «Ад» (L’Enfer), фильм Анри Клузо (незавершенный).
1964».Гертруда» (Gertrud), фильм Карла Теодора Дрейера.
1964. «Моя любимая ведьма» (Bewiched), телесериал Гарри Акермана совместно с другими постановщиками в 252 сериях, с участием Элизабет Монтгомери).
1965. «Альфавиль» (Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution), фильм Жана-Люка Годара, с участием Эдди Константина.
1966. «Псих» (The Psychopath), фильм Фредди Фрэнсиса.
1966. «Ангел для сатаны» (Un angelo per satana), фильм Камилло Мастрочинкве.
1967 «Бал вампиров» (Dance of the Vampires), фильм Романа Поланского.
1967. «Бонни и Клайд» (Bonnie and Clyde), фильм Артура Пенна, с участием Уоррена Битти и Фэй Данауэй.
1968. «2001: Космическая одиссея» (2001: A Space Odyssey), фильм Стэнли Кубрика.
1968. «Ночь живых мертвецов» (Nigth of the Living Dead), фильм Джорджа А. Ромеро (фильмы режиссера на эту же тему: «Зомби» (Down of the Dead), 1978, «День живых мертвецов» (Day of the Dead), 1986).
1968. «Ребенок Розмари» (Rosemary’s Baby), фильм Романа По- ланского, с участием Миа Фэрроу.
1968. «Однажды вечером в поезде» (Un soir, un train), фильм Андре Дельво, с участием Ива Монтана и Анук Эме.
1969. «Гибель богов» (La caduta degli dei), фильм Лукино Висконти, с участием Дирка Богарта, Ингрид Тулин.
1969. «Беспечный ездок» (Easy Rider), фильм Денниса Хоппера, с участием Питера Фонды, Денниса Хоппера, Джека Николсона.
1969. «Дикая орда» (The Wild Bunch), фильм Сэма Пекинпа.
1970. «Мясник» (Le Boucher), фильм Клода Шаброля, с участием Стефани Одран, Джин Янн.
1971. «Дьяволы» (The Devils), фильм Кена Расселла, с участием Оливера Рида, Ванессы Редгрейв.
1971 «Грязный Гарри» (Dirty Harry), фильм Дона Сигела, с участием Клинта Иствуда (четыре продолжения с участием исполнителя главной роли: Magnum Force Теда Поста, 1973; The Enforcer, Джеймса Фарго, 1976; Sudden Impact Клинта Иствуда, 1983; The Dead Pool Бадди Ван Хорна, 1988).
1971. «Заводной апельсин» (A Clockwork Orange), фильм Стэнли Кубрика, с участием Малколма МакДауэла.
1972.. «Агирре — гнев божий» (Aguirre, der Zorn Gottes), фильм Вернера Херцога, с участием Клауса Кински.
1972. «Избавление» (Deliverance), фильм Джона Бурмена.
1972. «Дьявол» (Diabel), фильм Анджея Зулавского.
1972. «Френци» (Frenzy), фильм Альфреда Хичкока.
1972. «Крестный отец» (The Godfather), фильм Фрэнсиса Форда Копполы, с участием Марлона Брандо, Аль Пачино.
1973. «Изгоняющий дьявола» (The Exorcist), фильм Уильяма Фридкина, с участием Эллен Берстин и Макса фон Сюдова (продолжения: «Изгоняющий дьявола-II: Еретик» (The Exorcist II: The Heretic) Джона Бурмена, 1977; «Изгоняющий дьявола-III» (The Exorcist III), Уильяма Питера Блетти, 1990).
1973. «Франкенштейн и адское чудовище» (Frankenstein and the Monster from Hell), фильм Теренса Фишера.
1974. «Техасская резня бензопилой» (The Texas Chainsaw Massacre), фильм Тоуба Хупера.
1974. «Ночной портье» (II portiere du notte), фильм Лилианы Кавани, с участием Дирка Богарта, Шарлотты Рэмплинг.
1974. «Адская башня» (The Towring Inferno), фильм Джона Гиллермина, с участием Стива МакКуина, Пола Ньюмена, Уильяма Холдена, Фэй Данауэй.
1975. «Барри Линдон» (Barry Lyndon), фильм Стэнли Кубрика, с участием Райана О’Нила.
1975. «Вампиры» (Vampyres), фильм Джозефа Ларраза.
1976. «Керри»« (Сапу), фильм Брайана Де Пальмы, 1976, с участием Сисси Спасик.
1976. «Предзнаменование» (The Omen), фильм Ричарда Донне- ра, с участием Грегори Пека, Ли Ремик. Продолжения: «Дамиан: Предзнаменование II» (Damien: Omen II) Дона Тейлора, 1978, с Уильямом Холденом; «Предзнаменование III» (Final Conflict) Грэхема Бейкера, 1981).
1976. «Спаситель... Сын Сатаны!» (The Redemeer... Son of Satan!), фильм Константина С. Кочиса.
1976. «Таксист» (Taxi Driver), фильм Мартина Скорсезе, с участием Роберта Де Ниро.
1974. «Дочь... посвященная дьяволу» (То the Devil... a Daughter), фильм Питера Сайза.
1975. «Адский круг» (Full Circle), фильм Ричарда Лонкрейна.
1977. «Вероятно, дьявол» (Le Diable probablement), фильм Робера Брессона.
1977 «Грузовик» (The Саг), фильм Эллиота Сильверстейна (подражание фильму «Дуэль» Стивена Спилберга).
1977. «Звездные войны» (Star Wars), фильм Джорджа Лукаса (продолжения: Star Wars. The Empire Strikes back, Ирвина Кершнера, 1980; Star Wars. Return of the Jedi Ричарда Маркванда, 1983; Star Wars. The Phantom Menace, 1999).
1977. «Близкие контакты третьего вида» (Close Encounters of the Third Kind), фильм Стивена Спилберга.
1977. «Вздох» (Suspiria), фильм Дарио Ардженто, с участием Джесски Харпер, Джоан Беннет, Алиды Валли.
1978. «Ад» (Inferno), фильм Дарио Ардженто.
1978. «Хэллоуин» (Halloween), фильм Джона Карпентера, с участием Дональда Плизенса, Джейми Ли Куртис.
1979. «Чужой» (Alien), фильм Ридли Скотта, с участием Сигурни Уивер (несколько продолжений, среди которых: «Чужой II. Возвращение» Джеймса Камерона, 1986).
1979. «Туман» (The Fog), фильм Джона Карпентера.
1979. «Безумный Макс» (Mad Мах), фильм Джорджа Миллера (он же поставил Mad Мах 2: The Road Warrior, 1981 и Mad Max beyond the Thunder Dome, 1985, во всех фильмах главную роль исполнил Мэл Гибсон).
1979. «Носферату — призрак ночи» (Nosferatu, Phantom der Nacht), фильм Вернера Херцога, с участием Клауса Кински, Изабель Аджани.
1980. «Сияние» (The Shining), фильм Стэнли Кубрика, с участием Джека Николсона.
1980. «Пятница, 13» (Friday the 13th) фильм Шона Каннигема (образец фильма gore, восемь серий которого были сняты до 1989 г. Фильм сделан по принципу итальянских gialli 1960—1970-х гг., серийных детективов в дешевом издании, в которых Дарио Ардженто и ряд других авторов смещают акценты в сторону ужасов).
1981. «Доктор Джекиль и женщины» (Dr. Jekyll et les femmes), фильм Валериана Боровчика.
1981. «Американский оборотень в Лондоне» (An American Werewolf in London), фильм Джона Лэндиса.
1981. «Мефисто» (Mephisto), фильм Иштвана Сабо, с участием Клауса Марии Брандарра (в основу сценария легли подлинные события из жизни немецкого актера Густава Грюндгенса, автора и исполнителя пьесы «Фауст», 1960).
1982. «Темный кристалл» (The Dark Crystal), фильм Джима Хенсона и Фрэнка Оза.
1982. «Бегущий по лезвию бритвы» (Blade Runner), фильм Ридли Скотта, с участием Харрисона Форда.
1982. «Демоны», фильм Марио Бавы.
1982. «Полтергейст», фильм Тоуба Хупера (продолжения: Poltergeist II, The Over Side Брайана Гибсона, 1986, и Poltergeist III, Гэри Шермана, 1988).
1982. «Тварь» (The Thing), фильм Джона Карпентера (ремейк фильма The Thing Кристиана Ниби и Говарда Хаукса, 1951).
1983. «Лифт» (De Lift), фильм Дика Мааса.
1983. «Калейдоскоп ужасов» (Creepshow), фильм Джорджа А. Ромеро (пять скетчей. Продолжение: Creepshow 2 Майкла Горника, 1987).
1983. «Зловещие мертвецы» (Evil Dead, фильм Сэма Рэйми (один из первых фильмов gore. Продолжение: Evil Dead 2, также Сэма Рэйми, 1987).
1983. «Голод» (The Hunger), фильм Тони Скотта, с участием Катрин Денев, Дэвида Боуи (тайные вампиры в Нью-Йорке: фантазм, характерный для американского кино).
1984. «Кошмар на улице Вязов» (A Hightmare on Elm Street), фильм Вэса Кравена (кошмарный персонаж по имени Фредди Крюгер, сыгранный Робертом Энглундом, появляется в пяти продолжениях фильма, снятых другими режиссерами, а также в шестом фильме, вновь поставленным Вэсом Кравеном: Wes Craven’s New Nightmare: The Real Story, 1995).
1984. «Терминатор» (The Terminator), фильм Джеймса Камерона, с участием Арнольда Шварценеггера.
1986. «Синий бархат» (Blue Velvet), фильм Дэвида Линча, с участием Изабеллы Росселини, Денниса Хоппера.
1986. «Любовник из мечты» (Dream Lover), фильм Алана Дж.Пакулы (или буквально: Любитель ).
1986. «Муха» (The Fly), фильм Дэвида Кроненберга.
1986. «Салемские вампиры» (Les Vampires de Salem), фильм Тоуба Хупера.
1987. «Демоны II» (Demons II), фильм Ламберто Бавы.
1987. «Возвращение в Салем» (Return to Salem’s Lot), фильм Ларри Кохена.
1987. «Цельнометаллическая оболочка» (Full Metal Jacket), фильм Стэнли Кубрика.
1987. «Спрятавшийся» (The Hidden), фильм Джека Шолдера.
1987. «Иствикские ведьмы» (The Witches of Eastwick), фильм Джорджа Миллера, с участием Шер, Сьюзене Сарандон, Мишель Пфайфер и Джека Николсона.
1988. «Намертво связанные» (Dead Ringers), фильм Дэвида Кроненберга, с участием Джереми Айронс.
1988. «976. Зло» (976 Evil), фильм Роберта Энглунда.
1988. «Полтергейст 3», фильм Гэри Шермана.
1989. «Дьяволица» (She-Devil), фильм Сьюзен Садельман.
1990. «Я — безумец» (I, Madman), фильм Тибора Табача.
1990. «Дикие сердцем» (Wild at Heart), фильм Дэвида Линча, с участием Николаса Кейджа и Лоры Дерн.
1991. «Сказки темной стороны» (Tales from the Darkside), фильм Джона Харрисона.
1991. «Умереть заново» (Dead again), фильм Кеннета Брана.
1991. «Генри, портрет серийного убийцы» (Henry, Portrait of a Serial Killer), фильм Джона МакНаутона.
1991. «Темная половина» (The Dark Half), фильм Джорджа А. Ромеро.
1991. «Терминатор 2: Судный день» (Terminator 2:Judment Day), фильм Джеймса Камерона, с участием Арнольда Шварценеггера.
1991. «Чернокнижник» (Warlock), фильм Стива Майнера.
1992. «Дракула» (Dracula), фильм Фрэнсиса Форда Копполы, с участием Гарри Олдмана, Вайноны Райдер.
1993. «Х-файлы» (X-Files), американский телесериал, созданный Крисом Картером, с участием Дэвида Духовного и Джиллиан Эндер- сон (вышел на экраны в сентябре 1993 г., продолжается по настоящее время).
1995. «Ангелы-хранители» (Les Anges ardiens), фильм Жана- Мари Пуаре, с участием Жерара Депардье и Кристиана Клавье.
1996. «Призрак с шофером» (Fantôme avec chauffeur), фильм Жерара Ури, с участием Филиппа Нуаре.
1996. «Марс атакует!» (Mars Attacks!), фильм Тима Бертона, с участием Джека Николсона и Гленна Клоза.
1997. «Крик» (Scream), фильм Вэса Кравена (1-й фильм из серии).
1997. «Титаник» (Titanic), фильм Джеймса Камерона, с участием Леонардо ди Каприо, Кейт Уинслет (ранее на этот сюжет было снято несколько фильмов, и среди них «Титаник» Жана Негулеску, 1953).
1998. «Армагеддон» (Armageddon), фильм Майкла Бея, с участием Брюса Уиллиса.
1998. «Столкновение с бездной» (Deep Impact), фильм Мими Ледера.
1998. «Простой план» (Un plan simple), фильм Сэма Рэйми.
1999. «С широко закрытыми глазами» (Eyes Wide Shut), фильм Стэнли Кубрика, с участием Николь Кидман и Тома Круза.
Робер Мюшембле
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ДЬЯВОЛА
ХП-ХХ вв.
Редактор О. А. Прохоров
Дизайнер обложки П. С. Коиколович
Корректор И. Б. Окунева
Компьютерная верстка С.М. Пчелинцев
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры
ООО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции: 129626, Москва, И-626, а/я 55 Тел.: (095) 976-47-88 факс: 977-08-28 e-mail: real@nlo.magazine.ru Интернет: http://www.nlo.magazine.ru
Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1 Печ. л. 18,25. Заказ № 231. Тираж 3000 экз. Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Чебоксарская типография № 1» 428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15

Последние комментарии
10 минут 28 секунд назад
16 часов 14 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 1 час назад
3 дней 7 часов назад
3 дней 11 часов назад