Марат [Альберт Захарович Манфред] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Манфред Альберт Захарович МАРАТ
ГЛАВА ПЕРВАЯ КОНЕЦ ВЕКА
 Восемнадцатый век шел к концу.
Великий век, век Просвещения, он становился все более непохожим на то царство разума или мир голубиной кротости, о котором по-разному мечтали многие современники, воспитанные на творениях Вольтера и Дидро, на «Общественном договоре» и «Новой Элоизе» Жана Жака Руссо или даже на сентиментальных романах Бернардена де Сен-Пьера.
Последние десятилетия, или, вернее сказать, вся вторая половина, восемнадцатого века были бурным временем. Кровопролитные войны, ожесточенные классовые сражения, социальные битвы вспыхивали одно за другим, а порою и одновременно в разных концах Старого и Нового Света.
На европейском континенте еще господствовал феодально-абсолютистский строй. Его могущество казалось непререкаемым; внешне он представлялся несокрушимой твердыней. Но уже ряд примет возвещал его историческую обреченность, близость больших перемен.
Семь лет — с 1756 по 1763 год — продолжалась беспримерная для того времени по масштабу, по количеству вовлеченных сил опустошительная война. Девять сильнейших держав участвовали в Семилетней войне; то была действительно европейская война, вовлекшая в ожесточенную борьбу весь континент. — За ней последовала русско-турецкая война 1768–1774 годов, затем война восставших английских колоний в Америке против метрополии, длившаяся девять лет, с 1774 по 1783 год, и закончившаяся полной победой восставших.
В войне молодой заокеанской республики против Англии ее союзниками были абсолютистские монархии Франции и Испании, а также Голландия. И все-таки современники отчетливо ощущали, что в этой длившейся почти десять лет американской войне было нечто новое.
Она была совсем не похожа на те феодальные войны позднего средневековья, которые мемуаристы и историки, приукрашивая, наделяя вымышленными чертами и, отвлекаясь от неприглядной действительности, называли «рыцарскими войнами», или «войнами в кружевах». В этой войне с американской стороны все шло не «по правилам». Эти «парни свободы», как именовали первых американских повстанцев, изменили само содержание войны. Это была революционная война за независимость и свободу молодой республики; больше того, это была революция.
И сотни молодых людей в Европе, увлеченных «вольнолюбивыми мечтами», поверивших в то, что в Новом Свете начинается «золотой век» человечества, возвещенный великими мыслителями Просвещения, отправлялись за океан — в далекий, неведомый, заманчивый край, сражаться за его свободу, за будущность, за новый день, который завтра займется над всем миром. Впрочем, и здесь в Европе слышался гул подземных ударов.
В Российской империи, где устои самодержавия и крепостничества казались незыблемыми, в семидесятых годах разразилась могучая крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Воспетая поэтами, просвещенная императрица Екатерина II, покровительствовавшая Вольтеру и Дидро и даже советовавшаяся с ними в подчеркнуто дружественной переписке, при зареве помещичьих усадеб забыла о своих вольнолюбивых корреспондентах и двинула отборные гвардейские полки в приволжские губернии, чтобы потушить грозный пожар «мужицкого мятежа».
В Австрийской монархии Габсбурги в течение полутысячелетия удерживали за собой трон «Священной Римской империи германской нации». Гнет габсбургского абсолютизма был направлен не только против австрийского крестьянства и маломощного бюргерства, но и в особенности против подневольных народов — венгров, чехов, хорватов, поляков, сербов, румын. Мощные народные восстания 1775 года в Чехии, 1784–1785 годов в Трансильвании, никогда не затихавшая борьба венгерского народа напоминали о том, что и здесь, под скипетром Марии Терезии и Иосифа II, накапливаются враждебные им силы, готовые подняться на борьбу против феодального и чужеземного гнета.
В трехстах пятидесяти германских государствах царили деспотизм, рутина и палочная муштра; здесь дело не доходило до широких народных движений. Но за кажущейся неподвижностью общественной жизни, скованной жестокой и мелочной опекой трехсот пятидесяти фюрстов и курфюрстов и их всевидящей полиции, скрывались подспудные процессы, подтачивавшие изнутри каменную кладку феодально-казарменного строя. Поэзия «бури и натиска», драматургия Лессинга, великие творения Гёте и Шиллера — это могучее духовное движение созвездия талантов, как бы сразу поднявшихся над чересполосной землей Германии, и было их внешним выражением.
То явственно зримые, то остававшиеся невидимыми, могучие общественные силы повсеместно вступали в борьбу с феодально-абсолютистским строем. Все, казалось, пришло в движение. Политическая атмосфера сгущалась, предвещая приближение грозы.
Но где она разразится? Какая из стран станет полем великого социального сражения? Где раньше всего произойдет схватка старого, отживающего, но все еще могущественного феодального строя с еще молодым, полным сил, идущим на смену старому буржуазным обществом?
Такой страной могла быть только Франция. Здесь классовые противоречия достигли такой остроты, такого накала, что разрешить их могла лишь революция.
Когда она произойдет? Какой она будет? Да и будет ли она вообще?
Даже в конце восемнадцатого столетия, в царствование последнего короля старой монархии Людовика XVI, никто бы не мог ответить на эти вопросы с определенностью. Более того, тогда мало кто еще осознавал, что революция уже стучится в двери.
Правда, еще в 1734 году один из родоначальников Просвещения, Шарль де Монтескье, опубликовал исторический трактат под названием «Размышления о причинах величия и падения римлян». Шарль Луи де Монтескье, барон де ла Бред, бывший председатель парламента в Бордо, член Академии, был писателем глубокого ума, но крайне осторожным в своих гласных суждениях. Он не проводил прямых параллелей между прошлым и настоящим; он ограничивался лишь намеками, впрочем, вполне понятными для его читателей.
Четверть века спустя другой виднейший представитель Просвещения, Жан Жак Руссо, высказался гораздо яснее: в «Общественном договоре» он утверждал, что революции могут быть столь же благодетельными для народов, как кризис для исцеления больного.
Мысль эта была принята многими современниками лишь как одна из оригинальностей знаменитого, но чудаковатого философа. Конечно, как и все, что выходило из-под пера прославленного автора «Новой Элоизы», и эта идея была принята в аристократических салонах с почтительным вниманием. Но само увлечение сочинениями Жана Жака Руссо не только в среде молодых людей разных чинов и званий, но и в великолепных особняках богачей и старинных дворцах родовой знати свидетельствовало о том, что там революции не боялись и в нее не верили. Более того, когда разразилась американская революция, ее встретили в кругах аристократической Франции с живым интересом и с нескрываемым сочувствием. Даже в «Сиреневой лиге», придворном кружке королевы Марии Антуанетты, одобрительно отзывались об американцах. Позже правительство «божьей милостью» короля Людовика XVI не побоялось вступить в военный союз с заокеанской республикой мятежников против королевской Англии. В покоях Версальского дворца царила глубокая уверенность в полной невосприимчивости Франции к образу действий и идеям ее заокеанских союзников.
«Революция», «конституция», «республика» — все это, может быть, подходило для далекой и дикой страны, населенной индейцами и белыми бывшими каторжниками, в этом, не знающем истории Новом Свете. Но в передовой и просвещенной Франции, в течение тысячи лет благоденствующей под скипетром монархии, повторение чего-либо подобного было бы невероятным, невозможным.
Так полагал по крайней мере руководитель внешней политики короля Людовика XVI граф Вержен, рекомендуя своему монарху оказать денежную, а затем и военную помощь мятежным колонистам, поднявшимся против власти британской короны — давнего соперника Франции. И это мнение королевского министра в большей или меньшей степени разделяли его августейший сюзерен и большинство слуг и советников короля — высшая придворная знать.
Но вот примерно пятнадцать лет спустя после выхода в свет «Общественного договора» Жана Жака Руссо, в самом начале американской революции, в 1774 году, было опубликовано сочинение французского автора, по своему содержанию как бы перекликавшееся с нашумевшим произведением знаменитого мыслителя. И в этом новом сочинении уже не робко, как у Руссо, говорилось о возможном целебном значении революции, а уверенно, громко, во весь голос утверждалось бесспорное, непререкаемое право народа на революцию, а само восстание против тирании деспотизма провозглашалось обязанностью и высшим долгом народа.
Правда, книга эта не произвела никакого впечатления во Франции и автор ее никого не заинтересовал. Она вышла небольшим тиражом не во Франции, а в Англии, не на французском, а на английском языке, с обращением к английским читателям. Книга называлась «The chains of slavery» — «Цепи рабства», и в подзаголовке ее прямо указывалось, что она выходит в свет в связи с начавшейся в Англии парламентской избирательной борьбой. Автор предпочел скрыть от читателей свое имя.
Но прошло еще пятнадцать лет, и революция, к которой призывал неизвестный автор незамеченной книги, стала действительностью: она разразилась в 1789 году во Франции с силой и размахом еще небывалыми дотоле в истории.
В 1793 году вышло в свет второе, на этот раз французское издание этой книги. На ее титульном листе было полностью обозначено имя автора. Это было одно из самых славных и грозных имен революции: Жан Поль Марат, Друг народа.
Восемнадцатый век шел к концу.
Великий век, век Просвещения, он становился все более непохожим на то царство разума или мир голубиной кротости, о котором по-разному мечтали многие современники, воспитанные на творениях Вольтера и Дидро, на «Общественном договоре» и «Новой Элоизе» Жана Жака Руссо или даже на сентиментальных романах Бернардена де Сен-Пьера.
Последние десятилетия, или, вернее сказать, вся вторая половина, восемнадцатого века были бурным временем. Кровопролитные войны, ожесточенные классовые сражения, социальные битвы вспыхивали одно за другим, а порою и одновременно в разных концах Старого и Нового Света.
На европейском континенте еще господствовал феодально-абсолютистский строй. Его могущество казалось непререкаемым; внешне он представлялся несокрушимой твердыней. Но уже ряд примет возвещал его историческую обреченность, близость больших перемен.
Семь лет — с 1756 по 1763 год — продолжалась беспримерная для того времени по масштабу, по количеству вовлеченных сил опустошительная война. Девять сильнейших держав участвовали в Семилетней войне; то была действительно европейская война, вовлекшая в ожесточенную борьбу весь континент. — За ней последовала русско-турецкая война 1768–1774 годов, затем война восставших английских колоний в Америке против метрополии, длившаяся девять лет, с 1774 по 1783 год, и закончившаяся полной победой восставших.
В войне молодой заокеанской республики против Англии ее союзниками были абсолютистские монархии Франции и Испании, а также Голландия. И все-таки современники отчетливо ощущали, что в этой длившейся почти десять лет американской войне было нечто новое.
Она была совсем не похожа на те феодальные войны позднего средневековья, которые мемуаристы и историки, приукрашивая, наделяя вымышленными чертами и, отвлекаясь от неприглядной действительности, называли «рыцарскими войнами», или «войнами в кружевах». В этой войне с американской стороны все шло не «по правилам». Эти «парни свободы», как именовали первых американских повстанцев, изменили само содержание войны. Это была революционная война за независимость и свободу молодой республики; больше того, это была революция.
И сотни молодых людей в Европе, увлеченных «вольнолюбивыми мечтами», поверивших в то, что в Новом Свете начинается «золотой век» человечества, возвещенный великими мыслителями Просвещения, отправлялись за океан — в далекий, неведомый, заманчивый край, сражаться за его свободу, за будущность, за новый день, который завтра займется над всем миром. Впрочем, и здесь в Европе слышался гул подземных ударов.
В Российской империи, где устои самодержавия и крепостничества казались незыблемыми, в семидесятых годах разразилась могучая крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Воспетая поэтами, просвещенная императрица Екатерина II, покровительствовавшая Вольтеру и Дидро и даже советовавшаяся с ними в подчеркнуто дружественной переписке, при зареве помещичьих усадеб забыла о своих вольнолюбивых корреспондентах и двинула отборные гвардейские полки в приволжские губернии, чтобы потушить грозный пожар «мужицкого мятежа».
В Австрийской монархии Габсбурги в течение полутысячелетия удерживали за собой трон «Священной Римской империи германской нации». Гнет габсбургского абсолютизма был направлен не только против австрийского крестьянства и маломощного бюргерства, но и в особенности против подневольных народов — венгров, чехов, хорватов, поляков, сербов, румын. Мощные народные восстания 1775 года в Чехии, 1784–1785 годов в Трансильвании, никогда не затихавшая борьба венгерского народа напоминали о том, что и здесь, под скипетром Марии Терезии и Иосифа II, накапливаются враждебные им силы, готовые подняться на борьбу против феодального и чужеземного гнета.
В трехстах пятидесяти германских государствах царили деспотизм, рутина и палочная муштра; здесь дело не доходило до широких народных движений. Но за кажущейся неподвижностью общественной жизни, скованной жестокой и мелочной опекой трехсот пятидесяти фюрстов и курфюрстов и их всевидящей полиции, скрывались подспудные процессы, подтачивавшие изнутри каменную кладку феодально-казарменного строя. Поэзия «бури и натиска», драматургия Лессинга, великие творения Гёте и Шиллера — это могучее духовное движение созвездия талантов, как бы сразу поднявшихся над чересполосной землей Германии, и было их внешним выражением.
То явственно зримые, то остававшиеся невидимыми, могучие общественные силы повсеместно вступали в борьбу с феодально-абсолютистским строем. Все, казалось, пришло в движение. Политическая атмосфера сгущалась, предвещая приближение грозы.
Но где она разразится? Какая из стран станет полем великого социального сражения? Где раньше всего произойдет схватка старого, отживающего, но все еще могущественного феодального строя с еще молодым, полным сил, идущим на смену старому буржуазным обществом?
Такой страной могла быть только Франция. Здесь классовые противоречия достигли такой остроты, такого накала, что разрешить их могла лишь революция.
Когда она произойдет? Какой она будет? Да и будет ли она вообще?
Даже в конце восемнадцатого столетия, в царствование последнего короля старой монархии Людовика XVI, никто бы не мог ответить на эти вопросы с определенностью. Более того, тогда мало кто еще осознавал, что революция уже стучится в двери.
Правда, еще в 1734 году один из родоначальников Просвещения, Шарль де Монтескье, опубликовал исторический трактат под названием «Размышления о причинах величия и падения римлян». Шарль Луи де Монтескье, барон де ла Бред, бывший председатель парламента в Бордо, член Академии, был писателем глубокого ума, но крайне осторожным в своих гласных суждениях. Он не проводил прямых параллелей между прошлым и настоящим; он ограничивался лишь намеками, впрочем, вполне понятными для его читателей.
Четверть века спустя другой виднейший представитель Просвещения, Жан Жак Руссо, высказался гораздо яснее: в «Общественном договоре» он утверждал, что революции могут быть столь же благодетельными для народов, как кризис для исцеления больного.
Мысль эта была принята многими современниками лишь как одна из оригинальностей знаменитого, но чудаковатого философа. Конечно, как и все, что выходило из-под пера прославленного автора «Новой Элоизы», и эта идея была принята в аристократических салонах с почтительным вниманием. Но само увлечение сочинениями Жана Жака Руссо не только в среде молодых людей разных чинов и званий, но и в великолепных особняках богачей и старинных дворцах родовой знати свидетельствовало о том, что там революции не боялись и в нее не верили. Более того, когда разразилась американская революция, ее встретили в кругах аристократической Франции с живым интересом и с нескрываемым сочувствием. Даже в «Сиреневой лиге», придворном кружке королевы Марии Антуанетты, одобрительно отзывались об американцах. Позже правительство «божьей милостью» короля Людовика XVI не побоялось вступить в военный союз с заокеанской республикой мятежников против королевской Англии. В покоях Версальского дворца царила глубокая уверенность в полной невосприимчивости Франции к образу действий и идеям ее заокеанских союзников.
«Революция», «конституция», «республика» — все это, может быть, подходило для далекой и дикой страны, населенной индейцами и белыми бывшими каторжниками, в этом, не знающем истории Новом Свете. Но в передовой и просвещенной Франции, в течение тысячи лет благоденствующей под скипетром монархии, повторение чего-либо подобного было бы невероятным, невозможным.
Так полагал по крайней мере руководитель внешней политики короля Людовика XVI граф Вержен, рекомендуя своему монарху оказать денежную, а затем и военную помощь мятежным колонистам, поднявшимся против власти британской короны — давнего соперника Франции. И это мнение королевского министра в большей или меньшей степени разделяли его августейший сюзерен и большинство слуг и советников короля — высшая придворная знать.
Но вот примерно пятнадцать лет спустя после выхода в свет «Общественного договора» Жана Жака Руссо, в самом начале американской революции, в 1774 году, было опубликовано сочинение французского автора, по своему содержанию как бы перекликавшееся с нашумевшим произведением знаменитого мыслителя. И в этом новом сочинении уже не робко, как у Руссо, говорилось о возможном целебном значении революции, а уверенно, громко, во весь голос утверждалось бесспорное, непререкаемое право народа на революцию, а само восстание против тирании деспотизма провозглашалось обязанностью и высшим долгом народа.
Правда, книга эта не произвела никакого впечатления во Франции и автор ее никого не заинтересовал. Она вышла небольшим тиражом не во Франции, а в Англии, не на французском, а на английском языке, с обращением к английским читателям. Книга называлась «The chains of slavery» — «Цепи рабства», и в подзаголовке ее прямо указывалось, что она выходит в свет в связи с начавшейся в Англии парламентской избирательной борьбой. Автор предпочел скрыть от читателей свое имя.
Но прошло еще пятнадцать лет, и революция, к которой призывал неизвестный автор незамеченной книги, стала действительностью: она разразилась в 1789 году во Франции с силой и размахом еще небывалыми дотоле в истории.
В 1793 году вышло в свет второе, на этот раз французское издание этой книги. На ее титульном листе было полностью обозначено имя автора. Это было одно из самых славных и грозных имен революции: Жан Поль Марат, Друг народа.

ГЛАВА ВТОРАЯ СЕМЬЯ

Жан Поль Марат родился 24 мая 1743 года в маленьком городке Будри, близ Невшателя, в северо-западной части Швейцарии. Времена легендарного Вильгельма Телля, героической борьбы швейцарских крестьян против австрийских феодалов-угнетателей остались далеко позади. Швейцария второй половины восемнадцатого века была патриархальной патрицианской республикой. Время здесь шло, казалось, медленнее, чем в других странах Западной Европы. Но если Швейцария была провинцией Европы, то Невшатель был швейцарской провинцией, и для жителей маленького Невшателя Женева представлялась блистательным городом. Расположенный у подножия Юрских гор, на берегу небольшого Невшательского озера, отделяющего Швейцарскую Юру от предгорий Альп, Невшатель лежал в стороне от главных транзитных путей, проходивших через Швейцарию с севера Европы — на юг, в Италию, и от основных дорог, соединявших швейцарские кантоны. Даже в нашем двадцатом веке население Невшателя немногим превышает двадцать тысяч человек и во много раз меньше населения других швейцарских городов: Цюриха, Женевы, Лозанны, Берна… Двести лет тому назад это различие было еще существеннее. Городок Будри был, в свою очередь, провинцией Невшателя, Этот городок был так мал, что его не заносили на географические карты, выпущенные не в самой Швейцарии. В городке было несколько десятков домов; в одном из них — в каменном двухэтажном доме под черепичной крышей — и родился будущий великий революционный деятель. О родителях Марата сохранились скудные сведения. Отец его, носивший фамилию Мара, был уроженцем города Кальяри, в Сардинии, и прибыл в Швейцарию незадолго до рождения своего сына. По профессии он был чертежником и рисовальщиком, позднее преподавал иностранные языки; имеются Сведения, что он занимался также медициной. Своим трудом он обеспечивал скромный достаток большой семьи. Жан Поль Мара-старший прожил восемьдесят лет. Его первенец Жан Поль родился, когда ему было сорок лет. До 1754 года Мара-старший жил в Будри, затем переехал в Невшатель, а после 1768 года — в Женеву. Но к этому времени сын уже расстался с родителями. О своем отце Жан Поль Марат писал мало, но в тоне глубокого уважения. Он сообщал с ощутимым чувством благодарности, что получил «в родительском доме весьма примерное воспитание». Отец хотел сделать из него ученого. Это оказало немалое влияние на умственное формирование будущего знаменитого трибуна. Значительно чаще и теплее вспоминал Жан Поль Марат о своей матери. Луиза Каброль была по рождению чистой француженкой. До замужества она жила со своими родителями в Женеве, куда они переехали в 1723 году. Жан Поль Марат признавал, что именно мать оказала решающее влияние на развитие его характера и его этических идеалов. «Эта почтенная женщина, чью потерю я оплакиваю до сих пор, — писал он в своей автобиографии, опубликованной им незадолго до смерти, — воспитала меня в первые мои годы, и она способствовала расцвету чувств филантропии в моем сердце, любви к справедливости и славе… Моими руками она оказывала помощь нищим, и то, как она с ними говорила, внушало мне чувства, которыми она была охвачена». Глубокую любовь и уважение к матери Марат сохранил на всю жизнь. Позднее в своих публицистических и социологических работах он часто прибегает к метафорическому сравнению отечества с матерью. Вопреки прямому смысловому значению самого слова «отечество» (и по-французски имеющего совершенно то же смысловое содержание — «patrie») для Марата отечество всегда ассоциируется не с образом отца, а с образом матери. Семья Жана Мара была большой. Кроме старшего сына Жана Поля, было еще пятеро детей: две его сестры — Мари и Альбертина и три брата: Анри, Давид и Жан Пьер. Жан Поль был связан тесной дружбой лишь со своей младшей сестрой, Альбертиной. Хотя их разделяло большое различие в возрасте — Альбертина была младше на семнадцать лет, они очень сблизились, когда он целиком посвятил себя революционной борьбе. Полностью придерживаясь взглядов своего старшего брата и высоко ценя его жизненный подвиг, Альбертина стала в эти бурные годы ближайшей помощницей и другом Марата. Альбертина намного пережила своего старшего брата: она умерла в 1841 году. Альбертиьа сохранила оставшиеся после смерти брата бумаги — его рукописи, переписку, заметки. В годы термидорианской контрреволюции, реакции Директории, наполеоновского режима, реставрации Бурбонов хранить бумаги политического деятеля, объявленного чуть ли не врагом всего человеческого рода, было делом трудным и крайне рискованным. Альбертина с честью преодолела все преграды и обошла все подстерегавшие ее капканы; она сумела уберечь от злых глаз оставшееся у нее рукописное наследие Друга народа, и благодаря ее заботам последующие поколения ознакомились даже с теми сочинениями Марата, которые при жизни его не были опубликованы. Со второй своей сестрой, Мари, которая была моложе его на три года, Марат поддерживал ровные родственные отношения, но не более того. Таковы же были и его отношения с братьями. У себя на родине, в Швейцарии, молодой Давид Мара принадлежал к числу передовых людей своего времени. Двадцати пяти лет он совершил паломничество в Френе, к Вольтеру, вел дружбу с людьми, слывшими самыми горячими головами в Женеве, в 1782 году участвовал в восстании женевских демократов, писал памфлеты радикального содержания. То ли потому, что движение женевских демократов потерпело поражение, то ли прельщенный надеждой найти страну обетованную в загадочной и далекой России, то ли еще по каким причинам — гадать трудно, но в 1784 году двадцативосьмилетний Давид Мара, уже приобретший некоторую известность в Женеве, неожиданно уехал в- Россию гувернером в семью русского барина Василия Петровича Салтыкова. Прошло двадцать семь лет — и каких лет! — перевернувших всю Европу и мир! И вот в 1811 году бывший женевский радикал, стремившийся все ниспровергнуть, на торжественной церемонии открытия лицея в Царском Селе, освященной личным присутствием императора Александра I, предстал в образе располневшего пожилого господина небольшого роста, прикрывавшего лысину старомодным напудренным париком, чиновника седьмого класса и профессора французской словесности. Его не звали больше Давид Мара. Он именовался теперь Давыдом Ивановичем Будри. Это изменение имени и фамилии объяснялось не только тем, что бывший гражданин города Женевы с 1806 года стал официально подданным русского императора. Не было ничего удивительного в том, что Давид, сын Жана, стал в России Давыдом Ивановичем. Но название маленького, почти неведомого в России швейцарского городка, заменившее подлинную фамилию бывшего швейцарского радикала, скрывало за собой весьма многое. Поступив на цареву службу и не без успеха продвигаясь по служебной лестнице, обретя ряд орденских лент и чин коллежского советника, бывший гражданин Швейцарской республики ни на минуту не забывал, что он остается братом столь знаменитого человека, что самое имя его нельзя было произносить, — настолько оно казалось страшным и даже кощунственным. Сейчас трудно установить, когда именно Давид Мара решился отречься от имени своего отца и брата; имеются сведения, что это произошло в 1793 году; по свидетельству Пушкина, «Екатерина II переменила ему фамилию по просьбе его…». Очевидно, неудобства, проистекающие оттого, что он носил ту же фамилию, что и ставший знаменитым Жан Поль Марат, он в возрастающей степени ощущал по мере того, как росла слава Друга народа. Но, отказавшись от своей кровной, унаследованной от предков фамилии и решившись замаскировать ее таким именем, которое бы никак, фонетически во всяком случае, не напоминало страшного имени Марата, бывший радикал, может быть, не без тайного озорства и злорадства выбрал название того безвестного городка, в котором родился его страшивший всех брат, — Будри. Кавалер де Будри, затем Давыд Иванович Будри, профессор патронируемого самим императором Александром Царскосельского лицея, мог спокойно продолжать свое неспешное восхождение по лестнице служебной иерархии, не опасаясь, что кто-либо узнает в нем брата «цареубийцы» и самого ненавистного монархам и господам вождя «страшной революции» восемнадцатого столетия. Но один из лицеистов, учеников Давыда Ивановича Будри, относившийся именно к этому своему учителю с искренними симпатиями и уважением, Александр Пушкин, позднее записал: «Он очень уважал память своего брата». Действительно, этот внешне несколько мешковатый и старомодный профессор словесности, умевший и начальству угодить и написать специальное посвящение царю Александру на изданной им французской грамматике, этот не лишенный ловкости придворный был вовсе не прост и при более близком знакомстве оказывался совсем не тем, чем он представлялся с первого взгляда. Былой демократ и радикал, оказавшись в необходимости приспосабливаться к окружавшему его миру самодержавно-крепостнической России, в тайниках своей души сохранял теплую память о бурных днях своей мятежной молодости, о родственных связях, которые ему — наедине с самим собой — отнюдь не казались столь крамольными. Обо всем этом, оставшемся для него самым дорогим на всю жизнь, нельзя было вслух говорить, нельзя было даже вспоминать. Коллежский советник Давыд Иванович Будри, никогда бы не решился назвать себя громко тем именем, которое звучало в тиши для него так гордо — Давид Марат. Впрочем, от некоторых своих учеников, пользующихся полным его доверием — в их числе был и юный Пушкин, — он не считал нужным скрывать ни своих былых связей со знаменитым братом, ни своего образа мыслей» Во всяком случае, Пушкин в своей небольшой заметке о Будри упомянул и об его рассказах о брате и отметил не только его «наружность, напоминавшую якобинца», но и «демократические мысли» профессора французской словесности. Но об этом Давыд Иванович Будри мог говорить лишь с избранными, и очень редко. Биографы Пушкина, исследователи лицейского периода его жизни отмечают, что с наибольшим интересом и вниманием он слушал лишь лекции Будри и другого «словесника» — Кошанского. К чести Давида Мара-Будри следует отнести и то, что он, отличаясь большой строгостью в оценке знаний и способностей лицеистов, сумел понять и высоко оценить дарование будущего великого русского поэта. Уже подводя итоги за первый год лицейского обучения, Будри дал такое заключение о Пушкине: «Считается между первыми во французском классе; весьма прилежен; одарен понятливостью и проницанием». Но, видимо, отношения между профессором французской словесности и какой-то частью его учеников (надо полагать, лучших, тех, кого он ценил и кому доверял), не ограничивались только узкоакадемической сферой.
* * *
Не сохранилось никаких проверенных фактов или достоверных сведений, позволяющих составить мнение о других членах семьи — детях Жана и Луизы Мара. Все, что известно о Мари, об Анри, о Жане Пьере, — это даты их рождения и смерти (об Анри даже нет точных данных о времени его смерти). Жан Пьер, по утверждениям Шевремона — самого добросовестного и осведомленного биографа Ж. П. Марата в девятнадцатом веке, стал впоследствии владельцем предприятия, производящего часовые стрелки и компасы. Этого слишком мало, чтобы составить хоть приблизительное представление о человеке. Само отсутствие сведений о трех младших членах семьи Жана Мара является в известной мере их характеристикой. Видимо, и Мари, и Анри, и Жан Пьер были рядовыми, ничем не примечательными гражданами Швейцарской республики. Но как ни велики были различия в жизненной судьбе Жана Поля, Альбертины и Давида Мара, все же то общее, что в разной мере сказалось в биографии каждого из них, в какой-то мере характеризовало и их родителей и всю семью в целом. Скупые слова автобиографии Жана Поля Марата: «Благодаря счастью, далеко не всеобщему, я имел возможность получить чрезвычайно примерное воспитание в родительском доме», короткое замечание его о том, что мать развивала в нем чувства любви к справедливости, — эти слова в действительности наполнены глубоким содержанием. Даже то сравнительно немногое, что мы знаем о семье Жана Мара, позволяет заключить, что это была добрая, хорошая семья интеллигентных тружеников, воодушевленная передовыми для своего времени идеями и убеждениями, ласковым словом («Я никогда не подвергался наказаниям», — писал Жан Поль Марат) старавшаяся внушить их своим детям. Такова была ближайшая — семейная — среда, которая окружала маленького Жана Поля, когда он начинал свои первые шаги в жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА

Детский мир Жана Поля Мара до десятилетнего возраста был ограничен маленьким городком Будри. В 1754 году семья переехала в Невшатель, и горизонт Жана Поля сразу раздвинулся. После игрушечного Будри Невшатель показался большим и прекрасным городом. Длинные улицы, широкие площади, казавшиеся очень высокими трех-четырехэтажные дома, здание ратуши, исполненное строгости и величия, бескрайные берега озера, омывающего город, белые, вздутые ветром паруса на подвижной ряби воды стального цвета… А что было по ту сторону озера, там, где смутно обозначалась гряда уходящих в небо Альпийских гор? Но горизонт маленького Жана Поля становился все шире не только потому, что он увидел неведомый ему раньше и казавшийся огромным незнакомый мир. В раннем детстве мальчик был физически слаб. «Я не знал ни буйства и безрассудности, ни игр детства», — писал он позднее. Он легко и прилежно занимался, благо к этому его поощряли родители, много читал, был склонен к наблюдениям и размышлениям. Под влиянием матери в сознании мальчика рано определились понятия добра и зла, хорошего и плохого. Многим позже Марат вспоминал о своем детстве: «Я имел уже нравственное чувство, развитое к восьми годам; в этом возрасте я не мог выносить злых намерений, направленных против ближних; возможная жестокость возбуждала мое негодование, и всегда зрелище несправедливости вызывало усиленное биение моего сердца, воспринималось как чувство личной обиды». Жан Поль в отрочестве и юности много читал. Он унаследовал от отца интерес и способности к иностранным языкам, изучил главные европейские языки — французский, английский, немецкий, итальянский, позднее испанский, голландский, а также латынь и греческий. Больше всего он увлекался историей. По обычаям тех лет наибольшее внимание уделялось античной истории. Жан Поль Мара изучил ее в совершенстве. В его сочинениях, написанных в молодые и зрелые годы, обнаруживается превосходное знание истории, постоянно встречаются примеры, сравнения, метафоры, почерпнутые из античной истории. Он многократно ссылается на классические труды Корнелия Тацита, Юлия Цезаря, Тита Ливия, Светония, Плутарха, Дионисия Галикарнасского, Диона Кассия и других античных авторов. Основательное знание этих трудов, свободная ориентация в их сложных текстах, которая чувствуется в работах Марата, свидетельствует — о том, что эти сочинения были не просто прочитаны, а тщательно проштудированы, и, по-видимому, не раз. Чтение исторических сочинений, повествований о великих людях прошлого — Перикле, Александре Македонском, Юлии Цезаре, о героических подвигах, ожесточенных сражениях, преодоленных опасностях, о триумфе победителей, о лаврах славы оказывали огромное впечатление на мальчика. Мечты о славе кружили ему голову с мальчишеского возраста… «…C детских лет я был объят любовью к славе, страстью, которая изменяла часто свой объект в разные периоды моей жизни, но которая меня не покидала ни на мгновение, — признавался Марат. — В пять лет я хотел быть школьным учителем, в пятнадцать — профессором, в восемнадцать — писателем, в двадцать — гением-изобретателем, так же как ныне я добиваюсь славы принести себя в жертву отечеству». В этом рассказе обращает на себя внимание полное отсутствие мечтаний о воинской славе; юный мечтатель грезил о подвигах лишь на гражданском поприще. Марат писал приведенные выше строки в 1793 году, когда он уже был одним из признанных вождей якобинцев и достиг высшей славы — любви и уважения народа. Может быть, это наложило отпечаток и на его воспоминания? Трудно предположить, чтобы мальчик, а затем юноша, читавший «Историю греко-персидских войн» Геродота, «12 Цезарей» Гая Транквилла Светония, «Записки о гальской войне» Юлия Цезаря, не мечтал о подвигах на поле сражений, о воинской доблести, о триумфах победоносного полководца. Но если в отроческие годы Жан Поль отдал дань и этим столь свойственным мальчикам мечтаниям, то это не могло длиться долго, и его мечты должны были устремиться по иной стезе. Молодые люди, созревшие в середине восемнадцатого столетия, уже не стремились подражать Александру Македонскому или Ричарду Львиное Сердце. Вольтер, Монтескье, Дидро и в особенности властитель дум молодого поколения Жан Жак Руссо увлекали их мечты по совсем иному пути. Пришло время преклонения перед всепобеждающей силой разума, насмешек над церковными догмами и феодальной моралью, стремлений к нравственному совершенствованию, простоте, близости к природе. Юный Жан Поль Мара должен был испытать могучее воздействие этих новых веяний — освободительных идей восемнадцатого столетия. Он ощутил эти новые влияния тем сильнее, что и сама его жизнь круто изменилась. Детство и отрочество Жана Поля в родительском доме прошли безоблачно. Он жил в маленьком замкнутом мире, в достатке, окруженный любовью и заботой своих родителей, особенно матери; он пользовался свободой, которой, однако, не злоупотреблял, так как все досуги посвящал чтению, обдумыванию прочитанного. «С детских лет я усвоил привычку к жизни любознательной и прилежной… самые сладкие минуты я находил в размышлении», — вспоминал он потом. Но время шло… Мальчик превратился в юношу, он вырос, окреп, стал физически сильным, к шестнадцати годам он почувствовал себя настолько взрослым, чтобы расстаться с родительским домом, выйти из тихой гавани и впервые пуститься одному в половодье жизни. Автор первой научной — и все остающейся лучшей, несмотря на почти столетнюю давность, — биографии Марата Альфред Бужар полагал, что непосредственным побудительным толчком к уходу Жана Поля из родной семьи была смерть его любимой матери. После того как ее не стало, родительский дом не мог уже его удержать; ему не терпелось уйти в огромный и неведомый мир, скрытый за окружающими Невшатель горами. И вот шестнадцатилетний Жан Поль Мара во Франции, в Бордо. В течение двух лет он служит воспитателем детей в семье богатого бордоского судовладельца и работорговца Нерака. Бордо — древняя столица средневековой провинции Гиэнь, центр бордоского генеральства Бордолэ, в середине семнадцатого столетия важный очаг движения Фронды, во второй половине восемнадцатого века стал одним из экономически развитых и передовых городов французского королевства. Расположенный на берегу Жиронды, у самого входа в Бискайский залив — ворота Атлантического океана, Бордо превратился в крупнейший центр большой заморской торговли и промышленности, главным образом судостроения. Здесь, в устье Гаронны, высились громадные верфи; здесь от зари до позднего вечера не затихал шум; тысячи рабочих трудились, сооружая самые совершенные для того времени корабли. Со стапелей бордоских судоверфей в море уходили тысячи судов разных моделей, от небольших увертливых шхун и легких бригов до огромных многомачтовых кораблей, безбоязненно пересекавших под парусами бескрайные бурные воды Атлантического океана. Мануфактуристы-судостроители, арматоры-судовладельцы, крупные торговцы-оптовики ворочали огромными по тем временам капиталами. Состояние одного из бордоских негоциантов, Боннафе, бывшего клерка, сумевшего ловкими, рискованными операциями превратиться в крупнейшего судовладельца, исчислялось миллионами. И он был вовсе не единственным миллионером в этом городе. Бордо в восемнадцатом веке стал цитаделью крупной французской провинциальной буржуазии. Одним из важнейших источников наживы для купцов Бордо была торговля с французскими колониями. Антильские острова, Сан-Доминго, Мартиника, Гваделупа — эти заморские земли французской короны стараниями французских коммерсантов, и в первую очередь бордоских купцов и судовладельцев, стали островами сокровищ, сказочного обогащения. Колонии поставляли не только сахар, кофе, табак, пряности и другие колониальные продукты, вывозимые за бесценок из этих благодатных краев, но прежде всего живой товар — рабов, чернокожих, торговля которыми приносила баснословные барыши. Золото притекало непрерывным потоком к негоциантам Бордо; казалось, оно само прилипало к их пальцам. Удачливые стяжатели, счастливые охотники за добычей, люди без роду и племени, ставшие за короткий срок обладателями огромных богатств, они хотели, чтобы город, в котором они достигли такого могущества, рос и богател вместе с ними. Во второй половине восемнадцатого века население Бордо превысило восемьдесят тысяч человек. Это был один из крупнейших городов Франции. По числу жителей он уступал только Парижу, Лиону и соперничал с Марселем. И вот уроженец крохотного Будри, обитатель тихого, невозмутимого в своем спокойствии и неподвижности Невшателя оказался в этом кипящем жизнью приморском торговом городе. После ровной глади маленького Невшательского озера бурные волны Бискайи и Атлантики! После рыбацких лодок и скромных парусников огромные океанские корабли! После мягкой тишины безлюдных невшательских улиц шум и грохот портового города, разноязыкий говор многоголосой городской толпы! Этот город должен был показаться шестнадцатилетнему юноше из Невшателя, впервые ступившему на его мостовые» страшным Вавилоном! То была первая школа жизни — не литературной, не книжной, не разграфленной на параграфы уроков, а живой — грубой и реальной. Юный мечтатель с берегов Невшательского озера, грезивший о славе, должен был пройти это первое испытание. Он его выдержал. Двухлетнее пребывание в доме одного из крупнейших негоциантов Бордо дало возможность юному Мара хорошо ознакомиться с закулисной жизнью французской крупной торгово-промышленной буржуазии. Эти личные непосредственные наблюдения юности многому научили Мара. Он впервые увидел совсем близко, на кратчайшем расстоянии, рядом с собой, свирепую алчность, неутолимую жажду обогащения, беспощадную жестокость в достижении цели, волчьи законы конкурентной борьбы. Все увиденное и пережитое в Бордо запомнилось ему на всю жизнь. Не сохранилось ни записей, ни дневников, ни даже писем юного Мара, относящихся ко времени его двухлетнего пребывания в Бордо. Но пройдет еще тридцать лет, и в последние годы его жизни, в годы революции, в сложных перипетиях напряженной политической борьбы — судьба сведет его на поле брани с противником — самым ожесточенным, самым непримиримым противником, который вошел в историю под именем Жиронды — морских ворот города Бордо. Не довольствуясь жадными наблюдениями над окружающим, юный Мара отдавал свои досуги (по-видимому, довольно большие) изучению медицины, естественных наук, а также продолжению занятий по истории, философии, праву, начатых еще в Швейцарии. Передовые мыслящие люди во Франции восемнадцатого столетия стремились к энциклопедическим знаниям. Это был век энциклопедизма. Его можно так назвать не только потому, что начиная с 1751 года стали выходить тома знаменитой «Энциклопедии», оказавшей огромное влияние на ход идейной борьбы своего времени Само развитие общественной мысли во Франции, размах и широта идеологических сражений, развертывавшихся в десятилетия, предшествовавшие революции, требовали от их участников чрезвычайно высокой подготовки в самых разных отраслях знания, своего рода универсализма. Наука была тогда еще на той стадии развития, когда передовому человеку был доступен весь ее комплекс. Писатели, вошедшие в историю общественной мысли под именем «энциклопедистов» — Дидро, Д’Аламбер, Гельвеций и многие другие, — заслужили его не только большой ролью, сыгранной ими в издании шедшей впереди века «.Энциклопедии», но также и тем, что они были «энциклопедистами» на деле, обладали в действительности самыми разносторонними и, надо добавить, самыми передовыми для своего времени знаниями. Идейные представители восходящей революционной буржуазии или народных масс, готовящиеся к решительному наступлению на самые основы феодально-абсолютистского строя, подвергали ожесточенной идеологической бомбардировке всю систему феодальных отношений, все его учреждения и институты, его мораль, его догмы и каноны. Мыслителем огромных энциклопедических знаний и самых разносторонних дарований был Вольтер, выступавший с равным блеском и как художник слова, и как философ, и как физик, и как историк, и как публицист и политический деятель. В значительной мере то же может быть сказано и о гениальном самоучке, поднявшемся над уровнем знаний своего века, — Жане Жаке Руссо. Блестяще, энциклопедически образованными людьми были ученые столь разных узких специальностей, как Монтескье и Бюффон, Лавуазье и Гольбах, Лаплас и Кенэ. Сколько еще других прославленных имен можно было бы назвать в этом ряду! Появление «Энциклопедии», или «Толкового словаря наук, искусств и ремесел», как он назывался, во второй половине восемнадцатого века было далеко не случайным: она отвечала назревшей потребности. Знаменательно, что до этого во Франции имел большое распространение и был переведен на французский язык английский «Универсальный словарь» Ефраима Чемберса, вышедший впервые в Лондоне в 1728 году в двух томах, а в 1746 году уже выдержавший пятое издание, несмотря на то, что он вырос до девяти томов. Но «Универсальный словарь» Чемберса, уделявший преимущественное внимание точным наукам и технике производства, не отвечал требованиям, выдвинутым самим ходом жизни перед передовой общественной мыслью во Франции. Острота классовых противоречий во Франции, отражавшая ожесточенность идейной борьбы, делала необходимой критическую переоценку всех ценностей, критический пересмотр всех важнейших вопросов. Мало того, надо было не только подвергнуть критической оценке идеи, мнения и догмы феодального общества, но надо было противопоставить свод положительных знаний, освещенных с точки зрения новых, самых передовых для того времени взглядов. Эту же потребность разобраться во всех спорных вопросах и овладеть положительными знаниями по возможности во всех областях, во всех сферах науки ощущал, как и многие иные его современники, молодой Жан Поль Мара. Юный Мара, с детских лет испытавший, как он сам о том позднее поведал, наслаждение от чтения, от самого процесса раздумий над прочитанным, к тому же снедаемый жаждой славы, мечтами о лаврах великого ученого или мыслителя, поборника справедливости, защитника слабых и угнетенных, естественно, стремился проникнуть во все тайны науки, разобраться во всех вопросах, овладеть всеми отраслями знания. Скромный воспитатель детей бордоского негоцианта с жадностью читал все и обо всем, штудировал, изучал, стремясь всемерно расширить свои знания. Но, конечно, не Бордо — город арматоров и работорговцев — был центром умственной жизни Франции. С давних пор, со времени своих первых детских мечтаний, в отцовском доме в Будри Жан Поль Мара Грезил о городе, излучавшем свою славу на весь мир, — о Париже.
* * *
В 1762 году девятнадцатилетний Жан Поль Мара переезжает в Париж. Без имени, без денег, без связей, никому не ведомый молодой человек из Невшателя отправляется завоевывать великую столицу. В этом не было ничего необычного. И до и позже Мара тысячи таких же безвестных молодых людей, не имевших за плечами ничего, кроме восемнадцати лет и честолюбивых мечтаний, так же начинали свой путь. Мара знал, что путь к подвигам и славе лежит через Париж. Юному и бедному провинциалу, увлеченному идеями великих мыслителей своего века, Париж представлялся светочем разума, центром науки, искусства, культуры, средоточием блестящих умов и талантов. В действительности это было так и не так. В самом деле, никогда еще до этой поры — до второй воловины восемнадцатого века — Франция не знала стольких ярких талантов. Почти одновременно над французской землей поднялось блистательное созвездие дарований первой величины. Философы-материалисты, экономисты-физиократы, естествоиспытатели, физики, химики, математики, драматурги и поэты, художники и композиторы, публицисты и ораторы — народные трибуны — представляли разные оттенки французского Просвещения восемнадцатого века. В 1748 году вышел из печати главный труд просветителя старшего поколения Шарля Луи де Монтескье «О духе законов», в первые же два года после опубликования переизданный двадцать два раза и остававшийся одним из самых популярных произведений просветительской мысли в последующие десятилетия. В 1753–1758 годах печатался «Опыт о нравах и духе народов» другого патриарха французского Просвещения — (Вольтера, уже стяжавшего себе мировую славу лучшего поэта, драматурга, самого остроумного и самого просвещенного мыслителя Франции. С 1749 года начала выходить знаменитая «Всеобщая и частная естественная история» Жоржа Луи Бюффона. Этот монументальный труд выдающегося естествоиспытателя был издан в тридцати шести томах, и автор так и не успел дописать последнюю часть — историю Земли. Но уже до 1767 года он сумел создать и опубликовать первые пятнадцать томов своего труда, в которых была изложена его самая важная часть — «Теория Земли» и история четвероногих. В 1748 году была издана оказавшая большое влияние на современников книга философа и врача Жюльена Ламетри «Человек-машина», так ярко отразившая и все сильные стороны французского материализма восемнадцатого века и свойственную ему механистичность. С 1751 года том за томом, преодолевая все препятствия — официальное запрещение властей, осуждение римского папы и французской католической церкви, осмеяние подкупленными правительством продажными авторами, — выходила ставшая знаменитой «Энциклопедия». По самому своему характеру это издание было полно глубокого значения. Не за горами было еще время, когда писатели-просветители выступали одиночками, не встречая ни гласной поддержки, ни открытых единомышленников. Бесстрашный революционный мыслитель, безбожник и материалист начала восемнадцатого столетия Жан Мелье до самой своей смерти носил личину смиренного священника и так и не посмел высказать вслух свои сокровенные мысли. Монтескье лицемерил. Вольтер, дважды познавший страшные казематы Бастилии, предпочитал свои наиболее рискованные мысли издавать анонимно или под вымышленным именем. В начале своего пути и Монтескье и Вольтер чувствовали себя еще очень одиноко. «Энциклопедия» была примечательна прежде всего тем, что она объединяла под своим знаменем целую армию «философов», как называли в ту пору всех передовых мыслителей века. Вольтер, Дидро, Д’Аламбер, Жан Жак Руссо, Бюффон, Гельвеций, Гольбах, Кондильяк, Рейналь, Мабли, Кондорсе, Кенэ, Тюрго, Дюпон де Немур и другие известные имена — между этими людьми были существенные различия, они во многом расходились между собою, но их объединяло то общее, что все они отстаивали новое, представляли разные оттенки мысли молодых революционных сил, смело атаковавших старый феодальный строй, его учреждения и его идеологию. Впервые не только Франция, но весь образованный мир мог убедиться, как могущественны и неотразимы силы идейных представителей революционной буржуазии и народных масс, выступавших широким, сплоченным фронтом против общего врага Это наступление передовой общественной мысли на старый мир и его институты продолжалось с возрастающей мощью. В 1758 году были опубликованы книга Гельвеция «О духе» и «Экономическая таблица» Кенэ. В 1762 году был издан «Племянник Рамо» Дени Дидро. В том же 1762 году вышли в свет «Общественный договор» и «Эмиль» Жана Жака Руссо — книги, потрясшие современников. Французское Просвещение достигло вершины своей мощи и влияния. Париж был его умственным центром, в глазах всех современников он оставался духовной столицей всего просвещенного мира. Жан Поль Мара, пока еще безвестный провинциальный искатель славы, приехавший в великий город, должен-былбыть потрясен всем увиденным. Париж был средоточием французской культуры. В его литературных салонах встречались знаменитости века. В подвалах книжных лавок и даже на книжных развалах на берегу Сены лежали признанные еретическими и приговоренные к сожжению книги. Театры были переполнены. Во Французской комедии гремели овации госпоже Клерон — актрисе, пленившей парижан блеском своего таланта в «Танкреде» Вольтера. В музыкальных кругах столицы, во Французской опере со времени постановки в 1752 году оперы-буфф Перголези и выхода в свет в 1753 году «Писем о французской музыке» Жана Жака Руссо не прекращались ожесточенные споры. В живописи Шарден, Жан Батист Грез, в области скульптуры Пигалль, Гудон пытались сказать новое слово, вызывавшее яростные возражения поборников старой школы. Казалось, никогда еще духовная жизнь Парижа не была столь полнокровной, столь богатой. Все это было так. Но в то же время молодой Мара мог легко заметить и иное. Он приехал в Париж в 1762 году, в год завершения разорительной, бесславной для французского оружия, более того, унизительной для Франции Семилетней войны. Когда в 1763 году в Губертсбурге и Версале были подписаны мирные договоры, подытожившие результаты Семилетней войны, для всех стало очевидным, что для Франции война завершилась поражением Все завоеванное в век Людовика XIV было утрачено. Франция должна была отдать Англии свои колониальные владения в Индии, в Америке — Канаду. Она понесла не только территориальные, материальные и людские потери; она потеряла большее — веками создаваемый престиж великой державы, претендующей на первенство. Ради чего велась эта война? В чьих интересах? Кому она была выгодна? Кому на пользу шло поддержание союза и дружбы со старыми противниками Франции — Австрийской империей Габсбургов и Испанией? Современники не находили ответа на эти волновавшие всех вопросы. Война была крайне непопулярна. Страна была истощена, крестьянство голодало, во всех делах был застой. Правительство, испытывавшее вечный недостаток в средствах вследствие прогрессировавших рас ходов, знало лишь один путь — увеличение налогов «Наш век — бедный век, — писал Вольтер в сентябре 1758 года. — Франция, конечно, будет существовать, но ее слава, ее благоденствие, ее былое превосходство… что станется со всем этим?» Король Людовик XV, тот самый, которому приписывали знаменитую фразу: «Après nous — le deluge!» — «После нас — хоть потоп!», нимало не был обеспокоен ходом событий. Пресыщенный к пятидесяти годам всеми благами жизни, равнодушный и безразличный ко всему, в особенности к государственным вопросам, волновавшим страну, он подчинялся лишь капризам мадам де Помпадур, год от году приобретавшей все большее влияние на короля, а следовательно, и на всю политическую жизнь королевства Королевский двор брал пример с монарха. По справедливому замечанию Д’Аржансона, одного из самых умных наблюдателей эпохи, при дворе каждый думал только о себе и грабил, как грабят в городе, взятом штурмом. Недовольство было всеобщим. Разоренное, измученное непосильной феодальной эксплуатацией крестьянство выражало его восстаниями. В городах народ глухо волновался. В 1757 году в Париже, в Люксембургском саду, в Лувре, в здании Французской комедии разбрасывались афиши, содержавшие угрозы вооруженного выступления. В буржуазных кругах открыто высказывали недовольство правительством. Даже люди, близкие ко двору, не скрывали своих опасений. «В сущности, нам недостает правительства», — меланхолично констатировал в 1758 году аббат де Берни, государственный секретарь иностранных дел. Аббату де Берни принадлежала также честь первым произнести ставшие столь популярными слова об упадке, о декадансе. «Мы приходим к последнему периоду упадка», — писал де Берни в июне 1758 года. По-французски «упадок» — «décadance». С этого времени это слово — декаданс — стало одним из самых распространенных в словаре французского языка. Все заговорили об упадке; во всем видели декаданс, и прежде всего в политике правительства. Марат, приехавший в столицу королевства из делового, трезвенного, озабоченного поисками барышей Бордо, должен был быть ошеломлен этой разительной переменой. Все сетуют. Все возмущены. Все осуждают. Это была совершенно новая и резко отличная от прежней духовная атмосфера, с которой впервые соприкоснулся молодой уроженец кантона Невшатель. В этом огромном городе, казавшемся сказочно, неправдоподобно большим и людным, где рядом с блеском и великолепием соседствовала нищета, где наряду с прославлением монарха и угодливыми речами льстецов открыто звучали насмешка, слова осуждения и все громче раздавались голоса, возвещавшие начало всеобщего упадка, юный Жан Поль Мара должен был многому переучиваться. Впрочем, он должен был вскоре же убедиться, что не следует переоценивать значение слов осуждения и что режим, над которым осмеливаются исподтишка посмеиваться, еще достаточно силен. Людовика XV, сохранявшего все то же презрительное равнодушие к заботам государства или волнениям общества, весьма мало трогали неудачи французского оружия, поражения французской дипломатии, бедствия его подданных. Тем не менее при всей слабости и бездарности правительства, при постоянных, самых неожиданных колебаниях его политики в разные стороны в некоторых коренных вопросах эта политика оставалась неизменной. Классовый инстинкт феодалов, стремление сохранить свое господство подсказывали правительству, из каких бы бездарностей оно ни состояло, необходимость держать народ в узде, в повиновении и подавлять, пресекать всякие крамольные вольнодумные идеи, которые распространяли «господа философы». Хотя в глазах Европы Париж на протяжении всего восемнадцатого века неизменно оставался «светочем разума», положение людей, поддерживавших своими трудами этот «светоч», было далеко не завидным. Еще в апреле 1757 года король обнародовал декларацию, первые же статьи которой красноречиво определяли отношение власти к «господам философам». «Все те, которые будут изобличены либо в составлении, либо в поручении составить и напечатать сочинения, имеющие в виду нападение на религию, покушение на нашу власть или стремление нарушить порядок и спокойствие наших стран, будут наказываться смертной казнью». Та же кара предназначалась наборщикам, владельцам типографий, книгопродавцам, разносчикам и вообще воем лицам, распространяющим эти опасные сочинения. У правительства не хватило ни решительности, ни твердости, чтобы привести эти угрозы в исполнение. Но, не набравшись смелости предать казни некоронованного короля духовного царства — Вольтера (как его величали почитатели), оно все же решилось публично — на Гревской площади в Париже — рукой палача подвергнуть сожжению «Орлеанскую девственницу» и многие другие произведения прославленного французского писателя. Запрещению властей и осуждению парижского архиепископа подверглись сочинения Гельвеция «Об уме», «Эмиль» Руссо, книги Вольтера, Дидро, Бюффона, «Энциклопедия» и многие другие произведения просветительской мысли. Чтобы ограничить зло, исходившее от опасных книг, правительство значительно увеличило количество королевских цензоров. С 1742 по 1762 год число этих «чиновников таможни мыслей», как называл их Вольтер, возросло с семидесяти восьми до ста двадцати одного. Философы были объявлены «общественными отравителями», виновниками во всех бедствиях и неудачах Франции. «Дело дошло до того, — жаловался Гримм, — что сейчас нет ни одного человека, занимающего казенное место, который не смотрел бы на успехи философии, как на источник всех наших бед!» «Властители дум» Европы чувствовали себя в родной стране в состоянии постоянной опасности. Вольтер, чтобы не испытывать судьбу, предпочел удалиться в приобретенное им поместье Ферне по ту сторону границы, где вне досягаемости французских властей он ощущал себя гораздо спокойнее. Впрочем, даже находясь в Ферне, он предпочитал выпускать свои произведения под чужим именем. «Старайтесь принести пользу человеческому роду, не причиняя себе ни малейшего вреда», — поучал он Гельвеция. Бездомный, скитавшийся всю жизнь Жан Жак Руссо, после того как его «Эмиль» был публично сожжен по постановлению парламента, стал издавать свои сочинения в Голландии или в Швейцарии, во всяком случае, за пределами Франции. Правда, сожжение книги и осуждение ее парижским архиепископом лишь увеличили славу писателя и известность запрещенного сочинения. После того как «Эмиль» был осужден и запрещен, в Париже, по свидетельству одного из современников, его прочли «решительно все». До конца восемнадцатого столетия «Эмиль» был переиздан шестьдесят раз. Но бедному автору знаменитой книги успех этот приносил лишь горести. Он должен был спасаться от преследования бегством в Женеву, но и там власти постановили: книгу сжечь, а Руссо арестовать. Руссо бежал из Женевы в Берн, но сенат Берна пошел по стопам Женевы. Автор самого прославившегося произведения должен был снова бежать и долго еще скитаться, скрываясь на чужбине. Гельвеций после публичного сожжения палачом его главного труда «Об уме» стал издавать все свои следующие сочинения за границей. Так же должны были поступить и другие философы-материалисты: Гольбах и Жан Батист Робине. Робине, работая над своим обширным трудом «О природе», выходившим в течение ряда лет, с 1761 по 1768 год, счел вообще безопаснее с самого начала уехать за границу и там поступить на службу к издателю. Ученик великих французских мыслителей юный Жан Поль Мара, очутившись в Париже, разглядел не только лицевую, парадную, но и оборотную сторону знаменитого города. Он увидел, что в столице французского королевства знаменитые писатели, составлявшие славу Франции, значат многим меньше, чем любой случайный приближенный фаворитки короля. Жан Поль Мара пробыл в Париже около трех лет, до 1765 года. Где жил он? Кто приютил никому не ведомого молодого человека — бывшего воспитателя в Бордо — в огромной столице? Что было источником его существования на протяжении трехлетнего его пребывания в Париже? В каком обществе он вращался? С кем встречался? Кто были его друзья? Все эти вопросы, которые можно было бы продолжить, остаются и ныне без ответа. Биографы Марата, даже самые лучшие, как Бужар и Шевремон, трудившиеся около ста лет тому назад над созданием биографии великого французского революционера, с замечательной добросовестностью собиравшие все относящиеся к его жизни материалы, не нашли никаких документов, освещающих эту сторону первого пребывания Мара в Париже. Известно, что в этот период Мара все с тем же увлечением и усердием продолжал свои занятия медициной, а главное — общественными науками: философией, правом, историей, экономическими и социальными вопросами, стоявшими тогда в центре умственной жизни столицы. Увлекаясь идеями французской просветительной философии, Мара далеко не одинаково ценил отдельных ее представителей. Он относился сдержанно к Вольтеру и к Д’Аламберу, Дидро и Мармонтелю, то есть к «энциклопедистам» в узком смысле слова, а позднее эта сдержанность переросла в прямую, открытую враждебность, и надо сказать, что в своих суждениях Марат был далеко не во всем прав и справедлив. В вопросах художественной литературы, к которой он проявлял самый живой интерес и внимание, он не скрывал своего резко отрицательного отношения к Расину. Позже он писал о «пошлости Расина». Но его нелюбовь к Расину, как и к Буало, имела ярко выраженную политическую окраску: он им ставил в вину и не мог простить прислужничества монарху; оно представлялось ему бесспорным. Наибольшее впечатление на него произвели Монтескье и Руссо. Примерно двадцать лет спустя, в 1785 году, Марат написал «Похвальное слово Монтескье». За два года до своей смерти, в 1791 году, Марат писал, что Руссо «был бы самым великим человеком нашего века, если бы не существовало Монтескье». Эта фраза не была случайной. Марат не раз сопоставлял Монтескье, «самого великого человека, какого только породил наш век и который прославил Францию», с Жаном Жаком Руссо. Он всегда находил аргументы, — чтобы доказать первенство автора «Персидских писем». И все-таки, анализируя систему взглядов Марата по общественно-политическим вопросам, сложившуюся еще задолго до революции, затем рассматривая его социально-политическую программу во время революции, нельзя не признать безусловного и очень значительного влияния идей Жана Жака Руссо на мировоззрение и политические взгляды Друга народа. Французское просветительство ни на одном этапе своей истории не было ни единым, ни однородным. Если оно и выступало сомкнутым фронтом против общего врага — «триединой гидры»: феодализма, абсолютизма, церкви, то это вовсе не означало, что в собственных его рядах ни на минуту не прекращалась внутренняя борьба, достигавшая порой большого ожесточения. Жан Поль Мара за время своего трехлетнего пребывания в Париже завершил свое образование в области общественных наук; он прочел и проштудировал и все старые и новейшие, последние сочинения по вопросам философии, права, политической экономии, истории, искусства. Как и лучшие из его современников, он овладел знаниями своего века, он стал, подобно им, «энциклопедистом», универсально образованным человеком. Но он сумел достичь и большего. Он разобрался в боровшихся между собою в рядах Просвещения идейных течениях, сумел определить свое отношение к ним и нашел свое место в рядах демократического направления французского Просвещения. Годы занятий в Париже не прошли для Мара даром. Вчерашний наивный, даже несколько восторженный мечтатель вырос, идейно окреп. Он освободился от многих розовых иллюзий; не лишенные сентиментальности мечтания были отброшены прочь; он многое увидел и осознал в совсем ином свете. В 1762 году Жан Поль Мара приехал в Париж смятенным, ищущим, крайне неуверенным в себе юношей, а через три года это был уже молодой человек со сложившимися философскими и общественно-политическими взглядами, уже составивший мнение по многим вопросам, которые недавно, в Бордо, казались ему неразрешимыми или неясными. Годы ученичества заканчивались. По крайней мере для самого себя — в печати он еще не выступал — он многое уяснил и определил свое место в рядах левого крыла французской просветительной мысли. В Париже ничто его более не удивляло, ничто не казалось уже новым. Но он испытывал еще то нетерпение пытливой молодости, когда она стремится к все шире раздвигающимся горизонтам, когда она хочет видеть мир каждый день иным и лучшим, чем он был вчера. Не позднее 1765 года Жан Поль Мара оставил Париж и уехал в Англию.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ В АНГЛИИ

Горизонт раскрывался все шире… Жан Поль Мара продолжал подниматься по восходящим ступеням лестницы. Будри. Невшатель. Бордо. Париж. Каждый раз это было открытием нового, все более просторного и все более сложного мира. И вот уроженец не обозначенного на картах Будри, где все обитатели знали друг друга по уменьшительным именам, бывший школяр из застывшего в тишине и неподвижности Невшателя, безвестный искатель философского камня в мансардах Латинского квартала Парижа — на берегах Темзы, в величайшем промышленном и торговом городе мира, столице Великобритании Лондоне. На первый взгляд после всегда оживленного, даже ночью не утихавшего, бурлившего жизнью многоцветного Парижа хмурый и строгий Лондон мог даже показаться немного провинциальным. Но это первое впечатление было обманчивым. Путешественник, переправившийся через Ла-Манш, оставив позади берега Франции, ступив на английскую землю, оказывался не в стране прошлого, не в Европе вчерашнего дня, как это могло показаться сначала по некоторым старомодным обычаям, по выставленной напоказ приверженности к старине, а в самом передовом — экономически, социально-технически — государстве мира того времени. Мара прожил в Англии около десяти лет. Он жил в Лондоне, Эдинбурге, Ньюкасле; он выезжал в Ирландию. В течение этого времени он несколько раз совершал путешествия в Голландию, в Амстердам. Но эти поездки, связанные с его издательскими делами, были непродолжительными; десять лет, до 1776 года, он прожил главным образом в Англии. Это десятилетие было одним из важнейших в истории Англии нового времени. В ходе Семилетней войны Англия отвоевала у Франции Канаду и все земли к востоку от Миссисипи в Северной Америке; острова Доминика, Сен-Винсент, Гранаду и Табаго — в Вест-Индии; обширные территории Сенегала в Африке; она захватила почти все французские владения в Индии и, не довольствуясь этим, повела широкое наступление на эту великую страну Азии. Мадрас на Коромандельском берегу и «черный город» — окраина Калькутты, где многие тысячи индийских ткачей непосильным трудом увеличивали доходы Ост-Индской компании, были главными опорными пунктами британского господства в Индии. Кондотьеры британского колониализма Роберт Клайв и Уоррен Гастингс использовали все возможности до конца. Силой оружия, обманом, хитростью, подлогом подчиняя английскому господству индийские княжества, они подвергли страну такому беспощадному и всеобъемлющему ограблению и разорению, перед которым бледнело все ранее испытанное многострадальным индийским народом. Когда Клайв, руководивший разграблением Бенгала и присвоивший себе лично двести тысяч фунтов стерлингов и множество драгоценностей, отчитывался в своих действиях перед палатой общин, он цинично заявил: «Богатый город был у моих ног, могущественное государство было в моей власти, мне одному были открыты подвалы сокровищницы, полной слитками золота и серебра, драгоценными камнями. Я взял всего двести тысяч фунтов стерлингов. Джентльмены, до сих пор я не перестаю удивляться собственной скромности!» Разграбление и разорение Индии стало одним из важнейших источников первоначального капиталистического накопления Англии. С тех пор как английский пират Вильям Дампир в 1688 году, достигнув северо-западного побережья Австралии, проник в глубь материка, английские завоеватели стали устанавливать свою власть над этим далеким обширным континентом. Восемьюдесятью годами позже сын батрака и простой матрос, дослужившийся до капитанского звания, Джемс Кук, 15 ноября 1769 года провозгласил присоединение открытой им Новой Зеландии к британским владениям. Вся юго-восточная часть Тихого океана с его архипелагами и островами, таившими в своих недрах несметные богатства, оказалась под властью Британии. Так Англия стала величайшей в мире колониальной империей. Самый большой, самый быстроходный, самый сильный в мире военный и торговый флот поддерживал связь между Британскими островами и бесчисленными владениями метрополии. Однако не только, или даже, вернее, не столько, могущество Британской империи, достигнутое ею после побед и территориальных завоеваний Семилетней войны, определяло первенствующую роль Англии в мире. Шестидесятые-семидесятые годы восемнадцатого столетия были переломными в истории Англии. Последствия буржуазной революции, происшедшей в Англии на сто лет раньше, чем в других крупных государствах Европы, должны были дать себя знать. Англия первой пошла по пути развития промышленного капитализма и на определенное время стала «метрополией капитала», как говорил позднее Маркс. В Англии наступила пора промышленной революция. Она ломала устои экономической и социальной жизни страны, обостряла старые классовые противоречия и выдвигала новые, еще более острые. Возникла новая фабричная капиталистическая промышленность, использовавшая в качестве рабочей силы насильственно согнанное с земли крестьянство. На историческую арену впервые выходил новый общественный класс — класс промышленных рабочих, пролетариат. Рабочий класс в той начальной стадии своего формирования был еще очень далек от понимания великой революционной преобразующей роли, которую возложили на него объективные законы истории. Не имея за плечами опыта, он не был в состоянии понять даже свои ближайшие непосредственные задачи, свои собственные элементарные классовые интересы. Он был еще политически слеп и не знал, куда ему идти. Но невыносимо бедственное положение, испытываемое с первых дней своего возникновения пролетариатом, чудовищная хищническая эксплуатация физических и моральных сил рабочих, ставившая их на грань полного вырождения, заставляла их подниматься на борьбу. Эти глубокие социальные потрясения неизбежно вели к обострению политических противоречий. Когда уже зарождалась новая классовая борьба, еще не были разрешены старые классовые противоречия и оставались далеко не завершенными задачи буржуазной революции. Как раз шестидесятые-семидесятые годы восемнадцатого столетия заполнены в Англии напряженной политической борьбой против попыток восстановления неограниченной власти короля Георга III, против правления олигархии — правительства «королевских друзей», а затем революцией — войной за независимость населения английских колоний в Северной Америке. Судьба привела Жана Поля Мара а Англию как раз в это критическое, переломное десятилетие английской истории. Эта бурная социальная среда не могла не оказать воздействия на формирование политических и социальных взглядов Марата. Жан Поль Мара приехал в Англию с уже установившимися взглядами по общественно-политическим вопросам. Здесь Мара нашел страну, ушедшую на многие десятилетия вперед по сравнению с Францией. Здесь не только дули ветры огромной силы, идущие с океана, небо было хмурым, затянутым высокими, быстро-бегущими серыми тучами; здесь был иной политический климат. Он увидел здесь совершенно иную ступень политической свободы по сравнению с абсолютистской Францией. Мара приехал в Англию вскоре после того, как на престол в 1760 году вступил Георг III. Этот английский король вошел в историю своей страны не только необычайной длительностью своего царствования: он занимал престол в течение шестидесяти лет — до 1820 года; впервые со времени последних Стюартов этот монарх ганноверской династии пытался вновь восстановить хотя бы в какой-то степени власть короля. Мара жил в Англии как раз в годы, когда Георг III пытался, — но, как показали события, безуспешно, — править страной своею властью, с помощью своих «королевских друзей». Но даже в этот период политической реакции и парламент, и суд, и печать, и оппозиционные политические деятели сохраняли такую, надо сказать, весьма относительную, степень самостоятельности, которая для Франции Людовика XV с ее универсальным бесправием, ничем не ограниченным произволом абсолютистской власти казалась неосуществимой мечтой. Все увиденное, услышанное, воспринятое в Англии должно было оказать влияние на развитие общественно-политических взглядов Марата. Его кругозор и опыт продолжали расширяться. В Англии Мара изменил свои занятия. Энциклопедическое образование было в основном завершено. Теперь, на базе универсальных широких знаний, пришла пора узкой специализации в одной или нескольких ограниченных отраслях науки. Мара занимался в Англии главным образом медициной, а также ветеринарией и физикой. Хотя собственно биографических материалов, освещающих повседневную жизнь Мара в Англии и в особенности ее бытовую сторону, мало, все же по его произведениям этого времени, по некоторым сохранившимся документам, по достоверным свидетельствам современников можно установить главное. Основным занятием, а вскоре и профессией Мара в Англии стала медицина. Он занимался ею и как практикующий врач и как ученый. Как и когда он постиг все тайны этой науки? Это остается недостаточно выясненным. По-видимому, он серьезно изучал медицину в числе других наук еще во Франции, а в Англии продолжал совершенствоваться Все попытки его биографов из реакционного лагеря — от Мишо до Фипсона — изобразить Марата каким-то недоучкой либо шарлатаном в науке опровергаются неоспоримыми фактами и являются не более чем злостной клеветой. С неопровержимой точностью установлено, что Мара как лечащий врач приобрел немалую известность. В 1769 году Мара опубликовал в Лондоне свое первое научное сочинение «Об одной глазной болезни», свидетельствующее, что к этому времени он был уже далеко не рядовым врачом. В 1770–1773 годах Мара жил в Ньюкасле и занимался здесь медицинской практикой. Имеются сведения, что город Ньюкасл присвоил ему звание почетного гражданина города за выдающиеся успехи, достигнутые им в борьбе с эпидемиями. Трудно точно установить, в какие именно годы, но, во всяком случае, в конце шестидесятых — в первой половине семидесятых годов Марат практиковал как врач в Лондоне и столице Шотландии Эдинбурге. В 1775 году Эдинбургский университет Святого Эндрьюса присудил ему высшую ученую степень — доктора медицины. В дипломе, выданном ему Эдинбургским университетом, указывалось, что Марат работал в области медицины в течение ряда лет и приобрел во всех ее отраслях большие навыки. Врачей — докторов медицины было в ту пору мало. Марат был в числе этих немногих и, видимо, гордился ученой степенью, которую он заслужил своими трудами в чужой и неизвестной стране; с этого времени на титульном листе своих печатных работ он прибавляет к своему имени два слова: «доктор медицины». Кстати сказать, с этого времени — со времени пребывания в Англии — его фамилия стала произноситься не как Мара, а Марат. Эту транскрипцию своего имени он сохранил на всю жизнь. Доктор Марат приобретает известность не только в Англии, но и на континенте: Когда он позже вернется во Францию, ему предложат должность врача при дворе брата короля графа Д’Артуа. Это будет потом. Пока же и в Англии его известность как ученого, владеющего искусством исцелять тяжкие недуги, быстро росла. В его приемной было всегда много посетителей. Марат — гуманист, с детских лет мечтавший о том, чтобы принести пользу человечеству, видевший в медицине простейшее и легче всего достижимое средство оказать помощь своим ближним, охотно и безвозмездно лечил бедных людей. Но среди его пациентов бывали богатые и знатные люди. Он, видимо, немало зарабатывал как врач. Об этом можно судить по тому, что за время своего пребывания в Англии он издал на свой счет несколько книг, а это стоило в то время много денег. Он часто путешествовал: почти каждый год выезжал во Францию, Голландию либо в Ирландию. Талантливый самоучка, ставший известным врачом и ученым, он создал себе в чужой стране имя и положение независимого и вполне обеспеченного человека. Но Марат не мог удовлетвориться одной медициной. В двадцать пять — тридцать лет он был полон сил и творческого дерзания; его энергия била через край и искала себе применения. Еще в детские годы он мечтал о славе писателя. Но по какому руслу направить эту (непреодолимую склонность к литературному творчеству? Написать еще одну книгу о лечении глазных болезней? Стать автором популярных сочинений об анатомии тела вроде Джемса Дрейка или Томаса Вортона, достигших такой степени известности, что на них ссылался даже Лоренс Стерн в своей «Жизни и мыслях Тристрама Шенди»? Сочинить философский трактат? Молодой Жан Поль Мара еще не знал, в чем его истинное литературное призвание. Он решил испробовать свои силы в художественной литературе. В 1770 году, не прерывая основяых своих занятий, он стал писать роман. То было время огромной, всемирной славы «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта — бывшего бедного клерка, сумевшего своим независимым характером и талантом стяжать к концу своей жизни положение «некоронованного короля» Ирландии, а после смерти — лавры творца бессмертного произведения мировой литературы. Славу Свифта оспаривал, также посмертно, сын торговца и один из первых профессиональных журналистов в Англии — Даниэль Дефо, умерший в одиночестве и нужде, но затем прославивший свое имя сотнями переизданий на всех языках мира знаменитых «Приключений Робинзона Крузо». Современники Марата: сын столяра, типографский рабочий Самуэль Ричардсон, автор нашумевшей «Памелы»; выросший в актерской семье прославленный драматург и политический деятель Шеридан; познавший с малых лет жизнь, полную скитаний и нужды, Лоренс Стерн; крестьянский сын Джемс Макферсон, ставший поэтом; сын сельского священника Оливер Гольдсмит, приобретший известность своими романами и поэмами, и многие другие в ту пору не менее популярные, а позже забытые писатели — все они своим жизненным примером доказывали, что ни плебейское происхождение, ни безвестность, ни долговая тюрьма не смогли преградить таланту дороги к славе. Может быть, эти примеры, к которым легко было бы прибавить столько же из истории развития литературы во Франции, вдохновляли молодого Марата? Может быть, он в ту пору считал, что его истинное назначение в служении изящной словесности? Как бы там ни было, но он стал писать и к концу 1770 года закончил большой роман. Он назывался в первой авторской редакции «Приключение молодого графа Потовского». В другом варианте он имел подзаголовок «Роман сердца». Этот роман был написан в большей своей части в эпистолярной форме; в ту пору, в восемнадцатом веке, она была в моде. Вспомним хотя бы «Персидские письма» Монтескье. В английской литературе в этом жанре выступал Ричардсон, пользовавшийся огромной популярностью во второй половине столетия. Его знаменитые романы «Памела, или Вознагражденная добродетель», «История сэра Чарльза Грандиссона», которыми зачитывались не только в Англии, но, как мы знаем от Пушкина, и полстолетия спустя в далекой России, были написаны в форме переписки и представляли собою собрание писем разных литературных героев. В письмах раскрывался и внутренний мир героев, и развитие сюжета, и, наконец, все содержание романа. Молодой Марат, пытавшийся создать свое первое беллетристическое произведение, лишь следовал этим лучшим, как ему тогда казалось, образцам. Сюжетная линия романа была проста и не отличалась оригинальностью. Юный польский дворянин горячо любит молодую прелестную девушку, дочь близкого друга своего отца и пользуется взаимностью. Но в момент, когда возлюбленные уже уверены в близком счастье, в стране вспыхивает гражданская война, разделяющая поляков на две непримиримые враждебные партии. Родители обоих молодых героев — Гюстава и Люсиль — оказываются, конечно, в двух сражающихся станах. Их разъединяет теперь смертельная вражда — и вновь повторяется старая, традиционная история ненавидящих друг друга Монтекки и Капулетти и любящих и страдающих Ромео и Джульетты. В соответствии со вкусами восемнадцатого века в традиционную сюжетную линию вносятся осложнения: «екая графиня, влюбившаяся в юного героя, плетет сеть коварных интриг. Но все в конце концов завершается благополучно: вражда партий утихает, недавние враги — старые друзья — примиряются, и после испытанных страданий терзавшиеся в разлуке влюбленные соединяются в счастливом браке. К чести автора, надо сказать, что, когда роман был закончен, он сумел критически оценить результаты своего труда. Он остался им неудовлетворен, признал, видимо, свою творческую неудачу и отбросил рукопись в сторону. Марат никогда не пытался издавать свое первое крупное литературное произведение, он о нем ни разу — ни в своих печатных выступлениях, ни в сохранившейся переписке — не упоминал. Этот единственный роман Марата так бы никогда не увидел света, если бы не заботы его сестры Альбертины. Тщательно оберегая все литературное наследство своего знаменитого брата, она сохранила и эту оставшуюся никому не известной рукопись. В 1841 году рукопись была передана молодому республиканцу Эме Мартену. Тот, в свою очередь, позднее передал ее библиографу и книгоиздателю Жокобу. В 1847 году Жокоб опубликовал этот роман в журнале «Siecle» («Век»), а в следующем, 1848 году он вышел отдельным изданием в двух томах под названием «Роман сердца», с подзаголовком «Польские письма Марата, Друга народа». В предисловии издатель явно переоценил достоинства неожиданно открытого романа, ставя его чуть ли не в один ряд с «Новой Элоизой» Жана Жака Руссо. Но все же в этом отвергнутом самим автором детище были и такие черты, которые заставляют отнестись к нему со вниманием. Общественно-политическим содержанием романа были события, в действительности происходившие в Польше в эти годы: острый внутренний кризис, вооруженная борьба между так называемой Барской конфедерацией и королем Станиславом Августом, опиравшимся на поддержку России, Екатерины II и царских войск. Роман был по своему содержанию весьма актуален: он привлекал внимание читателей к судьбам Польши, к сложной борьбе внутренних и международных сил; он в известном смысле предвосхищал последующий ход событий. Как известно, через два года после того, как были написаны «Польские письма» Марата, в 1772 году, был произведен первый раздел Польши. В самом выборе этой тематики сказалось политическое чутье молодого автора. В книге много прямых суждений о политике, об общественном строе, о социальных противоречиях. Конечно, автор пишет не о близких ему Франции или Англии, а о России и Польше. Прием этот — защитная маскировка — со времен Лесажа, Даниэля Дефо, Вольтера пользовался широким распространением в литературе. «Ваше правительство, — говорит попутчик француз Гюставу, — самое скверное из всех, которые когда-либо существовали. Что может быть хуже, если вспомнить, что труд, нищета и голод — удел огромного большинства польского населения, а изобилие — удел ничтожного меньшинства. Массы в стране лишены естественного права быть свободными… Природа не пожалела бы для вас благ, но так как большинство людей вашей нации лишено всяких преимуществ свободы, все остальные преимущества равны нулю…» Эта обвинительная речь направлена против Польши. Но разве все сказанное в ней не относится в равной степени и к Франции? Разве ссылка случайного собеседника героя романа на «естественные права» — «lois naturelles» — самый распространенный термин французского Просвещения — не свидетельствует о том, что, говоря о Польше, автор подразумевает и Францию? Француз, устами которого говорит сам автор — Марат, оказывается беспощадным к этим прославленным в ту пору монархам. Гневно клеймя и русскую императрицу и прусского короля, Марат не только осуждал в их лице систему абсолютизма, деспотизм самодержавного властелина. Его критический огонь бил не только прямо по мишени — он имел еще и иной прицел. Известно, что Екатерина II в течение многих лет состояла в дружественной переписке с корифеями французского Просвещения и доказывала им, в особенности Вольтеру и Дидро, свою монаршую милость вполне ощутимо. У Дидро, например, она купила библиотеку, заплатила за нее, но оставила ее в пользование редактора «Энциклопедии», которого назначила библиотекарем собственного собрания книг и заплатила ему жалованье за пятьдесят лет вперед. Такие же щедрые дары она подносила и Вольтеру, а «умов и моды вождь», как называл великого философа Пушкин, платил за это «пресвятой владычице Петербургской» самой неумеренной лестью. Марат в своем романе развенчивал мнимые добродетели русской императрицы. «Правда, что благодаря тщеславию и инстинкту подражания, присущему ее полу, она провела некоторые меры, не имеющие, однако, никакого значения для счастья общества». Но вся ее деятельность как государыни направлена во вред народу своей страны, она способствовала лишь разорению государства, «лишая земли земледельцев при помощи принудительных поборов и вырывая у остающихся тощие плоды их трудов для удовлетворения тщеславия и любви к пышности». Автор хотел, чтобы всем было вполне ясно, куда и «против кого направлен огонь его критики. «Ей льстят, делают вид, что обожают ее, трепещут от всякого ее взгляда — вот ее особые привилегии, а ее права на общественное уважение — это безграничная жажда восхвалений. Полноте! Она сама отдала себе должное: не дожидаясь, чтобы публика создала ей славу, она наняла продажные перья, которые поют ей хвалу». Вольтер здесь не назван по имени, однако не приходится сомневаться, что молодой автор имел в виду прославленного «фернейского патриарха», Несомненно, что критические суждения о «великом Фридрихе» направлены также против Вольтера, ведшего дружбу с прусским королем1. Марат не ограничивается только обличением зла: «Необходимо открыть народу его права и призвать его к действию для их завоевания, необходимо дать ему оружие в руки, чтобы низвергнуть власть всех мелких тиранов, которые его угнетают, необходимо сокрушить правительство, создав новое, на справедливой основе правительство, чьи прерогативы будут находиться в благоразумном равновесии. Вот единственное средство достигнуть мира, солидарности, свободы и обилия вместо анархии, рабства и голода». Эти слова обращены к поляку и формально относятся к Польше. Но разве оружие в руках народа не является единственным действенным средством для уничтожения тирании и рабства и в других странах Европы, в том числе и Франции? Марат в своих рассуждениях мыслит уже не как политический радикал, а как революционер. Это программа непосредственно революционных действий, которая оставалась чуждой большинству левых политических мыслителей того времени. «Роман сердца» как художественное произведение не состоялся; он оказался слишком слабым, и автор должным образом оценил его, отказавшись его обнародовать. Но политическое содержание этого произведения стоит несоизмеримо выше его художественных качеств и свидетельствует о том, что в важнейших идейно-политических вопросах своего времени Марат к двадцати восьми годам уже во многом определил свои позиции. В рядах противников старого строя Марат по своим убеждениям принадлежал к левому крылу и уже намеренно отгораживался от признанных вождей и корифеев французского Просвещения вроде Вольтера; их готовность к политическому компромиссу, их заигрывания с «просвещенными монархами» претили ему. Жан Поль Мара в ту пору еще не занимался политикой: он врачевал людей, изучал медицину и физику и писал неудачные романы. Но если бы ему пришлось заниматься политикой, то, как это показали несколько страниц в его злосчастном беллетристическом опыте, он бы преподал французам совершенно иные политические уроки, чем эти осмотрительные господа Вольтер, Дидро или Д’Аламбер.

ГЛАВА ПЯТАЯ «ЦЕПИ РАБСТВА»

«Желание посвятить себя наукам и избежать рассеянной жизни заставило меня уехать а Англию», — так писал Марат в ноябре 1783 года своему другу Руму де Сен-Лорену. В этих словах была правда. В Англии Марат всецело посвятил себя науке и, следовательно, был весьма далек от «рассеянной жизни». Он делил свое время между врачебной практикой и литературной работой. Первая неудача отнюдь не обескуражила его. Едва лишь закончив свой большой роман и тут же перечеркнув его от начала до конца, Марат взялся за новый, еще больший труд. Замысел его был грандиозен. Это должно было быть сочинение, посвященное не каким-либо частным или второстепенным вопросам, а самому главному в жизни — творцу исторического процесса — человеку. Это сочинение так и называлось «О человеке». Это должно было быть всеобъемлющее, универсальное исследование о природе и жизнедеятельности человека. Марат полагал, что его знания врача, физиолога, с одной стороны, и его широкая эрудиция в области философии и гуманитарных наук вообще создадут для него особые преимущества и позволят ему изучить предмет глубже и полнее, чем его предшественники. Он хорошо знал, что до него этот вопрос освещали писатели, составившие себе громкое имя в истории французской общественной мысли. Передовая молодежь увлекалась знаменитым философским трактатом «Человек-машина», вышедшим в 1748 году анонимно, но, как вскоре стало известно, принадлежавшим перу Жюльена Ламетри. Кстати сказать, Ламетри столь же счастливо соединял оба качества, которыми гордился Марат: он был и врачом и философом. С задором и самонадеянностью, свойственными молодости, Марат был готов критически переоценить значение трудов самых прославленных корифеев французского Просвещения. Если у него есть знаменитые предшественники, что же, он готов с ними соревноваться. С воодушевлением Марат взялся за перо. Он работал над новым трудом в течение нескольких лет и в конце концов написал огромный ученый трактат в трех объемистых томах. В этом сочинении он четко определил свое отношение к писателям, изучавшим тот же круг вопросов. К Ламетри Марат отнесся еще снисходительно. Он даже кое-что одобрил в этом сочинении, которому не склонен был придавать большого значения. Но зато он подверг резкой критике другое, еще более знаменитое произведение философской мысли XVIII века — «Об уме» Клода Адриана Гельвеция. С тех пор как в 1758 году эта книга была осуждена Государственным советом, парижским архиепископом и Сорбонной и затем, в 1759 году, по постановлению парламента сожжена рукой палача, она стала одной из самых популярных книг во Франции и Европе. Марат не побоялся вступить в полемику с основными идеями этого нашумевшего произведения. С тем же дерзким задором молодости он пренебрежительно отозвался даже о самом Вольтере, которого обвинял в непоследовательности, и бегло высказал свое несогласие с Паскалем и Монтескье. Единственным из современных ему писателей-философов, с которым он гласно солидаризировался, был Жан Жак Руссо. Но в этом обширном сочинении Марата была Не только полемическая горячность; молодой ученый последовательно и логично, в соответствии с тщательно продуманным планом излагал позитивные идеи, систему своих взглядов. В 1772 году в Англии была издана часть работы— книга «Опыт о человеческой душе». В 1773 году в Лондоне было опубликовано все исследование «О человеке» на английском языке. Это было объемистое сочинение в двух томах, насчитывающее свыше пятисот типографских страниц. Но автор и после опубликования своего труда не прекратил работы над ним. Он продолжал его дополнять и расширять и через два года выпустил в Голландии новое издание труда на языке оригинала —по-французски. Оно называлось теперь: «О человеке, или принципы и законы влияния души на тело и тела на душу». Новый вариант его труда состоял уже из трех томов и насчитывал в общей сложности без малого тысячу страниц! Это был воистину грандиозный по своим размерам труд, и молодой писатель, не прекращавший в это же время работы в области медицины и физики, большой врачебной практики и параллельно создававший великое сочинение социологически-политического характера, был вправе гордиться своей необычной работоспособностью. Но Марат на сей раз, в отличие от своего первого литературного опыта, был удовлетворен не только количественным результатом своего труда, который был красноречив сам по себе, но и по существу. «Роман сердца» он вычеркнул из своей биографии писателя и никогда о нем не вспоминал. Трактат «О человеке» он трижды издавал на свои собственные деньги в переводе на английский и на родном языке и позднее всегда считал его своим первым литературным произведением. Если верить самому Марату, то появление в печати его труда «произвело сенсацию». В этом была, по-видимому, доля — и, может быть, немалая — преувеличения. Но сочинение не осталось незамеченным: это бесспорно. В «Вестминстерском иллюстрированном сборнике», издаваемом обществом литераторов, летом 1773 года был помещен отчет о сочинении анонимного автора, содержавший множество похвал. Господин де ла Рошетт, французский генеральный комиссар по обмену пленными в Лондоне, которому Марат послал свое произведение, отозвался о нем в самых лестных выражениях: «Я закончил, наконец, чтение интересной вашей работы, в которой, на мой взгляд, вы обнаруживаете большое дарование и всю ту долю вкуса, какую только способна вместить разработанная вами тема». Лорд Литльтон, автор ряда научных трудов, и профессор Колиньон из Кембриджского университета, которым Марат послал свое сочинение, в личных письмах к нему высказали также весьма лестные суждения. Автором трактата «О человеке» заинтересовались и в далеком Петербурге. Лорд Литльтон рассказал о Марате поверенному в делах русского посольства в Лондоне Пушкину; тот, видимо, сообщил об услышанном в Петербург и получил инструкцию пригласить автора сочинения «О человеке» в Россию. Так сообщал об этом сам Марат. Впрочем, это подтверждается и письмом лорда Литльтона к Марату в декабре 1773 года. «Если Вам угодно будет навестить г-на Пушкина, полномочного посла России при нашем дворе, он сообщит Вам нечто для Вас, быть может, весьма выгодное, если только Вы примете его предложения. Я был бы крайне польщен, если бы мог оказаться Вам полезным…» Можно не сомневаться в том, что предложения, сделанные Марату, были весьма выгодными — Екатерина II умела щедро платить «просвещенным умам» Европы. По-видимому, по донесениям Пушкина, в Петербурге у Екатерины или ее приближенных сановников составилось впечатление, что молодой автор трактата «О человеке» принадлежит к числу «восходящих светил»; рачительные хозяева в «Северной Пальмире» сочли разумным закупить будущую знаменитость, так сказать, на корню. Но сохранившееся письмо Литльтона примечательно еще и иным: оно передает дух уважительной атмосферы, окружавшей в ту пору Марата в Лондоне; оно свидетельствует об авторитете, который завоевал молодой врач и начинающий литератор даже в некоторых кругах высшего общества английской столицы. Но книга принесла Марату не только лавры. Она вызвала и довольно резкую критику. Критические оценки появились в печати после того, как исследование «О человеке» на французском языке под полным именем автора — доктора медицины Ж. П. Марата поступило в продажу в книжные магазины континента и, в частности, Франции. Среди критиков книги Марата оказались такие крупнейшие авторитеты с мировым именем, как Вольтер и Дидро. Вольтер опубликовал небольшую, но полную критического яда рецензию на книгу писателя-медика. Он хотел сразить его самым сильным оружием — иронией. В небрежной и в то же время безупречной по форме манере, с присущим ему тонким остроумием Вольтер высмеивал обширное исследование доктора медицины. Он издевался над всем: над литературным стилем произведения, над неосведомленностью автора, над его действительными и вымышленными ошибками, наконец над его идеями. Вольтер не снисходил до того, чтобы отвечать на личные нападки, которым он подвергся в сочинении Марата. Но он обрушивался на молодого автора за неуважительное отношение к прославленным философам века, в особенности к Гельвецию. «Вы могли бы отзываться более вежливо о благородном человеке, который хорошо оплачивал своих врачей», — отчитывал он Марата. Самую острую критику вызвали рассуждения Марата о местоположении души человека. «Следовало бы лучше признаться в том, что никто еще не видел, где она обитает… Предоставьте это лучше богу; поверьте мне, он один ей уготовил жилище, но он не назначил вас своим квартирмейстером», — иронизировал знаменитый философ. Отзыв Вольтера произвел в свое время большое впечатление на современников. Подтверждением этому может служить хотя бы то, что сорок лет спустя плененный на острове Святой Елены бывший император Наполеон Бонапарт, которому было о чем вспоминать и размышлять, в 1816 году неожиданно припомнил выступление Вольтера. «Марат имел свои заслуги, он написал до революции произведения, о которых говорил Вольтер», сказал он своему собеседнику. Жестокую, критику Вольтера напоминали позднее Марату его оппоненты, в их числе Камилл Демулен. Другой крупный мыслитель французского Просвещения, один из самых выдающихся представителей французского материализма, Дени Дидро, высказал также отрицательное суждение о работе Марата. Дидро писал в совершенно ином тоне, чем Вольтер: спокойно, без раздражения; он назвал Марата «довольно талантливым человеком», отметил сильные стороны первой части работы, там, где рассматриваются функции тела, но с полной определенностью осудил философскую сторону трактата «О человеке». В чем же было дело? Как могла сложиться такая парадоксальная ситуация, когда автор, с должным основанием определявший свое место на левом фланге передовой общественной мысли, заслужил своим произведением одобрение господ из правящих слоев и осуждение людей, представлявших прогресс восемнадцатого века? Говоря короче, почему исследование «О человеке» было встречено аплодисментами лорда Литльтона и господина де ла Рошетта и критикой Вольтера и Дидро, когда, казалось бы, следовало ожидать противоположное? Ответ на этот вопрос с исчерпывающей полнотой дал несколько позже сам Марат. В 1783 году автор исследования «О человеке», возвращаясь к вопросу о спорах, возникших вокруг этого сочинения, писал: «…Мое первое произведение было посвящено борьбе с материализмом, так как я развивал идею влияния души на тело и тела надушу. Вот начало моих бедствий… Я боролся с принципами современной философии, вот источник ненависти ее апостолов…» Произведение Марата было враждебно материализму. В этом было главное. Его философское исследование было насквозь противоречивым. Там, где Марат выступал как врач, как физиолог, где он анализировал анатомию и физиологию человеческого тела, он оставался на почве материализма; не случайно эту часть одобрил Дидро. Но допустив существование души, признав ее особой субстанцией, задавшись целью проследить взаимовлияние двух равноправных, по его представлению, субстанций — души и тела, Марат целиком становился на почву идеализма и с этих идеалистических позиций ратовал против материализма. Исследование Марата «О человеке» стояло ниже уровня развития философской мысли восемнадцатого века. Марат с горячностью, с искренним негодованием возмущался выступлением «маркиза из Ферне», как он называл Вольтера, и тщетно добивался опубликования в печати своего ответа «апостолу современной философии». Он сохранил надолго, на всю жизнь, убежденность в своей правоте в этом первом философском споре в дни своей молодости. Это было, с его стороны, самообольщением. Если отбросить все наносное, все элементы личной обиды, оскорбительный для Марата иронически-пренебрежительный тон Вольтера и несправедливое обвинение в невежестве, то остается несомненным, что правда в этом споре была на стороне Вольтера и Дидро, но отнюдь не Марата. Марат как философ представлял вчерашний день философской мысли; Вольтер и Дидро — нынешний и завтрашний ее день. В декабре 1774 года в Лондоне была издана, без указания имени автора, новая книга Жана Поля Марата. Она называлась «The chains of slavery» — «Цепи рабства» Это было первое политическое произведение молодого писателя, и оно доказало, что не философия, а политика, к которой он питал «природную склонность», как он однажды выразился, определяла его как общественного дёятеля и литератора. История создания «Цепей рабства» довольно запутанна. Сам Марат, пятнадцать лет спустя после выхода первого издания этой работы, в 1789 году, в письме к председателю Генеральных штатов писал, что побудительными мотивами к созданию этой книги было стремление принять участие в острой политической борьбе, проходившей в то время в Англии, и повлиять на результаты приближавшихся парламентских выборов. Марат разъяснял там же, что он преследовал этой книгой прямые практические цели. Он надеялся призвать англичан «к осознанию своих прав с помощью изображения гнусных уловок, к которым прибегают государи для порабощения народов, и путем изображения ужасающих бед, которые неизбежно влечет за собой деспотизм». Это свидетельство автора «Цепей рабства», безусловно, заслуживает внимания. В целом эта версия должна быть принята с полным доверием. Кому же, как не автору, лучше всего знать историю создаваемого им произведения? Пытливый наблюдатель, обладавший зорким глазом и цепкой памятью, молодой врач с жадностью вглядывался в эти яркие картины разительных социальных контрастов, которые каждый день являл ему окружавший его мир. Действенная натура Марата побуждала его принимать непосредственное участие в ожесточенной политической борьбе, потрясавшей в семидесятые годы Англию. Марат был связан с левыми политическими клубами и обществами радикально-демократического направления, возникавшими как раз в эти годы в Лондоне и других английских городах. Как велика была его роль в этих клубах, сказать трудно — об этом нет прямых достоверных свидетельств. Известно, что Марат в 1774 году вступил в «великую масонскую ложу» в Лондоне, что вскоре после этого он связался с одной из масонских лож в Голландии. Масонские организации в ту пору были одной из распространенных форм радикальной политической оппозиции. Участие в масонских ложах также свидетельствовало о том, что Марат стремился к активному вмешательству в политическую жизнь страны. Не подлежит сомнению, что, спешно работая, дабы подготовить и издать «Цепи рабства» к началу избирательной кампании в Англии, Марат рассчитывал оказать своей книгой посильное влияние на ход развернувшейся в связи с парламентскими выборами политической борьбы. Все это так. Однако достаточно внимательно вчитаться в текст «Цепей рабства», сличить английское издание 1774 года с последующим французским прижизненным изданием 1793 года, проследить за их разночтениями, чтобы убедиться в том, что это произведение не представляло собой однородного целого, что текст его носит явственные следы напластований разных лет. Сам Марат признавался, что «Цепи рабства» подготавливались в течение долгого времени, он прямо указывал, что «перевод появился на восемнадцать лет раньше подлинника». Сопоставляя английское и французское издания «Цепей рабства», нельзя не заметить, что французское издание много шире и полнее английского. «Цепи рабства» не могли быть написаны ради тех непосредственных целей, на которые указывал автор: участие в английской избирательной кампании 1774 года. По самому своему характеру это произведение выходило за узкие рамки агитационно-пропагандистского документа избирательной борьбы. Можно с достаточными основаниями предположить, что первое, английское издание 1774 года было сокращенным и, видимо, частично переработанным переводом ранее написанного сочинения на французском языке.
* * *
«Цепи рабства» — это вполне зрелое и значительное произведение литературного и политического таланта Марата, сочинение оригинальное и своеобразное и по мыслям, и по композиции, и по литературному стилю. Сотрите с обложки имя автора или возьмите анонимное английское издание 1774 года, и по постоянно ощутимому, проступающему сквозь словесную ткань идейному стержню произведения, и по торжественному, приподнятому слогу, и по резкой выразительности манеры письма вы узнаете Жана Поля Марата, будущего автора и редактора знаменитого «Друга народа». Хотя по своему идейному содержанию «Цепи рабства» являются как бы продолжением мыслей корифеев французского Просвещения и в особенности Жана Жака Руссо, это сочинение молодого и безвестного тогда еще писателя вносило в общие вопросы политической теории немало принципиально нового. «Цепи рабства» — сочинение, построенное по дог вольно обычной в то время манере: оно состоит из ряда рассуждений, подкрепленных пространными историческими экскурсами. Главная мысль книги — мысль о гибельной для блага народов деспотической государственной власти, способной выковать «цепи рабства», действуя насилием, обманом, подкупом. С этим связана другая ведущая мысль произведения, согласно которой борьба против деспотизма, узурпировавшего и поправшего права человека и гражданина, является естественным правом и священным долгом народов. Однако свести значение книги Марата только к этим положениям значило бы обесцветить, обеднить многообразное, богатое содержание этого замечательного произведения. «Своим происхождением государства обязаны насилию», — писал Марат на начальных страницах своего сочинения. Эта формула была далеко не банальной для автора второй половины восемнадцатого столетия: она шла вразрез не только с благочестивыми и благонамеренными толкованиями церкви и официальной науки, но и со многими общественными теориями передовых мыслителей века. «…Почти повсюду законы в основе своей были не чем иным, как полицейскими правилами, обеспечивающими каждому спокойное пользование награбленным…» Но это резкое обличение «священной» государственной власти и ее законов не вело автора к пессимистическим выводам. «Впрочем, сколь ни грязно происхождение государств, — тут же добавлял Марат, — в иных из них справедливость вышла из лона беззаконий и свобода родилась из угнетения». Влияние Жана Жака Руссо, оказавшееся самым сильным на протяжении всей жизни Марата, ощутимо чувствуется в его первом значительном произведении — «Цепях рабства». Вслед за Руссо Марат проводит аналогию между процессами развития общества (или, как он чаще пишет, нации) и процессом развития человека, индивидуума. Общество проходит в своем развитии те же стадии, что и человек: младенчество, юность, зрелость и старость. Период младенчества или детства, по мнению Марата, это время, когда лучшие черты народа, его лучшие качества — смелость, отвага, гордость, любовь к независимости— проявляются с наибольшей силой и полнотой, и именно в младенческое или детское время народы обладают и наибольшей мощью, и энергией, и наибольшей свободой. По мере того как народы достигают все большей степени зрелости, они становятся все слабее, и все быстрее совершается их постепенное сползание в неволю. Однако Марату чужд социальный пессимизм. Он вовсе не считает этот ход вещей неотвратимым, общеобязательным для всех народов. По его мнению, организм политический отличается от организма животного тем, что при наличии определенных условий некоторые народы способны сохранять «в течение длинного ряда столетий силу юности». Какие же это народы и каковы эти условия? Марат отвечает формулой, дающей ответ на оба вопроса: это народы, являющиеся «друзьями бедности». Народы, являющиеся «друзьями бедности», — это народы, живущие в некоем совершенном государстве, не знающем ни «цепей рабства», ни ига деспотизма. Это общество, построенное на принципах равенства. Марат так его определяет: «Пока богатства государства ограничены его пределами, пока земли в равной мере распределены между его жителями, всякий имеет одинаковые потребности и одинаковые средства к их удовлетворению; сограждане, находясь в одинаковых взаимоотношениях, сохраняют и почти полную независимость друг от друга, то есть находятся в наилучших условиях для вкушения благ всей той свободы, какую только допускает наличие государственной власти». Достаточно вдуматься в изображенную здесь картину, чтобы увидеть в ней воплощение тех мыслей о республике равенства и свободы, которыми вдохновлялся знаменитый автор «Эмиля» и «Общественного договора» — Жан Жак Руссо. Это был тот идеальный мир равенства, который позже огнем и железом пытались претворить в действительность якобинцы 1793–1794 годов. В другой части «Цепей рабства» Марат уточнял свое представление об идеальном эгалитарном обществе, подчеркивая, что оно возможно лишь при небольших размерах государства. «Скромные размеры государства, — писал Марат, — немало способствуют поддержанию в нем царства справедливости и свободы и всегда тем успешнее, чем меньше государство». Нетрудно заметить и в этом все то же влияние Руссо. Усвоить присущую Руссо идеализацию небольших республик равенства было для Марата тем легче, что перед его взором уроженца кантона Невшатель, как и перед взором уроженца кантона Женевы — Руссо, стояла одна и та же идеализированная их воображением патриархальная республика — Швейцария. Но Марат в «Цепях рабства» отнюдь уже не был правоверным учеником и последователем Руссо; молодой автор в ряде важных вопросов шел многим дальше своего учителя. Марат дал весьма глубокое объяснение происхождения государства, выводя его из насилия. Он шел в этом важном вопросе общественной теории дальше Руссо и многих иных выдающихся мыслителей восемнадцатого века. В «Цепях рабства» можно также найти замечательные догадки о классовой природе государства. Правда, в рассуждениях Марата о государстве рядом с глубокими догадками материалистического характера соседствовали и чисто идеалистические воззрения. Политика монархов, представителей государственной власти нередко объяснялась у него моральными побуждениями, рассматриваемыми в их «чистом» виде, вне связи с материальной средой. Развитие деспотизма, политического и социального гнета Марат объяснял прежде всего невежеством народа. Можно было бы привести и иные примеры идеалистического объяснения закономерностей, определявших развитие исторического процесса. Но нужно ли это? Удивляться надо не тому, что Марат в объяснении тех или иных общественных явлений оставался во многом на идеалистических позициях. Заслуживает внимания иное: сила и глубина мысли Марата, когда он, преодолевая идеалистические воззрения, озаряет светом стихийно-материалистического анализа явления социальной жизни и ее процессов, остававшихся темными, непонятными для его современников. Так, подробно разбирая многочисленные коварные и вероломные приемы, с помощью которых деспотическая власть постепенно закабаляет народы, Марат подходит вплотную к пониманию роли классов и классовой борьбы в историческом процессе. Конечно, и терминология и само мышление Марата еще очень далеки от научной теории классов, которая была создана лишь в середине девятнадцатого века трудами Маркса и Энгельса. Марат лишь подходил к этому пониманию. Но он уже утверждал, что скопление земельной собственности в руках немногих приводит к тому, что «класс независимых граждан исчезает и государство состоит лишь из господ и подчиненных». Марат видел различие между интересами богачей и бедняков: «Богачи стремятся к наслаждениям, а бедняки к сохранению существования». В отличие от многих своих современников — мыслителей Просвещения, подчеркивавших в первую очередь противоречия между интересами третьего сословия и двух привилегированных сословий, Марат главное внимание обращал на противоречия между бедными и богатыми. К этому вопросу он возвращался многократно в своем сочинении. Он уточнял и конкретизировал, где именно сильнее всего проявляются эти противоречия. «У наций коммерческих, где капиталисты и рантье почти всегда идут рука об руку с откупщиками, финансистами и биржевиками, большие города содержат лишь два класса граждан, из коих один прозябает в нищете, а второй — полон излишеств; один обладает всеми средствами угнетения, а другой не имеет никаких средств к защите». Приближаясь к пониманию роли классов и классовой борьбы в историческом развитии общества, Maрат подошел также к пониманию классовой природы государства. «Становясь господами слабых, сильные в известной мере становятся и господами государства», — писал Марат. Сочинение Марата замечательно еще и тем, что оно является одним из первых в политической литературе восемнадцатого века, в котором дана острая критика пороков нового, капиталистического строя в ту пору, когда он только рождался. Острое социальное зрение Марата, внимательно изучавшего окружавший его мир, столь различный в Невшателе, Женеве, Бордо, Париже и Лондоне, позволило ему увидеть не только очевидные для всех пороки и болезни старого, ущербного феодального общества, но и неустранимые изъяны и отталкивающие черты нового, молодого, идущего на смену феодализму буржуазного строя. Одна из глав книги Марата носила название «О торговле». В отличие от многих французских буржуазных писателей восемнадцатого века: Кенэ, Дюпона, Гурне, Кондорсе, развивавших мысль о благодетельности свободного развития торговли, Марат в трактовке этого вопроса примыкал к другому течению французской общественной мысли, представленному Руссо и его школой. Он выступал с резким осуждением торговли и особенно спекуляции и шел в своей критике торговли значительно дальше Руссо. Марат рассматривал торговлю как антинациональную силу, смешивающую обычаи, манеры и нравы всех стран и присоединяющую к порокам каждого народа не один чужеземный порок. Нарисовав широкими мазками неприглядную картину алчной погони за наживой негоциантов, финансистов, ростовщиков, спекулянтов, Марат писал: «Скоро зрелище огромных состояний стольких авантюристов внушает вкус к спекуляции; всеми сословиями овладевает неистовство ажиотажа; и вот уже нация состоит из одних только алчных интриганов, устроителей банков, касс взаимопомощи, обществ и учетных касс, из сочинителей проектов, из мошенников и плутов, вечно занятых изысканием средств для ограбления глупцов и строящих свое личное процветание на развалинах процветания общественного. Среди стольких интриганов, цепляющихся за колесо счастья, большая часть низвергается вниз: жажда золота заставляет их рисковать тем, что у них есть, ради приобретения того, чего у них нет… Жажда золота иссушает все сердца, и они замыкаются для сострадания, не внемлют голосу дружбы, кровные узы порываются, люди томятся лишь по богатству и способны продать все, вплоть до человечества». Эти строки являются превосходным образцом литературного стиля молодого Марата — его точного и выразительного языка, его взволнованного строя речи. Но отрывок этот примечателен и иным. Датированный 1774 годом, а написанный, возможно, и еще ранее, он как бы перекликается со страницами «Человеческой комедии» Бальзака, раскрывающими страшную власть золота, но созданными почти три четверти столетия спустя. И невольно приходится удивляться прозорливости автора «Цепей рабства», сумевшее го разгадать по первым шагам капитализма ту ужасную и гибельную силу, которая полностью созрела и оформилась лишь много десятилетий позже. Но главное острие критики обличительного сочинения Марата направлено прежде всего против деспотизма монархии. Марат прослеживает шаг за шагом, иллюстрируя свою мысль многочисленными примерами из прошлого и настоящего, коварные приемы, преступные действия, вероломный обман, жестокое насилие, намеренную ложь, хитроумные расчеты деспотического режима, непрерывно усиливающего свою власть над порабощенным народом. Он показывает, как деспотизм не только грубой силой угнетает слабых, но как он разделяет и расчленяет нацию, восстанавливая одну ее часть против другой, как он поддерживает ее невежество, развращает народ, с помощью духовенства сохраняет его в состоянии дурмана. Деспотическая монархия — смертельный враг народа, обративший его в рабство и заковавший его в цепи. Народу особа государя представляется священной, непогрешимой; Марат старается опровергнуть этот распространенный и вредный предрассудок. Обращаясь к истории Англии, Марат пишет; «Если бы в первый же раз, когда Карл I простер нечистые руки к кошельку своих подданных или когда он впервые запятнал их в крови невинных, народ взялся за оружие, поднялся против тирании и на его же собственных глазах заставил погибнуть на эшафоте министров — исполнителей его жестокой воли, народ не стонал бы столькие годы от страшного угнетения». В полном противоречии с официальным изображением исторической роли французского короля Людовика XIV, «короля-солнца», воспетого поэтами, прославленного историками, Марат рисует отталкивающий портрет этого короля-тирана, прослеживает шаг за шагом преступные действия этого «великолепного комедианта», обрекшего народ своей страны на величайшие страдания и бедствия и заставившего течь реки крови ради удовлетворения своего дикого честолюбия. «Почему не судить о государях так, как обычно судят о простых смертных?» — спрашивает Марат и тут же гневно обрушивается на пагубную терпимость народа к преступлениям и порокам монархов. «Мы прощаем государям нарушения своего слова, неверность, хитрость, вероломство, предательство, жестокость, варварство. Больше того, мы восхваляем их безумство, вместо того чтобы возмущаться ими; мы восславляем их происки, вместо того чтобы клеймить их позором; часто мы в ослеплении даже возлагаем на их головы венки за такие проступки, которые нам следовало бы карать самой страшной казнью». Никто из писателей восемнадцатого века не смел так писать о монархах! Ни Монтескье, ни Вольтер, ни Дидро, ни Руссо не приближались ни по мыслям, ни по выражениям, ни по тону к столь смелому и беспощадному обличению монархов-деспотов. Произведение Марата в этом смысле остается единственным в политической литературе той эпохи. Оно развенчивает, разоблачает до конца тираническую власть деспотической монархии; оно рассеивает окружавший ее ореол величия и третирует свысока — с высот неоспоримых естественных прав человека — преступление и низкое вероломство монархов, поднявших руку на эти священные права. Замечателен тон, в котором пишет Марат о монархах-деспотах в ту историческую эпоху, когда феодально-абсолютистский строй еще господствовал почти во всем мире. Вольтер откровенно льстил могущественным монархам и не без тщеславной гордости афишировал свою дружбу с русской императрицей, прусским и польским королями. Монтескье при избрании его в Академию произнес, — конечно, сознательно и расчетливо лицемеря, — похвальное слово королю Людовику XIV. Дидро ездил в Россию к Екатерине II и получил от нее подарки, обеспечившие его на всю жизнь. Какой резкий контраст с этим почтительно-льстивым отношением прославленных корифеев Просвещения к благоволящим им царственным особам составлял презрительный или обличительный, гневный тон, в котором Марат отзывался о самых могущественных монархах своего времени! Марат в эти годы вовсе не был республиканцем. Он относился с предубеждением к республиканской форме власти: это было его ошибкой, и позже мы вернемся к этому подробнее. Убежденный противник абсолютистского режима и любой формы деспотизма, Марат считал наиболее приемлемой формой государственной власти демократическую конституционную монархию, в которой король был бы лишь первым должностным лицом, исполнителем законов. Имелся ли тогда — в современном Марату мире — такой идеальный политический строй? В «Цепях рабства» большое внимание уделено государственному строю Англии. Это вполне естественно не только потому, что Марат жил в ту пору в Англии и предназначал первое издание своей работы английскому читателю, но и ввиду того, что Англия была тогда единственной крупной страною мира, где существовала конституционная монархия. Государственный строй Англии — именно потому, что он был конституционным строем, — привлекал самое пристальное внимание передовых французских мыслителей; об английской конституции писали Вольтер, Монтескье, Дидро и многие другие литераторы восемнадцатого века. Марат гораздо резче, чем его французские предшественники, критикует английскую конституцию. Ему полностью чужда всякая идеализация политического режима, господствовавшего в Англии. Он обличает его антидемократизм, половинчатость, компромиссный характер британской конституции. В своей критике английской конституции, как и всего английского общественно-политического строя, Марат разоблачает не только пороки, унаследованные от прошлого, то есть связанные с пережитками феодально-абсолютистского режима, но и вновь приобретенные: порожденные развивающимися капиталистическими отношениями. Он увидел в английской конституции, в английском парламенте, во всем политическом строе страны язвы нового, буржуазного происхождения. Он рисует ужасающую картину страданий и мучений бедняков и всевластия золота, могущества денег. Парламент не является более собранием добродетельных и достойных людей, каким он был или мог быть в былые времена; теперь он всецело подчинен могущественной власти денег. «Ныне не считаются ни с добродетелью, ни с талантом, ни с рвением, ни с заслугами перед родиной — только одни деньги отворяют двери сената, куда устремляются толпой глупцы и мошенники, не позволяя войти туда людям достойным…» Таким образом, английская конституция и парламент, по мнению Марата, соединяют пороки и недостатки прошлого и настоящего — феодального и капиталистического происхождения. Они очень далеки от идеального политического строя. Такого совершенного политического устройства Марат не видит нигде в современном ему мире. Его истинно демократическая конституционная монархия, в которой царствует свобода и торжествуют естественные права человека, — это идеал, еще не воплощенный в реальные формы реальной жизни. Но к этому идеальному политическому строю должно стремиться, за него надо бороться. Главной же задачей настоящего времени остается борьба против деспотизма. Деспотизм господствует во всем мире. В разных формах, разными средствами он усиливает свою власть над закованными в цепи рабства народами во всех странах. Продолжая тот же ход рассуждений, выясняющих способы, с помощью которых деспотическая власть порабощает народы, Марат подвергал резкой критике поведение и действия самого народа. Марату чужда какая бы то ни было идеализация народа; народ для него настолько близок, что он не стремится ни приукрашивать его, ни произносить ему похвалу. Напротив, Марат стремится выявить недостатки народа, его слабые стороны, которые он резко критикует. Он вводит в свою книгу специальные разделы: «Слепая беспечность народна», «Необдуманная умеренность народа», «Напрасные усилия народа», «Глупость народа». Народ не сопротивляется тирании власти — в этом проявляется его неуместная умеренность. «Трусливость самих народов, вот что дает возможность ковать для них цепи», — пишет Марат. Глупостью народов Марат считает то, что они «готовы скорее пожертвовать всем, чем восстать против помазанника божия. Никогда они не считают себя вправе силой воспротивиться его несправедливой власти». Эта резкая, нелицеприятная критика ошибок и слабости народа имеет ясно выраженный назидательный характер. Марат критикует народ, чтобы подтолкнуть его на действие Народу принадлежит право на сопротивление деспотизму и угнетению во всех их проявлениях. Что значит сопротивление деспотизму? В каких формах оно может быть воплощено в реальной, действительной жизни? Эти вопросы, которых не только чурались, но даже боялись мысленно произнести самые передовые умы европейской прогрессивной мысли того времени. Марат ставил прямо, в ничем не прикрытой, ясной для всех форме. Сопротивление угнетению — это революция, это восстание. Право народа на восстание является его самым бесспорным и непреложным правом, оно покоится в самой природе вещей. «Единственной законной целью всякой политической ассоциации является общее счастье, писал Марат. — Каковы бы ни были притязания власть имущих, любое соображение должно отступать перед этим высшим законом». Таким образом, всякая власть или действия этой власти, которые противоречат целям общего счастья людей, становятся незаконными, вернее сказать, противозаконными. Деспоты и тираны множеством разных коварных способов попирают и нарушают это законное стремление к счастью. Борьба против тирании, борьба против деспотической власти, покушающихся на право людей на счастье, — не только священное право, но и обязанность, высший долг народа. Так самый ход рассуждений Марата приводит его к глубоко революционным выводам. Это общее обоснование прав народа на революцию Марат считает вполне достаточным и в своей книге не приводит иных доказательств этого права: нет надобности доказывать то, что бесспорно. Его внимание направлено на иное: он критикует народ за то, что он недостаточно или неумело пользуется своими законными правами. «…Народы почитают священным лишь авторитет государей. Они готовы скорее пожертвовать всем, чем восстать против помазанника божия. Никогда они не считают себя вправе силой воспротивиться его несправедливой власти и полагают, что только одними просьбами дозволено его смягчить. Куда только не заходит их глупость!» Это обобщающее заключение еще резче подчеркивает дидактический, назидательный характер политических рассуждений Марата. Писатель не скрывает того, что он учительствует, что он добровольно берет на себя роль наставника народных масс. Его суровая и резкая критика недостатков и слабостей народа имеет целью подтолкнуть его на смелые, решительные действия. Судьба общества находится в руках народа. Если он будет и дальше проявлять свою неуместную умеренность, свою глупость, свою алчность — Марат не скупится на самые резкие слова; он как бы хочет подзадорить народ, — если он будет по-прежнему повиноваться своим угнетателям, он будет всегда влачить цепи рабства. Но ведь народ может все изменить. Право на его стороне, и деспоты, угнетающие народ, попирают это священное право; их деспотическая власть в самом существе своем противозаконна. Народ обладает и несокрушимой силой; надо суметь лишь воспользоваться ею. Марат дает в своем сочинении ряд практических советов народу, как обеспечить успех восстанию. «Если восстание решено, оно не приведет ни к какому успеху, если не станет всеобщим». Это одно из важнейших условий победы народа. Восставшие должны оставаться сплоченными, они не должны допустить, чтобы силы народа были разъединены, к чему будут стремиться угнетатели. Народ, подняв восстание, должен идти решительно, не останавливаясь на полпути, без колебаний. Марат предупреждает: когда народ проявляет «малую решимость, вопли его встречают с презрением». Особенно опасны и гибельны иллюзии, которые даже восставшие с оружием в руках народы питают к государям. «Похожие на детей, боящихся поднять руку на отца, они (народы — А. М.) часто опускают оружие. Государь же со своей стороны никогда не проявляет никаких отцовских чувств, видит в восставших подданных лишь мятежников и, пока безжалостно их не раздавит, не обретает уверенности в осуществлении своих намерений». Марат подробно рассматривает и анализирует все возможные случаи, когда народ не соблюдает всех необходимых условий для победы восстания и когда в силу этого его усилия разорвать цепи рабства становятся тщетными. Он резюмирует итоги этого анализа кратким обобщающим выводом: «Когда усилия народа утвердить свою свободу недостаточны, усилия эти только еще больше скрепляют его порабощение». Страницы его книги, посвященные задачам вооруженного восстания, — единственные во всей политик ческой литературе восемнадцатого столетия. Конечно, в суждениях Марата о вооруженном восстании, как и во всем его сочинении, есть немало противоречивого. Нетрудно по авторскому замыслу книги установить, что Марат вовсе не ставил перед собой задачи дать исчерпывающее или сколько-нибудь полное определение задач и целей вооруженного народного восстания. Кто из писателей Просвещения или, возьмем еще шире, из литераторов восемнадцатого столетия ставил-конкретно практические задачи революции, задачи вооруженного восстания? В огромной литературе этого столь богатого талантами столетия ни у одного автора середины века нельзя найти трактовки вопросов революции как практической задачи. В пятидесятых-семидесятых годах, во всяком случае до восстания населения английских колоний в Америке против британской короны, о революции писали весьма редко и крайне осмотрительно. Если о ней и говорили, то только полунамеками, в неопределенной и уклончивой форме; ее предпочитали не называть по имени, а если называли, то чаще всего подразумевали лишь некий комплекс больших общественных перемен. Конечно, передовые люди во Франции знали крамольное, проникнутое бунтарским духом сочинение священника Жана Мелье, безбожника и материалиста, воскрешавшего старый дух тираноборцев. Рукопись бедного кюре из Этрепиньи и Баллев в Шампани, умершего в 1729 году в полной безвестности, увидела свет лишь в 1742 году, когда ее издал в извлечениях Вольтер. Но знаменитый философ, «дрожавший от ужаса», по собственному признанию, при чтении этого бунтовщического сочинения, исключил из него все казавшееся ему слишком опасным. Десятью годами позже «Завещание» Жана Мелье в более полном виде издал выдающийся французский философ-материалист Гольбах, тайный автор «Системы природы». Но и в кругу французских философов-материалистов, в салоне барона Гольбаха, объединявшем цвет передовой французской общественной мысли, судили обо всем, но острых политических тем избегали. «Патриарх» французского Просвещения, проницательный и дальнозоркий Вольтер, даже в своем фернейском уединении не мог не чувствовать приближения революции. Он не раз говорил о неизбежности революции, но говорил не с сочувствием и надеждой, а с нескрываемым страхом. Жан Жак Руссо в своих философско-политических трактатах «Происхождение неравенства», «Общественном договоре» в ходе теоретических рассуждений приходил к оправданию революции. Если деспотизм нарушает общественный договор, то народ вправе поднять революцию. Руссо даже полагал, что революция окажет целебное, оздоровляющее влияние на общество. Но Руссо никогда не ставил вопроса о революции как практическую задачу. Для него революция оставалась общим теоретическим понятием. Каково ее конкретное содержание, как она действует, каковы ее средства борьбы? — эти вопросы даже не вставали перед Руссо, ибо революция в его рассуждениях оставалась чистой абстракцией. Марат многое взял от Руссо, как и от некоторых других своих французских предшественников — социологов. Но наиболее существенное отличие его книги от всех наиболее прославленных сочинений писателей Просвещения — в ее революционном духе. «Цепи рабства» — это книга, на страницах которой уже чувствуется дыхание приближавшейся революции. Для Марата революция не гипотеза, не теоретически допустимое изменение общественного устройства, не сумма каких-то реформ или государственных преобразований. Это обязанность, долг народа, единственное средство, его спасения. Марат не теоретизирует, не рассуждает по поводу революции; кажется, он не употребляет в своей книге даже самого этого слова. Но зато он обозначает в самых точных, можно даже сказать, будничных выражениях, как она должна действовать. Марат хорошо знает, кто может и должен совершить революцию. Это народ. И советы, которые он дает о том, как успешнее провести вооруженное восстание, — это и есть решение практических вопросов революции. В этой глубокой убежденности необходимости, спасительности вооруженного восстания как единственного средства избавления народа от цепей рабства, в сугубо практическом, трезвом, даже деловом подходе к конкретным задачам вооруженного восстания — своеобразие, оригинальность произведения Марата, отличавшая его уже тогда — в 1774 году — от всех остальных писателей передовой общественной мысли. Марат представлял новое, более молодое поколение французской демократической общественной мысли. Когда был опубликован «Общественный договор» Жана Жака Руссо — произведение, оставшееся вершиной в идейно-политическом развитии знаменитого мыслителя, Марату было девятнадцать лет. В юности он уже овладел идеями, являвшимися последним словом передовой мысли восемнадцатого века. Он продолжал свое идейное развитие в эпоху, когда классовые противоречия в стране все более обострялись и обретали такой накал, который едва ли можно было чем-либо остудить. На его глазах завершалась затянувшаяся агония растленного режима Людовика XV, отдавшего страну на разграбление клевретам госпожи Дюбарри или ненавистного канцлера Мопу. Он мог слышать, как доведенный до отчаяния возраставшей нуждой и произволом абсолютистской власти народ роптал; как в столице Франции в 1771 году во множестве распространялись афиши с кратким, но грозным текстом: «Хлеба за два су, повесить канцлера или восстание в Париже». До Марата доходили осторожно, на ухо шепотком передаваемые слухи о грозных крестьянских мятежах, вспыхивавших то здесь, то там в разных концах королевства. Он знал, что крамольные книги «вольнодумных философов», осужденные церковью и королевской властью, публично сожженные на площади палачом, затем переписываются от руки или зачитываются до дыр, что повсеместно появляются оскорбительные изображения всемогущего королевского канцлера Мопу или даже самого короля,что повсюду растет недовольство и что нет уже силы, которая могла бы его подавить или утишить. Особенности личной биографии Марата, позволившие ему начиная с юношеских лет медленно проходить по всем этажам социального здания, идти вперед, видя перед собой все шире раскрывающиеся горизонты, также не могли пройти для него бесследно. За недолгий срок он увидел современное ему общество во всех его разрезах — в застывшей неподвижности тихого Невшателя, в бурном кипении, алчной погоне за наживой торгового Бордо, в разительных социальных контрастах, в сложной противоречивости великого города Франции — Парижа и, наконец, в учащенном, напряженном биении пульса мировой столицы — Лондона. Это помогло тридцатилетнему писателю, впервые взявшемуся за разрешение общественно-политических проблем, увидеть и понять социальные противоречия современного общества неизмеримо полнее, острее и глубже, чем видел и понимал их автор «Общественного договора» и «Эмиля», искавший пищи для своих размышлений в строгом уединении. Как бы там ни было, но в обширной политической литературе шестидесятых-семидесятых годов восемнадцатого столетия «Цепи рабства» Марата остались произведением, конечно, не самым значительным, но, во всяком случае, в наибольшей мере проникнутым революционным духом. Впрочем, автору это сочинение ни славы, ни даже известности принести не могло хотя бы потому, что оно было издано анонимно. Многим позже Марат писал, что, «как только работа моя была обнародована, поднялось всеобщее брожение». Вероятно, писательское тщеславие, которого не чужд был и начинающий автор, толкнуло его на преувеличения. Если «Цепи рабства» неизвестного писателя и произвели какое-то впечатление на участников политической борьбы в Англии, то оно не могло быть ни слишком сильным, ни продолжительным. С лета 1774 года развернулись события неизмеримо более важные и привлекшие к себе всеобщее внимание — американская революция, война за независимость тринадцати английских колоний в Новом Свете. Растянувшаяся на долгие годы освободительная война американских повстанцев приковала к себе взоры всей Европы и заставила забыть о многом, что волновало раньше. Но если памфлет безвестного сочинителя, как и иная политическая литература избирательной борьбы 1774 года, был вскоре предан в Англии полному забвению, то для самого автора это сочинение имело очень большое значение. В нем Марат впервые определил систему своих взглядов по общественно-политическим вопросам. Это не были случайные и преходящие мысли. Замечательно, что философские и социологические взгляды Марата со времени «Цепей рабства» почти не подверглись изменениям. Конечно, жизнь ставила новые вопросы, в каждом следующем произведении появлялось нечто отличное не только по материалу, но и по его толкованию, в новой политической обстановке менялись политические взгляды Марата, в особенности его тактические взгляды. Иначе и быть не могло. Но система философско-социологических взглядов, сформулированная Маратом впервые в «Цепях рабства», оставалась на протяжении его последующей бурной революционной деятельности почти неизменной. Уже в этом первом своем произведении, посвященном общественно-политическим вопросам, Марат предстал как смелый и решительный революционный демократ. Таким он и остался до последних дней своей жизни.

ГЛАВА ШЕСТАЯ ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ

Прошло пятнадцать лет. В Париже, на улице Старой голубятни, в просторной квартире жил и трудился уже немолодой — ему шел пятый десяток — известный врач и ученый, доктор медицины Жан Поль Марат. В его приемной по утрам было всегда много народу. Люди разных возрастов, разных чинов и званий, и жители столицы, и прибывшие издалека, терпеливо ожидали, когда придет их черед. Пораженные самым тяжелым недугом с надеждой ожидали, когда откроются двери кабинета. Об этом докторе, приехавшем в Париж из-за границы, рассказывали самые удивительные истории; молва называла его чудесным исцелителем. Было известно, что доктор Марат возвратил зрение человеку, который более тридцати лет ничего не видел; это не было вымыслом досужих кумушек: имя этого человека было господин де Лилль. Доктор Марат был не просто лекарь, а еще и ученый. Он применял совершенно новые методы лечения — он лечил электричеством. Но, главное, у Марата-врача был зоркий, как бы проникающий во все глаз и тонкий слух. Диагноз он ставил быстро и безошибочно. Турский интендант дю Клюзе благодарил маркиза Шуазель за данный им совет пригласить к находившейся в опасном положении больной доктора Марата. «Этот просвещенный человек, — писал о Марате дю Клюзе, — …в один миг увидел то, что целому факультету удалось найти лишь после долгих наблюдений». Из уст в уста передавали рассказ о том, как доктор Марат добился исцеления больной маркизы Лобеспин, состояние которой считалось безнадежным. К доктору Марату обращались во всех тяжелых случаях как к единственному врачу, который может спасти жизнь, когда уже не остается никакой надежды. Господин Прево, главный казначей ведомства мостов и шоссейных дорог Франции, умолял спасти его жену и признавался, что возлагает на доктора Марата последние упования. Маркиз де Гуи настоятельно просил Марата прийти на помощь смертельно больному юноше, состояние которого было признано безнадежным. Но маркиз Гуи еще надеется на спасительную помощь доктора Марата, ибо он «врач неисцелимых». «Врач неисцелимых» — немногие из медиков того времени заслужили это почетное прозвание. Слава Марата как врача росла. Его приглашают ко двору. В течение ряда лет, с конца семидесятых по середину восьмидесятых годов, он состоит врачом при дворе графа Д’Артуа, брата короля Людовика XVI. Но двери его кабинета по-прежнему открыты для всех больных — богатых и бедных, знатных и бесправных. Его известность растет и растет. Сам Марат в одном из писем, относящихся к 1783 или 1784 году, так писал о своей деятельности и своем положении как лечащего врача: «Шум, вызванный моими блестящими излечениями, привлек ко мне колоссальную толпу народа. Двери мои постоянно осаждались лицами, которые приезжали со всех сторон советоваться со мной. Так как я был в то же время физиком, то знание природы давало мне огромные преимущества: быстрый глаз и уверенность приема…» Но доктор Марат не мог отдавать всего своего времени врачеванию больных. Он ограничивал прием, он, как о том свидетельствуют его письма, отказывался от приглашений. Часть помещения его обширной квартиры была отведена под лаборатории. Здесь находились тигли, здесь были колбы, пробирки, сложная аппаратура для физических опытов, для исследования невыясненных проблем оптики, изучения действия электрической энергии. Это был большой, заполненный сложными приборами физический кабинет, могущий показаться непосвященному таинственным и загадочным. Здесь Марат проводил долгие часы, ставя сложные опыты, проверяя свои догадки и наблюдения, накапливая терпеливым, упорным трудом большой экспериментальный материал, необходимый для обобщений по исследуемым проблемам физики. Две комнаты в доме Марата были отведены под другую лабораторию. Здесь врач-физиолог с помощью скальпеля производил опыты над живыми животными, здесь же он производил вскрытие трупов, которые ему доставлялись по его просьбе из госпиталей. Марат придавал этим своим занятиям большое значение. В письме к Вильяму Дэли — английскому физиологу и доброму его приятелю по Англии — Марат в декабре 1782 года писал: «Будьте совершенно уверены в том, мой друг, что искусство и известность в этой области (в медицине и в хирургии) можно приобрести только путем многочисленных и ежедневных упражнений над живыми объектами». Марат сам много и систематически работал в этой области. Он получал от мясников овец, телят, свиней и даже быков и производил над ними сложные хирургические эксперименты. В том же письме он писал: «Вы говорите, что не любите видеть невинных животных под скальпелем; мое сердце столь же мягко, как и ваше, и я также не люблю видеть страданий бедных тварей. Но было бы совершенно невозможно понять тайны, изумительные и необъяснимые чудеса человеческого тела, если не пытаться схватить природу в ее работе». И далее Марат рассказывал, что именно наблюдения работы мышц и различных свойств крови во время этих опытов позволили ему сделать ряд важных открытий. Часто его врачебный кабинет и лаборатории пустовали, и вечерами через освещенные окна дома на улице Старой голубятни можно было увидеть силуэт доктора, склонившегося над столом. Жан Поль Марат писал. Он старался писать каждый вечер с тех пор, как в 1769 году было опубликовано его первое печатное сочинение «Об одной глазной болезни» и остался ненапечатанным написанный в тот же год. роман «Польские письма». Но ведь Марат писал не только трактаты о глазных болезнях и неудавшиеся романы. Он ведь был и автором книги «Цепи рабства».
* * *
С тех пор как начинающий литератор анонимно опубликовал в Лондоне свой первый политический памфлет против произвола деспотической, власти, утекло немало воды и многое изменилось. Прогремела, потрясши весь мир, революция в Северной Америке. За океаном образовалась независимая республика. К немалому смущению людей консервативного образа мыслей, Франция и Испания, а позднее Голландия вступили в союз с нечестивыми мятежниками для совместной борьбы против Англии. Даже русская императрица Екатерина II, на поддержку которой уповал «искренне любящий брат Георг», и та неофициально принимала в Петербурге представителя молодой республики Френсиса Дрейна, что явно противоречило интересам «брата Георга». Конечно, европейские монархи в своей политике отнюдь не руководствовались гуманистическими симпатиями к мятежным повстанцам, взбунтовавшимся против «богом данного» монарха. У ряда континентальных монархий были свои счеты с Британской монархией и острота соперничества была так велика, что побуждала их скрепя сердце идти на сделку с врагами Англии — американскими повстанцами. В 1787 году началась русско-турецкая война. Союзником России выступала Австрия; Турцию негласно поддерживали Англия и Пруссия. Турки разгромили австрийскую армию. Русский флот под командованием Ушакова уничтожил в битве под Феодосией турецкий флот, а Суворов в знаменитом сражении у реки Рымник разбил наголову турецкую армию. Казалось, победа русского оружия завершает войну. Но летом 1788 года против России выступила подстрекаемая английской дипломатией Швеция. Война затягивалась. В самой Франции также совершалось немало изменений. В мае 1774 года умер старый король Людовик XV. В дни его болезни в Париже не только не заказывали молебнов о выздоровлении государя, как это водилось раньше, но почти открыто бросали по его адресу оскорбительные словечки. Было произведено множество арестов, но насмешки и враждебные королю разговоры не прекратились: для этого потребовалось бы посадить за решетку весь Париж. В стране смерть короля, с именем которого связывали все бедствия народа, была встречена со вздохом облегчения. Чувство надежды, большие ожидания, возлагавшиеся на нового монарха, на какое-то время прервали развитие кризиса. Могло казаться вначале, что с новым монархом многое действительно переменится. Первым актом девятнадцатилетнего короля был отказ от двадцати четырех миллионов, поднесенных ему по обычаю при вступлении на престол. Затем в августе были отправлены в ссылку ненавистные канцлер Мопу и аббат Террэ. Мопу при выезде из Парижа должен был сопровождать специальный конвой, чтобы народ не растерзал бывшего канцлера, олицетворявшего все преступления и злодеяния минувшего царствования. Король призвал на должность генерального контролера финансов, то есть фактически первого министра, Робера Тюрго. Тюрго — известный литератор, один из самых ярких представителей передовой экономической мысли того времени, так называемой школы физиократов— слыл человеком оригинального ума и больших талантов и убежденным сторонником буржуазных реформ. Решительный, самоуверенный, твердый в достижении намеченной цели, он сразу же взялся за проведение широкой программы преобразований. Он начал с отмены всех ограничений в торговле хлебом и введения полной свободы торговли зерном на территории всего королевства. На современников огромное впечатление произвела мотивировочная часть указа: впервые в правительственном документе употреблялись доселе запрещенные слова: «свобода» и «собственность»; они ласкали слух буржуа и вызывали негодование феодалов. Но раньше чем Тюрго успел приступить к следующим реформам, страну потряс новый взрыв народных волнений. Весной 1775 года в ряде деревень и городах — Дижоне, Понтуазе, Сен-Жермене, Париже, Версале — народ врывался в хлебные склады, амбары и магазины, силой взламывал их и забирал хлеб. В Понтуазе народ останавливал суда и баржи, груженные хлебом; в Mo, в Сен-Море, в Бри-Кон-Робере народ жег хлебные склады. Эти голодные бунты получили название «мучной войны». «Мучная война» 1775 года показала, до какой степени обнищания доведен народ многовековой феодальной эксплуатацией, как разорена страна, как еще резче ухудшилось положение крестьянства и плебейства за полвека последнего царствования. Народные выступления были подавлены жестокими репрессиями, вплоть до применения смертной казни. Тюрго продолжал осуществлять свою программу реформ. Он отменил дорожную барщину с крестьян, ввел некоторые налоги на привилегированные сословия, упразднил цеховые корпорации и гильдии. Эти реформы, имевшие в своем существе буржуазное содержание, встречали самую пылкую поддержку со стороны «партии философов» — всех «вольнодумцев», всех противников феодально-абсолютистского строя, значительной части третьего сословия. «Мы на заре более ясных дней», — писал в эти дни один из вождей «энциклопедистов», знаменитый философ и математик Жан Д’Аламбер. Когда в марте 1776 года по распоряжению короля были официально узаконены эдикты об отмене барщины, Париж был вечером иллюминирован и в городе появились освещенные транспаранты с надписями: «Да здравствует король и свобода!» Находились люди, поддавшиеся убаюкивающей иллюзии, что под скипетром юного и благородного короля будет проложен мирными средствами путь к торжеству свободы. Даже человек такого скептического ума, как Вольтер, и тот на какое-то время проникся этим настроением. Но эта реформаторская деятельность государственного контролера чем дальше, тем больше вызывала недовольство и даже ярость феодальной знати, высшего духовенства, всей придворной камарильи. В самой королевской семье она встречала открытое осуждение со стороны братьев короля и в особенности со стороны королевы Марии Антуанетты. Легкомысленная, взбалмошная, постоянно ищущая новых развлечений, непоколебимо уверенная в том, что все ее прихоти должны немедленно исполняться, юная французская королева, дочь могущественной императрицы Марии Терезии, не хотела мириться с чьим-либо влиянием на короля. Возненавидев Тюрго, она стала оказывать открытую поддержку всей реакционной аристократической знати, атаковавшей государственного контролера, поднявшего руку на старинные привилегии дворянства. Умный и смелый министр, поддерживаемый прогрессивными общественными силами, — и обворожительная настойчивая королева и стоящая за ней реакционная партия феодальной аристократии, приверженцев старины и дворцовых прожигателей жизни. Нерешительному и слабому королю трудно было сделать правильный выбор. С одной стороны, он санкционировал реформаторские меры Тюрго, а с другой- допускал открытые яростные атаки справа и тайные интриги против своего министра. Вольтер, быстро излечившийся от мимолетных иллюзий, был одним из первых, кто понял, — какими неисчислимыми грозными последствиями чревата эта внутренняя противоречивость политики нового короля. «Странное время переживаем мы и наблюдаем удивительные контрасты, — писал он в марте 1776 года. — Разум, с одной стороны, и нелепый фанатизм, с другой; государственный контролер, жалеющий народ, и парламент, угнетающий его; гражданская война у всех на уме, и заговоры во всех игорных домах. Спасайся, кто может!» «Спасайся, кто может!» — этот заключительный вывод, столь характерный для иронического ума Вольтера, показывал, как пессимистически он оценивал положение вещей уже в начале 1776 года. Действительно, полоса колебаний и шатаний из стороны в сторону не могла длиться долго. В мае 1776 года король уволил Тюрго; его ближайшие помощники — известный экономист Дюпон де Немур и аббат Бодо — люди передовых мыслей — были сосланы. На место Тюрго государственным контролером был назначен бывший интендант в Бордо — Клюньи, человек ничтожный и подозреваемый во многих злоупотреблениях. Все реформы и преобразования, осуществленные за первые два года царствования, во время правления Тюрго, были отменены. Стрелки часов были передвинуты назад. Абсолютизм был вновь восстановлен во всей его прежней силе. Марат, даже когда он жил в Англии, зорко следил за всем совершавшимся во Франции. Он поддерживал связи с французами, жившими в Англии, следил за французской литературой, приезжал на время во Францию. В 1776 году он приехал на несколько месяцев на континент, а в следующем году окончательно поселился в Париже. Все происходившее во французском королевстве с начала нового царствования лишь укрепляло его в прежних убеждениях. Уже в «Цепях рабства» он доказывал, что абсолютная власть, к каким бы приемам она ни прибегала, всегда действует в ущерб интересам народа. В главе, озаглавленной «Отстранять от должностей достойных и честных людей», он уже тогда предвидел все, что произойдет позже в его родной стране, что государь «вместо того, чтобы призвать к себе заслуги и добродетель, потихоньку отстраняет от управления честных и мудрых людей, тех, кто пользуется общественным уважением, и допускает только податливых людей или людей, ему преданных…». Это настолько подходило к политике Людовика XVI и его отношению к Тюрго, что можно было было предположить, будто строки эти написаны в 1776 году. В конце того же 1776 года умер Клюньи, и король, все еще окончательно не преодолевший внутренних колебаний, призвал к управлению финансами королевства женевского банкира Неккера. Неккер ловко вел свои собственные дела, нажил большое состояние, был богат, образован, слыл человеком прогрессивных взглядов и вместе с тем крайне осторожным и осмотрительным; словом, он был вполне приемлем и для двора и для крупной денежной буржуазии, считавшей его вполне «своим». К тому же Неккер обладал еще одним качеством, оказавшимся особенно ценным в данный момент. Он был убежденным противником экономических принципов физиократов и, в частности, Тюрго. Еще в 1774 году он опубликовал сочинение «О законодательстве и торговле хлебом», в котором в противоположность Тюрго доказывал вредоносность принципов свободной торговли и необходимость вмешательства государства во все сферы хозяйственной деятельности и государственного регулирования торговли хлебом. После падения Тюрго, когда опальный министр еще сохранял большую популярность в рядах третьего сословия, такой человек, как Неккер, оказался для двора истинной находкой. Ему простили некоторые смелые выражения в его сочинении, его протестантскую веру и привлекли к управлению финансами. Он был назначен в октябре 1776 года директором государственной казны и через год генеральным директором финансов. Звания министра, как протестант, он так и не получил, но его действительная роль была многим больше его скромного чина: управляя финансами королевства, которые всегда находились в расстроенном состоянии, он на деле управлял его важнейшими рычагами. Неккер пытался сократить расходы на чиновничий аппарат, сократить огромные суммы, поглощаемые двором. Он мог гордиться тем, что уменьшил расходы на свечи в королевском доме с четырехсот пятидесяти тысяч ливров до пятидесяти тысяч. Но он не мог помешать королеве Марии Антуанетте подарить своей фаворитке госпоже де Полиньяк четыреста тысяч ливров на уплату ее долгов и восемьсот тысяч на приданое ее дочери — само собой разумеется, за счет казны. Одним росчерком пера королева в три раза перекрывала — в расходной части — все достижения годовой экономии генерального директора финансов. При дворе стали вновь воскресать нравы минувшего царствования. Главным пороком нового двора стала карточная игра. Азартные игры были запрещены во всем королевстве. Но в Версале или в Марли, в королевских покоях, игра в фараон продолжалась до четырех или пяти часов утра. Королевский дворец был превращен в игорный дом. Играли азартно, на крупные суммы, проигрывая иногда за ночь целое состояние. Огромные долги отнюдь не считались чем-то предосудительным. Герцог Орлеанский, ближайший родственник короля, один из самых богатых людей в королевстве, гордился тем, что имел около семидесяти миллионов ливров долга. Кардинал Роган, человек весьма состоятельный, наделал долгов на два миллиона ливров. Непременными участниками сражений за ломбёрным столиком были королева Мария Антуанетта и братья короля. Во время игры решались важные государственные вопросы. Распечатывая колоду или тасуя карты, двумя-тремя словами договаривались о назначениях на высшие должности угодных лиц, о служебных перемещениях, о разных пожалованиях — доходных земель, пожизненной пенсии или баронского титула. Слово королевы было решающим: ее влияние на Людовика XVI в эти годы было огромным. Мария Антуанетта с неистощимой изобретательностью придумывала все новые и новые развлечения. Она хотела вернуть королевскому двору былой блеск — великолепие времен «короля-солнца», а самой быть в центре всеобщего поклонения. Празднества следовали одно за другим: балы в королевском дворце, пышные театральные представления, выезды всем двором на охоту. Королевская конюшня насчитывала около тысячи шестисот лошадей; их обслуживали тысяча четыреста слуг. В разоренной и обнищавшей стране королева придумывала сложные и очень дорого стоившие работы по перепланировке Версальского парка и перестройке дворца в Трианоне. Деньги текли из казны все ширящимся потоком. В 1781 году Неккер с разрешения короля, чувствовавшего приближение катастрофы, опубликовал отчет о состоянии финансов. Хотя из отчета были исключены все чрезвычайные доходы и расходы и сам отчет изрядно «подчищен», все же он произвел потрясающее впечатление на современников. Из опубликованных цифр. можно было составить хотя бы приблизительное представление о том, какие огромные суммы пожирает небольшая кучка людей и в каком бедственном состоянии находится королевская казна. Единственным практическим последствием опубликования отчета была отставка Неккера. Всегда колеблющийся король не решился поддержать своего директора финансов, подвергшегося яростным нападкам. Подчиняясь требованиям придворной камарильи, он заменил экономного Неккера расточительным Жоли де Флери, который начал с того, что восстановил все сокращенные предшественником должности, отменил Все его распоряжения, предусматривавшие сокращение расходов, и ввел новые налоги. Наступила полоса открытой, ничем не умеряемой и ничем не сдерживаемой реакции. В полном противоречии с глубинными экономическими процессами, с общим социальным и политическим развитием страны монархия и поддерживавшие ее привилегированные сословия пытались повернуть историю вспять. Вновь были восстановлены страшные «lettres de cachets» — тайные королевские приказы об аресте, позволявшие без суда и следствия бросить любого подданного короля в темницу. Снова начались аресты, ссылки, заключения в казематы Бастилии. Правительство и церковь начали преследования «партии философов», произведений «крамольной мысли». Не понимая, в какое неловкое и даже, более того, позорное положение они ставят правительство, власти в 1785 году запретили тридцатитомное собрание сочинений Вольтера — писателя, составлявшего национальную славу Франции, а несколько ранее сожгли на костре сочинение Рейналя. В эпоху полного торжества идей Просвещения, в век разума, огромных успехов точных и естественных наук, открытий Лавуазье, перелета Бланшара на аэростате через пролив Ла-Манш, в век расцвета французского материализма церковь и правительство вновь стали требовать признания божественного происхождения королевской власти. В армии пытались возродить старый, кастовый феодальный дух. В 1781 году был принят закон, согласно которому офицерские чины могли присваиваться только дворянам. Ни знания, ни умение, ни воинская доблесть, а четыре поколения принадлежности к «благородному сословию» открывали доступ в ряды командиров и призваны были обеспечить военную славу и безопасность страны. Новые управители финансами королевства — Жоли де Флери, Д’Ормессон и Калонн — заурядные и жадные до наживы чиновники, стремившиеся угодить и королеве и братьям короля с их фаворитами и фаворитками, но не забывавшие никогда и о собственном кармане, быстро довели страну до финансовой катастрофы. В особенности преуспевал в этом Калонн, эта «дырявая корзина», этот «мот, задолжавший и богу и дьяволу», как называли его современники, начавший свою министерскую деятельность с того, что заставил короля оплатить двести тридцать тысяч ливров своего собственного долга. Калонн возвел жульничество в государственную систему: он всех обманывал, всех обворовывал; он швырял казенные деньги направо и налево, создавая даже на короткое время видимость благополучия и чуть ли не процветания. Калонн за три года произвел займы на шестьсот пятьдесят три миллиона. К 1789 году государственный долг возрос до чудовищной цифры — четырех с половиной миллиардов ливров. За недолгое царствование Людовика XVI государственный долг увеличился в три раза; французское финансовое ведомство еще не знало таких фантастических цифр долговых обязательств. Четыре с половиной миллиарда! «Спасайся, кто может!» — этот иронически-проницательный призыв Вольтера 1776 года десятью годами позже был переиначен господствующим феодальным классом в цинически-немудреный принцип: «Живи сегодняшним днем!» Все танцевали. Королева кружила за собою весь двор в поисках развлечений. Красные каблучки придворных дам порхали по блестящему паркету залитых светом зал Трианона. Теперь уже не экономили на каких-то огарках. Старых дворцов в Версале стало мало для королевской четы. Король приказал купить для себя замок Рамбуйе, а для королевы замок в Сен-Клу. На это было истрачено казной шестнадцать миллионов ливров. Младший брат короля граф Д’Артуа умудрился наделать долгов на двадцать три миллиона; они были покрыты за счет казны. Казна оплачивала долги и его старшего брата — графа Прованского. За монархом следовала придворная знать. Принц де Роган-Гюмене, совершивший немало преступлений, объявил себя банкротом; не оплаченные им долги превышали тридцать миллионов ливров. Великое множество лиц было разорено вследствие этого банкротства. Принц Гюмене не был ни судим, ни даже наказан. Он отправился в свой замок в Дижоне, где предался пьянству. Его жена и соучастница преступлений, принцесса Гюмене, воспитательница детей короля, вынужденная после скандала покинуть свое место, прибыв к своему мужу, несостоятельному должнику, в его замок, прежде всего распорядилась построить там театр. Герцог Лозен хвастался тем, что задолжал свыше двух миллионов ливров; он не трудился вести счет своим расходам. Граф Клермон, имевший триста шестьдесят тысяч ливров ежегодного дохода, был горд тем, что сумел в два приема промотать все свое состояние. Знатные аристократические семьи, уже успевшие разориться, жили за счет королевских пенсий. Эти пенсии были достаточно высоки — они исчислялись в сотнях тысяч ливров. На одну лишь уплату пенсий знатным фамилиям из казны уходило ежегодно двадцать восемь миллионов ливров. Впрочем, сама собою понятно, что эту огромную для того времени сумму, как и иные баснословные расходы двора, оплачивали в конечном счете те, кто работал от зари до зари, ничего не получая и не пользуясь никакими правами: ее оплачивали крестьяне. Провинциальное дворянство, заскорузлые Дворяне-помещики, которые не могли рассчитывать, подобно придворной знати, на милость монарха, отнюдь не намеревались ограничивать свои аппетиты и удовлетворяли их все в том же источнике. Крестьянин должен был всех накормить: и короля, и королевский двор, и высшее духовенство, и придворную челядь, и армию, и огромный чиновничий аппарат, и, конечно же, своего сеньора. Годы царствования Людовика XVI были отмечены новым явлением — дальнейшим усилением феодальной эксплуатации крестьянства. Помещики при поддержке суда и местных властей восстанавливали давно забытые, потерявшие реальный смысл феодальные права и привилегии. И хотя эти «выветрившиеся» права давно уже не имели практического значения и применения, помещики их использовали как юридические основания для введения новых поборов с крестьянства. Эта политика, вдохновленная все тем же принципом — «Живи сегодняшним днем!», была безрассудна, слепа, гибельна для дворянства. Усиливая и без того непомерную эксплуатацию крестьян, помещик рубил сук, на котором он сидел. Разоряя крестьянина, живший за счет его труда сеньор разорял и себя. Крестьянство, доведенное бесконечными поборами и повинностями помещика, церкви, государства до предельной степени нищеты и истощения, отвечало на это новое наступление феодальной реакции бурными волнениями и даже восстаниями. Вначале в первой половине восьмидесятых годов крестьянские восстания были еще локально ограничены: они происходили главным образом в провинциях Виварэ, Живодане — районе Севеннских гор, где уже не раз вспыхивали крестьянские мятежи. Но с 1786 года крестьянские выступления стали возникать уже в разных частях королевства: нужда стала столь нетерпимой, что во множестве провинций доведенные до отчаяния крестьяне стали браться за вилы и топоры. Правда, большинство крестьянских выступлений предреволюционных лет еще не были прямо направлены ни против монархии, ни против властей, ни даже против своего сеньора. Крестьяне чаще нападали на судебные учреждения и сжигали феодальные документы, являвшиеся, как им казалось, главным источником их бед. Но нарастание волны крестьянских выступлений и бунтов само по себе было грозным симптомом. Наряду с крестьянством на борьбу поднималось и плебейство — городская беднота. Уже в семидесятых годах голодные бунты, нападения на продовольственные склады и магазины происходили в Руане, Реймсе, Дижопе, Невере, Лионе, Париже и других городах. Во второй половине восьмидесятых годов, особенно начиная с 1788 года, голодные бунты вновь вспыхнули в ряде городов — Лилле, Камбре, Дюнкерке, Марселе, Тулоне, Эксе и других — с прогрессирующей силой. Народ требовал хлеба и дешевых цен на продукты питания. Все пришло в движение. Все были охвачены недовольством. Сознающая свою силу, экономически могущественная, политически бесправная, буржуазия проявляла готовность идти на союз с народом, чтобы добиться власти. Все третье сословие сплачивалось против феодально-абсолютистского режима; классово неоднородное, оно выступало единым в борьбе против абсолютистского произвола. «Партия философов», «партия вольнодумцев», преследуемая и травимая правительством и церковью, приобрела такое моральное влияние и авторитет, каким она ранее никогда не располагала. Когда Вольтер в 1778 году, после двадцатилетнего перерыва, приехал в Париж, он был встречен такими шумными овациями, таким единодушным и бурным проявлением чувств уважения, симпатии, восхищения, которых не удостаивался король даже в первые, лучшие годы своего царствования. Восьмидесятичетырехлетний Вольтер вступил в столицу Франции триумфатором. Сторонний наблюдатель Денис Иванович Фонвизин, автор «Недоросля», путешествовавший в тот год по Европе и оказавшийся в марте — апреле в Париже, так передал в одном из писем свои впечатления о восторженном приеме, оказанном знаменитому писателю: «Прибытие Вольтера в Париж произвело точно такое в народе здешнем действие, как бы сошествие какого-нибудь божества на землю. Почтение, ему оказываемое, ничем не разнствует от обожания. Я уверен, что если б глубокая старость и немощи его не отягчали и он захотел бы проповедовать теперь новую какую секту, то б весь народ к нему обратился…» И далее Фонвизин рассказывал, какие почести оказывались Вольтеру в Академии, в театре, на представлении его трагедии «Ирена», на улице, где огромные толпы народа сопровождали с факелами в руках карету знаменитейшего из французов, приветствуя его до самого дома возгласами: «Да здравствует Вольтер!» В этих стихийно возникших, общенародных манифестациях весной 1778 года, потрясших Париж, а за ним и всю Францию, проявлялось не только признание великого таланта и больших заслуг писателя, в них выражалось одобрение той политической критике слева, тому духу «вольнодумия», авторитетнейшим представителем которых в глазах народа был Вольтер. Великий писатель, не выдержав огромного душевного и физического напряжения этих дней триумфа, в мае 1778 года умер в Париже. Другой «властитель дум» современников, обретший огромное, еще большее, чем Вольтер, влияние на молодых людей своего века, — Жан Жак Руссо, умер в том же 1778 году. Руссо никогда не испытывал таких волнующих часов общенародного признания, которые довелось пережить Вольтеру. До последних своих дней он жил все той же неустроенной, нескладной, бездомной жизнью. «И вот я один на земле, без брата, без ближнего, без друга — без иного собеседника, кроме самого себя», — так начинал Руссо последнее свое произведение, начатое за два года до смерти. Недоверчивый, подозрительный, чувствовавший себя всегда чужим среди своих великосветских поклонников, он не искал громкой славы и шумным встречам предпочитал «прогулки одинокого мечтателя»2. Он умер в чужом доме, в Эрменонвиле, в имении маркиза де Жирарден, куда он бежал из опостылевшего ему Парижа. Но когда «одинокого мечтателя» не стало, вся молодая Франция оплакивала потерю великого человека, которого она вскоре провозгласила «апостолом равенства». Через несколько лет умерли Дидро, Д’Аламбер, Мабли, Гольбах, несколькими годами раньше — Гельвеций. Самые выдающиеся представители «партии вольнодумцев» один за другим сходили со сцены… Век Просвещения не закончился со смертью самых замечательных его представителей — он продолжался. Молодые люди, знавшие уже Вольтера или Руссо по мраморным бюстам или потемневшим переплетам их книг, побывавших в руках сотен читателей, открывали в этих пожелтевших страницах новый, сокровенный смысл. Они прочитывали эти старые сочинения глазами поколения, приближавшегося вплотную к революции, и для них идеи и слова великих классиков восемнадцатого столетия приобретали болеё радикальный, а порою даже более революционный смысл, чем тот, который придавали ему некогда авторы. Новая поросль литераторов — публицистов, философов, социологов, драматургов, поэтов — продолжала дело старшего поколения. Среди них не было звезд первой величины, «титанов», какими представлялись теперь отделенные уже несколькими годами посмертной славы Вольтер, или Руссо, или вся великая плеяда «энциклопедистов». Но эти новые писатели, пришедшие им на смену, были в некоторых отношениях смелее, решительней; они выдвигали на первый план политические вопросы и трактовали их в радикальном духе, острее и дерзновеннее. Разносторонне талантливый Антуан Никола де Кондорсе, математик и социолог, поборник идеи народного суверенитета; публицист и социолог Жан Пьер Бриссо; последователь Руссо, автор «Размышлений гражданина» Госселен; плодовитый автор социальных романов с утопическими мечтаниями Ретиф де ла Бретонн; наблюдательный, зорко видевший бытописатель «Картин Парижа» Луи Себастьян Мерсье; острый памфлетист, человек большого таланта и необузданных страстей, честолюбивый, жадный к жизни граф Оноре де Мирабо; умный, расчетливый, резко ставивший в своих памфлетах главные политические вопросы аббат Сиейс — таковы были лишь наиболее известные из имен нового, младшего поколения политических писателей, продолжавших дело прославленных литераторов «века разума». Между этими новыми авторами, овладевшими общественным вниманием, были немалые различия в политических взглядах, программных целях и, наконец, в таланте. Но при этих существенных различиях всех их объединяло глубокое отвращение к абсолютистскому режиму и его институтам, сознание необходимости больших политических и социальных перемен. Все они — каждый по-своему — революционизировали умы и сердца своих соотечественников. Может быть, в еще большей мере подготовке общественного сознания к надвигавшейся революции помогали мастера, чье творчество по самой своей природе казалось далеким от передовой политической литературы. Талантливый, насмешливый, блестящий комедиограф и памфлетист, «колкий Бомарше» «Севильским цирюльником» и в особенности «Женитьбой Фигаро», имевшей беспримерный успех у французских зрителей, повлиял на развитие революционных чувств своих современников, несомненно, сильнее, чем авторы философских трактатов или политических памфлетов. Освободительные идеи мужественной поэзии Андре Шенье предреволюционных лет производили на его молодых читателей большое впечатление. Когда Жак Луи Давид, создатель революционного классицизма во французской живописи, показал на выставке в Париже в 1785 году свою картину «Клятва Горациев», величавая строгость и трагический героизм этого поразительного произведения гения потрясли современников. В этой картине, так мастерски воссоздававшей драматический сюжет прошлого, зрители увидели самое современное и самое революционное творение искусства из всех запечатленных на холсте. Люди, не прославившиеся ни в науке, ни в искусстве, но завоевавшие известность своими делами — участием в революционной войне в Америке: молодой маркиз де Лафайет, в двадцать с чем-то лет ставший генералом американской армии; три брата: Теодор, Шарль и Александр де Ламет, отправившиеся за океан сражаться за свободу молодой республики; молодой граф Анри де Сен-Симон, будущий великий социалист-утопист, и другие участники американской войны, — пользовались сочувственным вниманием общества. Среди этого множества новых имен, зазвучавших со сцёны общественной жизни Франции восьмидесятых годов, были люди разного исторического масштаба, разных дарований, разных судеб. Позже дороги их круто разойдутся; единомышленники станут противниками, друзья превратятся во врагов. Но в это последнее десятилетие перед революционной бурей, когда уже явственно чувствовалось ее приближение и тем труднее было мириться со ставшим давно невыносимым произволом деспотической власти, они все выступали сообща, все атаковали ненавистный режим; они были товарищами по оружию в борьбе против общего врага. Но было ли слышно среди этих имен, уже ставших известными и во Франции и за ее пределами, имя Жана Поля Марата? Автор «Цепей рабства», еще давно, еще при жизни великих Вольтера, Жана Жака Руссо, Дидро, выступивший с вполне самостоятельный политическим произведением, которое даже тогда выделялось своим революционным духом, оставался ли он и позже, пятнадцать лет спустя, одним из передовых политических писателей эпохи, овладевших умами нового поколения? Нет, Жана Поля Марата не было в ряду этих имен. Он не шел в авангарде французской общественной мысли, его имя в течение этих лет очень редко встречалось на страницах политической литературы. Марат не стал за это время иным; он ни в чем не Изменил своим политическим убеждениям и взглядам, сформулированным в «Цепях рабства». Он не потерял интереса к общественной жизни, не стал равнодушным к судьбам своей страны. Напротив, он зорко следил за всем совершавшимся в мире; он принимал близко к сердцу страдания своего народа; он жадно вглядывался в менявшиеся на его глазах политические условия в стране. Эти долголетние наблюдения за затянувшейся агонией изжившего себя политического строя откладывались в его памяти и укрепляли его давнишние убеждения. Наступит срок, и все накопленное за эти пятнадцать лет наблюдений, оценок и размышлений будет пущено в оборот. Тогда станет очевидным, что эти предреволюционные годы не прошли бесследно в политической биографии Марата. Когда он выступит как боец с поднятым забралом на поле политических сражений, тогда станет ясным, что оружие оттачивалось на протяжении всех этих лет.
* * *
Со всей цельностью своей натуры, с присущей ему способностью полностью отдаваться тому, что его целиком захватывает, Марат все эти пятнадцать лет посвятил поискам решений увлекавших его проблем медицины и физики. Марат творил. Результаты своих лабораторных занятий, своих опытов над животными, своих экспериментов над действием электрической энергии, над созданием «огненных флюидов», над решением спорных вопросов оптики он подытоживал и обобщал в ряде научных сочинений. Его работоспособность, его творческая энергия были поразительны. В 1777 году Марат окончательно переселился в Париж и начал свою медицинскую практику и вскоре же после этого свои лабораторные опыты. Уже через два года, в 1779 году, в Париже вышел его первый научный труд, посвященный проблемам физики. Он назывался: «Открытия доктора медицины и врача лейб-гвардии графа Д’Артуа Марата об огне, электричестве и свете, подтвержденные рядом новых опытов, засвидетельствованных господами комиссарами Академии наук». В следующем, 1780 году были опубликованы два новых научных труда доктора Марата: «О физических свойствах огня» и «О свете». Последний, сопровождаемый также описанием ряда опытов, засвидетельствованных комиссарами Академии наук, представлял собой обширное сочинение, свыше двухсот страниц текста. Через два года в Париже было издано еще более крупное исследование: «Изыскание о физических свойствах электричества», представлявшее собой объемистый том, насчитывавший более четырехсот пятидесяти типографскихстраниц. Еще через два года увидели свет новые научные труды доктора Марата: «Элементарные понятия оптики» и «О применении электричества в медицине». За ними последовали перевод на французский язык «Оптики» Ньютона (1787 г.) и, наконец, в 1788 году первое Собрание научных трудов Марата по физике и оптике, изданное под названием «Сочинения г. Марата. Академические мемуары». Позднее Марат в своей автобиографии писал: «Я имею восемь томов изысканий метафизических, анатомических и физиологических о человеке. Я сделал двадцать открытий в различных областях физики; многие из них у нас давно опубликованы, другие находятся в моих папках…» Конечно, научный вклад ученого, в особенности работающего в области физики или других точных наук, при оценке его менее всего поддается количественному измерению. Нельзя, однако, не поражаться самому объему научной продукции Марата. За этим сухим перечнем названий явственно ощущается огромный труд ученого, неустанное напряжение творческого созидания. Что вдохновляло Марата на это подвижничество? Поиски славы? Стремление к богатству? Честолюбивые замыслы? Марат в одном из писем откровенно отвечал на эти вопросы. «Почти всю жизнь я провел в своем кабинете, никогда не создавал планов обогащения и никогда не брался ни за какое выгодное предприятие. Замечательно то, что в продолжение, шести лет я отказывался от богатств, которые мог приобрести, практикуя свое искусство, исключительно из желания предаться наслаждению научных занятий». «Предаться наслаждению научных занятий» — так мог сказать только подлинный ученый, умеющий выше всего ценить охраняемые настороженной тишиной недолгие часы творческих поисков и счастливых находок. Но, мог ли автор «Цепей рабства», подошедший в молодости вплотную к решению коренных политических проблем, волновавших его соотечественников, забыть, оставить навсегда эти жгучие темы? Социально-политические проблемы — область, в которой Марат однажды уже сумел сказать свое новое слово, — продолжали притягивать его. Он и не мог оставаться к ним равнодушным, ибо сама жизнь, врывавшаяся в окна кабинета ученого на улице Старой голубятни, каждодневно, ежечасно напоминала о них. Но всецело поглощенный своими физическими опытами и исследованиями, которые, раз будучи начатыми, требовали все новых и новых экспериментов для нахождения ускользающего решения, Марат лишь урывками, на короткое время возвращался к тематике своей молодости. До нас дошли лишь две его работы, относившиеся к социально-политической проблематике: «План уголовного законодательства» и «Похвальное слово Монтескье». Первая работа была написана, видимо, в конце семидесятых годов и впервые опубликована в 1780 году. «Похвальное слово Монтескье» было написано в 1785 году, при жизни автора не издавалось и увидело свет лишь шестьдесят лет спустя после его смерти. Оно интересно лишь как свидетельство большого уважения Марата к этому писателю; в остальном же эта работа большого значения не имела: она представляла собою краткое изложение идей Монтескье, или, точнее говоря, его главного труда «О духе законов». «План уголовного законодательства» имел большую ценность. История возникновения этой работы такова. Под влиянием огромного успеха нашумевшей книги итальянского просветителя Беккариа «Трактат о преступлениях и наказаниях»3 многие научные учреждения и общества в Европе проявили большой интерес к поднятым Беккариа вопросам. Одно из научных учреждений такого рода — «Экономическое общество в Берне» — в 1777 году объявило конкурс на сочинение плана уголовного законодательства со сроком представления работ в 1779 году. Марат принял участие в этом конкурсе. Его прельщал не материальный эффект (премия была более чем скромной), не слава (захолустное «Экономическое общество в Берне» даже в случае успеха не могло ее принести); Марата, несомненно, интересовали те социально-политические проблемы, которые надлежало в этом сочинении разрешить. «План уголовного законодательства» не вносит чего-либо принципиально нового по сравнению с «Цепями рабства». Как и «Цепи рабства», «План уголовного законодательства» не свободен от внутренних противоречий. Так, например, Марат пытается сочетать идею Руссо о происхождении государства в результате соглашения людей с ранее развивавшейся им мыслью о том, что государство возникло в результате насилия. Важнее, однако, другое: понимание насильственного характера государства на всех стадиях его возникновения и развития, хотя и затемненное противоречивым сочетанием с учением о естественном праве и общественном договоре, все же позволяло Марату прийти к ряду важных выводов. Рисуя историю общественной борьбы как цепь непрерывных насилий богатых над бедными, сильных над слабыми и рассматривая эти насилия как систематические нарушения естественного права, Марат логически приходил к выводу о праве угнетенных и бедных силой добиваться освобождения от гнета. «Окиньте взором большинство населяющих землю народов, и что вы увидите? Лишь жалких рабов и властных господ. Разве существующие там законы не являются лишь указами повелителей?» Марат делает отсюда вывод, что «в мире нет ни одного правительства, которое можно было бы счесть законным», и он в дальнейшем подробно доказывает, как, покушаясь на священные права истинного суверена — народа или его представителей, — монархи, присваивая не принадлежащие им права, сами совершают государственные преступления. Но Марат идет дальше. Он пишет: «На земле, повсеместно заполненной чужими владениями, где неимущие ничего не в состоянии себе присвоить, им остается лишь погибать с голоду. Неужели же, будучи связаны с обществом лишь одними невыгодами, они обязаны уважать его законы?» Марат дает на этот вопрос отрицательный ответ. Неимущие, бедные, которых общество оставляет на произвол судьбы, не должны себя считать связанными законами; они должны силой добиваться восстановления своих попранных прав. Марат неоднократно подчеркивает, что главным содержанием общественной борьбы последнего времени является борьба между угнетенными и угнетателями, между бедными h богатыми. И он отчетливо формулирует неоспоримое право бедняков и угнетенных на восстание с оружием в руках. «Чем обязаны они своим угнетением? Далекие от обязанности уважать их порядки, они с оружием в руках должны требовать от них восстановления своих «священных прав». Безоговорочно, как и в «Цепях рабства», оправдывая право бедных и угнетенных на восстание, Марат, естественно, подвергает жестокой критике деспотическую власть и политические учреждения, угнетающие слабых и бедных или препятствующие осуществлению их естественных прав. Он ведет речь в гневном, обличительном тоне. Целая глава в его трактате посвящена мнимым государственным преступлениям, изобретаемым продажными юристами, подводящими под эту статью все, что совершается против государя. Суждения Марата по этому вопросу проникнуты боевым, задорным демократизмом. Интересы государства и интересы государя для него не только не тождественны, как это представляют слуги монарха-деспота, но большей частью противоположны. В частности, Марат решительно отвергает толкование сочинений, направленных против монарха, или покушения на его жизнь как государственных преступлений. Убийство монарха должно быть караемо так же, как карается простое убийство. В «Плане уголовного законодательства» Марат должен был, естественно, еще раз определить свое отношение к собственности. В этом произведении Марат, как и раньше, далек от какого бы то ни было отрицания института частной собственности вообще, и в этом его позиция до последних дней жизни остается неизменной. Марат никогда не был коммунистом-утопистом; он не разделял коммунистических идей Мелье, Морелли, Мабли. Но Марату в то же время чуждо столь характерное для большинства буржуазных политических писателей и политических деятелей конца восемнадцатого столетия почтительное преклонение перед институтом частной собственности как священным и непререкаемым Правом. Марат, придерживавшийся уравнительных идей Руссо, уже в «Цепях рабства» право частной собственности объявлял правом условным. В «Плане уголовного законодательства» эта ограничительная трактовка права собственности подчеркнута еще резче и определеннее. «Право владения вытекает из права на существование, — пишет Марат, — таким образом, все необходимое для продления нашей жизни принадлежит нам и до тех пор, пока остальным недостает самого необходимого, никакой излишек не может принадлежать нам на законных основаниях». Этой отчетливой формулировкой Марат ясно определяет, что право собственности, по его мнению, законно и правомочно лишь в той мере, в какой оно не противоречит первейшему праву — праву на существование. Смелый революционный дух, который был присущ его первому политическому памфлету «Цепи рабства», еще сильнее чувствуется в новом сочинении. «План уголовного законодательства» вновь подтвердил, что в решении основных социально-политических вопросов своего времени Жан Поль Марат остался на позициях боевого революционного демократизма. «Довольно, слишком долго эти ненавистные тираны опустошали землю. Их царство идет к концу, светоч философии уже рассеял густую мглу, в которую они ввергли народы. Осмелимся же приблизиться к священной ограде, за которой укрывается самовластие, осмелимся разорвать мрачную завесу, скрывающую от глаз его происки; осмелимся вырвать из его рук это страшное оружие, всегда губительное для невинности и добродетели. Пусть при этих словах тупые рабы бледнеют от испуга — они не оскорбят слуха свободных людей. Счастливые народы, вы, сорвавшие тяжкое ярмо, под которым стонали, счастьем вашим вы обязаны именно этой благородной отваге». Человек, написавший эти строки, не мог быть кабинетным ученым, укрывшимся за четырьмя стенами от кипящего потока жизни. Пожалуй, ни в одном другом произведении французской политической литературы предреволюционного десятилетия не чувствуется так явственно приближения надвигающейся революционной бури, не звучит так уверенно и смело дерзновенный призыв идти навстречу ее ветрам. Доктор Марат, физиолог и физик, увлеченный разрешением тайн науки, оставался верным ciîhom своего народа, ненавидевшим его врагов, обличавшим тиранию абсолютистского режима, готовым, как только протрубит рог, вступить с ним в жестокую борьбу.
* * *
Но рог еще не трубил, гроза еще не пришла; еще только сгущались тучи на горизонте, и один из самых революционно мыслящих политических писателей Франции отбрасывал прочь перо и снова возвращался к своим тиглям и колбам. Здесь тоже продолжалась борьба. Это была не только борьба с природой, терпеливое и настойчивое стремление овладеть ее тайнами, с тем чтобы заставить ее еще лучше служить человечеству. Природа была другом человека и могла еще щедрее оделить его своими неисчислимыми дарами, если только найти верный ключ к потайным дверям ее сокровищниц. Труднее, тяжелее была борьба с теми, кто охранял подступы к овладению тайнами природы, — со жрецами науки, кастовыми учеными, с официальной наукой, королевской Академией наук, освященной благоволением ее августейшего покровителя и поддержкой неограниченной монархии. Путь Марата в науке не был ни простым, ни легким. За двадцать пять лет неустанных научных трудов он сумел создать себе имя и приобрести известность в ученом мире Европы и Америки. Бенджамен Франклин, знаменитый американский ученый-физик и политический деятель, с большим уважением отзывался о научных трудах Марата в области физики. Марат поддерживал с ним оживленную переписку. Гёте в своем «Учении о цветах» также сочувственно писал о научных изысканиях доктора Марата. В 1783 году в Лейпциге в переводе на немецкий язык, с предисловием и примечаниями Ш. Вайгеля вышли работы Марата о свете. Вайгель в предисловии подчеркивал крупное значение трудов Марата для современной науки. Высокую оценку опытов и научных открытий доктора Марата в области физики можно было встретить на страницах ряда научных журналов того времени. Марат рассказывал, что один «северный монарх приглашал приехать в его государство для работы по вопросам физики». Он получал и иные заманчивые предложения и неизменно отвергал их. Правда, одно из таких соблазнительных предложений он принял. Речь шла о том, чтобы в Испании, в Мадриде, была создана королевская Академия наук и доктор Марат возглавил ее в качестве президента. Переписка Марата с его другом Румом де Сен-Лореном, переехавшим из Парижа в Мадрид, относящаяся к 1783 году, свидетельствует о том, что Марату нравилась эта идея и он хотел стать во главе Испанской Академии. Марата более всего соблазнила, вероятно, возможность широко, не заботясь о копеечной экономии, ставить научные опыты; в Париже ему все приходилось делать за свой счет, и все его крупные заработки Шли на оплату дорогостоящих экспериментов. Ему должна была также импонировать полная научная самостоятельность и независимость; он был бы освобожден также от треволнений и забот непрерывной войны с Парижской Академией, поглощавшей немало его сил. Словом, он страстно желал получить эту высокую академическую должность, и некоторые из своих писем Руму де Сен-Лорену он предназначал не только для своего корреспондента, но и для испанского министра графа Флорида Бланка, а возможно, и для испанского короля, от которых зависело осуществление этого плана. Одно время казалось, что вопрос уже решен и дело близко к осуществлению. Марат нетерпеливо ждал последнего уведомления от своего друга из Мадрида. Но окончательное решение всё оттягивалось. Наконец Рум де Сен-Лорен, еще не теряя надежды на благоприятный исход дела, решил раскрыть Марату истинные причины задержки его приглашения в Мадрид. Кандидатура Марата встречала решительные возражения, но не в самом Мадриде, а в Париже. На Флорида Бланка оказывалось энергическое давление из французской столицы: академические круги Парижа чернили в глазах испанского министра доктора Марата; в доверительных письмах, к которым в Мадриде прислушивались, считаясь с высоким научным рангом их авторов, доказывалась полная непригодность Марата для намеченного ему почетного и ответственного поста в испанской столице. Марат ответил Руму де Сен-Лорену пространным письмом, датированным 20 ноября 1783 года. Он приложил к нему множество документов. В сущности, это была обширная докладная записка, предназначенная для высших испанских должностных лиц — для министра, может быть, даже для короля, в которой сжатая сводка фактов, должна была красноречивее слов опровергнуть все выдвигавшиеся обвинения. Письмо было написано в сравнительно сдержанном тоне, но за этим внешним спокойствием чувствовалась ярость Марата. Да он вовсе и не думал скрывать или преуменьшать своих разногласий, своих споров, своей борьбы с Французской Академией. Марат рассказывает в этом письме об истории этой долголетней распри. Он напоминает о том, что его первые опыты, когда он еще не поссорился с влиятельнейшими членами Академии, встречали с ее стороны сочувствие и одобрение. Так, в 1779 году Парижская Академия выделила комиссию в составе графа Мальбуа, ле Руа, Сажа и других, которая ознакомилась со ста двадцатью опытами доктора Марата, подтверждающими его изыскание об огненном флюиде. Комиссия признала его работу «очень интересной» и установила, что она «содержит ряд новых опытов, удачно, добросовестно поставленных, открывающих широкое поле для исследований физиков». Казалось бы, научные изыскания Марата в области физики с самого начала получили заслуженное признание со стороны Академии. Но это длилось недолго. Вскоре же между доктором медицины, успешно экспериментирующим в области физики, и руководителями Парижской Академии возникло отчуждение, а затем и открытый разрыв. Что послужило причиной ссоры? Марат рассказывает об этом так: некоторые видные члены Академии посещали его и спрашивали, не собирается ли он вступить в ее ряды. «Мой ответ, — пишет Марат в том же письме, — плохо понятый, был принят за презрительный отказ. Отсюда и начались преследования». Такова версия возникновения ссоры, которую дает самый осведомленный ее участник, являющийся, однако, в то же время и наиболее заинтересованной стороной. Возможно, что так оно вначале и было. Возможно, что первое взаимное охлаждение и, видимо, взаимное раздражение возникли на почве недоразумения. Нет причин не доверять рассказу Марата. Но не подлежит сомнению, что вскоре же к этой малосущественной причине, которую правильнее рассматривать скорее как внешний повод, прибавились и более важные. Парижская Академия была учреждением официальным, находившимся под покровительством и наблюдением высших властей монархии. Хотя в ее состав входили и некоторые выдающиеся ученые, но не они задавали тон и определяли ее лицо. В целом Академия в восемнадцатом веке и особенно во времена последнего короля была казенным и ретроградским учреждением: здесь господствовали косность, рутина, чинопочитание, боязнь нового. Ленгэ, известный философ и экономист восемнадцатого столетия, говорил о членах Академии: «Они обладают хорошим желудком, но плохим сердцем». Марат в науке, в специальных ее отраслях: медицине, физике, оптике — оставался столь же самостоятельным и независимым, как и в вопросах политики и во всем остальном. Он шел своей дорогой и отнюдь не намеревался робко и терпеливо дожидаться милостей высокого научного учреждения. Марат смело вступил в борьбу со своими могущественными и многочисленными противниками. Как всегда, он вел эту борьбу с поднятым забралом. «На одного мудрого сколько пустых и поверхностных людей?» — писал позднее Марат об официальных ученых своего времени. Позже он посвятил ученым Парижской Академии специальной памфлет «Современные шарлатаны», дышавший яростью; опубликовать его, однако, ему удалось лишь в годы революции. Конечно, борьба Марата против официальной науки приносила ему лишь одни поражения. Ни его обширная памятная записка, ни подтверждающие ее документы, пересланные через Рума Сен-Лорена испанским властям, не смогли их переубедить. Голоса французских академиков звучали для испанского министра громче и убедительнее самооправданий доктора Марата. Желанное место президента Испанской Академии наук ускользнуло навсегда, и рассчитывать на что-либо равноценное также не приходилось. Все попытки пробиться в провинциальные академии также оканчивались неудачей: академический цех был связан круговою порукою. Марат порою прибегал к хитростям: он пересылал свои работы в провинциальные академии, скрывая свое имя. Так, одна из работ Марата о влиянии электричества на излечение болезней, посланная им анонимно в Руанскую Академию, была удостоена премии. В письме к Руму де Сен-Лорену Марат по этому поводу с горечью замечал: «В конце концов этот маленький успех вас убедит в том, что даже и академии отдают мне справедливость, если я соблюдаю инкогнито!» В своей борьбе против академического цеха, против официальных французских научных учреждений Марат был прав в главном. Он представлял в науке Передовую, смелую, ищущую мысль, не боявшуюся ни авторитетов, ни нарушения канонов. Он выступал новатором и хорошо сознавал, что именно это — смелость и новизна прокладываемых им путей — вызывало раздражение официальных академических бонз. В предисловии к своим «Академическим мемуарам», говоря о препятствиях, которые ему приходилось преодолевать, он писал: «Но такова судьба всех новаторов… Тот не может быть апостолом истины, кто не имеет смелости быть ее мучеником». Справедливость требует признать, что в полемическом увлечении Марат порою заходил слишком далеко и давал некоторым ученым своего времени характеристики, которых те вовсе «е заслуживали. Так, например, он был совершенно не прав, называя выдающихся ученых физика Вольта и химика Лавуазье, сохранивших свои имена в науке, шарлатанами. Он был также не прав, пристрастен и несправедлив в оценке таких крупных французских просветителей, к тому же стоявших в оппозиции к официальной науке, как Вольтер, Дидро, Д’Аламбер. Его полемическая горячность, безбоязненная готовность увеличить число своих противников усложняли борьбу с главными его врагами — учеными Академии, охраняемыми своим высоким саном и могущественной поддержкой монаршей власти. Правда, Марат за долгие годы своей борьбы В неравных условиях — один против многочисленных, укрепившихся в несокрушимых позициях врагов, — приобрел и сторонников, почитателей таланта, уверовавших в его правоту. Среди них были и люди знатного происхождения, занимавшие определенное место в академическом мире: граф Мельбуа, Дон-Гурден, герцог Виллеруа. Некоторое время большое внимание к нему проявлял маркиз Кондорсе, известный ученый, позднее один из вождей жирондизма. Мы не говорим здесь о Руме де Сен-Лорене, ставшем его другом и необычайно высоко ценившем таланты Марата и искренне верившем в большую роль, которую он призван сыграть в науке. По странной иронии судьбы, человеком, не только поверившим в исключительные способности непризнанного официальной наукой ученого, но и выступившим публично, на страницах печати в его защиту, был будущий непримиримый, смертельный враг Друга народа — Пьер Бриссо. Пьер Жан Бриссо, присоединивший позднее к своей фамилии так хорошо звучавшее добавление: де Варвиль, Бриссо де Варвиль, вовсе не был человеком знатного происхождения, как это могло показаться по имени, которым он любил подписываться. Сын трактирщика, выходец из провинциальной, небогатой и далеко не знатной среды, не имея ни имени, ни средств, ни связей, Бриссо, подобно сотням других молодых людей, полных решимости завоевать мир, в котором они были ничем, должен был сам себе пробивать дорогу к славе. Мелкий клерк, испытавший с первых же своих самостоятельных шагов гнетущее ощущение одинокости, непризнанности, Бриссо, естественно, с жаром набросился на произведения писателей Просвещения, осуждавших общественный строй, который был так несправедлив и к нему, полному дерзновенных мечтаний бедному юноше, и стал их горячим приверженцем. Человек, не лишенный природных дарований, обладавший живым умом, умением быстро схватывать и обобщать идеи, носившиеся в воздухе, к тому же умевший писать не столь хорошо, сколь быстро, Пьер Жан Бриссо легко уверовал в великую будущность, предначертанную ему судьбой. У него был несомненный талант дилетантизма: он мог легко, без особых усилий и умственного напряжения написать статью о текущих политических задачах или даже трактат на философско-социологическую тему, произнести импровизированную речь о недостатках действующего уголовного права или конституционных норм в Англии; он мог со знанием предмета рассуждать о достижениях современной физики и даже поставить несколько физических опытов; он был понемножку всем: и журналистом, и философом, и социологом, и юристом, и физиком, и химиком. В молодые годы в его обличительных речах чувствовалась неподдельная горячность. Он много скитался по свету: был в Англии, Голландии, заокеанской республике; ничто нигде его не удовлетворяло, особенно родная Франция. Правда, передавали, что одно из его сочинений похвалил «сам» Вольтер, но что толку! Искренность чувств подсказывала ему порой неожиданно смелые и врезающиеся в память формулировки. Ученик Руссо, тайно завидовавший его великой славе, но воспринявший его основные идеи, он сумел их облечь в сжатые, броские фразы. Одна из них запомнилась надолго. Бриссо принадлежало изречение: «Собственность — это кража». На современников оно не произвело впечатления и прошло почти незамеченным. Но оно не прошло бесследно и спустя семьдесят лет было воскрешено Прудоном. В середине девятнадцатого века оно прозвучало громко, и многим придавленным капитализмом людям, еще незнакомым с освободительным учением Маркса, показалось откровением. Впрочем, в самой этой нашумевшей фразе, прославившей больше Прудона, чем Бриссо, было внутреннее противоречие: ведь само понятие «кража» было тесно связано с понятием «собственность»; получалась логическая тавтология: собственность критиковалась с позиции собственности. В пору своей скитальческой, бездомной молодости Бриссо встретился с Маратом, они понравились друг другу, и между ними завязалась переписка. Марат называл Бриссо в своих письмах «нежным другом», он давал ему наставления; у Марата и Бриссо в те годы было немало общего: близость их политических взглядов; некоторая схожесть внешних фактов их биографий. Бриссо был моложе Марата на десять лет, он испытал сразу неотразимое воздействие целостного и сильного характера Марата. В Марате уже с юных лет чувствовалось что-то львиное, и Бриссо не мог этого не ощутить. Этот сильный, смелый, независимый человек, своим трудом, своею волей добившийся почетного, хотя и обособленного положения в науке, импонировал Бриссо, может быть даже подавлял его. Бриссо смотрел в то время на Марата снизу вверх. Он искренне считал его в ту пору великим ученым, еще не признанным человечеством, замечательным талантом; с горячностью молодости стремился он исправить несправедливость общества по отношению к одному из самых замечательных его современников. Это не были платонические сетования в кругу друзей. В 1782 году Бриссо опубликовал философский трактат «De la Vérité» — «Об истине, или рассуждения о способах постичь истину в различных областях человеческого знания». Две главы в этом трактате Бриссо посвятил Марату, и, в частности, решительно встал на защиту «знаменитого физика» в его споре с Парижской Академией. В том же году Бриссо дал еще одно доказательство своего преклонения перед талантом Марата. Он ценил в его лице не только крупнейшего физика своего времени, но и выдающегося социального, политического мыслителя. В 1782 году Бриссо подготовил и издал обширную десятитомную «философскую библиотеку законодателя», в которую, как это говорилось в полном, очень длинном названии этого издания, должны были войти произведения по вопросам уголовного права «самых знаменитых писателей», писавших на французском, английском, итальянском, немецком, испанском и других языках. Пятый том этой «философской библиотеки» содержал «План уголовного законодательства» Марата. Бриссо поместил Марата в почетное сообщество. Рядом с работой Жана Поля Марата соседствовали произведения Монтескье, Вольтера, Томаса Мора, Локка и других прославленных авторов. Нужно ли было более убедительное подтверждение искреннего восхищения молодого журналиста талантом и знаниями своего старшего друга? Марат это ценил и отвечал своему молодому почитателю дружеским вниманием; но сохранившаяся переписка между ними не дает основания говорить о чем-либо большем — об интимной дружбе, о тесной душевной близости. Даже в пору самых добрых отношений с Бриссо Марат не распахивал перед ним душу; в его письмах не чувствуется той доверительной откровенности, которая может быть только между близкими друзьями. Парижская Академия по-прежнему отказывалась признавать научные труды доктора Марата. Она их либо высмеивала, либо — чаще всего — вовсе игнорировала. Подводя теперь, почти двести лет спустя, итоги деятельности Марата как ученого-естествоиспытателя и его спорам с Парижской Академией наук, можно уже сказать с определенностью следующее: конечно, Марат не совершил открытий в науке масштаба Ньютона или даже Лавуазье. Он был одним из передовых ученых своего времени, находившимся на уровне знаний века. Ему случалось в некоторых вопросах ошибаться, но в вопросах медицины, в вопросах физики и, в частности, оптики он был крупным специалистом, к мнению которого прислушивались в научных кругах Европы. Он был ученым, представлявшим передовую мысль своего времени, врагом рутины, консерватизма, экспериментатором и новатором В науке. В спорах с Парижской Академией наук он представлял передовую, смелую, ищущую мысль, свободную от преклонения перед академическими чинами; Академия же тех лет была учреждением казенным, зависящим от монаршей воли, рутинным. И хотя доктор Марат был не прав в некоторых частных оценках, например Лавуазье, в целом же в спорах с Академией передовое направление науки было представлено именем Марата. Неудачи в борьбе с Академией не смущали Марата. Он уже привык плыть против течения. Он напрягал все свои силы, чтобы довести борьбу до конца. Не оглядываясь по сторонам, не распыляя своего внимания, он продолжал борьбу. Он хотел завершить свои исследования в изучаемых областях физики и готов был с прежней решимостью бороться против академических сановников, препятствовавших осуществить казавшиеся уже близкими важные открытия в науке. Громадное напряжение сил в течение долгих лет самозабвенного труда и борьба с могущественными, почти неодолимыми противниками, наконец, подорвали даже этот могучий организм. В 1788 году Марат заболел. Болезнь была длительной и тяжелой. По собственному признанию, в течение долгого времени он находился на пороге смерти. Он написал завещание. Но, наконец, силы жизни взяли верх. К концу 1788 года медленно наступило выздоровление. 1788 год шел к концу. Приближался 89-й год — год революции. И все кругом уже предвещало ее неотвратимое наступление.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ

Узы, связывающие Марата с народом, безмерность страданий и бедствий, испытываемых миллионами людей под гнетом феодально-абсолютистской монархии, сознание огромной важности задач, стоявших перед народом, побуждали не раз прославленного доктора медицины, ученого-физика, крупнейшего в Европе специалиста в области оптики отрываться от своих научных занятий. На протяжении двадцати пяти лет своего подвижнического труда в науке доктор Марат не один раз прерывал так воодушевлявшие его опыты в лаборатории ради «политики», ради политических сочинений, не приносивших ему ни денег, ни славы и лишь создававших все новых и новых врагов среди представителей официальной академической науки. Но на этот раз все было по-иному. Когда в конце 1788 года Жан Поль Марат, очнувшись от своей долгой, страшной, чуть-чуть не закрывшей ему навсегда глаза болезни, оглянулся по сторонам, он увидел, как кругом закипает соками новая жизнь, как шумит, гремит под тонким ледяным покровом неотвратимо подступающая большая вода, как близится половодье. Революция, так медленно и долго вызревавшая, уже была на пороге, она наступала, и ничто не могло ее уже остановить. Старый мир доживал свои последние дни. В Версале еще танцевали, друзья Марии Антуанетты еще восхищались фривольной поэзией Парни или даже беззаботно посмеивались над комедиями этого ловкого Бомарше, так забавно высмеивавшего дворян. Король Людовик XVI в перерывах между увлекательными охотами еще вел серьезные разговоры с господином Неккером, вновь появившимся при дворе в должности генерального контролера финансов. Тема всегда оставалась одной: какими средствами выкарабкаться из ужасающей финансовой пропасти. После того как подсказанная мера — созыв нотабле# — не помогла, королю пришлось согласиться на большее: на созыв Генеральных штатов — представительного собрания трех сословий. Генеральные штаты не собирались уже более ста пятидесяти лет, с 1614 года, и все короли — предшественники Людовика XVI — не плохо обходились без этого ненужного собрания. Но что поделать, когда казна давно пуста, платить нечем, а дворяне ничем не хотят поступиться? Скрепя сердце Людовик XVI подписывал приказы, заготовленные его либеральным советчиком. Но уже ни король, ни его советники, ни его министры не определяли хода событий. Все пришло в движение. Вся страна всколыхнулась, пробудившийся народ поднимался во весь свой огромный рост, и не было уже силы, которая могла бы обуздать или даже сдержать двинувшиеся народные массы. В деревнях, в самых разных частях королевства, то здесь, то там вспыхивали крестьянские мятежи. Со времени грозной крестьянской войны четырнадцатого века — оставшейся навсегда памятной Жакерии — вот уже четыреста с лишним лет крестьянские бунты, как они были порою ни опасны, все-таки по большей части оставались локальными и редко когда охватывали своим мятущимся огнем важнейшие провинции королевства. Не то было сейчас. Два неурожайных лета подряд, беспримерно суровая зима 1788 года, когда даже реки замерзли, уничтожили плоды крестьянского труда во всей стране. Голод царил во всех крестьянских хижинах. Но разве прежде не выдавались также неурожайные годы? Разве раньше крестьяне не голодали? Почему же сейчас, в 1788–1789 годах, крестьяне не молили смиренно господа бога о ниспослании блага и не шли, почтительно сняв шапки, к сеньору или местному богатею просить о помощи? Чаша крестьянского долготерпения переполнилась. Пусть неясно и нечетко, но мужики, наконец, поняли, что это многовековое феодальное угнетение довело их до такой нищеты и обрекло на невыносимые страдания. И крестьянин теперь поднимался против своего прямого врага — против сеньора. В разных провинциях королевства одно за другим, а чаще одновременно вспыхивали крестьянские восстания. Крестьяне «пускали красного петуха», громили помещичьи усадьбы, нападали на здания судов, жгли и рвали ненавистные им феодальные акты. Города были также охвачены народным волнением. Плебейство, вследствие сокращения подвоза продовольствия в города и роста цен на товары, также голодало. В ряде городов — Лионе, Эксе, Дижоне, Марселе и других — доведенная до отчаяния беднота, ремесленники, рабочие выходили на улицу: они разносили дома ненавистных богачей, сбивали замки с амбаров и продовольственных складов и делили зерно, под угрозой народного суда заставляли лавочников продавать хлеб по низким ценам. Правительство и местные власти были бессильны восстановить порядок. В самой столице королевства, в Париже, в апреле 1789 года рабочие Сент-Антуанского предместья разгромили дома крупных мануфактуристов Ревельона и Анрио и в течение нескольких дней были полными хозяевами этого плебейского района столицы. Порядок нельзя было восстановить не только потому, что безмерная нужда довела людей до отчаяния; это было невозможно также и потому, что все общественные классы, входившие в состав так называемого третьего сословия — а оно составляло 9/10 нации, — были охвачены нетерпеливым желанием больших политических и социальных перемен. С тех пор как король вынужден был объявить созыв в мае 1789 года Генеральных штатов, повсюду в больших городах и маленьких деревушках шли выборы депутатов, составлялись и обсуждались наказы, вся страна была охвачена небывалым политическим возбуждением. Повсеместно происходили народные сборища, импровизированные, стихийно возникавшие собрания, везде возникали бурные споры, дебаты. Появлялась и стала быстро расти в небывалых еще размерах политическая литература: газеты, брошюры, листовки, прокламации, расклеиваемые на стенах. Позднее историки подсчитали, что за полтора года до открытия заседаний Генеральных штатов было издано одних лишь политических брошюр около четырех тысяч разных названий. Никогда еще за тысячелетнюю историю Французской монархии не было истрачено столько чернил и произнесено столько слов! Но о чем говорили, к чему призывали все эти бесчисленные брошюры, плакаты, листовки, все эти народные трибуны и провинциальные Цицероны? Все жаждали перемен. Всех пленяло это заманчивое, это сулящее так много неизведанного, немного загадочное и так разно понимаемое, но прекрасное для всех слово «свобода» — «liberté». Какому-нибудь недоучившемуся школяру или судейскому клерку достаточно было вскочить на скамью под широкими зелеными листьями каштана и звонким, дрожащим от волнения голосом выкрикнуть: «Vive la liberté!»— «Да здравствует свобода!» — и гром рукоплесканий сотрясал воздух. Этот немудреный оратор, наверно, казался всем присутствующим самым выразительным и красноречивым трибуном, угадывающим тайные помыслы и чувства народа. «Да здравствует свобода!» — вся Франция повторяла эти слова. Но что скрывалось за этими немногими словами, обладавшими такой магической, притягательной силой? Означала ли «свобода» одно и то же для маркиза Мари Жана Поля Рок-Ив-Жильбер-Матье Лaфайета, аристократа и богача, заслужившего генеральские эполеты в освободительной войне американских повстанцев, и для господина Жана Жозефа Мунье, состоятельного буржуа и юриста, возглавлявшего недовольных в Дофине в 1788 году, или для Жана Россиньоля, рабочего-серебряника, не имевшего никаких заслуг в прошлом, но пошедшего драться на улицах Парижа в день 14 июля? Но какие гарантии неприкосновенности имущества нужны были рабочему, если у него не было никакого имущества вообще? Там, где у Мунье стояло ограничительное «только», для Россиньоля лишь наступало начало. Свобода в его представлении была безбрежной; она не имела границ; она должна была быть всеобщей, всеохватывающей, всеобъемлющей; она представлялась новой, высшей ступенью в развитии человеческого общества; она была лишь инообозначением давней мечты о человеческом счастье. Нередко вместе со свободой произносилось и другое слово, обладавшее такой же притягательной силой: «Равенство!» Правда, находилось немало людей, готовых довольствоваться только одной свободой. Но еще больше было убежденных в том, что свобода и равенство не противоречат друг другу, что одно дополняет другое, что нет истинной свободы без равенства и братства людей. Равенство, братство людей! В эпоху, когда труд, талант и даже богатство должны были склонить голову перед любой захудалой дворянской короной, часто прикрывавшей самое ничтожное и бесполезное из людских существ, эти простые слова обладали волнующей, покоряющей силой воздействия. Равенство в устах ораторов и публицистов буржуазии — а именно буржуазия возглавляла и направляла народное движение в те годы — означало прежде всего юридическое равенство третьего сословия с привилегированными первым и вторым сословиями, уравнение всех граждан в политических правах. Многие, очень многие буржуа, владельцы великолепных, блиставших роскошью особняков в кварталах Сент-Оноре, Пале-Рояля, шоссе Д’Антен, тогда, в 88-м или 89-м году, охотно поддерживали и требование равенства и требование народного суверенитета. «Верховенство народа, нации, народный суверенитет!» — эти звучащие так ново, так свежо слова, прочитанные из вновь оживших страниц сочинений Жана Жака Руссо, с жаром произносились любым представителем крупной буржуазии. В ту пору буржуазия еще не боялась этих слов; ведь она считала себя частью народа, она была уверена в том, что будет им руководить, будет его направлять, и потому охотно отождествляла свои собственные интересы с интересом всей нации, всего народа. Но уже тогда, в эти первые дни всеобщего увлечения идеями братства и национального единства, находились люди, отчетливо понимавшие, что в сочинениях автора «Общественного договора» можно прочесть не только то, что обычно цитировалось в модном кафе де Фуа, в Пале-Рояле или в салонах просвещенных буржуа, мечтавших о триумфах парламентского красноречия, — в этих страницах были и иные, сокровенные мысли, имевшие гораздо более глубокий и революционный смысл. Уже тогда были люди, Отдававшие себе отчет в том, что осуществление этого великого требования, в сущности, невозможно без социального равенства. Некоторые из них, как, например Дюфрунье де Вилье, ставили вопрос не только о законных правах третьего сословия, но и о правах четвертого сословия — «священного сословия несчастных», под которым подразумевались все бедные и слабые, то есть рабочие, непосредственные производители — труженики, беднота. Ведь третье сословие, Представлявшееся чванливым, надменным аристократам однообразным скопищем «черни», на деле состояло из разных классов и классовых групп. Буржуазия, крестьянство, рабочий класс, городская беднота, образовавшие третье сословие, имели разные, а в существенном и противоположные интересы. Но как ни велики были различия между разнородными в классовом отношении составными частями третьего сословия, как ни различались их общественные устремления, но пока сохранялась еще несокрушимая власть феодально-абсолютистского режима, пока все третье сословие — и богатый и бедный — страдало от бесправия и от произвола абсолютной монархии, общность интересов брала верх над внутренними противоречиями. Все третье сословие выступало единым в борьбе против привилегированных сословий и возглавлявшей их монархии. И в грозное предреволюционное время, когда самый созыв Генеральных штатов возвещал, что старая власть не в силах уже править по-старому, тогда солидарность интересов, общность задач отодвинула и заслонила собою все остальное. «Свобода, равенство, братство!» — пусть понижает их каждый так, как он хочет. Но эти три слова стали великой триединой формулой поднимавшегося на восстание народа Это были слова, полные революционного дерзания, звавшие на бой, сплачивавшие народ для только еще начинавшихся великих сражений.
* * *
Марат, жадно и зорко вглядывавшийся в окружающий мир, в который он снова вернулся после долгой и тяжелой болезни, не мог не увидеть происшедших перемен. И сорокапятилетний Марат, подчиняясь велению чувства долга, сознанию великих исторических задач, стоявших перед народом, перед страной, круто меняет род своих занятий и образ жизни. К черту тигли, колбы, микроскопы! К черту исследования «огненных флюидов», оптические эксперименты, анализы действия электрической энергии, резекцию трупов животных! Естествознание, физика, медицина, которым отдано более двадцати лет непрерывного, изнурительного труда, отброшены и забыты. Доктор Марат на этот раз не прерывает на время свои научные занятия в области физики и медицины, как это случалось и раньше, — он их оставляет навсегда. Начинается новая жизнь. Впрочем, по мнению самого Марата, он отнюдь не порвал с наукой; он остается ей верен: он лишь перешел от одной науки к другой — более важной сейчас и более нужной народу. «Политика — такая же наука, как и всякая другая, — писал Марат, — оназнает определенные положения, законы, правила, а также до бесконечности разнообразные сочетания; она требует постоянного изучения, глубоких и долгих размышлений». «Науке политики» Марат отдал полностью все последние пять лет своей жизни. Это был, конечно, недолгий срок по сравнению с его предыдущей научной и общественной жизнью. Но именно в политике раскрылось наиболее полно и ярко многостороннее дарование Марата, в ней он нашел свое истинное призвание. Физиолог и физик, философ и социолог — Марат вошел в историю науки и оставил в ней след прежде всего как великий революционный вождь, как политический деятель, как замечательный мастер «науки политики». Пять последних лет, благодаря которым имя Марата стало бессмертным в памяти народов, были бы невозможны без всей предшествующей им, по-своему богатой и содержательной сорокапятилетней жизни. В своих философско-социологических взглядах Марат во многом оставался на тех же позициях, которые были им сформулированы примерно двадцать лет назад в «Цепях рабства». Но в совершенно иной, исторически новой политической обстановке Марат обнаружил замечательную силу революционного мышления, поразительное революционное чутье, особый дар, особое умение верно, с точки зрения революции, анализировать «до бесконечности разнообразные сочетания», которые создавала политическая ситуация, и находить правильные решения. Эти замечательные политические способности, этот политический талант, или, скажем еще точнее, искусство революционной тактики, проявились полностью уже в первый литературные выступлениях Марата периода революционной ситуации. В начале 1789 года Марат издал в Париже брошюру в шестьдесят страниц под названием «Дар отечеству, или речь к третьему сословию Франции», а в апреле 1789 года ее продолжение в виде новой брошюры, озаглавленной «Добавление» к «Дару отечеству». Обе эти брошюры, которые следует рассматривать как одно целое по развиваемым в них идеям, были выпущены без подписи автора, анонимно. Но если автор не поставил своего имени на обложке, то едва ли это можно объяснить его скромностью. Озаглавив свое сочинение «Дар отечеству», автор одним уже этим названием определял его значение, его место, наконец свой собственный ранг. Это название подчеркивало, что предлагаемое издание не является подобием сотен других, заполнявших в то время все книжные лавки Франции. Оно претендовало на большее. Не всякий имел право приносить «дар отечеству». Марат считал себя вправе на это. Он придавал большое значение этому сочинению; это был его первый шаг на том новом пути, который он избрал в конце 1788 года. В одном из писем, относящихся, по-видимому, к этому времени, он так и пишет: «Не желая покидать жизнь, не послужив свободе, я составил «Дар отечеству» на своем горестном ложе. Это произведение пользовалось успехом. Оно было даже премировано одним патриотическим обществом». В этом отрывке важно признание: «Даром отечеству» Марат хотел послужить свободе. А между тем с первого взгляда «Дар отечеству» и «Добавление» к нему по политическим требованиям, которые выдвигает в них Марат, существенно не отличаются от многих других политических требований, появившихся во Франции накануне созыва Генеральных штатов. Мысли о суверенной власти народа, о том, что только народу должна принадлежать высшая власть в государстве, имели в то время широкое распространение; их полностью усвоил и пропагандировал даже такой умеренный человек, как аббат Сиенс, автор весьма популярной накануне революции брошюры «Что такое третье сословие?». И все же «Дар отечеству» и «Добавление» в некоторых своих чертах существенно отличались от других родственных им по тематике произведений. Сила и значение этих двух брошюр были прежде всего в тактических взглядах автора, в тактической линии, отстаиваемой им в этих произведениях. В отличие от своих прежних произведений, где огонь критики направлялся почти в равной мере и против феодально-абсолютистского режима и против нарождавшихся (а в Англии утвердившихся) форм капиталистического гнета, в новых политических сочинениях 1789 года Марат сосредоточивает всю силу критики на феодально-абсолютистском строе и его учреждениях. Удар по абсолютизму — вот основной смысл этих двух брошюр. Для Марата, разоблачавшего и бичевавшего в «Цепях рабства» и «Плане головного законодательства» тлетворную власть золота, шельмовавшего богачей, кажется даже странной и неожиданной умеренность его тона, сдержанность его речи, когда он говорит о «состоятельных людях» — о финансистах. Вообще Марат в брошюрах 1789 года кажется необычно сдержанным в своих суждениях. Например, он в почтительном и благожелательном тоне говорит о короле. На первый взгляд может создаться впечатление, что Марат сделал шаг назад, поддался всеобщим иллюзиям и со смягченным раскаянием сердцем ищет примирения с теми, кого вчера высмеивал и осуждал.
 Титульный лист «Дара отечеству».
Титульный лист «Дара отечеству».
Но такое впечатление было бы обманчивым. Вчитайтесь внимательно в эти речи, и вы увидите, как вслед за мягким примирительным жестом, за осмотрительно притупленным словом нет-нет и блеснет скрываемая доселе сталь клинка. Вот Марат в взволнованном тоне ведет речь о наступившем знаменательном дне, когда «самим государям предстоит счастливая необходимость быть отцами своих народов». Обращаясь непосредственно к монарху, он рисует ему картину мирной, спокойной и счастливой жизни и почета, которым окружена власть короля, правящего на основах правосудия, мудрости и милосердия со стороны нации, повинующейся из чувства долга. «Нации эти добровольно склоняются под ваше отеческое ярмо, — почти умиленно продолжает Марат и вдруг неожиданно заканчивает: — и будут верны престолу, который в силах были бы низвергнуть!» Эта так неожиданно ворвавшаяся в мягкий, смиренный, почти елейный тон угроза, это краткое напоминание об огромной силе народа, о том, что он в состоянии низвергнуть трон, озаряет совершенно новым смыслом и придает новую силу вполне благонамеренным по форме речам Марата. Эта мягкая речь звучит в то же время грозным предостережением. Анонимный автор в «Даре отечеству» разъясняет одновременно и королю и народу, что наступила совершенно новая пора: пришло время, когда народ уже в силах низвергнуть трон. Кстати сказать, в этом кратком отрывке из «Дара отечеству» уже чувствуется отчетливо одна из замечательных сторон литературного стиля Марата — необычайная пластичность и четкость выражения мысли, придающая такое своеобразие его политическим сочинениям. Ближайшей, первоочередной задачей, стоящей перед Францией в этот исторический момент, было уничтожение деспотической власти абсолютной монархии и поддерживавших ее сил. Сокрушение абсолютизма предполагало одновременно создание облеченного необходимой полнотой власти Национального собрания, призванного принять необходимые меры, обеспечивающие свободу во всей стране. С этого могла лишь начинаться революция; это были ее необходимые первые акты. Но для решения этой предопределяющей весь ход дальнейших событий задачи необходимо, по мысли Марата, сплочение всех антифеодальных сил, объединение их в связанный общностью интересов и целей антиабсолютистский лагерь. Тактически это было безукоризненно верно; более того, это было единственно правильной в данное время политикой. Абсолютизм все еще представлял значительную силу; опираясь на армию и жандармерию, он мог оказать немалое сопротивление. Столь же важным было и иное: чем сильнее будет нанесен первый удар, чем осязательней будут его первые результаты, тем легче будет революции идти дальше вперед. Все это требовало максимально широкой мобилизации всех сил, способных выступить против абсолютизма. Чем шире будет этот антиабсолютистский фронт, тем вернее и полнее будет победа. Марат определял в «Даре отечеству» состав антиабсолютистского лагеря довольно точно: он охватывал примерно 9/10 всей нации, начиная от финансистов и священников и кончая чернорабочими и ремесленниками. Это были все группы населения, входившие в состав третьего сословия. Марат рассчитывал присоединить к нему и какую-то, наиболее прогрессивную часть из привилегированных сословий: либеральное новое дворянство, часть духовенства, в первую очередь низшее и т. д. Он стремился добиться того, чтобы абсолютизм лишился всякой социальной опоры, чтобы против него выступила вся нация. Именно в связи с тем, что Марат считал необходимым всемерную изоляцию сторонников абсолютизма и создание сплоченного, максимально широкого лагеря его противников, он исключал из своих выступлений весной 1789 года все то, что могло бы внести раскол в ряды третьего сословия, ослабить его единство. Писатель, столько раз и с таким жаром обличавший «рабов золота» — банкиров, биржевиков, финансистов, он теперь не произносит ни одного осуждающего слова по их адресу. Отложим все внутренние раздоры и распри! Не будем сегодня упрекать друг друга! Сегодня перед вами только одна задача — сокрушить абсолютизм, завоевать свободу! В достижении этой великой цели — все должны быть едины. Таков ход мысли Марата. Здесь надо снова вспомнить название, которое он дал своей брошюре, «Дар отечеству». Это название, кажущееся с первого взгляда претенциозным, теперь раскрывает свой внутренний смысл: оно оказывается определенным и законным. Автор этого сочинения обращается не к какой-либо одной партии или к какому-либо одному классу; он говорит всему народу, всей стране. Он говорит отечеству. Марат берет на себя смелость указать отечеству путь, которому оно должно следовать. Если очень кратко определить смысл его выступления, то надо было бы, сказать так: автор начертывает народу пути его спасения и возрождения отечества. Справедливость требует признать: такое широкое — в общенациональном масштабе — понимание задач революции и главной тактической линии трудно встретить в других, столь многочисленных политических сочинениях того времени. Сплочение и объединение всех сил, способных противостоять абсолютизму, по мнению Марата, есть первое и необходимое условие успеха. Но одного единства недостаточно. Победа над абсолютизмом будет обеспечена лишь в том случае, если народ выступит главной, самой действенной и боевой силой антиабсолютистского лагеря. Наряду с призывом к сплочению сил Марат призывает народ к действенности, к волевой активной борьбе за свое освобождение. Марат настойчиво внушает народу мысль, что свобода не придет сама собой, что даже при самом благоприятном ходе событий победа не может быть достигнута без усилий самого народа и помимо его. «О французы! Вашим страданиям конец, если вы устали их терпеть; вы свободны, если у вас есть мужество быть свободными». Эта энергичная, полная внутренней диалектики, подлинно революционная формула выдвинута Маратом в «Добавлении» к «Дару отечеству», написанном в апреле 1789 года, когда революционная волна поднялась уже очень высоко. Марат в «Добавлении» сумел также предугадать ход предстоящей борьбы в Генеральных штатах. Он предупреждал народ, что Генеральным штатам попытаются навязать раздельное заседание по сословиям, посословное голосование, ограниченную узкими и частными вопросами повестку дня. Все это должно быть решительно отвергнуто. Народ должен обеспечить полную поддержку Национальному собранию, представляющему волю суверенной нации, до тех пор пока оно не выработает основные законы королевства. Марат напоминал народу накануне самого начала революционной бури, что его судьба, его будущность в надвигающихся событиях будут зависеть прежде всего от него самого, от его способности и воли к борьбе.
* * *
В мае 1789 года в Версале, во дворце «Малых забав», открылись заседания Генеральных штатов. Стояла ранняя весна. Ярко-зеленая листва кипела на тянущихся к солнцу деревьях Версальского парка, сочной зеленой влагой переливалась высокая, густая трава. Ощущение весны было не только в природе — им была охвачена вся страна. Сколько надежд пробуждал этот день 5 мая! Добрый король, созвавший вопреки своевольным дворянам Генеральные штаты, чтобы услышать голос своего народа и посоветоваться с ним, первым протянет руку нации и пойдет навстречу ее пожеланиям. Уже давно, уже столетия во Франции, в самых разных общественных кругах, не господствовали такие единодушные и искренние чувства симпатии и доверия к своему монарху. Но 5 мая обмануло все ожидания. Депутаты третьего сословия, явившиеся во дворец, как это было предписано, в темной, строгой одежде и поставленные позади блещущих золотом позументов, яркими цветами атласа и бархата представителей привилегированных сословий, стоя с непокрытой головой, слушали речи короля и контролера финансов Неккера. В этих речах не было ни одного слова, которого ожидали представители третьего сословия и вместе с ними вся страна. Король и столь популярный в ту пору Жак Неккер объявили, что задачей Генеральных штатов является лишь рассмотрение некоторых финансовых вопросов, что ни о каких преобразованиях нет речи и что Штаты, как это водилось в старину, так и ныне, должны заседать и обсуждать вопросы раздельно, по сословиям. С этого дня начались и растянулись на два с лишним месяца парламентские схватки. В ходе этих столкновений и препирательств, где главным оружием оставалось красноречие, депутаты третьего сословия, подталкиваемые парижским народом, добились некоторых частных успехов. 17 июня они провозгласили себя Национальным, а 9 июня — Учредительным собранием, заявив тем самым, что они представляют всю нацию и обладают правом выработать для страны конституцию. Двор и стоявшие за ним феодальные силы не только не признавали постановлений, этого самозванного собрания, но и были полны решимости прекратить ставшую слишком опасной игру и разогнать вышедшее из повиновения собрание. В Версале все еще танцевали. Высокие красные каблучки королевы скользили по паркету просторных зал Трианона. И за мягкими, плавными звуками менуэта был неразличим глухой, но все нараставший подземный гул, уже сотрясавший изнутри всю страну. Революционный подъем, нараставший в стране на протяжении всего 1788 года и особенно бурно, стремительно поднявшийся к весне 1789 года, на какое-то недолгое время задержался. Эта кратковременная пауза была связана с открытием Генеральных штатов. И в городах и в деревне так сильна была вера в короля, так велика была надежда на то, что в согласии с королем будут найдены спасительные меры, отвечающие стремлениям и чаяниям народа, что на время движение народного возмущения как бы застыло. Народ ждал. Он проявлял терпение. Крестьяне жадно прислушивались к рассказам местных грамотеев о происходящем в Версале. В городах так же напряженно следили за поединком между Национальным собранием и двором. И чем яснее становилось крушение надежд и иллюзий, чем очевиднее было, что двор не желает прислушиваться к требованиям, жалобам и просьбам, записанным в наказах третьего сословия, тем яростнее и непримиримей становилось негодование народа. Скапливавшаяся на протяжении долгих десятилетий ненавистного гнета, страданий, голода ярость многомиллионного крестьянства, раздражение буржуазии, уже протянувшей руки к государственному рулю и снова отброшенной назад, гнев измученных непосильным трудом рабочих, всеобщее разочарование, утрата надежд, решимость отчаяния — все смешалось и соединилось в единую, клокочущую гневом, страшную в своей разрушительной мощи силу, ищущую немедленного выхода. В Версаль начали стягиваться верные королю войска, в придворных кругах не считали даже нужным скрывать намерений монарха — разогнать силой Генеральные штаты. Взрыв стал неизбежен; ничто его не могло уже предотвратить. Историки позднее спорили о том, что было непосредственной причиной революционного восстания: близорукое ли упорство короля, не пожелавшего утвердить решения Национального собрания, отставка ли Неккера, которого король уволил по требованию своей властной жены, готовящийся ли разгон вооруженными силами Учредительного собрания? Эти споры были в значительной степени беспредметными. Революционный кризис, порожденный глубокими и длительными причинами, к лету 1789 года зашел так далеко и накопил такие силы, что ничто уже не могло их ни остановить, ни задержать. И этот взрыв, потрясший всю Францию, всю Европу, весь мир, совершился в Париже 14 июля 1789 года. С чего это началось? Исследователи конца восемнадцатого, девятнадцатого и начала двадцатого столетия со скрупулезной тщательностью изучали каждый день, каждый час этих памятных событий. Иным из них казалось, что, открыв какие-то новые подробности в поведении Марии Антуанетты в предшествующие падению Бастилии дни, они находят ключ к пониманию развития политической драмы. Но не в капризах взбалмошной женщины, даже если она королева, следует искать разгадку исторических событий. Когда взрыв был неизбежен, он мог быть ускорен первым же случайным толчком. Вечером 12 июля в давно уже взбудораженном Париже услышали о том, что со всех сторон королевства подтягиваются к Версалю и столице крупные — воинские части, что ожидается разгон Национального собрания, а может быть, и карательная экспедиция против мятежного Парижа. Тревожные вести передавались из уст в уста, достоверное смешивалось с домыслами. 13-го и 14-го выстрелы гремели уже во всем Париже. Столица была охвачена восстанием. Движимая верным революционным инстинктом, толпа ворвалась в Арсенал, разнесла оружейные магазины, и к камням, черепице и булыжнику мостовых, уже обращавших в бегство жандармов, теперь прибавилось огнестрельное оружие. Армия отступала, а частью переходила на сторону восставших. Солдаты братались с народом, и, когда к полудню 14 июля вся столица была уже в руках восставшего народа, тот же революционный инстинкт подсказал ему, что победа будет завершена лишь с падением все еще господствующей над Парижем ненавистной крепости — тюрьмы Бастилии, символа и оплота абсолютистской тирании. И народ ринулся на штурм Бастилии. Эта крепость слыла неприступной. Два глубоких рва преграждали к ней подступы. Семь ее высоких башен с поднятыми мостами, мощной артиллерией и большим гарнизоном, почти неуязвимым для атакующих, превращали ее в, казалось бы, несокрушимую твердыню. Но то, что казалось многим современникам невозможным, что представлялось им чудом, свершилось в течение нескольких часов. Народ овладел Бастилией, повесил на фонаре ее коменданта, сбил засовы с ее темниц и подземелий и поднял над башнями поверженной крепости победное знамя восстания. День 14 июля — падения Бастилии был началом революции, ее первым днем. Революция, восторжествовавшая 14 июля в Париже, не остановилась в границах столицы. В течение первых десяти-двенадцати дней после падения Бастилии волна революции прокатилась по всем городам королевства. В Страсбурге, в Лилле, Реймсе, Труа, Шербуре, Гавре, Руане, Бордо, Лионе, Гренобле, Марселе, в больших и малых городах старая власть была сметена без сопротивления, она была как бы сдунута единодушным могучим дыханием народа. А затем, все шире расходясь по стране, волны революции взметнулись над деревнями и подняли, понесли за собой несметные крестьянские массы. Вооруженные вилами, топорами, мотыгами, дубинами, крестьяне двинулись на помещичьи усадьбы. Охваченные «великим страхом», дворяне бежали из своих родовых имений, еще недавно казавшихся им таким надежным укрытием, в города, ибо не было силы, которая могла бы остановить все шире разливавшееся безбрежное море крестьянского мятежа. Революция победила во всей стране. В эти жаркие летние месяцы 1789 года — в июле и августе — была выполнена первая начальная задача революции — был сломлен абсолютизм. Король должен был склонить голову перед победоносной революцией. До тех пор пока волю самодержавной власти оспаривало красноречие ораторов Национального собрания, двор еще не видел реальной опасности и считал позиции абсолютистского режима вполне прочными. Но когда 14 июля в затяжной конфликт между двором и Собранием вмешался народ, его неодолимая сила сразу сломила сопротивление абсолютизма. На другой день после падения Бастилии король явился в восставшую столицу, чтобы скрепя сердце приветствовать победоносный народ и заявить, что он признает и само Национальное собрание и все его постановления. И радостные, упоенные своей победой парижане восторженно рукоплескали своему доброму королю, примирившемуся, как они думали, с чистым сердцем со своим народом и доказавшему, что он может и хочет стать королем свободных французов. Но это была иллюзия. Королевский двор и не думал мириться с понесенным им поражением. Через два дня после падения Бастилии братья короля, а вслед за ними многие представители родовой аристократии бежали за границу. Король, королева, придворная камарилья обдумывали план реванша. Революция победила 14 июля в Париже, но борьба еще только начиналась, главные сражения были впереди. Абсолютизм был сокрушен, но феодальный строй и возглавлявшая его монархия еще не были даже поколеблены в своих позициях. За их плечами стояла вся феодально-крепостническая Европа.* * *
Что же делал Жан Поль Марат, доктор медицины, отдавший предпочтение «науке политики» в эти решающие дни и часы истории? Он изложил свои взгляды на стоявшие перед страною задачи в двух изданных им брошюрах — «Даре отечеству» и «Добавлении», о которых речь была выше. Но человек действия и умудренный опытом литератор, он не переоценивал возможные реальные результаты своего литературного выступления. Он его дополнил рядом практических шагов. Марат попытался прежде всего сблизиться с теми политическими деятелями — депутатами Национального собрания, которые, по его признанию, «казались ему тогда наиболее пылкими патриотами». Он называет имена: это были ле Шапелье, Сиейс, Рабо де Сен-Этьен, Барнав, Дюпор. Между этими людьми были немалые различия, и судьба их в дальнейшем сложилась также неодинаково. Тридцатилетний Рене Исаак ле Шапелье, депутат от Бретани, преуспевающий адвокат, буржуа с ног до головы, азартный картежник и жуир, обладал недюжинным ораторским даром, самоуверенностью, быстрой сметкой. Он быстро выдвинулся и в Якобинском клубе и в Национальном собрании, где выступал едва ли не чаще всех других депутатов, и вскоре завоевал себе репутацию одного из лидеров левого крыла Собрания. Позднее он поправел, в 1791 году прославил свое имя печально знаменитым декретом против рабочих; после свержения монархии в 1792«году эмигрировал, но, опасаясь за свою немалую собственность, вернулся тайно в страну, был вскоре же арестован и казнен. Аббат Эммануэль Жозэф Сиейс, несмотря на свою черную рясу, был депутатом третьего сословия и успел стяжать себе громкую известность политическими памфлетами против абсолютистского строя. Один из них — «Что такое третье сословие?» — являвшийся в своем роде манифестом буржуазии, имел огромный успех накануне созыва Генеральных штатов и создал его автору имя в стране. Но в отличие от сангвинического, быстрого на слова и действия ле Шапелье Сиейс был политическим деятелем осторожным и осмотрительным. Он был скуп на слова. Вначале, когда благодаря своей известности и авторитету он мог рассчитывать на одно из первых мест, он выступал в Собрании с речами почти программного характера. Его престиж был так велик, что к каждому его слову прислушивались с благоговением. Мирабо называл его «нашим дорогим учителем». Но человек неглупый и наделенный тонким политическим чутьем, Сиейс довольно рано предугадал, что надвигаются крутые времена. Он стал выступать все реже, и то предпочтительнее на закрытых совещаниях или в совсем узком кругу. Вскоре он совсем сомкнул уста и в течение ряда лет упорно хранил молчание. Вокруг него бушевали страсти, возвышались и низвергались в небытие прославленные вожди и политические партии. На его глазах к власти пришли фейяны, их место заступили жирондисты, жирондистов свергли якобинцы, наступило грозное время якобинского террора? потом, казалось, непобедимые якобинские вожди сложили головы на эшафоте 9 термидора, к власти пришли термидорианцы, затем наступил режим Директории; каждый из этих крутых поворотов истории сопровождался горячими и страстными речами — одни обвиняли, другие оправдывались, а Сиейс с бесстрастным лицом слушал и молчал. Тогда как его былые сверстники и товарищи, сраженные ударами революции или контрреволюции, давно уже покоились в могилах, Сиейс, всех пережив, всех «перемолчав» и перехитрив, умер в восьмидесятивосьмилетнем возрасте, во времена июльской монархии. Жан Поль Рабо де Сен-Этьен был и тезкой и ровесником Марата. Протестантский пастор в городе Ним, он приобрел до революции известность своими философско-социологическими сочинениями и в особенности «Рассуждениями о правах и обязанностях третьего сословия». Несмотря на свое духовное звание, он был избран от нимского сенешальства депутатом третьего сословия. В Национальном собрании он пользовался первое время репутацией человека честного и прямого; он прославился своими выступлениями в пользу свободы религии. Когда позже, в 1791 году, Учредительное собрание выработало, наконец, конституцию и Людовик XVI ее утвердил, Рабо де Сен-Этьен высказывал мнение, что раз король принял конституцию, то революцию надо считать законченной. Эта точка зрения, выраженная в то время, когда революция лишь поднималась на новую, более высокую ступень развития, с неизбежностью Привела бывшего депутата от третьего сословия Нима к конфликту с революцией. В 1793 году Рабо де Сен-Этьен был казнен. Антуан Барнав, один из самых молодых депутатов Учредительного собрания — в 1789 году ему было двадцать восемь лет, дворянин, сын адвоката и сам адвокат по профессии, в начале революции слыл одним из самых решительных и смелых политических деятелей. Этим он был обязан не только своей личной храбрости, проявленной в нашумевшей дуэли с правым депутатом Казалесом (Барнав и раньше, семнадцати лет, дрался на дуэли), но больше своими радикальными политическими взглядами. Особенное негодование в лагере аристократов вызвало публичное одобрение Барнавом казни народом ненавистных королевских чиновников Фулона и Бертье. «Столь ли уж чиста эта кровь, которая льется?» — воскликнул Барнав в ответ на негодующие возгласы реакционеров. Эту фразу ему не хотели простить. Аристократы его называли «гиеной», «Барнавом Нероном», «кровопийцей». В Учредительном собрании он, естественно, стал одним из вожаков левого крыла. Именно к этому времени относится сближение с ним Марата. Барнав был автором интересных социологических этюдов и размышлений о революции, в которых он обнаружил стихийное тяготение к материалистическому пониманию истории. Один из самых левых депутатов в Парижском собрании 1789 года, Антуан Барнав по мере развития революции стал праветь. Вместе со своими друзьями Адрианом Дюпором и Александром Ламетом, он входил в так называемый «триумвират», пытавшийся после смерти Мирабо взять в свои руки руководство партией конституционалистов и через нее — политикой Учредительного собрания. Основная политическая цель, к которой стремился «триумвират», заключалась в том, чтобы остановить революцию в достигнутых пределах. Революция смела этих политиков, переоценивших свои возможности. Барнав был казнен в 1793 году. Адриан Дюпор, депутат Генеральных штатов от парижского дворянства, одним из первых перешедший к третьему сословию, в Учредительном собрании примыкал к его левому крылу, но он также быстро повернул вправо и в 1791 году стал тайным советником короля и после всяких злоключений спасся бегством. Впрочем, он ненадолго пережил Барнава и умер в Швейцарии в 1798 году. Как ни различны были политические биографии этих людей и как ни сложны были отношения между ними самими (Барнав, например, был противником Сиейса), в начальный период революции все они имели и нечто общее. В 1789 году, до октябрьских событий, о которых речь пойдет позже, и ле Шапелье, и Сиейс, и Рабо де Сен-Этьен, и Барнав, и Дюпор представляли собой самое действенное левое крыло Национального собрания. Их объединяло также и то, что все они выступали против признанных лидеров Учредительного собрания: Мирабо, Лафайета и Байн, влияние которых в 1789 году, в особенности первых двух, было огромным. Именно этим, по-видимому, следует объяснить стремление Марата сблизиться с этой группой депутатов, с тем чтобы через нее влиять на политику Учредительного собрания. Тактическая линия Марата, развитая им в «Даре отечеству» и предусматривавшая создание широкого антиабсолютистского фронта, полностью оправдалась в начальные дни революции. Власть абсолютизма была сокрушена с такой относительной легкостью потому прежде всего, что против абсолютистского режима выступили единым строем все общественные классы, все третье сословие целиком, то есть подавляющее большинство нации. Это произошло не в результате усвоения народными массами тактической линии, предложенной Маратом. Брошюру Марата, изданную им, кстати сказать, на свой собственный счет небольшим тиражом, прочло сравнительно немного людей. Единодушие, с которым все третье сословие выступило 14 июля, объяснялось не теми или иными советами, которые ему давали разные политические деятели и литераторы, а развитием классовых противоречий и объективно сложившимся соотношением классовых сил в стране летом 1789 года. Заслуга Марата, а ее можно, не преувеличивая, признать, заключалась в том, что он сумел правильно понять и оценить это складывающееся соотношение классовых сил и сделать из него верные выводы. Марат в ту пору стоял за политическое сплочение, за объединение всех сил против абсолютизма. Но свойственная ему проницательность не обманывала его. Даже в ранние дни революции, когда Мирабо еще носила на руках молодежь, когда в Учредительном собрании гром оваций перекрывал раскаты могучего голоса трибуна, Марат относился к нему с недоверием. Такое же недоверие он проявлял и к «герою Нового и Старого Света» — Лафайету, избранному после 14 июля начальником национальной гвардии и пользовавшемуся громадной популярностью. Литератор с улицы Старой голубятни, доктор Жан Поль Марат, не являвшийся ни членом Учредительного собрания и не занимавший никаких иных, ни официальных, ни выборных, постов, мог оказывать какое-то воздействие на ход революционного процесса только через посредство других. Группа левых депутатов Национального собрания— ле Шапелье, Барнав, Рабо де Сен-Этьен и другие, сознательно обособившиеся от «кумиров толпы» — Мирабо и Лафайета, — казалась ему для этого наиболее подходящей. Марат в эти месяцы обращался с рядом писем к официальным руководителям первого представительного учреждения — председателю Генеральных штатов, председателю Национального собрания, к Генеральным штатам в целом, ставя перед ними ряд важных вопросов политического и социального законодательства. Но он, конечно, понимал недостаточность этой формы воздействия. Кто знает, дочитывались ли эти письма до конца? Марат был в этом не уверен. Насколько тесны были личные связи Марата с названными выше левыми депутатами — сказать трудно. Не сохранилось писем, которыми они обменивались, но известно, например, что Марат находился в переписке с ле Шапелье. В своих публичных выступлениях он не раз хорошо отзывался о Барнаве. В июне 1790 года он называл его в числе достойнейших наряду с Робеспьером, Петионом и другими. Даже в конце августа того же года, когда Марат публично, на страницах своей газеты, назвал Барнава «двусмысленным патриотом», он еще не рвал с ним окончательно и оставлял дверь открытой. «Для чести человечества я льщу себя надеждой, — писал Марат, — что мои опасения не имеют основания, что Барнав является только непоследовательным, что его легкие головокружения пройдут и он никогда не вынудит Друга народа к печальной необходимости запечатлеть на его лбу клеймо позора». Эти слова показывают, что по отношению к отдельным членам этой группы Марат сохранял доброе отношение даже год спустя после начала революции. Но, по собственному признанию, его связь с группой делегатов в целом была кратковременной и длилась не более шести недель. Он «очень скоро убедился, что их кажущаяся никчемность зависела от совсем других причин, а не от недостатка просвещения». Его. зоркий взгляд сумел различить в многочисленном и пестром составе депутатов Национального собрания подлинных защитников демократии. Замечательно, что уже осенью 1789 года, когда имя Робеспьера было еще ничем не знаменито и большинство депутатов Собрания, а вслед за ними газетных хроникеров равнодушно оставляло его выступления без всякого внимания, Марат сумел должным образом оценить депутата от Арраса. В ноябре 1789 года Марат писал о Робеспьере, что «его имя всегда будет дорого для честных граждан». Марат не раз давал самую высокую оценку гражданским добродетелям Робеспьера в 1790-году. В одной из своих статей о «его называл «единственным депутатом, который, по-видимому, исполнен великих принципов и является, пожалуй, единственным патриотом, заседающим в сенате…». За пределами Учредительного собрания Марат одобрительно оценивал журналистскую деятельность Камилла Демулена, издававшего тогда передовую по взглядам газету «Революции Франции и Брабанта». Видимо, осенью 1789 года, как это явствует из переписки, у Марата установились непосредственные дружеские отношения с Демуленом. Марат ценил талант остроумного журналиста и в главном одобрял политическую линию «генерального прокурора фонаря», как именовал себя Камилл Демулен. Правда, для Марата уже тогда были очевидны легкомыслие и непоследовательность «молодого собрата по оружию», и он порою журил его за это. Демулен же в эти годы относился к Марату с уважением и симпатией, нередко переходящей в восхищение. Но Марату нетрудно было понять, что ни связи с влиятельными депутатами Собрания, ни сотрудничество с популярными журналистами, даже если бы они были прочными и тесными — а на деле было не так, — не давали ему возможности придать революции должное направление. Нужно было что-то иное. Как и большинство парижан, Марат принял участие в революционных событиях 13–14 июля. Он позднее рассказывал, что в ночь на 14 июля ему удалось привлечь на помощь народ и остановить на Новом мосту отряды драгун и немецкой кавалерии, двигавшиеся к кварталам Сен-Жермена и Сент-Оноре. Марат придавал большое значение проявленной им инициативе, ему казалось, что, задержав отряды драгун на мосту, он тем самым немало повлиял на последующее развитие вооруженной борьбы между восставшим народом и правительственными войсками. Может быть, в оценке значения этого ночного эпизода Марат допустил преувеличение. Участникам битвы нередко представляется, что тот пункт, где они сражаются, является самым главным. Марат был храбрым участником славных июльских дней 1789 года. Но вряд ли это можно считать каким-либо подвигом. В те исторические дни почти каждый из жителей столицы, если он не был трусом или слугой деспотической власти, оказывался втянутым в могучее народное движение. Марат был лишь одним из многих. Все последующие дни Марат провел в дистрикте Карм — он был членом его комитета. Как он рассказывал, со вторника по воскресенье он не покидал помещения комитета, загруженный текущей работой. Однако он не для того оставил свои научные исследования, чтобы превратиться в муниципального деятеля районного масштаба. Его не удовлетворяли и права комиссара дистрикта, которыми он был наделен. Он предложил комитету предоставить в его распоряжение типографию, чтобы иметь возможность опубликовать историю революции и затем высказывать публично советы Национальному собранию, действовавшему, по его мнению, после победы 14 июля недостаточно энергично. Предложение Марата было отклонено большинством членов комитета; оно было сочтено опасным. Тогда с решительностью, столь свойственной его характеру, Жан Поль Марат расстался с комитетом дистрикта Карм и возвратился в свой пустовавший дом на улице Старой голубятни. Он решил сражаться один; по крайней мере вначале. Его главным, или, точнее сказать, даже единственным, оружием по-прежнему оставалось перо. Примерно за три недели им были написаны и в большей части также опубликованы: ряд писем политического характера к председателю Национального собрания; непериодическое издание, своего рода газета «Монитер патриот», вышедшая лишь в первый и последний раз, и брошюра объемом около семидесяти типографских страниц — «Конституция, или проект Декларации прав человека и гражданина». Любое из этих произведений требовало не только больших знаний, определенных и ясных политических взглядов, литературного мастерства, но и больших творческих усилий. Так, среди писем к председателю Генеральных штатов, дошедших до нас, можно найти и небольшие самостоятельные политические этюды. Одно из писем, например, озаглавлено так: «Обзор недостатков английской конституции, дабы избежать целого ряда подводных рифов в устройстве правительства, которое наши депутаты собираются дать Франции». Это был, в сущности, маленький политический трактат. И все эти произведения, для создания которых, казалось, нужны были долгие месяцы, были написаны всего за десять, может быть, пятнадцать дней. Нельзя не поражаться творческому накалу и почти фантастической работоспособности автора? Из всех сочинений Марата, созданных после начала революции, наибольшее значение имела «Конституция, или проект Декларации прав человека и гражданина». Эта брошюра в шестьдесят семь страниц была выпущена в свет «издателем Бюиссоном (конечно, за счет самого автора) в конце августа 1789 года. Написана же она была, видимо, в конце июля или в самых первых числах августа, так как Марат жаловался, что вследствие разных проволочек при печатании она была издана на три недели позже, чем он на то рассчитывал. На обложке брошюры снова не было имени сочинителя, однако уже указывалось, что она написана автором «Дара отечеству». Этот своеобразный литературный прием устанавливал внутреннюю связь между обоими произведениями и косвенно свидетельствовал, что автор придает им большое значение. Марат объяснял в предисловии мотивы, побудившие его взяться за разработку этой темы и поторопиться с изложением своих взглядов. Он был неудовлетворен деятельностью редакционного комитета Национального собрания, который работал не только медленно, но в своих проектах существенно нарушал права народа. Между тем в новых условиях не было более важной и более безотлагательной задачи, чем определение принципов и основных законов, призванных увековечить давно желанное господство свободы во Франции. Это произведение исполнено чувства гордости, чувства торжества, внушенного победой, одержанной 14 июля. «…Ныне, когда мы снова с оружием в руках обрели наши права, — кто мог бы воспрепятствовать нам полностью пользоваться ими? Благодарение небу, мы не являемся более юным народом, только что вышедшим из глубины лесов, чтобы образовать сообщество… Мы — просвещенная, могущественная, грозная нация, стремящаяся установить у себя такой образ правления, который был бы способен обеспечить нам благоденствие». Этот приподнятый тон, эта твердая уверенность, это не случайное напоминание о восстании, об оружии, возвратившем народу его права, превосходно передают общественные настроения первых дней после взятия Бастилии. Марат, как и многие его современники, после победоносного народного восстания полон оптимизма, полон надежд; мир преобразился; сейчас все достижимо, все возможно. «Никогда не было обстоятельств, более благоприятных для того, чтобы утвердить общественную свободу на ее подлинных основаниях и дать ей непоколебимую опору», — пишет Марат. И он берет на себя задачу выполнить то, чего не сделал редакционный комитет Национального собрания, — дать народу, дать Франции эту «непоколебимую опору», предложив свой проект основных законов. Как уже было сказано, проект «Конституции» Марата печатался многим дольше, чем он надеялся, и к тому времени, когда он увидел свет, Национальное собрание уже приняло 26 августа свою ставшую знаменитой Декларацию прав человека и гражданина. Справедливость требует признать, что как программный документ Декларация прав 26 августа 1789 года имела известные преимущества перед проектом Марата. В отличие от пространного, почти на семьдесят страниц, сочинения Марата Декларация прав 1789 года подкупала своей краткостью и предельной выразительностью. Она была сведена к семнадцати статьям, уложившись на полутора страницах. Но каким динамизмом, какой экспрессией, какою огромной взрывною силой здесь полны каждая строка, каждое слово! «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах», — гласила первая статья Декларации, и в этих нескольких словах были как бы отлиты В благородном металле вековые стремления миллионов угнетенных людей, трактаты мыслителей, искания философов Просвещения. Этой пластичной выразительности, этой чеканной точности и краткости формулировок, навсегда врезавшихся в память, не хватало сочинению Марата. Оно было пространным и слишком расточительным в словах, каждый тезис в нем получал широкое обоснование. Но как бы там ни было, значение этой работы Жана Поля Марата было не в ее литературных качествах, а в ее идейном содержании. В этом она стояла намного выше Декларации прав Учредительного собрания. В своем «Проекте Декларации» автор «Дара отечеству» указывает примерно те же права гражданина, что и в Декларации прав, принятой Учредительным собранием: право личной безопасности, право личной свободы, право собственности и т. п. Но трактовку этих естественных прав Марат дает во многом иначе. Тогда как в Декларации прав Учредительного собрания право собственности рассматривается как безусловное, священное и естественное право, Марат, также признавая собственность естественным правом граждан, вносит в него существенные ограничения. Марат, как и в прежних своих работах, придерживается эгалитаристских, то есть уравнительских, идей. Отнюдь не покушаясь на принцип собственности вообще, Мараттребует ограничения крупной собственности, уравнения состояний. «…Не следует допускать никакого иного неравенства состояний, кроме неравенства, проистекающего от неодинаковости природных способностей… Закон должен даже предупреждать слишком большое неравенство состояний, устанавливая предел, какой они не должны переступать…» Марат — один из немногих во французской политической литературе этого времени — выступает в своем проекте конституции защитником также и интересов бедняков. Он указывает на подневольное положение бедняка, обреченного на лишения, утомительный труд и страдания. «Сама свобода, утешающая нас в столь многих бедствиях, для него ничто… Какая бы революция ни произошла в государстве, он нисколько не чувствует, что уменьшилась его зависимость, ибо он, как таковой, неизменно осужден на тягостный труд». Отсюда Марат делает вывод, что конституция должна предусматривать оказание помощи (он не уточняет, в какой форме) бедняку. Эти взгляды Марата резко отличали его от либерального большинства Национального собрания, не говоря уже о «черных»4. Его проект конституции, с его идеями уравнения состояний и защиты интересов бедняков, не мог рассчитывать ни на малейший успех в Учредительном собрании. Но Марат расходился со взглядами либерального большинства и в ином. Он в это время признавал, что во Франции должен быть установлен строй конституционной монархии. Но в отличие от большинства Учредительного собрания, старавшегося сохранить монарху и исполнительной власти значительные права, Марат, напротив, стремился к их всемерному ограничению. «Праведное небо! — восклицал Марат. — Возможно ли, что членам редакционного комитета неизвестно, что государь должен являться лишь правителем одного из разделов государства; что права граждан во сто крат более священны, чем права короны…» Марат предусматривает необходимость создания вооруженных сил, совершенно независимых от монархии. Он предлагает ряд практических мер: сократить армию и обязать войска приносить сначала присягу на верность нации, а затем лишь государю. Но он понимает, что это не даст еще достаточно надежных гарантий, а потому предлагает создать еще многочисленную национальную милицию и даже, более того, вооружить весь народ, «вооружить каждого не внушающего подозрения гражданина». Он дополняет это требование рядом практических мер: необходимо, чтобы национальная милиция обучалась военному искусству, чтобы она сама избирала своих офицеров, чтобы все крупные города королевства располагали артиллерией, боеприпасами и т. п. Тщательность и детальность конкретных предложений автора проекта «Конституции» показывает, какое большое значение он придавал этим чисто практическим задачам. И действительно, он говорил об этом совершенно открыто: «Без этого все, что делалось бы для обеспечения общественной свободы, являлось бы лишь детской игрой, а конституция, как бы совершенна она ни была, лишь карточным домиком, рассыпающимся от малейшего дуновения ветра». Такой политической зоркости, такой трезвости политического мышления и понимания задач революции нельзя встретить ни у одного из политических деятелей Франции того времени. Но мог ли автор столь радикальных политических идей надеяться, что к его советам и предложениям прислушается Национальное собрание? Имел ли он хоть какие-либо шансы увлечь своими «Даром отечеству» и проектом «Конституции» большинство депутатов? Разумеется, нет. В этом отдавал себе полный отчет и сам автор анонимных сочинений — доктор Жан Поль Марат. Вначале, чтобы не подорвать к Собранию доверия народа и в то же время наставить его «на путь благих принципов», он обращался к нему непосредственно. Но, убедившись, что Собрание идет совсем иным путем, он решил, что настал час поднять забрало, открыть свое лицо и обратиться непосредственно к народу. Для этогб нужна была постоянная трибуна, и ею могла быть лишь свободная и ни от кого не зависимая политическая газета. Со страниц независимого органа печати Жан Поль Марат сумеет раскрыть глаза народу на то, что составляет благо отечества.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ «ДРУГ НАРОДА»
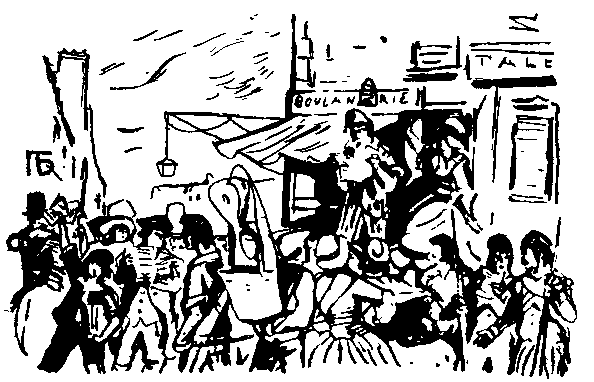
Революция, начавшаяся 14 июля 1789 года народным восстанием, низвергшим Бастилию, была по своему содержанию, объективным задачам и целям революцией буржуазной. Французская буржуазия в ту далекую пору, когда еще только началась битва против реакционного, изжившего себя, но все еще цепко удерживавшего власть феодализма, была молодом, смелым и революционным классом. Стремясь свергнуть преграждавший ей путь феодально-абсолютистский режим, сокрушить феодальные производственные отношения и заменить их новыми, капиталистическими отношениями, перестроить общество на новых началах, в соответствии Со своими интересами и задачами, буржуазия смело шла на союз с народом против общего врага — реакционного феодально-абсолютистского строя. Именно союз буржуазии с народом и придал французской революции восемнадцатого века всю ее силу. Только активное участие широких народных масс в революции, их творчество, их властное вмешательство в ход революционного процесса, их прямое воздействие на революционное законодательство смогли придать революции тот размах и ту глубину, без которых она не стала бы великой, наиболее завершенной, классической буржуазной революцией. По сравнению с ней все последующие буржуазные революции девятнадцатого века были лишь все более ухудшавшимися копиями славного оригинала. Но если Главным действующим лицом, главным героем этой революции был народ, то ее руководителем, ее гегемоном была буржуазия. В. И. Ленин писал: «Есть буржуазия и буржуазия. Буржуазные революции показывают нам громадное разнообразие комбинаций различных групп, слоев, элементов и самой буржуазии и рабочего класса»5. История французской буржуазной революции полностью подтверждает всю справедливость этого глубокого определения В. И. Ленина. Если почти вся французская буржуазия выступала сообща и вместе с народом против сил феодализма накануне и, может быть, в первые дни революции, то в дальнейшем политическое размежевание в ее рядах шло весьма быстро. Первое грубое размежевание произошло в рядах буржуазии в первые же дни революции между либеральной и демократической ее частями. Главным вопросом, разделявшим либеральную и демократическую буржуазию, был вопрос об отношении к дальнейшему углублению революции. Демократическая буржуазия вместе с народом, оставшимся неудовлетворенным в своих главных социально-экономических требованиях, стремилась к продолжению революции. Либеральная же буржуазия, выражая интересы тех слоев крупной буржуазии и либерального дворянства, которые после 14 июля, установив свое господство в стране, добились в основном удовлетворения своих требований, напротив, стремились «остановить» революцию, задержать ее развитие, не допустить ее углубления. Какие же позиции защищал Марат в этот первый период революции, наступивший вслед за днями народного восстания в Париже? На пороге революции он выступал с призывом к сплочению и укреплению единства третьего сословия в борьбе против абсолютистского режима. Когда же после 14 июля началось размежевание внутри третьего сословия и выделение крупной буржуазии в господствующую политическую силу, Марат оказался одним из тех, кто первым глубоко осознал значение и смысл происходившего в третьем сословии процесса и понял заложенные в нем тенденции. Поставьте рядом имена Мирабо, Лафайета, Сиейса, Байи, сопоставьте с ними имя Марата, и вы сразу же почувствуете, как далек Марат по своему политическому настроению от этих признанных главарей либеральной партии, господствовавшей в Учредительном собрании. Но сопоставьте позицию Марата 1789 года с позицией Максимилиана Робеспьера, раннего Дантона, будущих кордельеров, и при всем индивидуальном своеобразии каждого, при довольно существенных различиях между ними в программных и тактических взглядах нетрудно заметить и то общее, что их объединяло. В конце концов все они были в одном политическом лагере: это был лагерь революционной демократической буржуазии, сохранявшей тесный союз с народом. Этот лагерь был по своему составу в то время весьма пестрым. В нем уживались вполне свободно и будущие жирондисты и якобинцы, которых позднее разделит эшафот. Бриссо, который станет позже политическим вдохновителем убийства Марата, в 1789 году был еще в числе друзей и почитателей Друга народа. Легкомысленный, насмешливый, острый на язык Камилл Демулен, который позже станет трубадуром фракции дантонистов, в то время еще гласно выступал с выражениями симпатии к Марату. Сам Дантон, как, впрочем, и его противник слева — Бийо — Варенн, представлялся в то» время Марату «подлинным апостолом свободы». Пройдет немного времени, и глубокие внутренние противоречия революции начнут размывать и разделять этот единый некогда лагерь на враждебные, борющиеся друг с другом политические группировки. Марат в 1789 году в рядах этого лагеря отнюдь не занимал наиболее левой позиции, не придерживался наиболее радикальных взглядов по всем вопросам. Камилл Демулен, например, в июле 1789 года уже ратовал за республику и открыто объявлял себя республиканцем, тогда как Марат оставался сторонником конституционной монархии. Дюфурни де Вилье, автор брошюры, выступавшей в защиту четвертого сословия, жаловался на то, что фабриканты неизменно пытаются уменьшить заработную плату рабочих и что поэтому интересы фабрикантов и интересы четвертого сословия прямо противоположны. Дюфурни де Вилье писал об этом еще до начала революции, ранней весной 1789 года. У Марата в 1789 году нельзя встретить подобных или сходных мыслей. Но нельзя определить социальную и политическую принадлежность Марата на основании тех или иных его замечаний по отдельным политическим или философским вопросам. Для правильного понимания роли и места Марата в революции необходимо рассматривать все его взгляды и веющего деятельность в их совокупности, как целое, и в тесной связи с борьбой других политических деятелей, групп, партий, классов, действовавших в то же революционное время. Рассмотрение основных политических произведений Марата кануна и начала революции: «Дара отечеству», «Добавления» к нему, «Проекта Декларации прав человека и гражданина», его однодневной газеты «Монитер патриот» — приводит к выводу, что место Марата на первом этапе революции — в лагере революционной буржуазной демократии, выступавшей в тесном союзе с народом. Однако такое общее определение, будучи верным, остается все же явно недостаточным. Попробуем же еще подробнее разобраться во взглядах политической линии Марата, в его острой и напряженной борьбе бурных лет революции.
* * *
8 сентября 1789 года в Париже был опубликован и распространен краткий проспект, извещавший о выходе в ближайшее время нового периодического издания «Le Publiciste parisien» — «Парижский публицист» — политической, свободной и беспристрастной газеты, издаваемой обществом патриотов и редактируемой Маратом, автором «Дара отечеству», «Монитера» и «Плана Конституции». Этот проспект, по словам Альфреда Бужара, биографа Марата, произвел сенсацию. Впервые стало известным имя автора анонимных политических сочинений, привлекших к себе внимание радикализмом и определенностью высказанных в них суждений. Через четыре дня, в субботу 12 сентября 1789 года, вышел первый номер «Парижского публициста» с эпиграфом «Vitam impendere Vero» — «Посвятить жизнь правде». Эти слова, звучавшие, как клятва, принадлежали Жану Жаку Руссо. С № 6 газета изменила свое название; она стала именоваться «L’Ami du Peuple on le Publiciste parisien» — «Друг народа, или Парижский публицист». Постепенно это дополняющее второе название: «или Парижский публицист» — стало забываться. Когда говорили о газете Марата, то вспоминали только основное, первое ее название — «Друг народа». Под этим именем газета Марата вошла в историю, а уже вскоре после начала выхода газеты это так ответственно и почетно звучавшее наименование «Друг народа» стало применяться не только к газете, но и к ее редактору. До № 29 «Друг народа» выходил как орган «общества патриотов»; позже этот подзаголовок в названии газеты исчез, и она уже выходила от имени самого Марата. Было ли вообще это «общество патриотов»? Или ссылку на него надо считать литературным приемом или тактическим маневром редактора газеты? Вопрос этот до сих пор остается недостаточно выясненным. Некоторые исследователи допускали с известными оговорками, что это «патриотическое общество», с которым был связан Марат и от имени которого издавалась газета, вероятно, в действительности существовало. С этим, однако, трудно согласиться. Ссылка на «патриотическое общество» сохранялась в подзаголовке газеты примерно в течение одного месяца. Уже в середине октября она исчезнет навсегда со страниц газеты. Никакие известные до сих пор источники не подтверждают факта существования в Париже в сентябре — октябре 1789 года кратковременного левого политического объединения, с которым был или мог быть связан Марат. Ни в переписке Марата, ни в его литературных выступлениях этого и более позднего времени также нет никаких упоминаний о «патриотическом обществе», с которым он был бы связан. Следует, видимо, остановиться на предположении, что ссылка на «патриотическое общество» была чисто тактическим приемом. Марат, как он сам в том не раз признавался, натолкнулся на множество затруднений, предприняв издание своей газеты. Он не мог быть также уверен в успехах своего начинания. «Патриотическое общество» должно было придать солидность новому изданию. Месяц спустя, когда успех газеты уже достаточно определился и уже не было нужды в защитной маскировке, Марат отбросил это ставшее ненужным прикрытие и отныне до конца своих дней выступал только от своего имени. По своему внешнему виду, по своему оформлению газета, которую стал издавать автор «Дара отечеству», не имела никаких шансов поразить или даже просто привлечь внимание читателей. В ту пору газеты вообще были весьма не похожи на современные. По большей части они печатались на толстой шершавой бумаге желтовато-серого цвета; бумага эта делалась не из целлюлозы, как теперь, а из переработанного тряпья. Впрочем, если этот первичный материал при весьма примитивной технике его обработки придавал бумаге грязноватый вид, то он же наделял ее и некоторыми достоинствами: эта толстая, грубая бумага обладала замечательной прочностью. По своему формату газеты конца XVIII века также не похожи были на современные: они были невелики по размерам и более походили на тонкие книги средней величины, даже не на современные журналы. Напечатаны они были крупным, нередко неровным шрифтом, само собой разумеется — ручным набором. Одна страница, случалось, бывала длиннее другой, иные были отпечатаны ярче, другие бледнее; почти всегда можно было найти немало ошибок. Марат издавал газету сам, на собственный счет, не получая ни от кого ни субсидий, ни финансовой или иной помощи. Эту ежедневную газету подготавливал, составлял и выпускал — словом, «делал» от начала до конца всего-навсего один человек. Он был и единственным автором, и «литредом», и главным редактором, и директором, и издателем ее. Каждый день в течение многих лет выходила газета на восьми страницах in octavo, то есть в одну восьмую бумажного листа. Иногда она выходила сдвоенной — за два дня, но тогда в ней было двенадцать или шестнадцать страниц; нередко строки на типографской странице сжимались, и число их значительно увеличивалось. Сейчас может показаться невероятным, как мог один человек выполнять такую титаническую работу, которая, казалось бы, требовала напряженных усилий нескольких десятков квалифицированных работников разных областей. Но это «чудо» было будничной реальностью: «…Когда мне стал ясным преступный замысел вражеской партии, состоявший в том, чтобы пожертвовать нацией в интересах государя, а общественным благосостоянием — в интересах шайки честолюбцев, всякие сомнения испарились, я видел теперь лишь опасность, грозящую отечеству, и его спасение стало для меня высшим законом: я счел своим долгом забить тревогу, так как усматривал в этом единственное средство воспрепятствовать низвержению нации в пропасть». Так в «Исповедании веры редактора», напечатанном в № 13 «Друга народа», объяснял Марат причины, побудившие его отдать все свои способности и силы изданию этой газеты. Понятно, что новая газета, подготавливаемая и выпускаемая одним человеком, к тому же стесненным в средствах, не могла прельстить своим внешним видом. На оформлении газеты сказывалось также и то, что Марату приходилось часто менять типографии: то муниципальные власти оказывали противодействие и собственники типографии не хотели с ними ссориться, то у хозяина словолитни подвертывался более выгодный заказ, то ему не нравилось содержание газеты. Неудивительно, что «Друг народа» в смысле своего внешнего оформления оказывался нередко хуже весьма многих газет того времени. И, перелистывая сейчас эти газетные страницы почти двухсотлетней давности, вы не можете не обратить внимания прежде всего на то, как они разнятся друг от друга. Одни из них — и таких больше всего — желтоватого цвета, другие — серого, третьи отливают синевой; на одних из них строки лежат ровно и текст читается вполне отчетливо, а рядом с ними — как бы сбившиеся в одну кучу строки; прямые буквы перемежаются с косыми, наклонными, и порою печать кажется стертой долгим временем. А между тем «Друг народа» не только не был единственной газетой тех лет, но и должен был оспаривать и отвоевывать себе читателей у великого множества конкурентов. Начало революции открыло век газеты во Франции. На смену брошюрам и листовкам пришла периодическая печать. В короткий срок в Париже и Версале, а затем и в провинциальных городах возник ряд газет. Среди них было немало приобретших сразу же большое политическое влияние и завоевавших широкие круги читателей. С мая 1789 года начал выходить «Журнал Генеральных штатов», издаваемый Мирабо. Знаменитый трибун был не только лучшим оратором своего времени, но и блестящим публицистом. Преследования, которым подверглась с первых дней газета Мирабо, лишь привлекли к ней интерес. «Курьер Прованса», как она стала позже называться, стала одной из наиболее читаемых газет. Ловкий и изобретательный Бриссо сумел наладить издание большой газеты «Французский патриот». Несколько позже стала выходить газета Камилла Демулена «Революции Франции и Брабанта». Демулен по праву считался одним из лучших журналистов тех лет. Его легкая, живая речь подкупала своей непринужденностью. Демулен был остроумен, насмешлив, легкомыслен, он был непостоянен в своих политических симпатиях. Но парижане прощали ему эти недостатки и с увлечением читали статьи автора, обладавшего одним из лучших талантов — талантом никогда не быть скучным. Левая демократическая газета «Парижские революции», редактируемая Лустало, приобрела громадное влияние. Эпиграфом к газете было: «Великие мира кажутся нам великими только потому, что мы стоим на коленях. Встанемте!» Этот призыв был услышан. Французский народ после тысячелетнего гнета хотел подняться на ноги, встать. Газета в короткий срок приобрела свыше двухсот тысяч подписчиков: по тем временам это был беспримерный тираж. Большая официозная газета «Монитер», орган социального клуба «Буш де фер» («Железные уста»), «Аннал патриотик» («Патриотические летописи») Карра и ряд иных газет хлынули потоком на читателей французской столицы. А сколько же появилось одновременно газет противоположного направления — газет «черных» — роялистов, сторонников старого режима! Некоторым из них, как. например, «Деяниям апостолов» Ривароля или «Парижской газете» Дюрозуа, нельзя было отказать в литературном таланте. Сразу же, как по мановению волшебного жезла, Париж оказался наводненным великим множеством газет самых различных политических направлений, и в этом пестром и разнородном сонме соперничавших талантов нелегко было пробиться и привлечь внимание читателя. «Другу народа» суждено было стать лишь одной из многих газет, предлагаемых парижанам. Сумеет ли он привлечь к себе внимание соотечественников? Дойдет ли его голос до народа? Или он будет заглушен громкими голосами противников и так и заглохнет, не услышанный родною страной?
* * *
Прошло меньше месяца с тех пор, как «Друг народа» — газета Жана Поля Марата начала выходить в свет. И — странное дело! — за этот короткий срок эта внешне столь непривлекательная газета, которой, казалось, суждено было затеряться среди многих других больших, красиво оформленных газет, издаваемых знаменитыми политическими деятелями — а среди них были и такие, как Оноре Мирабо, Пьер Бриссо, Камилл Демулен, — приобрела сразу же такое политическое влияние, стала такою силой, что уже вскоре подверглась правительственным репрессиям. Уже 8 октября 1789 года издание «Друга народа» почти на месяц было прервано, а его редактор, подлежащий аресту, должен был уйти в подполье. 5 ноября «Друг народа» начал снова выходить в Париже, но уже в начале января 1790 года власти вновь пытались арестовать Жана Поля Марата, ион должен был снова бежать — на этот раз в Англию — и лишь в мае смог вернуться в Париж. В чем же был секрет этого быстрого, можно даже сказать внезапного успеха новой газеты, заслужившей сразу же столь почетное для нее преследование властей? Сам Марат позднее писал об этом так: «…Я предпринял тогда издание «Друга народа»: известны успех этой газеты, страшные удары, которые она нанесла врагам революции, и жестокие преследования, которые она принесла ее автору». Это была правда. «Друг народа» Марата с первых же номеров по своему тону, по политической линии, отстаиваемой автором, существенно отличался от большинства выходивших тогда газет. В сентябре 1789 года, когда начал выходить «Друг народа», в политических кругах победившего революционного лагеря еще преобладали настроения радости и крылатых надежд, еще не остывших восторгов по поводу недавно одержанной победы 14 июля; еще сильны были иллюзии всеобщего братства и национального единения, подогреваемые взявшей фактически власть в свои руки крупной буржуазией и ее партией либералов-конституционалистов. Решения Учредительного собрания 4—11 августа, отменившие личные феодальные повинности, уже на деле уничтоженные взбунтовавшимися крестьянами, были представлены современникам как великий революционный акт и акт великодушия охваченных благородными патриотическими чувствами депутатов дворянства, принесших свои привилегии «на алтарь отечества». Декларация прав человека и гражданина, принятая Учредительным собранием 26 августа 1789 года и явившаяся действительно одним из подлинно революционных документов эпохи, прогремевшим на весь мир, укрепляла веру в силы революции, в ее способность решить великие задачи, стоявшие перед ней. Рожденная революцией печать в августе — сентябре 1789 года еще продолжала упиваться радостями и видеть дальнейший путь озаренным розовыми лучами. Одна из самых левых газет того времени, «Революсьон де Пари» — «Парижские революции», после нашумевших заседаний Учредительного собрания 4—11 августа и его решений по аграрному вопросу, в самом восторженном тоне писала: «Опьянение радостью распространилось во всех сердцах; друг друга с энтузиазмом поздравляли с победой: наших депутатов называли отцами отечества. Казалось, новый день засиял над Францией… Братство, радостное братство царило повсюду…» А между тем действительное положение вещей не давало оснований для этих восторженных настроений. Решения 4—11 августа с их широковещательным заявлением о том, что. феодальный режим уничтожается, были на деле обманом, ибо эти решения отказывали крестьянам в их главном требовании — отмене без выкупа, то есть полной ликвидации всех феодальных повинностей, привилегий и прав. Постановления 4—11 августа все эти феодальные права, кроме так называемых «личных», сохраняли. Но неудовлетворенным оставалось не только крестьянство. Население городов, в особенности рабочие, мастеровые, бедный люд, продолжало испытывать муки голода. Экономическое и финансовое положение страны оставалось катастрофическим. Неккер, ставший всемогущим министром финансов либеральной монархии, пытался преодолеть финансовый кризис с помощью займов. Он предложил заем в тридцать миллионов франков, но крупные финансисты отнеслись с недоверием и к самому займу, и к министру, его заключавшему, и к государственной власти, которой он служил. Зачем рисковать своими капиталами? Подписка на заем дала только два миллиона шестьсот тысяч франков. Неккер предложил новый заем — на этот раз на восемьдесят миллионов франков, но он потерпел такое же поражение, как первый. Неккер своими действиями оправдывал ироническое замечание Ривароля: «Он всегда имел несчастье быть недостаточным в недостаточной системе». Его политика полумер не могла спасти государственную казну от банкротства и наполнить пустую казну звонкой монетой. Во всех делах продолжался застой. Многие мануфактуры прекратили работы, и число безработных в городах возрастало. Наживались лишь спекулянты хлебом. В Париже и в некоторых других крупных городах продовольственное положение в августе — сентябре резко ухудшилось. С четырех часов утра в Сент-Антуанском, Сен-Марсельском предместьях и других плебейских кварталах Парижа выстраивались длинные очереди перед запертыми дверьми хлебных лавок. Народ Парижа голодал и снова начал роптать. В конце августа в Париже произошли уличные волнения. В очередях за хлебом, среди скопища женщин перед пустыми прилавками на обезлюдевшем рынке раздавались возгласы возмущения. Винили всех, кроме короля. Если бы доброго короля не обманывали его министры и слуги, если бы он знал, как бедствует его народ, он пришел бы ему на помощь. Но ни король, ни королева, ни их министры и слуги отнюдь не помышляли о народных бедствиях. Их мысли были заняты совсем иным. После жестокого поражения, понесенного 14 июля, королевским двором владели лишь одни помыслы: отмщение, реванш. Королеву Марию Антуанетту больше не радовали ни пышные балы в залитых светом залах, ни мечтательные разговоры вполголоса в полутемной гостиной. Она не хотела больше кружиться в танце, когда будущность ее сына, дофина, представлялась темной, загадочной, полной опасности. По богатому опыту азартной игры за ломберным столиком Мария Антуанетта хорошо знала, как изменчиво счастье. После страшного проигрыша умной, смелой и рискованной игрой можно вернуть все потерянное. Можно даже еще многое выиграть. Королевский двор начал контригру. Прежде всего он оказал сопротивление этому взявшему слишком много власти Национальному собранию. Король остается королем; его воля выше решений каких-то там депутатов. Людовик XVI отказался утвердить постановления Учредительного собрания 4—11 августа и Декларацию прав человека и гражданина. Но это было только началом. В Версаль начали стекаться верные королю войска. Из разных частей королевства прибывали преданные монарху офицеры. 23 сентября в Версаль вступил Фландрский полк, которым командовал маркиз Люзиньян. Были усилены также соединения лейб-гвардейцев. В самой французской столице в сентябре появилось много вооруженных людей, не принадлежавших ни к национальной гвардии, ни к регулярным войскам; у некоторых были черные кокарды. Все свидетельствовало о том, что королевский двор рассчитывает силою оружия переиграть в свою пользу игру. В августе — сентябре 1789 года большинство французов еще не осознавало грозящей опасности. Большинство газет того времени — и буржуазно-либеральных и демократических — еще находилось во власти радужных настроений. Политические лидеры — главари победившей буржуазии или влиятельные политические журналисты — были еще упоены личными успехами, и обольщения собственных действительных или кажущихся триумфов заслоняли все ухудшавшееся политическое положение в стране. В середине сентября 1789 года Оноре Мирабо в частном письме к своему другу Мовильону писал: «…в большей степени, чем какой-либо другой смертный, я принялся за создание, исправление и распространение революции, которая продвинет род человеческий дальше, чем какая-либо другая революция… Будьте здоровы, мой добрый и прекрасный друг, любите меня, любите свободу, любите своих друзей, любите человечество…» Этот отрывок из письма очень красноречив: он показывает, в какой экзальтации, в каком самоупоении находился в это время Мирабо: личный успех и успех революции сливались для него воедино; он был искренне убежден, что сделал для революции «больше, чем какой-либо другой смертный»; поэтому с такой легкостью он заканчивал письмо таким смелым совмещением: «…любите меня… любите человечество». Другой политический деятель — Камилл Демулен — писал в то же самое время, в середине сентября, по мысли примерно то же самое, что и Мирабо: «Я внес свою долю для освобождения отечества, я создал себе имя, и я уже слышу, как говорят: «Появилось произведение Демулена…» Несколько женщин пригласили меня к себе, и Мерсье представит меня в двух-трех домах, где его просили об этом». И сразу же после этого наивного в своем мелком тщеславии хвастовства вчера еще безвестного бедного провинциала — то же головокружение от безудержной гиперболизации собственной роли: «Но ничто не может вновь повторить такие же счастливые минуты, как пережитые мною 12 июля, когда десять тысяч человек не только устроили мне овацию, но прямо задушили в объятиях и слезах. Может быть, я спас тогда Париж от гибели и нацию от позорнейшего рабства». Есть существенные различия, конечно, между Мирабо и Демуленом: один был зрелым, многоопытным вождем господствующей партии либералов-конституционалистов, к каждому слову которого прислушивались в то время все Учредительное собрание, вся страна; второй был молодым, начинающим, но очень успешно дебютировавшим и сразу ставшим «модным» журналистом. Но как ни различны были их положения, их политический вес, знаменательно, что оба они, по-разному представлявшие политически влиятельные в то время круги, рассматривали мир через увеличительные стекла восторгов собственной славой и не замечали надвигавшихся на революционную Францию туч. Справедливости ради надо признать, что тогда находились немногие — их можно было по пальцам перечесть — проницательные люди, которые были охвачены беспокойством. Лустало в газете «Революсьон де Пари» писал 30 августа: «Вызванный хищническими спекуляциями голод, прекращение работ, застой в торговле, постоянные тревоги, тайные союзы наших врагов — все это нас удручает и страшит». Но даже прозорливый Лустало, чувствуя, что в стране неладно, был не в состоянии найти правильную политическую ориентацию. В той же статье 30 августа он с неподдельной тревогой передавал слухи о том, будто бы граф Мирабо подвергся нападению, ранен шпагою и пал жертвою своего патриотизма. Ему было невдомек, что в это время Мирабо уже не был в первых рядах сражавшихся и уже задумывался над тем, как бы обуздать революцию.
* * *
И вот в этот хор славословий, восторгов, шумных уверений в благостности всеобщего братства или ложных опасений за судьбу «народных кумиров» ворвался совсем иной голос, не похожий на все остальные — суровый, резкий и обличительный. Человек, взявший на себя смелость выступать от имени народа, не побоялся разойтись и в мнениях, и в тоне, и в определении ближайших политических задач со своими собратьями по перу. «О французы, народ свободный и легкомысленный, доколе же не будете вы предвидеть тех бед, которые вам угрожают, доколе же будете вы спать на краю пропасти?» Так начинал Марат свое «Обращение к народу», напечатанное в одном из первых номеров «Друга народа», датированном 18 и 19 сентября 1789 года. В простых и ясных словах Марат рисовал народу картину бедствий родины и предостерегал против угрожавших опасностей. Народ одержал славную победу 14 июля, но два месяца спустя нет оснований все еще упиваться радостью. «Чему повсеместно рукоплещете вы от одного края королевства до другого?» — негодующе спрашивал он. «У вас нет более тиранов, но вы испытываете еще последствия тирании; у вас нет более господ, но вы продолжаете страдать от угнетения; в ваших руках лишь призрак реальной власти, и вы дальше от счастья, чем когда-либо». Марат не боится сказать народу жестокую правду, сбросить с его глаз пелену иллюзий. Он показывает народу истинное положение страны: мануфактуры закрыты, мастерские опустели, торговля прекратилась, финансы расстроены, «сами вы прозябаете в нищете». И дальше будет не лучше, а хуже, ибо бедственное положение страны является следствием злонамеренных действий врагов общества и беспечности, легкомыслия и доверчивости народа. Речь Марата, обращенная к своим соотечественникам, не похожа на карканье ворона, предвещавшего беду. Она полна энергии, за этими суровыми словами чувствуется непреклонная воля, стремящаяся преодолеть косность народа и поднять его на борьбу против грозной опасности. «Политическая машина никогда не приходит в движение без сильных сотрясений, подобно тому как воздух очищается не иначе, как в результате грозы. Соберемся же в общественных местах и обсудим средства для спасения государства». Марат призывает народ к пробуждению, к действенному вмешательству в политическую борьбу. Для чего? Для новой революции? Для разжигания гражданской войны? Отнюдь нет. Напротив, Марат предостерегает от ужасов гражданской войны, которую охотно бы развязал король. Народ должен громко высказать свои требования, он должен бдительно следить за развитием событий, ибо те, кому он передоверил защиту своих интересов, — депутаты Национального собрания в первую очередь, а также члены муниципальных комитетов — не выполняют своего долга: не защищают интересов народа и потворствуют или тайно прислужничают коварным и злобным планам двора. В дни, когда Национальное собрание было еще окружено ореолом лучезарной славы, когда большинство газет и политических деятелей представляло его живым воплощением всей нации, а его решения — голосом самого народа, Марат посмел осудить его политику и выразить недоверие многим его членам. Конечно, Марат был далек от того, чтобы бросать обвинение всем депутатам Собрания; он славил тех депутатов, которые с воодушевлением служат интересам народа, и охотно воздавал им должное за их заслуги. Но он решился, он посмел громко, на всю страну возвестить ту непреложную истину, которая, может быть, не доходила до сознания народа, что это Национальное собрание было избрано еще при старом режиме, на основе действовавших тогда феодальных положений, что его состав не представляет народа и не выражает его мнения и что из тысячи двухсот депутатов Национального собрания большая часть является слугами двора и врагами народа. Марат не был ни догматиком, ни схоластом. Высказав вслух эту мысль, которая многим должна была показаться кощунством, он тут же предлагал и практические пути исцеления зла. «Потребуем, чтобы сенат нации (то есть Национальное собрание. — А. М.) сам подверг себя чистке и чтобы его первый же декрет объявил лишенными права избираться в депутаты всех тех, кто пользуется какими-либо милостями со стороны двора или использует честь служения родине для извлечения выгоды… Если же сенат откажется очистить свои ряды, пусть те депутаты, которым невозможно больше доверять, лишатся полномочий своими избирателями, а на их место будут избраны действительно достойные люди!» Это значит иными словами, что Марат призывал к своего рода «чистке» Национального собрания, устранению из его рядов всех враждебных революции депутатов. Марат, как это было в духе того времени и как это было присуще ему и раньше, вел борьбу преимущественно в плане моральных категорий: он призывал к борьбе против подлых, недостойных, недобродетельных людей. Но это был только способ выражения, за которым скрывались вполне определенные социальные категории. Марат их довольно точно обозначает: «Устраним же с ристалища, — пишет он, — прелатов, дворян, финансистов, членов парламентов, пенсионеров государя, его сановников и их ставленников». Нетрудно заметить, что к категории врагов революции Марат теперь относит. и те социальные группы (например, финансистов), которые он до революции, до 14 июля, считал необходимым привлечь в ее лагерь. Это изменение тактики вполне оправданно. Победа революции привела к изменениям в соотношении классовых сил: верхний слой буржуазии, шедший вместе со всем третьим сословием против абсолютистского режима, после 14 июля повернул против народа и пошел на сближение с двором. Марат доказывал народу на конкретных примерах слабость и двоедушие Национального собрания. В ту пору, когда самые прославленные ораторы, журналисты, поэты в стихах и прозе прославляли великие деяния благородных и великодушных депутатов «исторической Ассамблеи», Марат не побоялся гласно разоблачить трусость, лицемерие, корыстные расчеты и враждебные народу тайные помыслы господствующей в Собрании партии либералов-конституционалистов. Марат был первым из французских политических деятелей той эпохи, кто сум. ел разгадать, понять и разоблачить перед всем народом обман, на котором были построены все решения «исторической ночи» 4 августа, и раскрыть своекорыстные расчеты либерального дворянства, маскируемые показным великодушием. «Ведь это только при отблеске пламени, поглощавшего их подожженные земли, они возвысились до отказа от привилегий держать в оковах людей, вернувших себе свободу с оружием в руках», — иронизировал Марат над мнимым «самоотверженным порывом» либеральных дворян 4 августа. Стрелы его критики были направлены не только против антиреволюционного большинства Национального собрания; они поражали также и муниципальные органы, ставшие цитаделью крупной буржуазии, и в особенности парижский муниципалитет, возглавляемый надменным и заносчивым сановником науки — академиком Байи. Уже одним этим — прямым и резким обличением господствующей партии либеральных буржуа и дворян-конституционалистов, овладевших самыми авторитетными представительными органами — Национальным собранием и муниципалитетами, «Друг народа» коренным образом отличался от всех остальных органов печати. Сила позиции «Друга народа» состояла в том, что он ясно определял основное направление и главные мишени, по которым в данное время надо было бить в интересах революции. Правильно понимая ее задачи и прислушиваясь к голосу народных масс, Марат направлял их действенную силу против тех врагов революции, которые в данный момент были всего опаснее. «Истина и справедливость — вот единственно, чему я поклоняюсь на земле», — писал Марат в одном из номеров своей газеты. Читая произведения Марата, его статьи из «Друга народа», читатель многократно сталкивается с этими особенностями стиля знаменитого журналиста французской революции. Марат постоянно оперирует отвлеченными понятиями или моральными категориями: он защищает справедливость, он борется против подлости, он отстаивает добродетель и т. д. Но читатель не должен быть введен в заблуждение этой постоянной апелляцией к возвышенным моральным чувствам и столь же неизменным осуждениям низких моральных качеств. Раскройте эти псевдонимы — дань обычаям эпохи Просвещения восемнадцатого века, снимите эту словесную оболочку, и перед вами предстанет ожесточенная борьба классовых интересов, кипение политических страстей. Вчитываясь в выступления «Друга народа» по самым различным политическим вопросам, нетрудно заметить, что исходным пунктом всех его соображений является мысль, что революция осталась незаконченной, что она находится в начале своего пути, что она еще не сокрушила своих врагов, не разрешила стоявших перед нею задач. Иногда Марат говорит это прямо; он упрекает французов в том, что «вместо того чтобы, не останавливаясь, продолжать преследование врагов общества», они после победы выпустили их из рук. В другой раз он говорит еще определеннее: «Революция была бы навсегда завершена и свобода утверждена, если бы 15 июля десять тысяч парижан направились в Версаль». Или же: «Революция была бы доведена до конца…», если бы патриотически настроенные члены Собрания не совершили ошибки, и т. д. Можно было бы привести множество примеров прямых указаний Марата на незаконченность, незавершенность революции. В некоторых случаях он говорит об этом косвенно, иногда эти мысли остаются подтекстом, но каков бы ни был литературный способ выражения мысли, в своей основе она остается одной и той же: революция не закончена, ее надо двигать вперед. Позиция эта, так решительно и твердо занятая Маратом в «Друге народа», соответствовала объективным условиям, сложившимся в стране, устремлениям широких народных масс, разбуженных и приведенных в движение залпами 14 июля. Следует припомнить, что именно в это время по городам Франции шла волна народных восстаний, уничтоживших старые местные органы власти и заменивших их новыми, что именно в это время все шире и грознее разгорался пожар крестьянского движения, охватившего после 14 июля всю страну и вселявшего «великий страх» бежавшим из пылающих усадеб помещикам да и состоятельным буржуа. «Друг народа» с его постоянным напоминанием О незавершенности революции был подлинным рупором этого движения многомиллионных народных масс, еще ждавших от революции удовлетворения своих социальных чаяний. Революция не закончена, не завершена. Но что, или, вернее, кто, препятствует ее завершению? — вот вопрос, который постоянно волнует Марата. И его преимущество перед другими революционерами-демократами того времени заключается прежде всего в том, что Марат хорошо знает, где враг, по которому нужно ударить. Со страниц своей боевой газеты он ведет прицельный огонь по тем противникам, которые ему представляются в тот или иной момент наиболее опасными. Прослеживая содержание революционной публицистики «Друга народа» день за днем, месяц за месяцем, нетрудно заметить, как постепенно перемещается направление главного огня. В ближайшие месяцы после падения Бастилии — в августе — сентябре и в начале октября 1789 года — Марат считает главной опасностью для революции тайные происки и планы партии двора, «партии аристократов», как он ее называет, которая «носится с мыслью оказать противодействие принятию Конституции и вернуть королю абсолютную власть…». Марат уже понимает, что эта партия сторонников абсолютистского режима имеет приверженцев не только среди дворян и духовенства, которые являются ее естественной опорой, но и среди представителей крупной либеральной буржуазии и либерального дворянства, играющих роль друзей революции. Можно лишь поражаться удивительной политической проницательности Марата, усвоившего уже с первых номеров своей газеты недоверчивый, враждебный тон к Мирабо — в ту пору самому прославленному вождю революции, пользовавшемуся всеобщим поклонением, но внутренне уже готовому к тому, чтобы предать и продать революцию. Но все же главный огонь в это время Марат направляет не против Мирабо или Байи, а против аристократов-контрреволюционеров, стремившихся к полной реставрации феодально-абсолютистского строя. Предупреждая о грозной (и, как показали события 1 октября, действительно существовавшей) опасности со стороны партии двора — феодальной контрреволюции, Марат указывает и на средства борьбы с этой опасностью. И здесь особенно ясно вырисовывается другая отличительная черта Марата как великого революционера-демократа: он ищет средства избавления страны от грозящей ей опасности не в парламентских решениях, не в стенах Национального собрания, а в революционных действиях масс, на площадях и улицах революционной столицы. Марат апеллирует не к депутатам, не к государственным мужам, прославившимся добродетелью, он обращается к народу, и только к нему. Марат исходит из убеждения, что только народ может спасти революцию и обновить и возродить свою родину. Народ часто не понимает ни этой своей задачи, ни своих возможностей. Марат считает, что его обязанность как Друга народа в том и состоит, чтобы пробудить сознание народа, вдохнуть в него веру в свои силы и поднять его на борьбу. «Несчастный народ!.. Оплакивай же, оплакивай свою несчастную судьбу: ты вполне заслужишь весь ее ужас, если окажешься настолько трусливым, что не сумеешь прибегнуть к имеющемуся у тебя средству спасения — оно в твоих руках!» Это спасение — в революционных действиях, в массовых выступлениях народа. Воля народа, подкрепленная силой оружия, — вот что является ведущей силой в революционном процессе. Марату чуждо какое бы то ни было преклонение перед формальной законностью. Поднимая народ на защиту революции, мобилизуя его против ее врагов, «Друг народа» выдвигает целую программу практических революционных мер: «чистку» Учредительного собрания, «чистку» парижского и провинциальных муниципалитетов от враждебных революции людей, созыв народных собраний и выдвижение народом новых, достойных представителей в обновленное Национальное собрание или в новый законодательный орган, который должен прийти на смену первому трусливому и недостойному Национальному собранию. Вся эта программа, которую Марат настойчиво пропагандирует на страницах своей газеты, исполнена величайшего презрения и пренебрежения к формальной демократии, к «букве закона». Марат отнюдь не анархист, не враг государственности вообще. Он не раз доказывал, что государственная власть в руках патриотов способна принести немалое благо народу. Но он стремится убедить народ, что фетиши формальной законности не должны сковывать его инициативы, столь спасительной для свободы и Франции. Только народное восстание является для Марата истинной основой революционной Франции, подлинным источником свободы. «Философия подготовила начала, благоприятствовала данной революции — это бесспорно. Но одних только описаний было недостаточно, необходимы были действия. Ведь чему обязаны мы своей свободой, как не народным мятежам?» В этих замечательных строках — весь Марат, революционер с ног до головы, человек, обладавший «мужеством беззакония», пользуясь выражением Энгельса.
* * *
К концу сентября заговор контрреволюционной партии, возглавляемой королевским двором, против мятежной столицы, против своевольничающего Национального собрания, против самой революции полностью созрел. Между Мецом и Версалем были расположены верные королевскому двору войска. В Версале разместился Фландрский полк, лейб-гвардейцы, Швейцарская гвардия. В предместьях Парижа сосредоточились надежные, преданные королю воинские части. В сентябре Париж был наводнен многочисленными листовками контрреволюционного содержания. Народ Парижа пугали возмездием за ослушание, за неповиновение монаршей воле, за дерзновенные помыслы и действия. В кругах, близких к королю, среди офицерства из уст в уста передавали слух о создании «священного батальона». Так должен был называться отряд добровольцев, преданных всем сердцем королю, готовых ради него пойти на любой подвиг, на самое рискованное дело. Были распространены также слухи о том, что королю предложат перевести Национальное собрание в провинцию, например в город Тур; с этого должно начаться его умертвление. Эти слухи, по-видимому, имели под собой определенную почву. Партия аристократов, партия двора, поощряла лейб-гвардейцев, офицеров верных королю полков к открытым выступлениям против народа. Офицеры точили сабли о ступени домов. Они показывали пули и вызывающе восклицали: «Вот славный горох, он скоро поспеет!» 1 октября в Версале в театральном зале королевского дворца был устроен банкет для офицеров Фландрского полка. В то время как трудовой люд Парижа испытывал величайшую нужду — ему не хватало хлеба, — этот банкет, которому вначале хотели придать внешне невинную форму, был проведен с давно невиданной роскошью. Большой стол был сервирован на 210 кувертов; прославленный в то время ресторатор Арму позаботился об изобилии яств и вин. На банкет собрались офицеры Фландрского полка, драгуны, лейб-гвардейцы, офицеры Швейцарской гвардии, представители высшей придворной знати. В середине обеда, проходившего в обстановке большого возбуждения, к офицерам явились королева и король. Королева Мария Антуанетта со своим сыном-дофином на руках медленно обходила столы, бросая одним одобряющие слова, другим — милостивые взгляды. Появление королевской четы вызвало взрыв восторженных чувств. Оркестр исполнял популярную в те годы мелодию на слова «Ричард, мой король, все тебя покидают». И под звуки этой музыки, созвучной настроениям собравшихся, офицеры стали срывать трехцветные кокарды, заменяя их белыми кокардами — цветом Бурбонов. «Да здравствует белая кокарда — кокарда верноподданных душ!» — этот возглас раздавался то здесь, то там в бушевавшем собрании офицеров. Громко произносились угрозы Парижу, публично оскорблялось трехцветное знамя революции. И когда король и королева покинули банкет, собрание приняло еще более разнузданный характер открытой контрреволюционной манифестации. Монархическая манифестация 1 октября была прямым вызовом революционному Парижу. Партия двора была настолько уверена в своих силах, что не считала более нужным скрывать свои намерения. Она бряцала оружием и грозила революционной столице. Но был ли понят смысл этих контрреволюционных манифестаций французскими революционными демократами в те дни? Поняли ли они значение этих грозных приготовлений в Версале? Париж народа, Париж плебейских предместий, ремесленников, рабочих, бедноты в эти осенние месяцы 1789 года голодал. Уже в сентябре в Париже наступили продовольственные затруднения. К концу месяца положение резко ухудшилось. С раннего утра женщины становились в очереди перед закрытыми дверьми булочных и хлебопекарен для того, чтобы дождаться в семь-восемь часов нескольких буханок хлеба, которые могли попасть в руки лишь немногих счастливиц. В Париже не было хлеба, не было других продуктов питания; и тогда как в особняках крупных буржуа и денежной знати, в великолепных ресторанах в кварталах Пале-Рояля, Сент-Оноре вино лилось рекой, шли оргии и пиршества, Париж Сен-Марсельского и Сент-Антуанского предместий испытывал бедствия тягчайшей нужды. Уже в эти голодные дни в Париже возникла мысль о походе на Версаль. Кто первый бросил эту идею? Это трудно сказать. Современники свидетельствуют, что в очередях, перед запертыми дверьми хлебопекарен, женщины говорили: «Добудем короля, и будет хлеб». Король в представлении простых людей Парижа все еще оставался добрым королем: «Наш добрый отец», — говорили о нем женщины. Если Париж не имел хлеба, то в этом повинен был не король, а его нерадивые слуги — министры, которые скрывали от короля правду. Мысль о том, чтобы обратиться к королю, дабы побудить его приехать в Париж, не имела антимонархического характера. Напротив, за ней скрывалось доверие к королю, которое еще не было поколеблено в эти первые месяцы революции. Первым, кто отчетливо и ясно определил задачи, стоящие перед народом, кто сумел в должной мере оценить значение контрреволюционной манифестации 1 октября в Версале, был Марат. «Друг народа» был первой из политических газет левого направления, которая привлекла внимание парижан к военным приготовлениям в Версале и сумела оценить их грозное значение. Но что должен был делать революционный Париж перед лицом враждебных приготовлений Версаля? Марат опубликовал на страницах своей газеты статью под названием «Известия о заговоре против родины». Здесь содержалось письмо, датированное 4 октября, в котором с негодованием сообщалось об оргии офицерства в Версале. «Вы показали себя достойным доверия всех честных граждан, — писал автор письма. — Вы один разоблачили все заговоры изменников; помогите же нам вашими советами». И Марат нашел верный ответ. Со страниц своей газеты он обратился с призывом к народу Парижа. «…Нельзя терять ни одного мгновения, — писал Друг народа. — Все честные граждане должны собраться с оружием в руках; нужно послать достаточно сильный отряд, чтобы захватить весь порох в Эссоне. Каждый дистрикт должен взять пушки из городской ратуши. У национальной милиции достаточно соображения для того, чтобы понять, что она не должна ни в каком случае отделять себя от своих сограждан». Значение этого призыву Марата нельзя недооценить. Марат гласно высказал то, что тайно или неосознанно бродило в умах многих людей. Он бросил клич: «Вооружайтесь, идите походом на Версаль!» Конечно, можно предположить, что возмущение народных масс произошло бы и в том случае, если бы не было призыва Марата. Народное негодование достигло уже такой степени накала, что оно должно было прорваться наружу. Но Марат сумел найти выход для кипевших в революционной столице чувств. Он обратился к народу, с призывом «Вооружайтесь!», и это сразу дало смутным народным стремлениям конкретное содержание. Он указал, что должен делать народ. С раннего утра 5 октября большие толпы парижан хлынули к ратуше, ворвались в нее, а затем двинулись по дорогам, ведущим в Версаль. В своем большинстве это были женщины. Тут были жены ремесленников, жены рабочих мануфактур, работницы; здесь были торговки с парижских рынков, знаменитые «королевы рынка», как их называли. Сколько их было — женщин Парижа, отправившихся завоевывать Версаль? Свидетельства очевидцев и участников не совпадали, но все сходились на том, что их было не меньше шести-семи тысяч. Среди них, а чаще впереди других, шла Теруань де Мерикур. Простая крестьянская девушка из глухой деревушки близ Льежа, вынужденная из-за бедности родителей оставить отчий дом, она была и певицей, и актрисой, и куртизанкой до тех пор, пока не грянула революция. Она пошла с парижанами на штурм Бастилии и с этого дня, зачеркнув прошлое, ушла с головой в революцию. Ее зажигательные речи воодушевляли женщин из народа. И в походе 5 октября она увлекла за собою толпу. В шляпе с трехцветной кокардой, с распущенными волосами, в яркой амазонке, с пистолетами, заткнутыми за пояс, устремленная вперед, она казалась живым изображением революции. Этот стихийно организовавшийся поход на Версаль был походом парижского плебейства, простых людей. Они шли, не имея ни отчетливого плана действий, ни ясной программы, ни определенной цели. Их толкали нужда и голод. Они стремились скорее достичь резиденции короля, чтобы выразить свое недовольство, чтобы побудить короля прийти им на помощь. Когда стало известно, что толпы парижского народа идут по размытой дождями дороге в Версаль, то напуганный муниципалитет Парижа дал приказ двинуть в Версаль и национальную гвардию. Вслед за парижскими женщинами шли национальные гвардейцы, возглавляемые Лафайетом. Но Лафайет, направившийся со своими батальонами из Парижа в Версаль, в эти решающие часы так и не знал, как Поступить: должны ли национальные гвардейцы поддержать народ в его требованиях, или долг обязывает их защищать королевский двор от посягательств народа? Как бы там ни было, но, не решив этого вопроса, национальная гвардия вслед за народом достигла Версаля. День 5 октября прошел бурно, но без кровопролития. На следующий день, 6-го, раздались выстрелы. Они вызвали взрыв негодования народа. Женщины ворвались во дворец, и перепуганный король вместе с маркизом Лафайетом должен был не раз выходить на балкон, чтобы успокоить негодующий, взволнованный народ. Бледная Мария Антуанетта, королева Франции, скрывая подлинные чувства, должна была улыбаться «королевам рынка». Народ победил. Контрреволюционный заговор был подавлен в зародыше. За один день все изменилось. 5-го граф Сен-Прист, один из приближенных короля, еще говорил вызывающе женщинам Парижа: «Прежде у вас был один король и хлеба у вас было достаточно; теперь же у вас тысяча двести королей — идите просите хлеба у них!» Но на следующий день и королю и его слугам пришлось склонить головы перед народом. Король утвердил все постановления Национального собрания, которые отказывался подписать. Он уступил требованию народа, властно пожелавшему, чтобы король и его двор переехали в Париж. 6 октября король, королева, дофин и их многочисленные слуги в каретах, окруженные со всех сторон многочисленными толпами народа, медленно следовали из Версаля в Париж. Какую роль играл в этих памятных событиях Жан Поль Марат? Мы не располагаем точными сведениями, которые смогли бы восстановить во всех деталях его деятельность в эти дни. Известно лишь свидетельство Камилла Демулена, писавшего на страницах своей газеты «Революции Франции и Брабанта» о роли Марата: «Марат мчится в Версаль, возвращается как молния, делает один столько шума, сколько все трубы в день страшного суда, и взывает к нам: «О мертвые, пробудитесь!» Демулен был журналистом, искавшим прежде всего яркого эффекта. Может быть, в этой образной картине есть и преувеличение; однако остается бесспорным, что Марат не только выступил со страниц своей газеты с призывом к походу на Версаль, но и принял непосредственное участие в событиях этих двух дней. Поход парижского народа 5–6 октября на Версаль был важной вехой в развитии революции. План контрреволюционного переворота, который вынашивал двор, был сорван. Революция одержала еще одну победу. Заставив короля переехать из Версаля в Париж, она превратила его фактически в пленника французского народа. Вслед за королевским двором из Версаля в Париж переехали и Национальное собрание и позже Бретонский клуб, принявший здесь наименование Якобинского клуба. Отныне столица стала вершительницей судеб революции. Народ ликовал. Ему казалось, что, когда король вместе с ним в Париже, когда он сам может увидеть бедствия народа, все несчастия бедных людей должны миновать.
* * *
Первые дни в демократических кругах революционной столицы горячо приветствовали одержанную победу. Марат на страницах «Друга народа» также выражал свое глубокое удовлетворение исходом событий 5–6 октября. Он оценивал их как несомненный крупный успех народа. Но в отличие от многих своих современников Марат не считал победу завершенной. Он призывал народ к бдительности, он предостерегал, что борьба лишь вступает в свою решающую фазу. Предостережения Марата были не напрасны. Через две недели после октябрьских событий, 21 октября, Учредительное собрание приняло так называемый военный закон, разрешающий применять военную силу для подавления народных восстаний. Этот антидемократический закон показывал, как напугана господствующая крупная буржуазия революционной энергией народа, проявленной 5–6 октября. Марат клеймил в своей газете в ноябре 1789 года преступный антинародный смысл закона 21 октября. «Для того чтобы надеть цепи на народ, который приводил их в ужас, укрепиться против него и противопоставить ему национальную милицию, враги общества прибегли к военному закону, кровавому закону…» 8 октября муниципальные власти Парижа, Коммуна отдали распоряжение об аресте Марата. Формальным поводом для ареста Марата была допущенная им ошибка — обвинение на страницах «Друга народа» одного из служащих муниципалитета, некоего Жоли. Марат в своей газете обвинил Жоли в должностных преступлениях, которые тот, как позднее выяснилось, не совершал. Марат, прямой и искренний человек, публично, на страницах своей газеты, принес извинения Жоли. Но он хорошо понимал, что инцидент с Жоли, незначительный сам по себе, был использован только как внешний повод для преследования газеты «Друг народа» и ее редактора. Истинная причина репрессий против Марата заключалась в политической линии, которую проводила редактируемая им газета. Марат обличал контрреволюционную партию двора и ее тайных пособников. Марат обличал парижский муниципалитет, мэра Парижа — Вайи, Лафайета, Мирабо, то есть тех политических лидеров, которые в то время являлись общепризнанными вождями революции. Эта беспримерная смелость, эта дерзость, с которой журналист публично бросал обвинение людям, являвшимся первыми политическими руководителями Франции, и вызывали их ярость. Инцидент с Жоли послужил лишь формальным предлогом для того, чтобы привлечь Марата к судебной ответственности. Марат не стал дожидаться, когда его арестуют. 8 октября он покинул свой обжитый, привычный дом на улице Старой голубятни, в котором он прожил столько лет, и скрылся у своих друзей. Начиналась новая глава в его биографии — жизнь в подполье. Некоторое время Марат скрывался в Версале у Лорена Лекуантра, в то время одного из рядовых левых политических деятелей, занимавшего невысокий командный пост в национальной гвардии. Позже Лорен Лекуантр совершит эволюцию и с левых позиций переместится на правые. Он будет одним из участников термидорианского контрреволюционного переворота. Но в октябре 1789 года Лекуантр еще гостеприимно открывал двери своего дома, предоставляя убежище преследуемому журналисту. Затем некоторое время Марат скрывался в Париже. В ноябре Марат возобновил издание газеты. С 5 ноября «Друг народа» стал вновь выходить в столице. Интерес к газете после вынужденного перерыва в ее издании еще более усилился. «Друг народа» продолжал прежнюю линию смелого обличения тайной политики вожаков, которые, сохраняя еще влияние в массах, стали тормозом для развития революции. Сила критики Марата была в том, что она была всегда персонифицирована. Марат не вел анонимной, безыменной борьбы, борьбы против неизвестного врага. Он боролся против общественных сил, ставших преградой в развитии революции. Но он всегда умел находить имена, которые наиболее полно представляли эти реакционные силы. До событий 5–6 октября Марат видел главного врага революции в партии двора. Это было справедливо. Пока аристократическая партия, партия двора, еще рассчитывала на реванш и имела определенные шансы на успех, она представляла наибольшую опасность для революции. Но после событий 5–6 октября, когда абсолютистско-аристократическая партия потерпела поражение и королевский двор был вынужден переехать из Версаля в Париж, партия двора перестала быть непосредственной опасностью. Марат перемещает теперь направление своего огня. Главный удар в конце 1789 года он направляет против Неккера — первого министра финансов. Он считает его наиболее опасным в данный момент. Еще в октябре Марат написал памфлет, направленный против первого министра финансов. Однако эта работа, которой он придавал большое значение, не могла найти издателя. Один за другим издатели и владельцы типографий отказывались печатать это сочинение: оно казалось им слишком опасным. Марат рассказывал, что после того, как десять издателей отказались печатать его памфлет против Неккера, он должен был сам стать книгопечатником. В ноябре 1789 года Марат переезжает на улицу Ансьен Комеди, дом № 39, где он создает собственную типографию. Теперь он является уже не только редактором и главным автором своей газеты — он стал и ее издателем. В своей типографии Марат выпустил в январе 1790 года памфлет «Разоблачения против Неккера». Неккер — в прошлом женевский банкир, составивший себе крупное состояние на различного рода спекуляциях, на игре канадскими ценными бумагами, сомнительных махинациях с бумагами Ост-Индской компании, был одним из самых богатых людей своего времени. Человек просвещенный, он писал сочинения на экономические темы, до революции слыл сторонником передовых идей. Как уже говорилось, он был преемником Тюрго в первые годы царствования Людовика XVI и с тех пор стал одним из самых популярных лидеров в рядах крупной буржуазии. Неккер был на службе королевского двора еще до революции. Он сохранил свою власть и после великого дня 14 июля. Но если до 14 июля Неккер пытался реформами предотвратить революционный взрыв, то после 14 июля, после начала революции, его главные усилия были направлены на то, чтобы задержать ее поступательное развитие, свести ее результаты к минимуму. Неккер после 14 июля пользовался поддержкой крупной французской буржуазии, буржуазной аристократии, хотя встречал в этих кругах и соперников, например Мирабо. Сосредоточив в своих руках непосредственное руководство правительственной политикой, Неккер был именно тем лицом, от которого более всего зависела ее повседневная практика. Вот это и побудило Марата выступить против него. В своем памфлете Марат писал: «Я никогда в жизни не видел Неккера, я знаю его только понаслышке, по некоторым его писаниям и главным образом по его действиям… Как частное лицо, он всегда был, есть и будет существо для меня безразличное. Если он привлекает мое внимание, то только как королевский министр. Итак, по отношению ко мне он может быть только представителем власти, и я по отношению к нему могу быть только простым гражданином. Все наши споры поэтому могут носить лишь общественный характер, и рассудить нас может лишь трибунал нации». И далее, обращаясь непосредственно к Неккеру: «Я выйду на арену; мне не нужны ни щит, ни кольчуга. Я зарекаюсь от всякой хитрости, от всякого притворства. Я хочу сразиться с вами лицом к лицу, но прошу вас, оставьте поле сражения открытым, не чините никаких препятствий к тому, чтобы удары мои стали всем известны. Я выступлю против вас великодушным врагом; защищайтесь и вы, как подобает храбрецу; повергните меня к вашим ногам и примите заранее клятвенное мое уверение, что, если вы выйдете из этого боя победителем, я первый же обнародую мое поражение и ваше торжество». В этих словах весь Марат. У него нет ни тайных помыслов, ни корыстных расчетов. Ничто личное не примешано к его поединку с могущественным противником. Он сражается только ради блага родины, ради интересов народа. И именно это делает его бесстрашным и неуязвимым в сражении и позволяет с открытым забралом выйти на ристалище. Марат выдвигает против Неккера пять пунктов обвинения. Они имеют вполне конкретное содержание, и сегодня нет нужды их вновь излагать; достаточно указать их общее значение и смысл. Марат обвиняет первого министра в том, что он действовал не в интересах народа, а в интересах либо монарха, либо его слуг. Неккер — ставленник вельмож, и он защищает интересы вельмож; он глубоко равнодушен к требованиям, народа, в этом и состоит его главное преступление. Неккер плох не потому только, что он совершает разного рода махинации и злоупотребления, которые Марат разоблачил в своем памфлете. Это тоже плохо, и Марат доказывает, приводя конкретные факты, что руки Неккера совсем не так чисты, как он тем похваляется, и все-таки не это является главным в обвинении Марата: главная вина Неккера в том, что он вел и ведет политику, направленную против интересов народа. Этот политический памфлет, насчитывающий свыше пятидесяти страниц, произвел громадное впечатление на современников. Почти все газеты откликнулись на него. Одни — их было больше — критиковали и ругали дерзкого доктора Марата, — осмелившегося публично обвинить самого уважаемого в королевстве министра; другие — то были газеты левого, демократического направления — воздавали должное мужеству Друга народа и в известной мере солидаризировались с ним. О том, насколько был задет этим выступлением сам Неккер, можно судить по большому числу анонимных брошюр, выпущенных против Марата. Мы не знаем, кто был их автором; одно несомненно — брошюры эти были инспирированы либо Неккером, либо людьми его окружения. Само название их достаточно красноречиво. Одна из этих брошюр называлась «Анти-Марат». Это название говорило о многом. Недавно еще мало кому известный журналист стал такой большой общественной силой, его голос приобрел такую мощь и такое звучание, что первый министр финансов французского короля вынужден был тайно фабриковать и распространять в обществе сочинения, призванные оборонять линии, атакуемые знаменитым журналистом. Наряду с этим пасквилем широкое распространение имела и другая брошюра, также выразительно озаглавленная — «Защита господина Неккера, первого министра финансов, или ответ на обвинения господина Марата». Но власти боролись с Маратом не только литературными средствами — они прибегали и к более действенным. 22 января Коммуна Парижа вновь приняла декрет об аресте редактора «Друга народа». На сей раз при непосредственном участии Лафайета, как командующего национальной гвардией, против журналиста была организована целая военная экспедиция. Рано утром 22 января 1790 года к дому № 39 на улице Ансьен Комеди, где жил Арарат, двинулись крупные вооруженные отряды. Марат позднее указывал, будто бы для того, чтобы его арестовать, Лафайет направил двенадцать тысяч солдат и шпионов. Может быть, в этом была доля преувеличения. Но Марат, который был своевременно осведомлен о намерениях властей, еще ранее обратился за помощью к комитету дистрикта Кордельеров, на территории которого он проживал. В защиту Марата выступили также видные журналисты левого направления: Пьер Бриссо, Камилл Демулец, Лустало. Кордельеры, один из самых демократических и революционных дистриктов в Париже, стали на защиту Марата. Они видели в попытке ареста смелого журналиста прежде всего покушение на свободу слова. Независимо от того, что писал «Друг народа», он выражал свое мнение, и никому в свободной стране не дано было право ограничивать его в суждениях. И можно ли вообще в стране, где несколько месяцев тому назад была принята Декларация прав человека и гражданина, провозгласившая свободу слова, арестовывать журналиста за то лишь, что он высказывает мысли, кому-то не нравящиеся? Вот побудительные мотивы, заставившие Кордельеров выступить в защиту «Друга народа». В комитет дистрикта Кордельеров в то время входили Паре, Фабр д’Эглантин, Дантон и другие. Защиту Марата взял на себя Дантон. Дантон заявил решительный протест командиру отряда и представителям Коммуны, явившимся арестовать Марата. Дантон объявил, что Кордельеры считают эту меру незаконной. Он пригрозил, что если полицейские отряды не уйдут, то Кордельеры ударят в набат и обратятся с призывом к народу; он пригрозил; что подымутся жители Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместий — не менее двадцати тысяч человек — и народ с оружием в руках встанет на защиту своих прав. Эти слова Дантона показывали, какой серьезный оборот начинало принимать дело. Они свидетельствовали также о том, что имя Марата и направление его газеты были популярными среди Кордельеров, пользовались их поддержкой. Но не все руководители дистрикта Кордельеров проявляли такую твердость, как Жорж Дантон. Обе стороны начали длительные переговоры. В конце концов к трем часам дня командир отряда приказал солдатам войти в помещение, занимаемое Маратом. Солдаты, явившиеся для того, чтобы арестовать знаменитого редактора «Друга народа», вошли в комнаты и увидели, что они пусты. Марат давно ушел из дома, осажденного солдатами. Как он сам потом рассказывал, тщательно нарядившись, сохраняя беспечно веселый вид, он прошел сквозь толпу окруживших район солдат, затем перебрался в безопасное место, а позже нашел прибежище у одного из своих друзей. Полицейские, ворвавшиеся в дом Марата, произвели там разгром. Они захватили все бумаги, подготовленные редактором статьи для очередного номера газеты, ценные рукописи. Так, вследствие этого полицейского налета пропала и навсегда исчезла рукопись, о которой упоминает Марат, — «История французской революции». Он начал писать ее с первых дней революции, но эта рукопись, столь ценная и для биографии Марата и для понимания событий 1789 года, так и не была найдена. Скрывшись в подполье, Марат вскоре узнал, что редакция и типография подверглись разгрому. Сам он находился на положении преследуемого и травимого злоумышленника. Некоторое время Марат скрывался в доме своего земляка и близкого друга, уроженца Невшателя, Бреге. Абрам Луи Бреге был знаменитым часовщиком, он выпускал ручные часы замечательно точного хода — прославленные брегеты, которые воспевал в свое время Пушкин и которые долго пользовались заслуженным успехом во всем мире. Бреге, добрый малый, искренне преданный Марату, оказывал ему немало ценных услуг, помогая ускользать от рук преследователей. С помощью друзей Марат уезжает в Англию — место своего первого изгнания. С января по май 1790 года Марат живет в эмиграции, в Лондоне. Это горькая эмиграция, горькая потому, что он вынужден покинуть родную страну после того, как в ней восторжествовала революция. Францию в 1789 году покидали оголтелые контрреволюционеры, близкие родственники короля, вельможи, злобные враги революции, но он, Марат, «часовой свободы», как он сам определил свою роль, он также вынужден искать пристанища на берегах чужой страны. Вот почему его статьи, написанные во время лондонской эмиграции, полны горечи и разочарования. «С берега, куда меня выбросила буря, нагой, помятый, весь в ушибах, обессиленный и полумертвый от усталости, я со страхом обращаю свои взоры к этому бурному морю, по волнам которого беспечно носятся мои ничего не ведающие сограждане». Но Марат остается верен себе. Он приехал в Англию не для того, чтобы предаваться здесь унынию, скорбеть о прошедшем, склонять свою голову перед могущественным врагом. Нет, он покинул. Париж для того, чтобы продолжать борьбу в лучших условиях, более безопасных и дающих ему больше возможностей наносить удары. За сравнительно короткое время пребывания в Англии Марат публикует два политических произведения. Это «Второе разоблачение Неккера», в котором дан ответ на все возражения против его первого обвинения. Затем это большая, сильная политическая статья, озаглавленная «Призыв к нации». «Призыв к нации» вначале звучит, как энергичная, мужественная речь самооправдания. Марат считает необходимым объяснить народу, почему и как он оказался в Англии. Он обращается к простым людям, своим соотечественникам. Он просит, чтобы народ Франции рассудил его спор с сильными мира сего. «Будем говорить начистоту, — пишет Марат. — Будучи жертвой своей преданности делу спасения Отечества, я не стану больше обращаться со своими требованиями в Национальное собрание. Надменные и пустые мужи, рядящиеся в одежду простого народа, лицемеры, сбивающие народ с пути, законники, торгующие правосудием, интриганы, старающиеся поработить народ, мошенники, которые морят его голодом, злодеи, силящиеся снова ввергнуть его в пропасть, короче говоря, враги общества, господствующие в законодательном корпусе, пришли бы в волнение, заслышав только одно мое имя». Здесь замечательно это перечисление, это нагнетание обвинений, которые Марат предъявляет господствовавшему в Национальном собрании большинству. Он раскрывает смысл борьбы, которая идет между ним и этим господствующим в Национальном собрании большинством: «Ослепленные своими страстями и глухие к голосу долга, они беспощадно уничтожили бы неподкупного человека, который дерзнул раскрыть их черные замыслы и защищать от них дело свободы. Пусть же они наслаждаются своим ложным торжеством. Я не стану им больше докучать своими жалобами. Это к нации осмеливаюсь я обратиться; именно ради нее вел я борьбу, именно ради нее я навлек на себя проклятия». Марат считает необходимым оправдаться перед народом. На него клевещут, враги — злонамеренно представляют его в черном свете, но люди должны знать правду о том, кто старается быть истинным другом народа. Однако Марат ведет речь не только о себе. Он отчитался перед народом, но он считает себя вправе и даже обязанным учить народ. Он вновь указывает народу на его врагов. На этот раз он выступает прежде всего против Лафайета. «Можете ли вы продолжать оказывать доверие главнокомандующему, этому хитрому царедворцу, столь учтивому, столь притворно любезному, столь гибкому. Это ничтожный паладин, ставший героем после нескольких безопасных походов: равнодушный философ, только и помышляющий об обогащении; это мнимый патриот, у которого на устах неизменно одни свидетельства чистейшей гражданской добродетели… И можно ли поверить, что этот честолюбивый царедворец мог быть патриотом? Можно ли поверить, что он не шел навстречу всем планам кабинета и не принес бы в жертву своему собственному успеху интересы нации, благополучие общества, спасение отечества? Вспомните мое предсказание. В один прекрасный день вы увидите этого ревностного гражданина пестро разукрашенного галунами и с жезлом маршала в руках». В этих словах сказалась замечательная проницательность Марата: он умел предугадывать будущее. Лафайет не получил жезла маршала, но Марат lie ошибся. Популярный командир национальной гвардии первых дней революции через два года станет ее врагом и переметнется в стан противников революционной Франции. Полемика, которую Марат ведет против Лафайета, также совершенно свободна — от всего личного. Лафайет является лишь наиболее полным воплощением новых общественных сил, пришедших к власти в 1789 году. В лице Лафайета Марат сражается против новой «аристократии богатства», против господства богатых, присваивавших себе плоды народной борьбы. В «Призыве к нации» Марат стремится раскрыть глаза народу на опасность, угрожающую отечеству. Революцию свершил народ, но кто воспользовался ее плодами? Они достались богатым, и на место прежнего врага — абсолютизма привилегированных у народа появился новый противник — аристократия богатства. Обличения Марата имеют не абстрактный, а практический характер. Он раскрывает народу опасный смысл законодательства о формировании национальной гвардии. «Силы государства обращены против своих детей, — пишет Марат. — Я — уже отмечал, что военная форма и сама организация Национальной гвардии удушили свободу в ее колыбели. Свобода восторжествовала бы навсегда, если бы после 14 июля вооружили всех без различия городских жителей, если бы их обучили военному делу и если бы кокарда являлась единственным знаком их отличия. В те опасные дни можно было видеть богачей заодно с бедняками, спешивших вооружиться для защиты общего дела; страх заглушал тогда все другие чувства в их душах. Но как только они пришли в себя, мелкие страсти дали себя знать; люди стали прислушиваться лишь к голосу глупого тщеславия, богатство снова стало презирать бедность, и хорошо одетый человек не хотел шагать в ногу с человеком в лохмотьях». Марат раскрывал здесь социальный смысл политики крупной буржуазии. Ее главная цель в том, чтобы установить господство «хорошо одетых людей» над «людьми в лохмотьях», богатых над бедными, сильных над слабыми. Уже в «Призыве к нации» Марат выступает как защитник интересов бедноты. Он осуждает политику Национального собрания за то, что оно служит интересам богатых; интересы бедных людей остаются в пренебрежении.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ «ДРУГ НАРОДА» (Окончание)
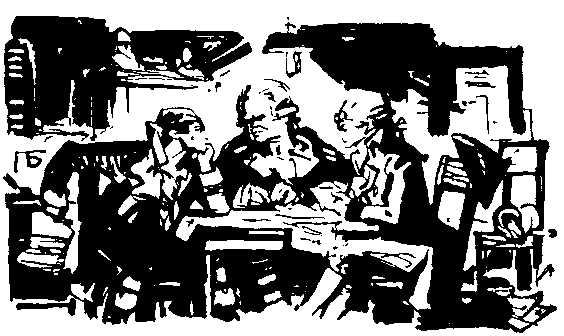
В мае 1790 года Марат возвратился во Францию. Прошло пять месяцев, страсти улеглись. Казалось, что прежнее дело забыто, и он рассчитывал, что может вновь продолжать свою политическую деятельность. Он возобновляет издание «Друга народа». Вернувшись в Париж, Марат мог убедиться в том, как популярна стала его газета. За время его отсутствия в Париже появился ряд фальшивых изданий, подделок под «Друга народа», то, что позднее стали называть «лжемаратами». «Друг народа» стал столь читаемой в Париже газетой, она имела такой широкий спрос у читателей, что предприимчивые дельцы нашли коммерчески выгодным фабриковать поддельные издания «Друга народа». Марат оказался в необходимости публично протестовать против этих фальсифицирующих подлинные издания фальшивок. «Друг народа» продолжал ту же линию борьбы против эгоистической, своекорыстной политики буржуазной аристократии, в защиту интересов народа, которую он вел и раньше. Марат, однако, должен был вскоре убедиться, что его враги остались столь же непримиримыми. Газета вновь подверглась преследованиям. Марату приходилось менять издателей, искать новые типографии, иногда на короткий срок прерывать издание газеты. Он испытывал затруднения с деньгами. Все было истрачено на первые издания газеты. Времена спокойной, тихой, обеспеченной жизни в большом доме на улице Старой голубятни теперь казались бесконечно далекими. Гонимый и бесприютный, преследуемый по пятам полицейскими агентами, травимый правительственной печатью, Марат скрывался в подполье, вел тяжелую, изнурительную, полную опасностей и лишений жизнь, но продолжал борьбу. В 1790 году Марат остался без средств. Он признавался как-то, что неделями должен был жить на хлебе и воде, и, может быть, это не было только образным выражением. Но его не смущали тяготы жизни. Его великий учитель Жан Жак Руссо всю жизнь прожил неустроенным, бедным, бездомным, но он служил добродетели, и слава увенчала его труд. Марат стремился следовать этому великому примеру. Его нельзя было запугать ни преследованиями, ни тисками нужды, которую он ощущал с каждым днем все явственнее. Быть может, он их не сумел бы преодолеть, если бы к нему неожиданно не пришла помощь со стороны. В 1790 году ему предложила все свое небольшое состояние молодая патриотка, искренне увлеченная газетой, издаваемой Другом народа. Симонна Эврар, девушка двадцати пяти лет, давно уже следила за героической борьбой отважного Друга народа. Она разделяла убеждения Марата. Его деятельность представлялась ей героическим подвигом. Он был единственным политическим деятелем и мыслителем, сумевшим понять истинные задачи революции. Она готова была разделять все его опасности, все тревоги и горячо хотела, чем могла, помочь. Марат принял эту помощь, так искренне и бескорыстно предложенную близким ему по духу человеком. Постепенно дружба между знаменитым журналистом и его молодой почитательницей стала более тесной. Симонна Эврар вскоре стала женой Марата. Правда, этот брак никогда не был оформлен в мэрии; это был свободный союз. В бумагах Марата сохранилась записка, написанная в полушутливом тоне, за которым чувствуется скрытая серьезность. В ней было сказано: «Прекрасные качества девицы Симонны Эврар покорили мое сердце, и она приняла его поклонение. Я оставляю ей в виде залога моей верности на время путешествия в Лондон, которое я должен предпринять, священное обязательство — жениться на ней тотчас же по моем возвращении; если вся моя любовь казалась ей недостаточной гарантией моей верности, то пусть измена этому обещанию покроет меня позором. Париж, 1 января 1792 г., Жан Поль Марат, Друг народа». По каким-то причинам обязательство Марата осталось невыполненным. Вероятно, ни Симонна, ни Марат не видели в том необходимости: их союз был скреплен силой взаимного чувства, и оно было вернее печати мэрии. Для Марата этот брак оказался счастливым. Симонна Эврар была моложе его на двадцать лет, но она стала его любящей и верной подругой, самым близким товарищем и помощником в его полной напряжения борьбе. Осталось свидетельство младшей сестры Жана Поля Альбертины Марат, которая и при жизни и после смерти своего знаменитого брата всегда очень высоко оценивала его мужественную, бесстрашную подругу. Симонна Эврар разделяла и горести и славу последних трех лет жизни Марата. Теперь Марат уже не был так одинок, как прежде. Он опирался на руку Симонны, и вдвоем они шли смело навстречу опасностям.
* * *
С июля месяца Марат должен был снова уйти в подполье. Коммуна Парижа возбудила против него новое обвинение и вновь предприняла попытки его арестовать. Он скрывался у своих друзей, простых людей из народа, которые раскрывали перед ним широко двери. Он продолжал откуда-то, из неведомого и невидимого подземелья, выпускать номера «Друга народа». И теперь эту газету читали с еще большей жадностью, чем раньше. Где находится Друг народа? Где Жан Поль Марат? Этого- никто не мог сказать. Он был нигде, но он был повсюду. Его преследовали власти, а он вновь и вновь поражал их неожиданными молниеносными ударами. Его травили, — на него клеветали в печати. Он отвечал своим хулителям и сам выдвигал против них грозные обвинения. Простые люди, трудовой народ, все честные демократы зачитывали «Друга народа» до дыр. Эта внешне непрезентабельная газета, которую держать на виду было весьма небезопасно, передавалась из рукв руки. Ее читали с жадностью, в ней искали ответа на все волнующие вопросы дня, в ней видели доброго и мудрого советчика и наставника; она была действительно тем, чем называлась, — другом народа, бесстрашным, мужественным, верным другом народа. Но если мы обратимся к страницам «Друга народа» второй половины 1790 года, то мы увидим, что в них меньше всего отражена личная судьба их редактора. Читая эту газету, вы даже не всегда поймете, что она издавалась в подполье. Марат во второй половине 1790 года пишет реже о себе, чем он писал раньше. Он занят более важными вопросами, он продолжает борьбу против тех сил, которые сковывают революцию. После принятия Национальным собранием антидемократического «военного закона» 21 октября политика господствующей крупной буржуазии и либерального дворянства и их партии конституционалистов стала еще реакционнее. Еще недавно третье сословие сомкнутыми рядами шло против феодализма, а теперь одна часть третьего сословия — крупная буржуазия, «хорошо одетые господа», как писал Марат, — с помощью законодательства приобрела право применять оружие против «людей в лохмотьях», против простого народа. И основная политическая линия Марата этого времени направлена против антидемократической политики Национального собрания. Марат по-прежнему придерживается убеждения, что революция должна быть продолжена и углублена. Но первым и необходимым условием для этого является борьба против тех сил, которые тормозят развитие революции, которые хотят сковать ее поступательный ход антидемократической политикой. Снова, как и раньше, борьба Марата действенна и конкретна. Его стрелы, как всегда, направлены в определенную цель. Биографы Марата давно уже заметили особенность его политической борьбы: в его выступлениях почти никогда нет критики частных лиц, и в его полемике нет ничего личного. Более того — и это замечательно показывает его смелость и отвагу, — он предпочтительнее выступает против лиц, пользующихся наибольшим признанием и располагающих наибольшей долей власти. Так, перед лицом нации, перед лицом народа он развенчал Неккера; он показал в истинном свете пользовавшегося незаслуженной популярностью генерала Лафайета. Но был еще один политический вождь, влияние которого на ход событий было всегда велико и который все еще оставался кумиром в глазах народа, — это Мирабо. Престиж Мирабо в революционной Франции был выше, чем у кого-либо другого из политических лидеров. Граф Габриэль Оноре де Мирабо происходил из богатой старинной аристократической семьи. Он получил превосходное образование в доме своего отца, одного из самых просвещенных людей своего времени. Но вскоре после ссоры с отцом, посадившим его под арест за непомерные долги, юный Мирабо покинул отчий дом и начал бурную скитальческую жизнь в Европе. Мирабо был человеком больших дарований: замечательный трибун, наделенный поразительным ораторским талантом, к тому же обладавший тонким чутьем актера, позволявшим ему всегда угадывать настроение аудитории; человек волевой, решительный, смелый, необузданного темперамента, неукротимых страстей, он сумел рано выдвинуться среди людей своего поколения. Жизнь его развернулась как роман, заполненный невероятными приключениями, взлетами и падениями, двусмысленными коллизиями, подвигами, романтическими историями и сомнительными похождениями. Мирабо не раз подвергался тюремному заключению: он был в тюрьме на острове Ре, был в заточении в замке Иф, в Жу, в Венсене… И хотя поводом для его преследований были не великие подвиги во имя родины и народа, а нечто совсем иное: неоплаченные долги, побег из крепости, похищение чужой жены, — эта полная превратностей жизнь рождала у него возмущение; он тоже чувствовал себя гонимым и преследуемым и с искренним негодованием обличал пороки старого мира. Мирабо много писал, и его книгами в свое время зачитывались в Европе. Он писал обо всем: о древней и новейшей литературе, о политической экономии, о пользе оспопрививания, о прусской монархии, о водах Парижа, о статистике, о французской грамматике и многом ином. Но сейчас трудно сказать, где кончается авторский текст собственно Мирабо и начинается работа его сотрудников, которых он так широко привлекал: эрудита Кондорсе, позднее Камилла Демулена и иных выдающихся литераторов того времени. Снедаемый неутоленной жаждой власти, богатства и славы, он, естественно, с первых дней революции примкнул к третьему сословию и был избран от него депутатом Учредительного собрания. Его популярность в это время была огромной. В провинции молодежь носила его на руках. В собрании он стал вождем победившей буржуазии. В трудных обстоятельствах он умел находить решение, он умел говорить властным тоном с представителями монархии, он никогда не терялся, он казался человеком, который в наибольшей степени воплощает в себе дерзновенные помыслы революции. Коренастый, кряжистый, с большой головой на короткой бычьей шее, с лицом, обезображенным оспой, он первоначально производил неблагоприятное, почти отталкивающее впечатление. Но он умел и привык подчинять себе аудиторию. Ничто не могло поколебать его самоуверенности. Его гремящий голос, перекрывавший все шумы, сразу же приковывал внимание. Его речь была взволнованна, горяча и в то же время исполнена несокрушимой уверенностью в искренности предлагаемых средств. Казалось, он один знал то, что оставалось скрытым для всех остальных. Через несколько минут он уже полностью овладевал аудиторией. Но Мирабо, которому нельзя было отказать ни в уме, ни в проницательности, ни в понимании людей, очень скоро понял, что эта благословенная им революция свершается вовсе не для того, чтобы вознести его к вершине власти, что в революции действуют люди, ускользающие из-под его влияния, что народ является той могущественной стихией, которая вскоре может затопить всю страну. Когда после народного восстания 14 июля революция победила, когда Мирабо в результате этой победы стал признанным главой революции, тогда, по его мнению, революция должна была остановиться. Но как ее остановить? Мирабо понимал, что нельзя идти против течения. Он продолжал выступать как самый ревностный слуга народа, как рыцарь революции, готовый сложить за нее свою голову. Но в глубине души он уже искал тайных путей, путей, которые бы позволили ему изменить направление событий. В. И. Ленин дал очень точное и глубокое определение Мирабо, назвав его «гениально-продажным авантюристом». Политические замыслы Мирабо всегда смешивались с личными расчетами. Он постоянно испытывал нужду в деньгах не потому, что их было у него мало, но потому, что не было предела его способности их тратить. Революция не могла ему дать эти деньги — и Мирабо вступает в тайную связь с двором. Это сулило, ему не только материальные, но и политические выгоды. Тайная сделка Мирабо с двором подготавливалась всей политикой трибуна в течение первого года революции. Очень осторожно, почти незаметно, Мирабо шаг за шагом поворачивал вправо. Еще оставаясь на авансцене революции, выступая как ее трибун, вызывая восхищение современников громовыми обличениями абсолютизма, он внутренне созревал для измены народу. Мирабо в то время через посредников искал возможность вступить в соглашение, в сделку с двором. Кто знал об этом? Никто. Лишь замечательный революционный инстинкт Марата, его поразительная прозорливость позволили ему разгадать истинную природу Мирабо в ту пору, когда Национальное собрание еще громкими рукоплесканиями встречало каждое выступление знаменитого оратора. Марат выступал с грозными предостережениями. В июне 1790 года он называл уже Мирабо «ревностным приспешником самодержавной власти, лишь для вида прикрывающимся маской патриотизма». 10 августа 1790 года на страницах своей газеты «Друг народа» Марат писал о Мирабо: «Ему не хватает только честного сердца, чтобы стать знаменитым патриотом. Какое несчастье, что у него совершенно нет души!.. Я с ужасом наблюдал, с каким неистовством он стремился попасть в Генеральные штаты, и тогда же сказал себе, что, доведенный до необходимости проституироваться, чтобы жить, он продаст свой голос тому, кто предложит большую сумму. Будучи сперва против монарха, он сегодня ему продался!» Сейчас можно только удивляться поразительной интуиции Марата. Он не располагал достоверными сведениями, он не мог точно знать, что Мирабо продался двору, но он это угадал, и не ошибся. Действительно, за три месяца до того, как писал Марат, в мае 1790 года, Мирабо вступил в тайную сделку с королевским двором, стал тайным агентом монарха, получающим от него содержание. В лице Мирабо Марат поражал всю господствующую партию конституционалистов, партию крупной буржуазии и либерального дворянства. Те же политические пороки, которые присущи Мирабо, были свойственны в той или иной мере и другим деятелям господствующей партии крупной буржуазии. Марат публикует в «Друге народа» статью «Коррупция большинства членов Национального собрания». Он разоблачает продажность тех людей, которые называют себя отцами нации. Он доказывает, что они служат не народу, а тайным силам, выступающим против него. В конце 1789 — начале 1790 года Национальное собрание приняло декреты об избирательной системе. Эти декреты были приняты в прямом противоречии с Декларацией прав человека и гражданина, устанавливавшей равенство прав. Согласно декретам Собрания об избирательной системе граждане делились на так называемых «активных» и «пассивных». «Активными» назывались граждане, обладавшие определенным имущественным доходом и в зависимости от него имевшие право избирать и быть избранными. К пассивным гражданам относилось 4/5 нации, то есть все ее трудящееся население, не обладавшее имущественным цензом, не платившее определенных налогов и лишенное поэтому избирательных прав. Против этой антидемократической избирательной системы, отстранившей от политической жизни большинство народа, восстали все честные демократы: Робеспьер, Дантон, Демулен и многие другие. Друг народа Марат на страницах своей газеты вел систематическую и последовательную кампанию против антидемократической политики Национального собрания. Естественно, что он со всем жаром высказался и против новой антинародной избирательной системы. Замечательно, что Марат выступает от имени неимущих. Он показывает своекорыстие политики господствующей партии. Он публикует на страницах своей газеты весьма примечательное послание; оно называется так: «Прошение отцам сенаторам, или весьма основательные требования тех, кто ничего не имеет, к тем, кто располагает всем». Марат говорит от имени тех, кто ничего не имеет. Он показывает, что для людей, не имеющих собственности, безразличны законы, направленные на охрану собственности. «Что означает сама собственность в глазах неимущих?» — спрашивает Марат. И он осуждает политику Национального собрания, которое защищает только интересы имущих и, больше того, возлагает бремя налогов на тех, кто ничего не имеет. «Вы уничтожили наследственные привилегии, — пишет Марат, — вы внесли больше равенства в гражданское состояние первых классов общества и внесли больше соразмерности в распределение налогов. Но все эти формы полностью выгодны для вас самих, нам они вовсе не нужны. Установив больше соразмерности в распределении налогов на состояние, вы сохранили весь гнет налогового обложения бедняка: хлеб, который он ест, вино, которое он пьет, ткани, которыми он прикрывает свое тело, — все это облагается обременительными налогами. Как же не поняли вы, что было бы справедливо освободить от этих налогов тех, кто ничего не имеет?» Более того, Марат на страницах своей газеты выступает с грозными предостережениями. В июле 1790 года он публикует на страницах «Друга народа» важный документ: «Прошение 18 миллионов несчастных депутатам Национального собрания». В этом документе он, говоря от имени обездоленных, выступает против антидемократического декрета об избирательном праве, превращающего большинство нации в пассивных граждан. Он пишет: «Мы пришли теперь в движение, и движение это не остановится до тех пор, пока путь не будет пройден до конца. Размышление неизбежно должно привести людей к мысли о равенстве естественных первоначальных прав, о котором вы давали нам лишь смутное представление и относительно которого вы стремитесь обмануть нас. Подобным же образом, когда плотина оказывается прорванной, морские волны непрестанно рвутся на берег и не останавливают свой бег, пока вода не достигнет известного уровня. Ведь мысль о равенстве в области прав влечет за собой мысль о равенстве в области пользования жизненными благами, а это составляет единственное основание, от которого может отправляться мысль. И кто знает, долго ли пожелает француз ограничиваться тем кругом идей, за пределы которого ему следовало бы уже давно выйти?» Эти строки замечательны тем, что они раскрывают глубокое социальное содержание революции. Марат предсказывает, что революция не удержится в тех границах, которыми хотели бы ее оградить нынешние хозяева положения. Он убежден в закономерности и необходимости углубления революционного процесса. Марат шел впереди своего времени. Он шел впереди революционного процесса, и то, что он говорил сегодня, исполнялось через день или через месяц и тогда становилось полностью понятным массам. Именно эта политическая проницательность, отвага, с которой он обрушивался против людей, тормозивших развитие революции, и снискали ему такую популярность в народных массах. Но Марату были свойственны и ошибки. Воздавая должное его мужественной и страстной борьбе, признавая его одним из самых выдающихся политических мыслителей и революционных деятелей этих лет, нельзя не видеть и его очевидных слабостей. Перечитывая комплект «Друга народа», следует задуматься не только над тем, что там есть, но также и над тем, что не встретишь на этих пожелтевших страницах. Марат, замечательный революционный тактик, так глубоко понявший объективные задачи революции, странным образом обходил в своей публицистике один из главных вопросов революции — аграрный вопрос. Нельзя сказать, что Марат совсем не касался крестьянского вопроса, не придавал ему значения. Он был первым, кто сумел правильно оценить истинное содержание законодательства 4—11 августа 1789 года. Он выдвигал даже некоторые проекты положительного решения аграрного вопроса — перераспределения земельной собственности, применения английских методов ведения сельского хозяйства. Он был одним из первых, кто обличал Национальное собрание в нерешительности, трусости в решении аграрного вопроса. Было бы неверным умалять его заслуги в этом. Однако нельзя не удивляться, что проблема, волновавшая миллионы французов, была все-таки случайной или редкой темой на страницах «Друга народа». Крестьянство составляло подавляющее большинство французской нации. Казалось бы, его интересы должны были быть на первом плане и на страницах газеты, именующей себя — и с должным основанием — «Друг народа». Но прочтите номер за номером газету Марата за 1789, 1790, 1791 годы, и вы увидите, как редко она откликается на вопросы, волнующие крестьянские массы. Марат проявил странное, труднообъяснимое непонимание, недооценку важности этого вопроса. Слабость позиции Марата была также и в решении такого важного вопроса, как вопрос о политическом строе Франции. Чем должна быть Франция? Монархией? Республикой? Этот вопрос волновал многих. Марат редко касался этой темы и, обличая пороки абсолютизма, а позднее конституционной монархии, не выдвигал идеи уничтожения монархического строя вообще. Он отрицательно относился к республике. И даже когда в 1791 году требование республики стало широким народным требованием, Марат не сумел понять его великую притягательную силу. Ему казалось, что требование республики не имеет реального значения. Были ли в нем сильны монархические иллюзии? Едва ли. Но он недооценивал важность республиканской формы правления, и эта недооценка составляла существенный недостаток его позиции. Отмечая эти ошибки и недостатки в позиции Марата, нужно все-таки признать, что, конечно, це они определяли политический облик Друга народа. Находясь в самой гуще сечи, ведя непрерывный бой, Марат, естественно, не мог не делать промахов. Они возможны у любого политического деятеля. Но и при этих ошибках, которых нет нужды ни преуменьшать, ни тем более скрывать, Марат велик.
* * *
21 июня 1791 года Париж был разбужен пушечными выстрелами. Звонили в набат. Народ, в тревоге вышедший на улицы, узнал поразившую всех весть: Тюильрийский дворец был пуст. Король, королева, дофин, брат короля граф Прованский бежали из столицы. Где они находились в эти утренние часы, когда пушки и колокол возвещали тревогу? Этого никто не знал. Но не было сомнений в том, что король и его семья покинули Париж, чтобы бежать к врагу, за пределы королевства. Величайшее негодование охватило народ. Большие толпы собирались на площадях, заполняли улицы. Бюсты, скульптурные изображения короля были разнесены вдребезги возмущенной толпой. Уничтожались портреты Людовика XVI. Король — изменник, король предал свой народ, король стремится объединиться с врагами Франции — вот мысль, овладевшая парижанами в эти первые часы. Но было ли столь непредвиденным, столь неожиданным это бегство монарха, так взволновавшее сразу всю Францию? Ведь нетрудно было догадаться, что побег короля, зорко охраняемого народом, не мог быть импровизированным, что он должен был долго и тщательно подготавливаться. В эти смутные часы стали вспоминать, что в течение длительного времени были писатели, были органы печати, которые задолго до этих событий предупреждали о готовящемся бегстве короля. И в памяти прежде всего всплывало имя Жана Поля Марата и его газета «Друг народа». Марат был первым, кто разгадал преступные замыслы королевского двора. Уже с конца 1790 года, а в особенности с весны 1791 года он предостерегал народ: готовится черная измена, король собирается бежать за границу, к врагам революции и Франции. Действительно, как позднее было полностью доказано, план бегства короля за границу возник еще ранней осенью 1790 года. После второго поражения, понесенного двором в октябре 1789 года, партия короля еще не признала себя побежденной. Она не склонила головы перед победителем народом и не отказалась от мысли о реванше. Но с тех пор как королевская чета стала пленницей парижского народа, у окружения короля сложилось прочное убеждение: будущее начинается за пределами Франции, король обретет свободу действий, только покинув Париж. Все европейские монархи сочувствовали французскому королю, обещали ему свою поддержку и помощь. В Турине, позднее в Кобленце, эмигранты свили осиные гнезда французских роялистских организаций. Отсюда протягивались щупальца заговоров и контрреволюционных интриг. Французские эмигранты обивали пороги кабинетов высокопоставленных чиновников европейских столиц, призывая правительства монархических государств скорее прийти на помощь французскому королю. Французская королева Мария Антуанетта — дочь австрийской императрицы Марии Терезии — поддерживала тесные связи с венским кабинетом. Нити заговора уходили из Парижа в Вену, Берлин, Петербург, Лондон, Турин. Идея была проста: король должен под любым предлогом оставить Париж; затем, опираясь на верные ему войска, бежать до границы, а там, смотря по обстоятельствам, открывалось сразу широкое поле для энергичных наступательных действий. Уже в октябре 1790 года доверенное лицо короля Людовика XVI маркиз генерал Буйе взялся за практическое выполнение задуманного плана бегства. Буйе сосредоточил надежные войска между Парижем и восточной границей Франции. Эти верные монарху части должны были прикрывать кортеж короля в момент его следования к восточной границе. 18 апреля король высказал пожелание переехать из Тюильрийского дворца во дворец Сен-Клу. Он хотел выйти из-под постоянного и зоркого наблюдения народа. Но парижане, революционным инстинктом почувствовав нечто недоброе в этом замысле, воспротивились его переезду. Это задержало, конечно, осуществление намеченного плана и заставило искать иные пути его выполнения. План бегства короля был воистину заговором европейских монархий: это был антифранцузский заговор. Для осуществления плана побега королевское правительство вступило в секретные переговоры с иностранными правительствами. Посол императрицы Екатерины II во Франции барон Симолин сыграл немалую роль в тайной подготовке бегства заговорщиков. Русский посол снабдил короля и королеву паспортами русской баронессы Корф, которая будто бы с двумя детьми, камердинером и тремя слугами должна была выехать из Франции. Король должен был бежать из Парижа в роли лакея баронессы. Конечно, все эти неприглядные подробности стали известны позднее. Но тайные приготовления, свершавшиеся в Тюильрийском дворце на протяжении 1790 и первой половины 1791 года, не ускользнули от зоркого взгляда Марата. Марат не раз в общей форме указывал на возможность бегства короля за пределы Франции. Но если в 1790 году и в начале 1791 года Марат предостерегал своих соотечественников о возможности опасности, то весной 1791 года его предостережения приобрели вполне конкретное содержание. В номере газеты «Друг народа» от 30 апреля 1791 года Марат писал: «Все дороги от Сен-Клу до Компьена заняты кавалерийскими частями. Уже Буйе на границе готовится помогать врагу. Спите, спите на краю пропасти, глупые парижане!» Это выступление Марата замечательно тем, что он совершенно точно указал маршрут, по которому действительно, как позднее это было подтверждено, намечалось бегство короля. Через некоторое время Марат вновь привлекает внимание парижан к готовящемуся заговору. Он уже прямо указывает на то, что король готовится к побегу, и пишет: «Бомба готова взорваться. Все готово к гражданской войне, если королевской семье удастся бежать». Марат это писал 8 мая; через месяц, 4 июня, «Друг народа» уже призывал французский народ к энергичным действиям: «Чтобы предупредить преступный замысел, необходимо двинуться к дворцу и помешать бегству королевской семьи». Наконец, накануне самого бегства, 20 июня, Марат, предупреждая о готовящемся побеге, указывал практические меры, которые могли бы его предотвратить. «Друг народа» призывал задержать без различия «всех известных сторонников деспотизма», начиная с изменников из Национального собрания, Генерального штаба, муниципалитета; он указывал тем самым на тайных сообщников заговора. Уже современников поражало это ясновидение Марата, этот казавшийся непостижимым дар пророчества, умение предвосхищать последующий ход событий. Но было ли это ясновидением? Здесь сказывались, с одной стороны, замечательный революционный инстинкт Марата, его проницательность и прозорливость. Однако всего этого было бы недостаточно для того, чтобы с такой точностью предугадать последующее и, например, указать на готовящийся побег монарха. Марат мог с такой определенностью строить предположения потому, что он опирался на доверие народа и пользовался поддержкой народных масс. Он получал сведения, которых не имели другие газеты. Уважение, доверие, признательность, которые он завоевал в среде народа, обеспечили ему постоянный приток разного рода информаций. «Друг народа» был, вероятно, первой в истории мировой печати газетой, создавшей и привлекшей к себе корреспондентов-добровольцев из народа, пишущих в газету не ради денег или славы, а во имя блага родины и народа. Друг народа получал десятки и сотни писем со всех концов Франции; Марат не раз жаловался на то, что он не в силах прочитать громадное количество писем, которые к нему поступают. Он постоянно публикует на страницах своей газеты письма простых людей, идущие к нему отовсюду — из Парижа и из самых глухих, медвежьих уголков королевства. Отвечая своим корреспондентам на страницах «Друга народа», Марат писал: «Дорогие товарищи, меня считают пророком, но я такой же пророк, как и вы. Я знаю только людей, которых вы, по-видимому, не желаете разглядеть. Я знаю различные комбинации всех элементов политической машины, чью игру, как кажется, вы не собираетесь основательно разглядеть». Марат знал людей — людей из народа, и они знали его. Не он их искал — они сами его находили. Сведения о предполагаемом побеге короля он получил от добровольных корреспондентов газеты. В литературе высказывались обоснованные предположения; что в числе его корреспондентов были люди, связанные с низшими служащими в королевском дворце. Марат благодаря всему этому оказывался наиболее осведомленным журналистом в стране. Он говорил про себя: «Я часовой свободы», «я око народа». И это была не фраза, не хвастовство, эти определения были справедливы. Марат мог с такой проницательностью предсказывать предстоящие события лишь потому, что он опирался на поддержку и доверие народа и прислушивался к его голосу. Подобно тому как в дни 5–6 октября он сыграл немалую роль в пробуждении народного движения, так и накануне кризиса, вызванного бегством короля, роль Марата была весьма значительной. Предостерегающий голос Марата был услышан, но он не смог предотвратить вероломных действий двора. Когда же преступление совершилось, когда монарх бежал, не время было вспоминать о прошедшем. В статье, написанной в день бегства короля и опубликованной на другой день, 22 июня, Марат говорил: «Граждане, друзья отечества! Вы на пороге гибели. Я не буду тратить время на бесполезные упреки по поводу бедствия, которое вы навлекли на свою голову слепой доверчивостью, гибельной беспечностью. Будем думать только о вашем спасении». Марат не хочет напоминать сейчас о том, что его предостерегающий голос был не всеми услышан, что многие смеялись над его предсказаниями и считали его чуть ли не каркающим вороном, всегда видящим повсюду опасность. Жизнь подтвердила его правоту. Марат говорит лишь о мерах, которые должны быть приняты. Что же нужно делать? «Вот момент, — пишет Марат, — когда должны пасть головы министров и их подчиненных — Мотье (Лафайета. — А. М.), всех злодеев из Генерального штаба и всех командиров антипатриотических батальонов, Байи, всех контрреволюционных муниципальных советников, всех изменников из Национального собрания. Прежде всего возьмите их под стражу, пока еще не поздно…» Марат дает ряд иных практических советов. Он понимает, что события, начавшиеся бегством короля, касаются не только Парижа, но и всей Франции. И он предлагает: «Разошлите немедленно курьеров, призовите на помощь бретонцев, чтобы просить подкреплений у департаментов, захватите арсенал, разоружите конных альгвазилов, стражу у ворот, егерей у застав. Приготовьтесь мстить за свои попранные права, защищать свою свободу и искоренять ваших непримиримых врагов». Эта программа действий, выдвинутая Маратом в первые часы после бегства короля, заслуживает внимания. Марат ищет решения не в каких-либо легальных конституционных мерах. Он апеллирует не к высшему государственному органу, не к Национальному собранию и не к исполнительной власти: они не заслуживают доверия. Он обращается к своим соотечественникам '— рядовым французам. Все надежды на спасение Франции Марат связывает с инициативой народа. Только вмешательство народа может спасти страну, и первым, условием этого спасения является ликвидация всех тех учреждений, которые крупная буржуазия использовала в своих интересах и во вред революции. Марат определяет свое отношение к королю. «Это король клятвопреступник, не знающий чести, стыда, угрызений совести; это монарх, недостойный трона, которого не удержал даже страх прослыть бесчестным; Жажда самодержавной власти, пожирающая его душу, сделает его вскоре жестоким убийцей. Вскоре он будет плавать в крови своих сограждан, которые откажутся подчиниться его тираническому игу». Никогда еще Марат не говорил о Людовике XVI таким непримиримым языком. Какие выводы должна извлечь из происшедшего нация? В статье, опубликованной на следующий день, Марат уточняет свои предложения. Он говорит: «Возмущенная нация лишила своего доверия Людовика XVI и объявила его недостойным царствовать…» Марат, таким образом, громко, на весь мир требует, чтобы Людовик XVI был лишен престола, чтобы он был низвергнут. Но здесь мы неожиданно подходим к странной противоречивости в позиции Марата в эти дни. Казалось бы, Марат определил отношение к королю до конца. Людовик XVI — изменник; он должен быть низложен; это ясная и четкая революционная постановка вопроса. Но, внимательно читая статьи Марата периода Вареннского кризиса, нетрудно заметить, что, требуя низложения Людовика XVI, «Друг народа» не требует уничтожения монархии вообще. Марат нигде не говорит об уничтожении монархии как формы политической власти во Франции Он клеймит позором поведение Людовика XVI, он убежденно доказывает, что ныне, когда злонамерения и преступления короля стали для всех очевидны, он не должен больше ни часа сохранять за собою трон. Но, осуждая и кляня изменившего народу короля, Марат все еще не находит ни одного осуждающего слова принципу монархизма, монархии вообще. И это не случайно. В качестве ближайшей практической задачи Марат указывает на необходимость временно избрать регента. Эта ссылка на регента показывает, что Марат даже после бегства короля все еще не отрицал монархической формы власти для Франции. И действительно, во всех последующих выступлениях Друг народа по-прежнему считает возможным сохранение ограниченной, контролируемой народом монархии. Эта позиция Марата, несомненно, ошибочна. В эти дни Марат высказывает еще одну важную мысль. Уже в первой статье, написанной непосредственно под влиянием событий 21 июня, Марат требует избрания военного трибунала, верховного диктатора, который мог бы расправиться с главными изменниками, врагами революции. Мысль о диктаторе появлялась у Марата и раньше — она была связана с воспоминаниями об античной истории. Имеет ли Марат здесь в виду личную диктатуру? Нет, конечно. И в ранних и в более поздних статьях Марата можно не раз видеть резко отрицательные оценки диктатуры Оливера Кромвеля в Англии или диктаторов древнего Рима. Марат не раз говорит, что протекторат и диктатура Кромвеля в Англии имели гибельные для народа последствия. Таким образом, Марат всегда был и остался противником личной диктатуры. То, что он предлагает, это нечто иное. Это создаваемая в период кризиса выборная и опирающаяся на поддержку народа кратковременная диктатура одного или нескольких лиц — трибуна, или военного трибуна, как его называет Марат, пользующегося полным доверием народа. Несколько позже Марат придет к мысли, что должна быть диктатура не одного лица, а нескольких лиц. И в этих отрывочных, как бы незавершенных мыслях о диктатуре трибуна или трибунов следует видеть зародыш идеи революционно-демократической диктатуры, сложившейся в якобинский период развития революции, двумя годами позже. Авторитет и престиж Марата в дни кризиса, связанного с бегством короля, возросли. Однако последующий ход событий, благодаря имевшимся в позиции Марата противоречиям, несколько усложнял его положение в рядах революционной демократии.
* * *
В те часы, когда Париж в величайшем возбуждении на площадях и улицах шумно выражал свое негодование и презрение к коронованным заговорщикам, предавшим родной народ, Франция еще пребывала в неведении о происшедшем. Конечно, последние месяцы нигде не было спокойно. Тревожные слухи о тайных кознях эмигрантов, о грозных приготовлениях иностранных держав волновали умы жителей провинции. Новости из Парижа сюда приходили всегда с опозданием, но зато с наслоениями разных домыслов и всяких страшных подробностей. Но, может быть, потому, что и в провинции за три года революции привыкли ко всяким неожиданностям и провинциалов стало так же трудно чем-либо удивить, как и парижан, обитатели городов и проселочных деревень оставили без внимания огромный многоместный экипаж, мчавшийся 21 июня 1791 года во весь опор по большому тракту из Парижа в Клермон. А между тем этот экипаж, запряженный шестеркой лошадей, сопровождаемый тремя конными курьерами в ярко-желтых куртках, не мог не показаться странным. Это была громадная берлина, невиданно больших размеров, громоздкая, нарядная; сразу было видно, что изготовлялась она по специальному заказу. И все-таки, несмотря на свой необычный вид, эта странная берлина с ее небольшим кортежем, не сбавляя скорости, пронеслась из Парижа в Бонди, из Бонди в Клермон и поздно вечером, миновав Сен-Менегу, беспрепятственно проследовала оттуда по боковой дороге по направлению в Монмеди. Уже казалось, что беглецы — а в карете следовали, как это уже понятно, Людовик XVI и его семья — благополучно миновали все опасности и почти достигли цели: граница была совсем близка, как поздней ночью в маленьком городке Варение властные голоса приказали экипажу остановиться. И мемуаристы и историки из дворянско-монархического лагеря позднее много спорили о том, какая из случайностей оказалась роковой. Иные видели главную беду в том, что граф Ферзен, молодой швед, полоненный Марией Антуанеттой и взявший на себя подготовку отъезда (это он и заказал эту огромную, бросающуюся в глаза берлину), после того, как он, за кучера, довез королевскую чету до Бонди, оставил их и на глазах зевак, забыв о своем извозчичьем обличии, пересел в собственную барскую карету и поехал в Париж. Другие полагали, что тщательно подготовленный план бегства не удался потому, что вопреки инструкциям генерала Буйе отряд драгун в Клермоне, который должен был охранять карету, не дождавшись ее, покинул город. Третьи видели причину неудачи в роковом стечении всякого рода случайностей. Но все эти догадки упорно обходили главное: бегство короля не удалось потому, что этому воспрепятствовал народ. Карета беглецов, выехавшая из Парижа в полночь 21 июня, по крайней мере на полсуток опережала гонцов, посланных с экстренным извещением из столицы в провинцию. В селении Сен-Менегу, где карета недолго задержалась, местный почтмейстер Друэ был поражен портретным сходством лакея баронессы Корф с королем Франции. После недолгого раздумья Друэ верхом на лошади бросился в погоню за уже скрывшейся подозрительной берлиной. Убедившись, что карета следует в Варенн, Друэ, хорошо зная местность, поехал наперерез, через лес кратчайшим путем, и достиг Варенна значительно раньше беглецов. Здесь он поднял на ноги население уже спавшего глубоким сном маленького городка, и, когда карета прибыла; в мнимых слугах русской баронессы без труда были опознаны король и королева Франции. Было ли это случайностью? Фатальным стечением непредвиденных обстоятельств? Нет, конечно. Для того чтобы простой почтмейстер в маленьком, никому не ведомом селении Сен-Менегу, ничего не подозревавший о происшедшем в Париже, заподозрил в одном из проезжих переодетого короля, для того чтобы он, подвергаясь опасности, помчался в погоню за подозрительным экипажем и затем, набравшись храбрости, остановил и арестовал самого монарха — для этого надо было, чтобы революция за три года перевоспитала и переродила весь народ, привив ему высокие чувства гражданского долга и патриотизма. Замечательный штрих, показывающий, как высока стала сознательность народа: когда Учредительное собрание постановило выдать Друэ в знак благодарности за поимку короля тридцать тысяч ливров, простой почтовый служащий из Сен-Менегу с гордостью отказался от этого подарка. Он выполнил лишь долг французского гражданина, — так отвечал Друэ. Как бы там ни было, но благодаря инициативе почтмейстера из Сен-Менегу и революционной энергии жителей маленького Варенна королевская чета была задержана и пленена французским народом. Попытка генерала Буйе, потерявшего долгие часы в тщетном ожидании берлины, двинуть войска, чтобы силой освободить короля и его семью, оказалась безуспешной. Весть о бегстве короля распространилась уже по всей стране, и сразу же повсеместно крестьяне, мастеровые и подмастерья, торговцы, городская беднота — словом, весь французский народ, вооружаясь чем попало: ружьями, пистолетами, саблями, топорами, вилами, поднялся, как один человек, на защиту революционного отечества от еще неизвестной, но грозной опасности. И вот из Варенна в Париж в сдержанном грозном молчании медленно двинулась длинная, казавшаяся бесконечной процессия: карета с плененной королевской четой, окруженная многими тысячами крестьян и горожан из окрестных селений, пришедших сторожить короля либо просто посмотреть на столь редких в этих краях путников. 25 июня процессия достигла Парижа. Все улицы столицы были запружены толпами людей. Народ молчал. Люди жадно вглядывались в медленно следующую огромную берлину, и ни слова приветствия, ни хула не срывались с их уст. Но вставали вопросы: как должно поступить с королем, изменившим своему народу и бежавшим к врагу? Как отнестись к монархии вообще? Уже с начала Вареннского кризиса отчетливо обозначились две противоположные тенденции, два противоположных направления. Буржуазная аристократия, господствовавшая в Национальном собрании, сразу же поняла глубокий политический смысл происходившего кризиса. Уничтожить власть короля — значило углубить революцию, двинуть ее дальше. Это понимали все наиболее проницательные представители крупной буржуазии, удерживавшей господствующее положение. После смерти Мирабо в апреле 1791 года роль лидеров партии конституционалистов, партии крупной буржуазии, перешла к так называемому триумвирату. Адриан Дюпор, Антуан Барнав и Александр Ламет, эти три депутата Учредительного собрания, стали фактическими руководителями партии крупкой буржуазии. Еще до Вареннского кризиса в мае 1791 года Адриан Дюпор говорил: «Революция совершена, чудовищно было бы предполагать, что она не закончена». Дюпор в этих словах сжато выразил мысль Мирабо, развивавшуюся им на протяжении последних двух лет его жизни. Мирабо был первым, кто призвал к тому, чтобы остановить революцию в ее развитии, и делал все от него зависевшее, чтобы претворить эту мысль в жизнь. Но революция продолжала развиваться, и в 1791 году Дюпору пришлось повторить другими словами ту же мысль. Но эта идея развивалась не только Дюпором. Ее повторяла вслед за ним вся крупная буржуазия, напуганная возрастающим напором народных масс. И когда разразился Вареннский кризис, то для господствующей буржуазии стало ясным, что вопрос о судьбе короля теснейшим образом связан с вопросом о развитии революции. Антуан Барнав — один из самых сильных умов партии конституционалистов — в нашумевшей речи 25 июля 1791 года заявил: «Сейчас продолжение революции приведет к крушению ее. Дело заключается именно в этом, именно в этом наш национальный интерес: желаем ли мы закончить революцию или хотим возобновить ее?» — спрашивал Барнав и тут же сам отвечал: «Если революция сделает еще шаг дальше, она не сможет совершить его безопасно… потому что первое, что могло бы быть сделано в направлении свободы, это уничтожение королевской власти; еще один шаг по пути к равенству привел бы к уничтожению собственности». В этих словах Барнав очень ясно вскрыл взаимозависимость явлений, их внутреннюю связь. «Революцию необходимо остановить» — вот к чему стремилась крупная буржуазия. Марат, напротив, выступал и ранее и в'дни Вареннского кризиса с требованием продолжения и углубления революции. Углубление, развитие революции являлось главным его требованием, именно оно отвечало интересам широких народных масс. В этом смысле позиции Барнава и Марата были прямо противоположными. Но дальше в позиции Марата выявились уязвимые пункты. Барнав, и это было вполне логично с его стороны, стремясь задержать поступательное развитие революции, стремился сохранить монархию, существующий политический строй и данного короля Людовика XVI. Именно в связи с этим Барнав, как и раньше Лафайет, выдвинул версию о похищении короля. Все знали, что это ложь, и тем не менее Национальное собрание приняло официальное постановление, снимавшее всякую ответственность и вину с короля. Народу было объявлено, что король был похищен, что его увезли насильственно, вопреки его воле и намерениям, и что, следовательно, — он не несет никакой ответственности за происшедшее. Эта преднамеренная ложь была сфабрикована конституционалистами для того, чтобы создать правовую основу для сохранения короля на троне. В противовес этой лживой версии вся революционная демократия — демократические клубы, демократическая печать — гласно утверждала правду: король не был похищен — король бежал; над королем не было совершено насилие, король сам готовил насилие над французским народом; король сам подготовил план побега, он был соучастником заговора, его главным вдохновителем и главным действующим лицом. Если обратиться к революционной печати, к демократическим газетам Франции в дни июльского кризиса, то легко убедиться в том, что все они единодушны в этом утверждении. Все революционные демократы без исключения были едины в мнении о том, что король был главой заговора, что его попытка к бегству представляла собой преступное антинациональное действие против Франции. Но какой из этого следовал вывод? Марат и его «Друг народа» в полном единодушии со всеми другими представителями революционной демократии опровергали лживую версию Национального собрания и считали бесспорным участие Людовика XVI в заговоре против французского народа. Он также полностью и даже, может быть, в более Сильных выражениях, чем его собратья по перу, раскрывал преступления Людовика Капета. Как большинство революционных демократов, он делал из этого утверждения ясный политический вывод. Он требовал низложения Людовика XVI. Но дальше начиналась область разногласий. Представители революционной демократии требовали уничтожения монархии и установления во Франции республики. За прошедшие три года революции идея республики приобрела много сторонников. Вначале — в 1789 году — ее поддерживали лишь одиночки. Постепенно число ее приверженцев увеличивалось. В дни Вареннского кризиса, когда королевский двор был окончательно разоблачен и скомпрометирован в глазах всей нации, требование республики стало массовым требованием.Установления республики теперь желали не единицы, не тысячи, а миллионы. Ведущие демократические организации Парижа, клуб Кордельеров, Социальный клуб, в большей части клуб Якобинцев, виднее политические лидеры — Дантон, Камилл Демулен и множество других — единодушно требовали республики. Марат не присоединился к этому требованию. Он продолжал уклоняться от ответа на вопрос, волновавший народ, и, больше того, в некоторых статьях даже прямо высказался против республики. Марат утверждал, что республика может стать аристократической. Следует отметить, что эту же ошибку в свое время совершил и другой выдающийся деятель Великой французской революции, Максимилиан Робеспьер. Как и Марат, Максимилиан Робеспьер также до поры до времени высказывался против республики, опасаясь, что республика станет орудием в руках буржуазной аристократии. Но- это была ошибка — ошибка Робеспьера и Марата, которые не сумели свои верные политические обоснования завершить правильными политическими выводами. Эта ошибочная тактика привела к некоторому ослаблению позиции Марата в революционно-демократическом движении. Многие честные демократы, всегда верившие Марату, не могли понять позиции Друга народа. Между тем борьба против монархии не ограничивалась только словесной или чернильной войной. Она была перенесена на улицы. Революционно-демократические организации — клуб Кордельеров, Социальный клуб, множество парижских секций — организовали широкие народные демонстрации в защиту республики. 17 июля 1791 года на Марсовом поле должна была состояться большая мирная демонстрация демократических организаций, явившихся с петицией о низложении монархии во Франции и установлении республики. Но с санкции Национального собрания и по приказу Лафайета, командующего национальной гвардией, эта безоружная демонстрация была расстреляна правительственными войсками. Кровавые события 17 июля — расстрел демонстрации на Марсовом поле — явились переломной вехой в развитии французской революции. Эти события показали, что некогда единое третье Сословие окончательно раскололось, что одна часть третьего сословия с оружием в руках выступила против другой его части. События 17 июля показали контрреволюционность крупной буржуазии, не остановившейся перед тем, чтобы стрелять в своих вчерашних союзников: Лафайет и Байи отдали приказ — стрелять в героев Бастилии, участников великого народного восстания 14 июля. Марат, как и другие революционные демократы, выступил с гневным осуждением преступления 17 июля. Буржуазия еще раз своей антинародной политикой подтвердила правоту Марата. Сколько раз Друг народа обличал Лафайета, сколько раз он предостерегал, что «игрушечный герой» станет главнокомандующим контрреволюции и обагрит свои руки кровью народа. Жизнь подтвердила справедливость этих утверждений. И все-таки Марат даже после событий 17 июля во взволнованной гневной статье «Страшная резня мирных граждан, женщин и детей…» и в других статьях «Друга народа» все еще не ставит вопроса об уничтожении монархии вообще. Вареннский кризис закончился поражением сил демократии. Крупная буржуазия сумела сохранить Людовика XVI на престоле, подавила революционно-республиканское движение в стране и перешла к жестоким репрессиям. Истинные вожди революции подверглись гонениям. Дантон должен был бежать в Англию. Множество революционных демократических газет было закрыто. Деятельность революционных клубов была взята под контроль. Полицейские, шпионы, соглядатаи преследовали революционных демократов, и многим из них пришлось уйти в подполье. Конечно, одним из первых должен был скрыться с поверхности, уйти в подполье Марат. Его газета давно уже была вычеркнута из списка терпимых; теперь на нее обрушились с яростью. Владельцы типографий боятся ее печатать, книжные лавки и газетчики не рискуют ее продавать. Сам Марат скрывается, но уже чувствует на своих плечах дыхание настигающей погони. «Друг народа» в это время выходит лишь случайно, с большими перерывами. Так, с 1 по 15 августа удалось выпустить всего лишь пять номеров. В сущности, Марат лишен возможности издавать свою газету. Некоторое время он еще пробует продолжать борьбу: преодолевая неисчислимые препятствия и подстерегающие на каждом шагу опасности, он выпускает номера «Друга народа», и газета сохраняет все то же воинствующее, боевое содержание. Но порою его охватывает отчаяние. 11 сентября 1791 года он пишет на страницах «Друга народа»: «Народ умер после резни на Марсовом поле. Напрасно я пытался его пробудить». Эти горестные настроения усиливаются еще оттого, что реакционной крупной буржуазии на первый взгляд удается осуществить все свои планы. 13 сентября Людовик XVI, которому полностью были возвращены все прерогативы монарха, подписал выработанную Учредительным собранием конституцию. Это была антидемократическая конституция, призванная увековечить политическое господство крупной буржуазии и бесправие народа. Отныне конституция вошла в силу, и 1 октября собралось созванное на основе антидемократической избирательной системы Законодательное собрание. Народ даже не пытался воспрепятствовать вступлению в силу конституции 1791 года. Марат, потеряв надежду на пробуждение народной энергии, истощив все силы в неравной борьбе с могущественным противником, на какое-то короткое время поддался чувству горести и отчаяния. У него не хватало сил продолжать борьбу, и в середине сентября он покидает Париж. Что означало это поспешное бегство? Признание своего поражения? Отказ от борьбы? Короткую передышку? Марат и сам этого хорошо не знал. Одну из своих статей он озаглавил: «Друг народа берет отпуск у отечества»; другую он назвал: «Последнее прощание Друга парода с отечеством»; по-видимому, в нем боролись различные чувства, и он не мог окончательно определить, как он должен поступить. Его поспешный отъезд из Парижа был вполне объясним. Продолжать далее ту жизнь, которую он вел в подполье, не было больше ни сил, ни возможности. В «Последнем прощании Друга народа с отечеством» Марат писал так: «Все время ведя войну против изменников отечества, возмущенный их гнусностями и жестокостями, я срывал с них маски, выставлял их напоказ, покрывал их позором; я презирал их клевету, их ложь, их оскорбления; я не боялся их злопамятства, их гнева… Моя голова была оценена; пять жестоких шпионов, шедших по моим следам, и две тысячи оплаченных убийц не могли ни на минуту заставить меня изменить долгу. Чтобы избежать ударов убийц, я осудил себя на жизнь в подполье. Время от времени меня поднимали батальоны альгвазилов; вынужденный бежать, странствуя по улицам посреди ночи, не зная иногда, где найти убежище, проповедуя посреди мечей дело свободы, защищая угнетенных, готовый сложить голову на плахе, я становился от этого еще более страшным для угнетателей и политических мошенников». Марат был прав, когда он напоминал о том, что его неоднократно пытались подкупить, что его обольщали разного рода предложениями: «Мне бы покровительствовали, меня бы чтили, ласкали, если бы только я согласился хранить молчание. И сколько бы расточали мне золота, если бы я захотел опозорить свое перо. Я отвергал соблазнительный металл, я жил в бедности, я сохранял чистоту сердца». Нельзя усомниться в искренности этих слов. Они подтверждаются всей жизнью Марата. Он отверг все обольщения и продолжал вести ту же трудную жизнь гонимого, преследуемого, травимого политического борца. В середине сентября Марат оказался в Клермоне; затем, как это явствует из его корреспонденции, он был в Бретейле, через некоторое время в деревушке под Амьеном. Эта частая, почти непрерывная перемена мест вызывалась не только или, вернее, не столько смятением чувств. Для этого были и более веские причины. Марат бежал из Парижа, но он не сумел оторваться от своих преследователей. И в провинции ему приходилось скрываться в подполье; он менял города, деревни, но погоня шла по его следам. Однажды ему пришлось укрыться от своих преследователей в поле. Но именно тогда, как он сам в том признался, когда, усталый, измученный, преследуемый по пятам врагами, он сидел в раздумье, «как Марий на развалинах Карфагена», он почувствовал, как в «глубине его сердца» засветился «луч надежды». Эти новые бодрые настроения родились под влиянием окружающей среды: в деревне Марат увидел боевой дух, революционную энергию крестьянства; он услышал здесь также о восстаниях в армии; когда он был на грани отчаяния, он убедился в том, что ом не так одинок, как казалось, что парод не мертв, что он даже не спит, что он лишь набирает силы для предстоящих жестоких боев. 27 сентября Марат вернулся в Париж. Борьба возобновилась. И вот, к удивлению, к страху, к неистовой ярости господ из правящей партии конституционалистов, после совсем короткой паузы снова, неизвестно откуда, как гром среди ясного неба загремели громовые статьи Друга народа. Нет, Жан Поль Марат не склонил головы и не сложил оружия! Невидимый, недостижимый для шпионов и полицейских, как прежде неустрашимый, он вновь поражает своим мечом враждебных народу прислужников буржуазной аристократии в Законодательном собрании. Новое собрание, раскрывает глаза народу Марат, не лучше прежнего. Оно избрано на основе цензовой, антидемократической избирательной системы; оно представляет не народ, а его врагов — узкую клику богачей, стремящихся присвоить себе плоды народной борьбы. Марат снова зовет народ в бой. Революция не закончена; она только еще начинается. До тех пор, пока справедливые требования народа не будут удовлетворены, до тех пор, пока власть будет сохраняться в руках кучки злых и богатых людей, революция должна продолжаться. К голосу Марата, «голосу из подземелья», как писали журналисты тех дней, теперь прислушивались с возрастающим вниманием. Этот преследуемый властями, травимый собратьями по перу журналист, обрекший себя добровольно на' подвижническую жизнь мученика, завоевывал все большее доверие масс. «Друг народа» выходил все реже и реже, но зато сколько новых читателей он завоевал, какую моральную силу он приобрел в глазах народа! И все же в декабре 1791 года, когда кольцо преследователей сжималось вокруг Марата все сильнее, когда возникла прямая и трудноотразимая угроза ареста, Марат счел разумным на время покинуть поле борьбы. С 15 декабря 1791 года по 12 апреля 1792 года не вышло ни одного номера «Друга народа». Марат уехал в Англию, чтобы перевести дыхание; скрываться далее во Франции становилось уже невозможным. Весной, в мае 1792 года, Жан Поль Марат вновь вернулся в Париж. Самая революционная, самая демократическая организация столицы — клуб Кордельеров — приняла специальное постановление: просить Марата возобновить издание своей газеты. «Сегодня больше чем когда-либо чувствуется необходимость энергичного выступления, чтобы разоблачить бесконечные заговоры врагов свободы и будить народ, заснувший на краю пропасти… Мы надеемся, что «Друг народа» не покинет родину в то время, когда она больше всего нуждается в просвещении», — говорилось в постановлении кордельеров. И, отвечая на это требование демократических организаций, Марат возобновляет издание «Друга народа». Авторитет и популярность Марата к этому времени чрезвычайно возросли. Он уже становится самым авторитетным, самым популярным журналистом. Простые люди называют его так, как обозначена газета: «Друг народа». И действительно, он является другом французского народа и в широком смысле, сражаясь за его демократические права, за всемерное развитие революции; и он является другом народа в узком смысле слова — защитником бедноты, защитником неимущих, защитником людей труда. Уже давно прошло то время, когда Марату приходилось добиваться, чтобы его голос был услышан. Он уже не был тем безвестным журналистом, над которым посмеивались знаменитые литераторы эпохи. Его имя гремело теперь по всей стране. Его боялись, его считали самым опасным противником. Время подтвердило правоту большинства обвинений Марата. Враги Марата создали легенду о том, что Марат был человеконенавистником, что он любил говорить только дурное о людях, что ему было чуждо чувство добра, что он не имел друзей. Нет клеветы подлее, чем эта. Достаточно перелистать страницы «Друга народа», чтобы убедиться, как наряду со словами хулы, обвинений, направленных против врагов народа, Марат с глубоким сочувствием и одобрением отзывается о ряде выдающихся деятелей революции. Марат различал людей, сражавшихся за революцию, исходя из того, как они служат интересам народа. Марат был одним из первых, кто сумел оценить высокие достоинства и важную политическую роль Робеспьера. Он всегда отзывался о нем с чувством глубокого уважения, с сочувствием, симпатией. Уже в ноябре 1791 года Марат писал: «Робеспьер — вот человек, который более всего нужен нам», и тогда же: «Его имя всегда будет дорого для честных граждан»; он считал его единственным настоящим патриотом в Учредительном собрании. Они не стали лично близки: сдержанный, строгий Робеспьер редко с кем шел на тесную дружбу; им случалось расходиться в мнениях, но при всем том Марат поддерживал борьбу, которую вел Робеспьер в Национальном собрании, поддерживал его политическую линию. До определенного времени Марат отзывался с уважением и симпатией о Жорже Дантоне; выдающийся трибун кордельеров внушал ему тогда полное доверие. Он вел также дружбу, вполне совмещавшуюся с критическим, иногда насмешливым, иногда сердитым словом, с талантливым и легкомысленным, «генеральным прокурором фонаря» — Камиллом Демуленом. До конца 1792 года он оказывал постоянную поддержку Петиону и ряду других передовых деятелей революции. Марату случалось и ошибаться. Как всякому человеку, ему были свойственны и промахи и просчеты. Так, проницательность обманула его в оценке Луи Мари Станислава Фрерона. Луи Фрерон, издававший в первые годы революции журнал «Оратор народа», пользовался особым расположением Марата. Друг народа называл его своим учеником и публично, со страниц своей газеты, призывал относиться с доверием к Фрерону. Марат ошибся. Позже, когда Марата уже не было в живых, Фрерон стал перерожденцем, одним из главных деятелей термидорианского контрреволюционного заговора, главарем банд «золотой молодежи», громившей последние демократические учреждения якобинской диктатуры. Он стал злобным, воинствующим врагом народа. Марат не сумел разглядеть будущего лица своего ученика. Но, как правило, его политическая прозорливость была почти безошибочной. Утверждение о том, что Марат любил лишь чернить людей, а не хвалить, опровергается всеми известными фактами его биографии. Марат добровольно взял на себя самую трудную задачу — сражаться с сильными мира сего. Что приносила ему эта борьба? Она создавала ему лишь неисчислимые затруднения, влекла за собой травлю, преследования, репрессии; она обрекала его на страшную, непосильную борьбу из подполья. Но время шло, и оно убеждало, доказывало, кто прав и кто виноват. Когда Марат начинал свою борьбу, его политические противники были на вершине могущества. Неккер, Мирабо, Лафайет — это были самые громкие во Франции да и во всей Европе имена. Казалось, их популярность и сила их влияния не имеют предела. Но прошло три года, и доктор Марат, чудаковатый журналист, над которым посмеивались на всех званых обедах политические главари новой Франции, оказался единственно. правым в этом споре. Жизнь подтвердила все его обвинения. Он обвинял Неккера, и жизнь подтвердила, что Неккер был действительно замешан в тех злоупотреблениях, на которые указывал «Друг народа», жизнь подтвердила, что он стал противником революции и переметнулся в стан ее врагов. Марат обвинял Мирабо в ту пору, когда тот был на вершине славы. Не было в то время имени во Франции, которое могло бы соперничать с ним в популярности в стране. Марат обвинял знаменитого трибуна в продажности и измене. Уже после смерти Мирабо поползли всякого рода слухи, подтверждавшие обвинения Марата. Когда же после свержения монархии в 1792 году народ овладел Тюильрийским дворцом, то в железном потайном шкафу короля были найдены секретные письма Мирабо к королю; тогда ужасавшие современников страшные догадки получили неопровержимые подтверждения. Марат обвинял Лафайета, могущественного командира национальной гвардии, популярного в народе «героя обоих полушарий». Он предсказывал, что Лафайет перейдет в стан контрреволюции и выступит против народа. Многие возмущались Маратом, другие смеялись над ним. Даже его друзья и те считали, что Марат преувеличивает, что он заходит в своих обвинениях слишком далеко. Камилл Демулен летом 1790 года сетовал: «Марат, этот излишне правдивый, к нашему несчастью, писатель, выступает все время в роли Кассандры…» Он дружески предостерегал: «Господин Марат, мой дорогой Марат, вы наносите себе вред, и вам придется вторично скрыться за море». Марат отвечал спокойно-иронически: «Несмотря на весь ваш ум, дорогой Камилл, вы в политике все еще новичок. Быть может, милая веселость, составляющая основную сущность вашего характера и брызжущая из-под вашего пера даже в самых серьезных случаях, не допускает серьезного размышления и основательности обсуждения…» События 17 июля подтвердили всю обоснованность предположений Марата. Роль Лафайета в последующих драматических перипетиях революции даст новые подтверждения правильности политической характеристики, данной генералу Другом народа. Так сбывались на глазах пораженных соотечественников все предсказания доктора Марата. Люди начинали верить в поразительную силу прозрения этого загадочного человека, который постигает истину, недоступную другим. Уже минуло почти три года, как большинство парижан не видело, нигде не встречало самого знаменитого публициста революционной Франции. Где он, этот таинственный Жан Поль Марат? Как может длиться это непостижимое чудо: правительство, власти, полиция ищут человека, обвиненного во всех смертных грехах, а он ускользает от своих преследователей, он остается вне досягаемости ударов, и откуда-то из расщелин, из пор земли мечет молнии в своих могущественных преследователей. Чуда не было. Марат не скрывался в катакомбах Парижа, не прятался в подземелье. Он был защищен от своих врагов могущественной поддержкой народа. Всякий раз, когда власти готовили против него удар, он уходил к народу, сливался с ним, и безбрежное народное море прикрывало и защищало его. Для любого из читателей «Друга народа» оказать гостеприимство знаменитому редактору газеты, приютить у себя, укрыть от полицейских ищеек было великой честью. Простые люди знали и любили Марата — он был для них подлинным другом, и они охотно, хотя бы малой помощью, соучаствовали в борьбе, которую он возглавлял. Теперь все во Франции — и друзья и враги — старались прочесть запретные номера «Друга народа». К чему призывает Марат? Что он предвещает отечеству? Это хотели узнать в плебейских кварталах Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместий, и в особняках богачей в квартале Сент-Оноре, и в кулуарах Законодательного собрания. Шевремон насчитал свыше трехсот разных изданий фальшивого «Друга народа», подделок под Марата. Это не прямое, а косвенное свидетельство популярности его газеты. Но оно ценнее многих иных: идти на расходы по изданию, на риск наказуемой литературной подделки можно было лишь в расчете на большой денежный выигрыш; тем самым косвенно подтверждался громадный спрос на запрещенную крамольную газету доктора Жана Поля Марата.
* * *
Марат вернулся во Францию, когда за короткое время многое уже изменилось. Он нашел Париж возбужденным, встревоженным. Столицу трясла лихорадка. В клубах, на собраниях секций, на улицах — везде были слышны разговоры о близкой войне. Война между революционной Францией и феодальной Европой действительно, казалось, была неотвратима. С начала французской революции правительства европейских монархий отнеслись к ней с нескрываемой враждебностью. Они увидели в ней не только дерзкое покушение на священные права «помазанника божьего», но и крайне опасный пример, способный воодушевить на подобные же или сходные действия их собственных подданных. И верно, почти повсеместно в Европе общественно-прогрессивные силы, передовые люди своего времени восторженно приветствовали французскую революцию и рукоплескали ее победам. Фридрих Шиллер, Виланд, Клопшток, Эммануил Кант, Фихте — цвет Германии — славили революцию в стихах и прозе. Лидер партии вигов Фокс назвал падение Бастилии «величайшим событием в мире». Кольридж, Вордсворт, Шеридан — все литературные знаменитости Англии с горячим сочувствием следили за великими событиями, совершавшимися по ту сторону Ла-Манша. В самодержавно-крепостнической России Екатерины II в обеих столицах, в дворянских усадьбах и в среде разночинной интеллигенции с огромным вниманием, а многие и с сочувствием прислушивались к необычайным известиям, приходившим из Парижа. Александр Радищев, опубликовавший в 1790 году свое знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву», «царям грозился плахою», как сказала хорошо понявшая смысл книги императрица. Радищев был сослан в Илимский острог, но Н. И. Новиков, Федор Кречетов, И. Г. Рахманинов и другие продолжали вести «вольные речи» до тех пор, пока и их голос не был пресечен жесткой рукою царской власти. Европейские монархии — оплот феодально-абсолютистского строя — в выражениях симпатии к французской революции видели прямое доказательство приближавшейся к ним вплотную опасности. «Мы не должны, — говорила Екатерина II, — предать добродетельного короля в жертву варварам; ослабление монархической власти во Франции подвергает опасности все другие монархии». В Вене, Берлине, Петербурге, Лондоне, Турине, Стокгольме с 1790 года обсуждался вопрос о том, как подавить французскую революцию, как организовать интервенцию против Франции в целях восстановления государя в его законных правах. В августе 1791 года в замке Пильниц, в Саксонии, император Леопольд II и прусский король Фридрих Вильгельм II подписали декларацию о совместных действиях против революционной Франции. В феврале 1792 года Австрия и Пруссия заключили договор о военном союзе против мятежной Франции. Это значило, что правительства феодальной Европы (при деятельной поддержке буржуазно-аристократической Англии) поставили интервенцию в порядок дня. Однако острые противоречия между державами затрудняли переход от слов к делу. Подготовка интервенции против Франции происходила при непосредственном участии французских эмигрантов, братьев короля, и при косвенном участии самого французского двора. После провала попытки бегства все расчеты двора строились на вмешательстве иностранных держав. Подавить революцию можно было только извне, армиями европейских государств, и Мария Антуанетта и Людовик XVI теперь рассчитывают обрести освобождение с помощью иностранного оружия. Так внутренняя контрреволюция перерастала во внешнюю контрреволюцию. Европейские державы готовили интервенцию против революционной Франции. Это было бесспорно. Но какова должна быть позиция самой Франции? Что должно делать французское правительство? Что должен делать французский народ перед лицом надвигающейся угрозы иностранного нападения? По этому вопросу в рядах французской демократии обнаружились различные мнения. 20 октября 1791 года Пьер Бриссо, не без труда удовлетворивший свое честолюбивое стремление стать депутатом, выступил в Законодательном собрании с речью, произведшей большое впечатление. В заносчивом тоне Бриссо грозил иностранным державам. Он доказывал, что государства Европы, предоставляющие приют беглым эмигрантам и угрожающие Франции, только кажутся сильными и опасными; на самом деле они слабы; они страшатся своего народа; французам их нечего бояться. «Заговорим, наконец, языком свободных людей с иностранными державами! — воинственно восклицал Бриссо. — Пора показать миру, на что способны свободные люди и французы!» Бриссо долго рукоплескали: его речь имела шумный успех в Собрании. Это выступление Бриссо не было случайным. С этого времени главной темой его речей в Законодательном собрании, его статей в печати становится идея революционной наступательной войны. «…Народ, завоевавший себе свободу после десяти веков рабства, нуждается в войне. Ему нужна война, чтобы утвердить свободу», — провозгласил он в речи 16 декабря. Но и этого ему кажется мало. Две недели спустя, 29 декабря, снова доказывая необходимость революционной наступательной войны, он с легким сердцем произнес такие слова: «Война является в настоящее время национальным благодеянием; единственное бедствие, которого можно опасаться, это что войны не будет». Бриссо был не одинок. Эту воинственную позицию вместе с ним разделяла вся его партия — партия бриссотинцев, как ее называли в те дни, партия жирондистов, как ее стали именовать позднее. Пьер Викторьен Верньо, Маргерит Эли Гаде, Жансонне, Гранжнев, Дюко и ряд иных депутатов, представлявших департамент Жиронды или по политическим мотивам примкнувших к группе Бриссо, горячо поддерживали идею революционной наступательной войны. Их речи звучали крайне революционно. Народы Европы стонут под игом тиранов; они ждут лишь сигнала для того, чтобы сбросить тягостное ярмо. На Франции лежит священный долг. Она должна сделать первый шаг — начать войну против европейских монархий и поднять знамя освободительной войны в Европе. Такова была примерно фразеология жирондистских ораторов. Они торопились. 18 января 1792 года Пьер Верньо, лучший оратор Жиронды, который не в пример Бриссо умел в горячей импровизированной речи находить слова, увлекавшие аудиторию, потребовал немедленного объявления войны австрийскому императору. «К оружию! К оружию! — восклицал Верньо, — Граждане, свободные люди, защищайте свою свободу и обеспечьте надежду на освобождение человеческого рода, иначе вы в своих несчастьях не будете даже достойны его сожаления». Эти призывы, эти речи, звучавшие так патриотически и революционно, встречаемые обычно громом восторженных рукоплесканий взволнованной толпы, тем не менее вызвали энергичные возражения со стороны передовых демократов. Главным оппонентом бриссотинцев стал Максимилиан Робеспьер. Он решительно отвергал идею наступательной революционной войны. В ряде речей у якобинцев он доказывал, что эти зажигательные призывы к войне чужды интересам революции. Свободу не приносят на острие штыка. «Никто не любит вооруженных миссионеров, и природа и благоразумие прежде всего советуют оттолкнуть их как врагов». Мысль о том, что народы Европы примут с восторгом вооруженное вторжение французов, заблуждение и авантюризм. Но идея войны опасна еще и потому, что она отвлекает внимание народа от главного — от борьбы против врагов внутри страны. Нельзя победить внешней контрреволюции, не подавив предварительно внутреннюю контрреволюцию. «Прежде чем последствия нашей революции скажутся у иноземных наций, нужно, чтобы она упрочилась, — говорил Робеспьер. — Желать дать им свободу раньше, чем мы сами завоевали ее, значит утвердить порабощение и наше и всего мира…» Робеспьер был прав; его взгляды поддерживала группа его приверженцев, но они составляли меньшинство, и их голос заглушался громкими воплями пылких сторонников немедленной революционной войны. Случилось так, что этот призыв к войне неожиданно встретил поддержку и сочувствие самых различных общественных сил. Жирондисты, связанные с торгово-промышленной буржуазией и выражавшие ее интересы, надеялись путем войны добиться расширения границ Франции на севере и востоке и общего усиления ее позиций — экономических и политических — в Европе. К тому же они полагали — и это, по-видимому, было для них главным, — что война с неизбежностью приведет их к власти и закрепит их политическое господство. Народные массы, введенные в заблуждение революционной фразеологией жирондистов, принимали ее всерьез: идея освободительной войны отвечала их патриотическим чувствам, и они ее поддержали. Но идея войны соответствовала и. тайным расчетам и вероломным замыслам короля и двора. В окружении короля полагали, что война намного облегчит выполнение главной цели — разгрома революции. Война должна быть «малой», недолгой; при обоих возможных вариантах она должна дать выигрыш двору: если она будет победоносной, то король сможет сам подавить революцию; если она будет неудачной, 'то революцию задушат интервенты. Как бы ни развернулись события, наивно полагали в Тюильрийском дворце, они пойдут на пользу монархии. В декабре 1791 года военным министром был назначен граф Нарбонн. Людовик де Нарбонн был тесно связан с фейянами, и его приход на этот важный пост, казалось, обеспечивал двору самую энергичную поддержку конституционалистов. Но, человек авантюристической складки и огромного честолюбия, Нарбонн мечтал о большем. Он стремился к войне, чтобы прославить свое имя, и на гребне успехов стать первым лицом в королевстве. В свою очередь, Мария Антуанетта, державшая в маленькой руке запутанные нити сложных политических интриг, решила использовать нового человека для тонкой и опасной игры, которую вел дворец. Нарбонн был близок с госпожой де Сталь, дочерью Неккера, литературной дамой, полной самомнения, салон которой посещали знаменитые философы и политические деятели. Королева не выносила Жермен де Сталь и должна была с предубеждением отнестись к ее избраннику. И все-таки в декабре 1791 года умная и злая Мария Антуанетта писала графу Ферзену: «Граф Людовик де Нарбонн, наконец, стал со вчерашнего дня военным министром. Какая слава для г-жи де Сталь и какое удовольствие для нее иметь… в своем распоряжении целую армию!» Но дальше шли деловые соображения: «Он может быть полезным, если захочет, потому что он достаточно умен, чтобы привлечь конституционалистов, и умеет говорить нужным тоном с нынешней армией…» И, наконец, откровенные признания: «Как я буду счастлива, если мне когда-нибудь удастся опять стать настолько сильною, чтобы доказать всем этим плутам, что я не одурачена ими…» В этой игре каждый старался одурачить другого. Эта игра велась не на мелочь; ее ставкой были судьбы Франции. Но это нимало не смущало игроков. Двор и Нарбонн (и стоявшие за Нарбонном фейяны) быстро сговорились: пропаганда жирондистами войны им только на руку; надо поддерживать идею войны и приблизить ее начало. В марте 1792 года король призвал к власти жирондистов. Министром внутренних дел был назначен Ролан де ла Платьер; министром иностранных дел популярный в то время генерал Дюмурье. Остальные министерские посты были также замешены жирондистами или близкими к ним лицами. Бриссо в состав правительства не вошел — для этого он был слишком незначителен. Но, не входя в министерство, он оставался тайным руководителем нового кабинета. Образование жирондистского министерства было тонким маневром двора. Новое правительство, во главе которого стояли люди, пользовавшиеся доверием страны, должно было прикрыть тайные планы короля и его окружения. Жирондистское правительство должно было — это оставалось его главной целью — стремиться к войне. Но это же было и ближайшей задачей королевского двора. Теперь, после того как жирондисты пришли к власти, война была неизбежна. Марат вернулся во Францию, когда новое правительство было уже образовано. Он отнесся к нему с недоверием. В газете «Друг народа» от 13 апреля он высказал вслух свои сомнения, свои опасения по поводу образования нового министерства. «Все публицисты рассматривают образование якобинского министерства6 как самое лучшее предзнаменование. Я не разделяю их мнения: в моих глазах опозоренные министры менее опасны, чем министры, пользующиеся доброй славой, обманывающие общественное доверие, покамест они его не погубят», — писал Марат. Он высказывал предположение, что жирондисты призваны к власти по совету Ламетов и Лафайета, то есть фейянов. «Они сочли нужным указать королю средство ввести народ в заблуждение видимостью лжепатриотизма, беспрепятственно плести заговоры под покровом мнимых Аристидов, пользующихся доверием нации…» Марат на сей раз был сдержан, он не бросал обвинений никому, кроме Клавьера, он не хотел говорить ничего дурного о новых министрах. Он призывал лишь к настороженности, к бдительности. В спорах о войне Марат солидаризировался с Робеспьером. Еще ранее, зимой 1791/92 года, Марат разгадал замыслы жирондистов, ^прикрываемые крикливой пропагандой революционной войны. Воинственными выкриками, военным угаром они хотела отвлечь внимание народных масс от задач борьбы против внутренней контрреволюции. «Лишь уничтожив наших внутренних врагов, мы получим возможность успешно действовать против наших внешних врагов, как бы многочисленны они ни были; до этого все, что мы предпримем, будет совершенно бесполезно», — писал Марат еще в ноябре 1791 года. Его позиция осталась неизменной. Она полностью совпала с позицией Робеспьера. Они оба с революционной прозорливостью сразу же поняли, что война в данный момент будет выгодна только силам внутренней контрреволюции. Они оба ратовали против нее. Но их голоса тонули в громких возгласах одобрения, неизменно сопровождавших призывы жирондистов к революционной войне.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ПРОТИВ ЖИРОНДЫ

20 апреля 1792 года Законодательное собрание декретировало объявление войны австрийскому императору. Несмотря на то, что Франция первой объявила войну Австрии, эта война по своему объективному значению и смыслу была справедливой, оборонительной со стороны Франции. В войне, начавшейся в апреле 1792 года и затянувшейся на долгие годы, столкнулись два мира: новая, революционная, буржуазная Франция и старая, контрреволюционная, феодальная Европа. Революционная Франция должна была обороняться от феодально-абсолютистских держав, стремившихся к уничтожению революции. «Весь народ и в особенности массы, то есть угнетенные классы, были охвачены безграничным революционным энтузиазмом; войну все считали справедливой, оборонительной, и она была на деле таковой»7. Но если эта война была исторически справедливой, — то это вовсе не значило, что следовало торопиться с началом войны, как это сделали жирондисты. С легким сердцем они начали войну. Они надеялись на быстрые триумфальные успехи, на то, что война укрепит их политическое влияние в стране, закрепит за ними положение правящей партии и устранит их противников — сторонников Робеспьера и Марата. Казалось в первые дни после объявления войны, что их оптимистические расчеты оправдываются. Вооруженные силы Франции были разделены на три армии, которыми командовали генерал Рошамбо, маршал Люкнер, генерал Лафайет. Вскоре же после объявления войны французские войска перешли государственную границу и вступили на территорию Бельгии. В течение последней недели апреля французские армии, почти не встречая сопротивления, заняли большую часть бельгийской территории. Эти первые успехи, как и сам акт провозглашения войны, вызвали восторженные настроения народа. Французский народ был охвачен огромным воодушевлением. Предостерегающие голоса Робеспьера, Марата, которые предупреждали о возможной измене, о тайных помыслах двора, связанных с этой войной, были забыты. Народ ликовал; ой был охвачен упоением первых дней побед. Но это настроение энтузиазма продолжалось недолго. Прошла лишь неделя с небольшим, как успехи на фронте сменились постыдными неудачами. При первом же соприкосновении с силами противника французские войска стали отступать. Без боя, не оказывая сопротивления, французская армия пятилась, отступала перед силами врага. Отчего это произошло? Иначе и быть не могло. Командование армией находилось в ненадежных руках. Высшие и старшие офицеры были роялистами, они принадлежали в большинстве к родовой знати, питавшей безграничную любовь к монарху и ненависть к революции и революционным порядкам. Генералы, командовавшие армиями, меньше всего думали о победе над врагом — они преследовали тайные расчеты. Генерал Рошамбо при первых же неудачах подал в отставку, и командование армиями было разделено между Люкнером и Лафайетом. Маршал Люкнер, немец по рождению, состоявший на французской службе, хитрый, скрытный царедворец, скрывавший свои потаенные мысли за показной простотой, не доверявший ни Лафайету, ни королевскому двору, ни своим ближайшим помощникам, был главным образом озабочен тем, как бы не сыграть на руку своему сопернику Маркизу Лафайету. Планы же Лафайета шли далеко; военные операции его мало занимали. Он подготавливал удар… но только не против австрийцев. Жирондисты, возглавлявшие правительство и несшие ответственность за объявление войны, вместо того чтобы пробуждать революционную энергию народа, поднимать ярость масс против внешнего врага, сосредоточили свои главные усилия на борьбе против якобинцев. Странным образом в этой войне, начатой по инициативе французской стороны, никто из военных и государственных деятелей, ответственных за военные усилия Франции, не думал о борьбе с противником. Все были заняты иным. Жирондисты, ставшие с марта 1792 года правящей партией, к этому времени уже почти полностью обособились от Якобинского клуба, членами которого они еще формально оставались, и образовали свою особую, замкнутую и узкую организацию. Первоначально они собирались на Вандомской площади, в доме № 5, в салоне госпожи Дюдон, богатой и любезной дамы, озабоченной тем, чтобы создать побольше удобств своим именитым гостям, решавшим великие государственные проблемы. Иногда они сходились на обед у Верньо. Но чаще всего они встречались в доме Реланов: он стал главным политическим штабом партии жирондистов. Правда, этот штаб по своим внешним чертам не имел ничего военного; напротив, это был уютный камерный, уединенный от шума улиц салон, где все смягчалось незаметным прикосновением женской руки. По занимаемой должности главою жирондистской партии надлежало быть Жозефу Ролану де ла Платьер, владевшему ключами самого важного министерства в стране: он был министром внутренних дел. Но Ролан не годился для роли лидера жирондистской партии. Провинциальный буржуа, тугодум, педант, политик узкого кругозора, к тому же не обладавший необходимой для этого бурного времени решительностью, он был неспособен ни вести за собою людей, ни даже давать ориентирующие их указания. Он выставлял напоказ свою честность, свою скромность, он приходил на заседания министров в простых башмаках без пряжек, что было не принято в то время, и наивно полагал, что эта афишированная простота туалета может заменить отсутствующую волю и ясность цели. Его молодая, красивая и умная жена Манон Ролан оставалась всегда за сценой официальной политики, но ее имя нельзя вычеркнуть из истории этого времени. Она не только создала в своей гостиной политический салон, где за бокалом вина решались важные государственные вопросы, она не только имела громадное личное влияние и на своего престарелого мужа-министра и на любившего ее Бюзо и других деятелей жирондистской партии, — она подсказывала Ролану всю линию его поведения, тайно руководила всеми его действиями, сочиняла для него речи, редактировала министерские инструкции и приказы. Это безграничное влияние Манон Ролан на своего мужа не оставалось секретом для посвященных. Дантон однажды в сердцах сказал: «Если вы хотите пригласить Ролана, то пригласите также госпожу Ролан, так как всем известно, что он был не один в своем министерстве». Марат разоблачал это же на страницах своей газеты: «Ролан только незначительный человек, которым управляет его жена; она является министром внутренних дел». Закрытый для посторонних, отгороженный плотными дверьми и стенами от нескромных глаз и ушей, дом госпожи Ролан стал политическим центром жирондистской партии. И это было знаменательно. Не в общении с народом, не на народных собраниях, не в дебатах политических клубов вырабатывали жирондисты свою тактику. Она создавалась в приглушенных келейных беседах в узком кругу за столом Манон Ролан. Жирондисты отделились и прятались от народа; пройдет немного времени, и они начнут конспирировать против него. Другим штабом жирондистской партии была квартира Пьера Брисах В положении бедного журналиста к этому времени произошли существенные изменения. Бриссо был уже депутатом от парижских избирателей Законодательного собрания. Он уже не был частным лицом, литератором с сомнительной репутацией, преподающим советы политическим деятелям. Депутат Законодательного собрания, он теперь чувствовал себя государственным человеком. Но все-таки в его политической биографии всегда оставалось столько двусмысленного, неясного, темного, что никому не приходило в голову пригласить депутата Бриссо в состав правительства. Но этот малорослый человек, сутулый, неловкий, с длинным, вытянутым некрасивым лицом, оживленным лишь быстрым взглядом пронзительных глаз, был снедаем неутомимым честолюбием. Он не стремился к богатству; он умел зарабатывать деньги, но ему их никогда не хватало, хотя он не научился жить на широкую ногу; они все уходили на бесконечные литературно-издательские затеи, заканчивавшиеся неизменно новыми долгами. Нет, он стремился к иному — к славе, всесильному влиянию, к власти. Он был одним из самых осведомленных людей своего времени. Он также много писал: если собрать все им написанное, то это составило бы десятки томов. Но природа не наделила его ни литературным талантом, ни ораторским даром. И тем не менее он в совершенстве владел искусством, доставившим ему и положение, и влияние, и даже тайную власть, — искусством интриги. Он умел сталкивать лбами людей, ссорить друзей, мирить врагов, разъединять союзников, создавать самые невероятные комбинации, сокровенный смысл которых оставался для всех непонятным. Все знали это истинное призвание Бриссо; в печати тех лет появилось слово «бриссотировать», что означало прежде всего «интриговать». «Бриссо, вы бриссотинец», — бросил ему однажды реплику Дантон. Демулен выразил ту же мысль еще яснее. «Вы плут!» — крикнул он ему напубличном собрании, а затем со всей силой своего язвительного таланта высмеял его в уничтожающем памфлете. Бриссо не получил звания министра королевского правительства, «о именно в квартире Бриссо решались главные вопросы политики жирондистского министерства. На ухо передавали, что и Ролан и Клавьер, ставший министром финансов, были обязаны своими портфелями рекомендации незримого Бриссо. Журналисту, гонявшемуся всю жизнь за удачей и славой, было лестно теперь принимать в своем кабинете просителей. В бумагах, сохранившихся от того времени, уцелела и такая выразительная записка, подписанная Бриссо: «Мой дорогой Ролан! Посылаю вам список тех, кого вы должны принять на службу. Вы и Лантена должны постоянно иметь список перед глазами, чтобы назначать на какую бы то ни было должность только тех, которые вам рекомендованы настоящим списком». Так мог писать министру внутренних дел только глава правительства. Но автор записки не занимал никакого официального поста в министерстве; зато он обладал большим: он был негласным, закулисным руководителем кабинета. И вот 25 апреля Пьер Бриссо поднимается на трибуну Якобинского клуба, который он давно уже не посещал, чтобы произнести большую политическую речь. Эта речь, которой он хот^л придать программный характер, не была посвящена задачам борьбы против внешних врагов. Не о грозной опасности, нависшей над Францией, говорил Бриссо; нет, острие его речи было направлено против Робеспьера. Бриссо полагал, что политическая атмосфера в стране после объявления войны, патриотическое воодушевление народа благоприятствуют его планам. В высокомерном тоне он отвел возводимые против него обвинения и сам попытался нанести удар Робеспьеру. Он хотел его политически дискредитировать. Соратник Бриссо, Эли Гаде, также метал копья в Робеспьера. Жирондистские лидеры надеялись, что теперь, когда накал патриотических чувств был так силен, противники войны должны смущенно молчать и Робеспьер будет принужден к отступлению. Но они просчитались. Война началась, это было верно; и уже было ни к чему спорить о том, нужна она или нет. Но спор продолжался; он шел теперь о другом: как вести войну — с народом или против народа? По-якобински или по-жирондистски? Ни Робеспьер, ни Марат, никто из истых якобинцев и не помышлял об отступлении; напротив, именно теперь, когда жирондисты обрушили свой удар против Робеспьера и якобинцев, Марат решил, что пришел час свести счеты с Бриссо. Марат и раньше относился к Бриссо с известной сдержанностью, он проявлял недоверие к другу юности, слишком пылко выражавшему свои чувства. Многое в политике Бриссо ему не нравилось, многое казалось подозрительным. Окончательно они разошлись по вопросу об отношении к цветному населению французских колоний. Учредительное собрание предоставило политические права белому населению французской колонии Сан-Доминго; колонисты Сан-Доминго были уравнены в правах с жителями метрополии. Но негры, мулату, цветное население Сан-Доминго и других французских колоний были по-прежнему политически бесправны, учредительное собрание поддерживало это неравенство. Марат, как последовательный демократ, требовал предоставления цветному населению французских колоний тех же прав, что и белым. Другу народа была чужда всякая мысль о расовом неравенстве, о рапсовой дискриминации. Он был одним из немногих французских политических деятелей той поры, которые последовательно боролись за предоставление полноты политических прав неграм, мулатам, всему цветному населению французских колоний. На этой почве между Маратом и Бриссо обнаружились значительные разногласия. Бриссо в свое время ратовал за предоставление прав неграм, он также был в числе «друзей чернокожих». Но после того как Бриссо внес предложение о том, чтобы направить на остров Сан-Доминго французские вооруженные силы для подавления движения негров, Марат публично заявил: «Вы никогда не заслуживали похвал, которыми зеваки оплачивали ваши патриотические гримасы. Что же касается меня, хорошо вас знавшего, я всегда ожидал, что с вас когда-нибудь спадет маска, хотя и не думал, что так скоро сбудется мое предсказание». Это был окончательный разрыв. Последующее поведение Бриссо еще более укрепило Марата во враждебном отношении к своему приятелю молодости. Едва ли можно говорить о какой-то личной привязанности Марата к Бриссо; ее не было никогда. Но все-таки Марат не мог забыть, что было время, когда они оба сражались как собратья по оружию. Может быть, поэтому он был сначала сдержан в полемике против Бриссо. Но эти воспоминания не могли остановить Марата, когда он убедился во враждебной политической деятельности Бриссо; со всею силой, которая ему была присуща, он сосредоточивает теперь удар против лидера жирондистов. Тут же, после атаки Бриссо и Гаде в якобинском собрании против Робеспьера, Марат определяет свою позицию в разгоревшемся споре. Он публикует на страницах «Друга народа» статью «Тайные причины внутренних разногласий в обществе якобинцев; подлинные мотивы бешенства клики Гаде — Бриссо». И в этой острой статье он безоговорочно солидаризируется с Робеспьером, с революционно-демократической частью Якобинского клуба и наносит сокрушающие удары Бриссо. Марат остается верен своей тактике. Он не только опровергает все обвинения, возводимые жирондистами против Робеспьера, доказывает их лживость, их несостоятельность — он сам переходит в контрнаступление. «Господин Бриссо в речи, продекламированной 25 апреля у якобинцев, — пишет Марат, — забыл очиститься от самых тяжелых обвинений в том, что он был платным шпионом Ленуара, что он связался с министерско-муниципальной партией из страха перед тем, чтобы Байи не нашел его имя в списках полиции, служил делу деспотизма, своим планом по организации муниципалитета прикрывая недобросовестные поступки королевских скупщиков в продовольственном комитете сотнями разных небылиц, был подлым защитником преступлений Мотье против общественной свободы, имел с ними преступные сношения у кума Ламарка и кумушки Ланксад. Он забывает очиститься от этих обвинений, чтобы восхвалить свой мнимый патриотизм…» В этом коротком отрывке собраны самые ужасные обвинения. Любого из них достаточно, чтобы сбить противника с ног. Справедливости ради надо сказать, что некоторые из них так и остались недоказанными. Это относится к самому тяжелому обвинению — в том, что Бриссо был тайные агентом полиции. Зато другие обвинения, брошенные Маратом, опирались на прочную почву. Марат с должным основанием утверждал, что Бриссо был пособником Лафайета. Он был прав, обвиняя Бриссо в тайных связях с графом Ламарком, человеком, близким к австрийскому посланнику Мерси Д’Аржанте и являвшемуся посредником между двором и Мирабо. Марат был прав, утверждая, как было позднее установлено, что в доме госпожи Ланксад, жены секретаря Константинопольского посольства, происходили встречи между Лафайетом и руководителями жирондистов; главную роль в этих тайных переговорах играл Бриссо. Имели значение не только конкретные обвинения, предъявленные Маратом. Важна была сила этих обвинений. Она означала полный, непреодолимый разрыв между былыми друзьями. Предъявляя и доказывая связи Бриссо с Лафайетом, которого Марат давно уже клеймил как вождя партии контрреволюции, Друг народа разоблачал истинное политическое лицо Бриссо и его друзей жирондистов. Теперь борьба начиналась, не на жизнь, а на смерть. Марат публично бросил столь тяжкие обвинения Бриссо, что никакое примирение между ними или даже ослабление вражды было невозможно. И Бриссо оценил это выступление Марата должным образом. Через несколько дней после опубликования обличительной статьи Марата против вождей жирондистов Законодательное собрание приняло специальный декрет против Марата. Бриссо был достаточно опытным политическим деятелем, чтобы не вносить самому предложения, направленного против Марата; за него это сделали иные. 3 мая Законодательное собрание посвятило заседание обсуждению клеветнической, как говорили выступавшиё, братоубийственной статьи Марата в газете «Друг народа». Собрание приняло решение об аресте Марата и прекращении издания газеты «Друг народа». Для того чтобы прикрыть удар, направленный против лагеря революционной демократии, и вместе с тем, чтобы дискредитировать Марата, все та же рука незримого режиссера вдохновила Законодательное собрание принять одновременно декрет о запрещении газеты крайних монархистов «Друг короля», издаваемой неким Руайю. «Друг народа» был поставлен в один ряд с «Другом короля»; в этом был определенный политический расчет: этим чудовищным сопоставлением жирондисты хотели скомпрометировать, облить грязью Жана Поля Марата. Но Марат и не думал, конечно, подчиняться постановлению Законодательного собрания, ничтожество которого он столько разоблачал. Он слишком презирал этих господ, являвшихся тайными или явными врагами революции, чтобы подчиняться их преступным распоряжениям. Он ушел в подполье. 12 апреля, после долгого перерыва, начала выходить его газета. Через три недели — 3 мая — она была снова запрещена. Жирондисты, как и раньше фейяны, не смогли сломить Друга народа. Он нанес удар сокрушительной силы по главарям партии, а сам ускользнул от преследователей. Он снова скрылся с поверхности, ушел в глубины народа и, оставаясь незримым, недосягаемым, продолжал борьбу.
* * *
В июне положение на фронте резко изменилось. Французская армия потерпела поражение; она отступала под натиском врага. Главная причина неудач, постигших французскую армию, заключалась не в ее малочисленности или в недостаточности военного снаряжения, как это пытались объяснить высшие должностные лица. Французская армия не была слабее австрийской или прусской армий; причина была в ином. Изменники свили гнездо в самом сердце Франции — в Париже, и отсюда она расползалась по всем артериям страны, уходила за пределы королевства, и трудно было установить, где внутренняя контрреволюция перерастала в контрреволюцию внешнюю. Главным центром внутренней контрреволюции и национальной измены, осиным гнездом, в котором роились все несчастья Франции, был Тюильрийский дворец. Людовик XVI в последние месяцы был подавлен неудачей попыток к бегству и крушением всей своей политики. Вечно вялый и пассивный, он теперь стал еще безразличнее к окружающему. Он почти не вмешивался в политическую борьбу, бесстрастно выслушивал тревожные донесения, поступавшие к нему со всех сторон, подписывал бумаги, которые приносили ему на подпись, произносил слова, которые ему подсказывали обстоятельства. Он уже не верил в возможность изменить что-либо в совершавшемся вокруг него и безвольно плыл по течению. Но чем более вялым и равнодушным становился король, тем больше воли, энергии, смелости обнаруживала королева. Именно она стала вождем контрреволюционной партии двора. Терпеливо, настойчиво, не спеша Мария Антуанетта плела тонкую сеть заговора, которая должна была опутать со всех сторон страну революции. Ее тайные связи начинались в Париже. Через посредников королеве удалось установить секретные конспиративные связи с рядом видных деятелей партии конституционалистов. Конституционалисты, или фейяны, как их стали называть после Вареннского кризиса 1791 года, перестав быть правящей партией, быстро скатывались к контрреволюции. Их взгляды резко менялись. Вчерашние союзники и друзья представлялись им теперь непримиримыми врагами, враги становились друзьями. Логика этих метаморфоз с неизбежностью привела и к пересмотру взглядов на двор и его партию. За мыслями последовали слова, за словами — действия. Из переписки королевы Марии Антуанетты с графом Ферзеном известно, какого рода тайные нити соединяли Тюильрийский дворец с лидерами фейяиов. Еще в конце 1791 года Мария Антуанетта установила и сохраняла на протяжении первой половины 1792 года тесные связи с руководителями партии фейянов — Адрианом Дюпором, братьями Ламет и Антуаном Барнавом. Иные из историков склонны были объяснять хоронимую от чужих взоров дружбу Барнава и его товарищей с двором огромным личным впечатлением, которое произвела Мария Антуанетта на молодого влиятельного депутата Учредительного собрания. Была создана версия, что в июне 1791 года, когда Барнав сопровождал Марию Антуанетту из вареннского плена в Париж, королеве было достаточно подарить сопровождавшему ее депутату пленительную улыбку, для того чтобы навсегда приворожить его к себе. Но истинная причина была, конечно, не в этом. Иные мотивы побуждали Варнава, Дюпора и братьев Ламет искать сближения с королевским двором. Это была все та же «наука политики», как любил говорить доктор Марат; «наука политики», подсказывавшая тысячи различных комбинаций. Вожди конституционалистов, партии буржуазной аристократии, отброшенной в сторону могучим развитием революции, понимали, что в их интересах сохранить монархию, по мере возможности укрепить ее как силу, тормозящую, удерживавшую революционный процесс. Мария Антуанетта милостиво улыбалась своим новым друзьям и вела с ними доверительные беседы. Но в письме от 19 октября 1791 года к графу Ферзену, единственному человеку, с которым она была вполне откровенна, королева писала: «Успокойтесь, я не соглашусь присоединиться к «бешеным», и если я вижусь или поддерживаю отношения с некоторыми из них, то я делаю это лишь для того, чтобы воспользоваться ими. Все они мне слишком отвратительны, чтобы я когда-нибудь согласилась присоединиться к ним». «Бешеные», «отвратительные люди» — вот кем оставались вожди конституционалистов в глазах французской королевы. И тем не менее эти тайные сообщники во внутренней контрреволюции ей были нужны для осуществления планов двора, связанных с расчетами на внешнюю контрреволюцию. В дневнике графа Ферзена от 14 февраля 1792 года имеется немаловажная запись: «Королева сообщает мне, что она видится с Александром Ламетом и Дюпором, что они беспрестанно говорили ей, что помочь могут только иностранные войска, что далее так не может продолжаться…» Эта запись в дневнике шведского аристократа, доверенного лица шведского короля и французской королевы, заслуживает внимания. Она свидетельствует о том, что руководители партии крупной буржуазии, скатываясь по пути борьбы против своего народа, дошли до национальной измены. По-видимому, из этих кругов Мария Антуанетта черпала необходимую информацию, которую она передавала за пределы королевства, в стан врагов Франции. Позднее были найдены два собрания тайных писем королевы. Одни из них были адресованы уже известному нам графу Ферзену. Эта переписка особенно важна потому, что королева пользовалась здесь шифром и передавала Ферзену самые секретные сведения. Другие письма — это письма графу Мерси Д’Аржанто — австрийскому послу. По этим двум каналам из Парижа шли самые секретные сообщения в лагерь противников Франции. Так, например, 26 марта 1792 года Мария Антуанетта писала графу Мерси Д’Аржанто: «Господин Дюмурье, уже не сомневаясь в согласии держав относительно движения войск, намеревается первым начать с нападения на Савойю и на Льежский край. Для этого последнего нападения должна Служить армия Лафайета. Вот результаты вчерашнего заседания Совета. Хорошо знать об этом проекте, для того чтобы быть настороже против него и принять все надлежащие меры. По-видимому, это совершится скоро». Эта краткая записка полна значения — это документ национальной измены. Королева Франции выдает тайные военные приготовления своей страны врагам Франции и просит их принять необходимые меры, чтобы обречь на неудачу военные действия французов. Эта столь важная записка доказывает, насколько прозорливы были Марат и Робеспьер, предсказывая измену двора и призывая покончить с внутренней контрреволюцией. Вот письмо, датированное 5 июля 1792 года: Мария Антуанетта пишет Ферзену: «Я получила Ваше письмо № 7. Я тотчас же взяла ваши фонды обратно от товарищества Боспор. Нельзя било терять времени, так как вчера было объявлено банкротство, а сегодня утром о нем сообщат на бирже. Говорят, что кредиторы много потеряют». На первый взгляд это как будто бы сугубо деловое письмо, посвященное денежным операциям. Но вслед за этими сухими деловыми строками идет текст, который удалось расшифровать лишь позднее. Он гласит: «…Отдано приказание, чтобы армия Люкнера немедленно перешла в наступление. Он возражает против этого, но этого желает министерство. В армии недостаток во всем и величайший беспорядок». И дальше опять невинная фраза: «Сообщите, что я должна сделать с фондами». Так черная измена опережала действия французских армий. Тюильрийский дворец раскрывал противнику предстоящие операции французских войск. Неудивительно, что французская армия терпела поражение за поражением. Герцог Брауншвейгский, главнокомандующий австрийской армии, был лучше осведомлен о состоянии французских вооруженных сил, чем сами французские генералы. Что же делали жирондистское правительство и Законодательное собрание, чтобы добиться перемен на фронте? 8 июня Законодательное собрание по предложению жирондистов приняло декрет о создании лагеря федератов под Парижем. Этот декрет предусматривал образование из воинских соединений, сформированных в провинции, в департаментах (отсюда и название «федераты»), военного лагеря в двадцать тысяч штыков, который будет размещен под Парижем. Предложение это имело двойной смысл. С одной стороны, что подчеркивали прежде всего жирондисты, то было средством мобилизации вооруженных сил страны для организации отпора внутреннему врагу. Но в то же время жирондисты не случайно хотели сосредоточить департаментские вооруженные силы возле Парижа. Их влияние в столице быстро падало, тогда как в провинциальных департаментах жирондисты оставались самой влиятельной политической партией. Предлагая сосредоточить отряды федератов возле Парижа, они хотели создать реальную силу, на которую можно было бы опереться. Однако король отказался утвердить этот декрет Законодательного собрания, увидев в нем покушение на его безопасность. Между Собранием и королем возник конфликт. 13 июня король уволил жирондистских министров в отставку. Мера, предложенная Законодательным собранием, понятно, не обеспечивала перелома в ходе войны. Были и другие, более грозные симптомы. Командующий армией генерал Лафайет меньше всего думал о войне против внешнего врага. Решив использовать имеющуюся в его руках силу для оказания прямого давления на ход революционного процесса, он 11 июня направляет Законодательному собранию письмо. В этом послании главнокомандующий французской армии отнюдь не предлагает плана ведения военных операций против внешнего врага. Нет, основным содержанием послания генерала являлись не относившиеся к его компетенции вопросы внутренней политики. Лафайет в заносчивом тоне предъявлял тяжелые обвинения Законодательному собранию. Он требовал закрыть клубы, прекратить вредную агитацию, создать твердую власть, которая прибрала бы к рукам бунтовщиков-якобинцев. По существу, письмо Лафайета было нарушением конституционных норм. Генерал не имел права навязывать своей воля высшему законодательному органу страны. Лафайет выступал как претендент на роль диктатора. Лафайет не удовольствовался письмом. 28 июня, оставив по собственному решению армию, он явился в Законодательное собрание и здесь повторил свои требования в устной речи. Правда, он сослался на то, что явился один, без солдат, без армии для того, чтобы объясниться с высшим представительным органом Франции. Но один из депутатов предложил задать генералу вопрос, позволяющий раскрыть истинный характер намерений Лафайета: получил ли он разрешение от военного министра оставить армию и явиться в Париж? Однако большинство Законодательного собрания, в котором преобладали люди, тайно сочувствовавшие Лафайету, отказалось поставить этот вопрос, который повлек бы за собой применение репрессий против генерала. И письмо и личное выступление Лафайета совершенно ясно показывали его намерения. Генерал Лафайет пытался выступить в роли Монка, он хотел силой штыков подавить революцию. И действительно, прошло еще две недели, и 14 апреля 1792 года Лафайет предпринял попытку двинуть армию на Париж. Так завершилась эволюция Лафайета. Он предстал перед народом, перед армией как изменник, пытавшийся использовать вооруженные силы, доверенные ему революцией для войны с австрийцами, против революции. Лафайет потерпел позорную неудачу. Двор отказал ему в поддержке, армия за ним не пошла, народ был против него. Лафайет, поняв безнадежность своего положения, пытался бежать из Франции, но был арестован австрийцами и заключен в крепость. Теперь все могли убедиться воочию, насколько прав был Марат, каким даром провидения он обладал. Его долголетняя борьба против Лафайета была доведена до конца. Но сам Марат по этому поводу выступил лишь с кратким напоминанием о своих прежних предостережениях. «Французы, — писал Марат 18 июля, — вы открыли, наконец, глаза на господина Мотье8. Вот уже несколько дней, как, наконец, увидели то, что один проницательный гражданин не переставал объяснять вам с тех пор, как началась революция. Теперь великий генерал, герой обоих полушарий, соперник Вашингтона, бессмертный восстановитель свободы, является в ваших глазах лишь подлым придворным лакеем монарха, недостойным приспешником деспотизма, изменником, заговорщиком». Марат полностью отдавал себе отчет в том, в каком тяжелом положении находится страна, какие опасности угрожают революции. Он был против войны. Он предсказывал, что она приведет к неудачам, если изменники останутся у руля государства. Но теперь, когда война началась, когда родина в опасности, а французская армия отступает, уже не время вспоминать о прошлом. Подобно Робеспьеру и в полном единомыслии с ним Марат призывает к тому, чтобы вести войну по-революционному. «Война идет — значит войну нужно выиграть». Но, как и Робеспьер, Марат предостерегает соотечественников от всякого благодушия, от всякой успокоенности. Он указывает на те великие опасности, которые подстерегают и да поле сражения и в тылу французский народ. И он вновь и вновь повторяет мысль, высказываемую им раньше: чтобы победить внешнюю контрреволюцию, надо подавить контрреволюцию внутреннюю; чтобы одолеть внешних врагов, нужно победить врагов внутренних. 7 июля Марат, которому удается лишь изредка издавать, преодолевая многочисленные препятствия, — свою газету, публикует замечательную по глубине мыслей статью «План революции, совершенно не удавшейся народу». В этой блестящей статье Марат дает верный и глубокий анализ революции. Он вновь призывает своих соотечественников взглянуть правде в лицо: «Не побоимся повторить: мы гораздо дальше от свободы, чем когда-либо раньше, потому что мы не только являемся рабами, но обращены в рабство законом в результате вероломства наших законодателей, ставших пособниками восстановленного ими деспота». «Почему же это происходит?» — ставит вопрос Марат. И дает ответ: «Взгляните на сцену государства. Изменились только декорации, но остались все те же актеры, те же маски, те же интриги, те же пружины: по-прежнему деспот, окруженный приспешниками, по-прежнему министры — мучители и угнетатели, по-прежнему несправедливый законодатель, по-прежнему вероломные и нарушающие свой долг носители власти, по-прежнему пресмыкающиеся придворные, притеснители и устроители заговоров, по-прежнему мелкие честолюбцы, наглые интриганы, трусливые лицемеры, ловкие мошенники, по-прежнему люди, пожираемые жаждой золота, глухие к голосу долга, чести, человечности, ищут милостей судьбы, презирая справедливость, стремясь овладеть всеми должностями, не считаясь с заслугами. Главные актеры сейчас за занавесом: там они свободно заключают сделки с теми, кто лицедействует на подмостках». Марат подводит читателя к логическому выводу: если все идет по-прежнему, то остается все то же испытанное средство — восстание, вооруженная борьба против тирании, против тех, кто угнетает народ. Марат теперь выступает с совершенно ясным призывом. Он требует уничтожения власти Людовика XVI. Он распознал, где находится главный источник бедствий Франции. Первое и необходимое условие спасения родины заключается в том, чтобы искоренить измену в Тюильрийском дворце. В одной из своих статей, в обращении «Друга народа» к федератам, Марат так и пишет: «Не давайте себя усыпить, держите заложниками ' Людовика XVI, его жену, его сына, его министров, всех ваших вероломных представителей, всех членов старого и нового департаментов, всех продавшихся мировых судей; вот изменники, наказания которых должна требовать нация и которых она должна прежде всего принести в жертву для общественного спасения. После этого она может заняться судьбой недостойных Капетов и наказанием всех заговорщиков». Тактически это обращение безупречно. Марат зовет народ к борьбе за свержение монархии. Период его колебаний окончен. Он теперь не задумывается над вопросом о том, какова должна быть форма правления во Франции. Он обращается с прямым призывом; «Свергайте власть Людовика XVI, власть монархии». Сосредоточивая главный удар против монархии, Марат бьет и по всем тем общественным силам и политическим партиям, которые поддерживают монархию. Он хорошо понимает, что требование решительных действий против короля и против двора является в то же время призывом к действию против фейянов, которые более или менее открыто защищают короля, и против жирондистов, которые также не хотят его крушения, хотя объявляют себя и своих приверженцев республиканцами. Эти призывы Марата находят сочувственный отклик в широких массах народа. Теперь Марат дополняет «Друга народа» листовками и афишами — обращениями к народу, расклеенными на стенах Парижа; и парижане жадно внемлют голосу человека, в котором они видят самого прозорливого вождя революции. Марат не одинок. Наряду с Маратом все виднейшие вожди демократии зовут к борьбе против монархии. Этого требует Робеспьер, ведущий систематическую кампанию на страницах своего журнала «Защитник конституции», к этому призывает Дантон, влияние которого в это время весьма возрастает, на этом настаивают Камилл Демулен и большинство демократических газет. Свержение монархии! В июле 1792 года это становится общенародным требованием. Снизу, из парижских секций, из провинциальных коммун, поступает множество петиций, писем, посланий, в которых простые люди требуют от Законодательного собрания действенных мер для искоренения измены и для обеспечения перелома на фронте. В эти тревожные месяцы, когда газеты каждый день сообщают лишь о поражениях французских армий, народ берет в свой руки спасение Франции. В провинции еще ранее, чем в Париже, возникает широкое движение в защиту родины. Повсюду ведется запись добровольцев, готовых немедленно идти на фронт, чтобы остановить врага, и этот приток волонтеров огромен; он все растет и растет. Эти сформированные в течение лета 1792 года отряды полны революционной энергии, смелости, дерзания. Федераты готовы отдать свою жизнь за революционную Францию, но они требуют, чтобы их кровь пролилась не напрасно, чтобы была уничтожена измена. И вот в Париж в июле один за другим вступают батальоны добровольцев, сформированные за короткий срок во всех концах страны. Им не хватает воинской выучки, они экипированы плохо, мало оружия. У них нет достаточно опытных командиров; они плохо знают воинский устав, но зато у них есть то, чего не хватало регулярной армии, — революционный порыв и решимость во что бы то ни стало победить врага. Именно тогда, в эти дни, вместе с батальонами марсельских добровольцев и была занесена в Париж песнь о рейнской армии, сочиненная Руже де Лилем. Эта гениальная песня, воплотившая революционные дерзания французского народа, его отвагу, его смелость, его решимость бороться насмерть с врагом, стала известна под именем «Марсельезы». Революционное творчество масс, народная инициатива заставили Законодательное собрание 11 июля 1792 года принять декрет, провозглашающий; «Отечество в опасности!» Все здоровые мужчины подлежали призыву в армию. На волне огромного революционного подъема, охватившего всю страну, родилось патриотическое стремление разбить л сокрушить интервентов и устранить всех тех, кто внутри страны препятствует победе. Секция Кензвен, представлявшая самое бедное население Парижа — ремесленников, рабочих, обратилась в Законодательное собрание с посланием, в котором требовала принятия решительных мер для искоренения измены. Другая демократическая организация Парижа, так называемая секция Французского театра, приняла подписанное Жоржем Дантоном, Шометтом и Моморо постановление, которым уничтожалось деление граждан на активных и пассивных. Народ сам явочным путем ломал старую конституцию и устанавливал новый, более демократический порядок. Робеспьер бросает призыв: провести выборы в Конвент на основе всеобщего избирательного права, и этот призыв пользуется широкой поддержкой народа. В парижских харчевнях «Золотое солнце», «У синего циферблата» происходят собрания представителей отрядов федератов, вошедших в столицу. Здесь уже открыто говорят о свержении ненавистной власти, об уничтожении монархии. Еще большая роль принадлежит парижским секциям. С конца июня, в июле а в первых числах августа представители секций столицы регулярно собираются в здании ратуши. Эта новая революционная власть опирается не «а конституционные статьи, не на декреты Собрания, не на закон. Источник ее власти — революционная инициатива народа. 25 июля был опубликован и к 3 августа стал известен уже всему населению Парижа манифест главнокомандующего армий интервентов герцога Брауншвейгского. От имени двух монархов — австрийского и прусского — он объявлял, что «соединенные армии намерены положить конец анархии во Франции… и восстановить законную власть короля». Герцог Брауншвейгский грозил, что он расправится с бунтовщиками, и предупреждал, что, ежели король и его семья подвергнутся малейшему оскорблению, город Париж будет предан военной экзекуции и полному уничтожению. Марат в «Друге народа» от 7 августа высказал мнение, что наглый манифест интервентов был вдохновлен или подсказан изменниками из Тюильрийского дворца. «Их дерзновенный вождь под диктовку Тюильрийского комитета потребовал у нас от имени своих господ сдаться на милость нашего прежнего тирана и снова надеть наши цепи». Марат не знал и не мог знать ничего достоверного о причастности двора Людовика XVI к вызывающему манифесту генералиссимуса армии интервентов; он мог только строить предположения, только догадываться. Позднее неопровержимые документы подтвердили поразительную проницательность Друга народа. 24 июля 1792 года Мария Антуанетта действительно писала графу Ферзену: «Передайте г. Мерси, что жизнь короля и королевы в страшной опасности, что нужно немедленно издать манифест, что его ждут со страшным нетерпением…» Но и контрреволюционная партия двора во главе с Марией Антуанеттой и иностранные интервенты ошиблись в своих расчетах. Они полагали, что грозный манифест герцога Брауншвейгского запугает французский народ, вселит в его ряды смятение и тревогу; напротив, он пробудил ярость народа. Представители сорока семи секций столицы потребовали от Законодательного собрания немедленного низложения Людовика XVI. В эти дни обнаружилось все двоедушие жирондистов, прикрываемое звонкой революционной риторикой, но давно разгаданное Маратом. 3 июля 1792 года Пьер Верньо произнес в Законодательном собрании пламенную обвинительную речь против короля; она потрясла Ассамблею, Париж, всю страну. Незадолго до этого Верньо в одной из своих речей в Собрании обратился с прямыми угрозами к Марии Антуанетте. «Пусть знают, что закон достигнет там, во дворце, всех без различия виновных и что не будет ни одной головы, признанной преступной, которая могла бы ускользнуть от его меча». Эти угрожающие намеки были предназначены королеве. Речи Верньо тонули в гремящем гуле оваций; народ в нем видел одного из самых мужественных патриотов, неустрашимого воителя против сил реакции. Но когда волна народного гнева стала нарастать, когда она стала расшатывать и подмывать самые устои здания монархии, Верньо, колеблющегося и смятенного, охватил страх. Нет, он не хотел идти так далеко, как могло показаться слушавшим его речи. Он и его друзья боялись народа в большей мере, чем короля. В письме к Бозу, помеченном 29 июня 1792 года, Верньо признавался: «Новый революционный фермент разъедает основу не укрепленной еще временем политической организации». При посредничестве того же художника Боза Верньо, Гаде и Жансонне — три знаменитых лидера республиканской партии жирондистов — переслали королю коллективное письмо, в котором почтительнейше давали ему советы, как избежать надвигавшейся на него опасности и спастись в бушующем море народных страстей. Современники не сразу узнали об этом акте вероломства; король оставил письмо без ответа; он не доверял хулителям, тайно предлагавшим свою помощь. Но практическая безрезультатность этого шага нимало не меняла его глубокого смысла. Двоедушие перерастало в двурушничество. Более того, один из самых язвительных ораторов Жиронды, Маргерит Эли Гаде, тот самый, который 3 мая 1792 года требовал в Законодательном собрании ареста Марата и имел наглость утверждать, что «Друг народа» Марата и «Друг короля» Руайю оплачиваются из одного и того же враждебного Франции источника, — этот Гаде, претендовавший на роль Катона Жиронды, добился тайного свидания с королем, чтобы лично преподать ему спасительные советы. Вожаки Жиронды сделали все, что могли, чтобы не дать разразиться буре народного возмущения монархией. Но они были бессильны перед гневом народа да и не смели открыто выступить против него. Они отстранились от хода событий, отошли в сторону. С 5 августа в Париже началась открытая подготовка к борьбе. Собрание представителей парижских секций преобразовывается в постоянный революционный орган — повстанческую Коммуну. Этот созданный по инициативе народа орган восстания становится революционной властью в Париже. Наконец в ночь с 9 на 10 августа по приказу Коммуны набат возвещает начало восстания. Тысячи, десятки тысяч парижан, вооружаясь на ходу, выходят на улицы, заполняют площади, бульвары. В единодушном порыве они все устремляются к Тюильрийскому дворцу. Перепуганный король и его семья по тайному ходу бегут из Тюильрийского дворца под защиту Законодательного собрания. Но швейцарская гвардия, охранявшая подступы к Тюильрийскому дворцу, пытается оказать сопротивление. Раздаются выстрелы. Они еще более раздражают народную ярость, и, ломая сопротивление швейцарской гвардии, народ врывается в Тюильрийский дворец, подавляет сопротивление и овладевает цитаделью монархии. В тот же час по требованию Парижской коммуны король и его семья переводятся из Люксембургского дворца в крепость Тампль. Поздно вечером Законодательное собрание, подчиняясь воле вооруженного парижского народа, принимает продиктованное представителями Коммуны решение о низложении Людовика XVI с трона, об упразднении прежнего правительства и создании новой исполнительной власти, так называемого Исполнительного совета. Народное восстание 10 августа 1792 года покончило с тысячелетней монархией во Франции. Революция поднялась на новую, более высокую ступень. Жирондисты отнюдь не участвовали в народном восстании и даже тайно противились ему, однако власть фактически перешла в их руки. В созданном Исполнительном совете они получили все главные посты. Вновь вернулись к власти Ролан, Серван, Клавьер, жирондистские министры, уволенные королем 13 июня. В состав нового правительства был включен лишь единственный якобинец — Жорж Дантон, занявший пост министра юстиции. Жирондисты господствовали в Законодательном собрании, но наряду с ними как противостоящая им сила теперь возникла Парижская коммуна, представляющая революционный народ столицы.
* * *
Владимир Ильич Ленин учил, что «с прогрессом революции изменяется соотношение классов в революции». Народное восстание 10 августа, поднявшее революцию на новый, более высокий этап ее развития, привело к изменению в соотношении классов. 10 августа была не только свергнута монархия, но и было сломлено политическое господство монархической, фейянской крупной буржуазии Руководящая роль в Законодательном собрании, в правительстве, то есть фактическая политическая власть, перешла от фейянов к жирондистам. Жирондисты представляли интересы провинциала ной, по преимуществу торгово-промышленной и отчасти землевладельческой буржуазии, успевшей за период революции извлечь некоторые выгоды и готовой защищать ее основные завоевания. Но, достигнув власти, став господствующей партией, жирондисты, опасаясь дальнейшего развития и укрепления революции, сразу же превратились в консервативную силу. Бриссо, остававшийся и после 10 августа истинным вождем жирондистской партии, вскоре после свержения монархии заклинал: «Революция должна остановиться». Но те классы и классовые группы, которые составляли главную движущую силу революции и не добились еще и осуществления своих социальных и политических требований, естественно, стремились двигать ее дальше. Это был могущественный блок крестьянства, плебейства и возглавляемой якобинцами революционно-демократической буржуазии, или, как его тогда называли, «Гора». Жиронда стремилась задержать, остановить революцию. Гора стремилась ее продолжить, углубить, развить. Столкновение Горы и Жиронды было неизбежным. Крайне тяжелое внутреннее положение страны и грозная опасность, нависшая над Францией и революцией со стороны иностранных интервентов, вторгшихся в глубь страны, угрожавших Парижу, обострили эту борьбу между Горой и Жирондой и в короткий срок довели ее до логической развязки. Борьба между Горой и Жирондой не сразу могла раскрыться в своем истинном содержании. Первоначально она приняла форму столкновений между Коммуной и Законодательным собранием. Марат вскоре же после победы народного восстания 10 августа был приглашен в состав Наблюдательного комитета Парижской коммуны. Он стал с этого дня одним из самых деятельных и влиятельных ее членов наряду с Робеспьером и другими вождями. В положении Марата после свержения монархии многое изменилось. После четырехлетней изнурительной тяжелой борьбы Марат перешел на легальное положение. Его газета «Друг народа» теперь издается свободно, ей никто не угрожает. Марат, наконец, обретает столь необходимую для него свободу. «Дорогие соотечественники! Человек, который давно уже ради вас был предан анафеме, покидает сегодня свое подпольное убежище, чтобы попытаться закрепить победу в ваших руках». Это была единственная фраза, которой Марат отметил происшедшие в его положении перемены. Но за этими немногими словами слышится глубокий вздох облегчения. Борьба продолжается. Влияние Друга народа в это время огромно. К голосу Марата теперь прислушивается вся страна, его имя хорошо знают за пределами Франции. В глазах широких народных масс Марат является наряду с Робеспьером и Дантоном одним из самых любимых вождей революции. Простые люди видят в нем воплощение революции. В ближайшие дни после 10 августа Марат высказывает глубокое удовлетворение происшедшим. Но он вместе с тем предостерегает народ. Он понимает, что борьба еще не закончена, что она будет продолжаться, что она вступает в свою более острую фазу. Замечательная политическая проницательность Марата подсказывает ему, что теперь главным противником революционной демократии являются жирондисты. «Партия государственных мужей», как иронически называет ее Марат, будет быстро совершать эволюцию — из консервативной партии она превратится в контрреволюционную партию. Но Марат не опережает событий. Он ограничивается общими предостережениями. Марат не склонен умалять значение 10 августа, но он хочет, чтобы народ не упивался завоеванной великой победой. «Славный день 10 августа может оказаться решительным для торжества свободы, если вы сумеете использовать свои преимущества», — пишет Марат вечером того же дня. Марат предостерегает народ против всякой самоуспокоенности, напоминая, что сопротивление контрреволюционных сил еще не подавлено, что после понесенного поражения оно еще больше возрастет. «Страшитесь реакции, — напоминает Марат, — повторяю вам, ваши враги не пощадят вас, если судьба повернется к ним лицом». Жизнь еще раз подтвердила правоту Марата. Дни народного ликования, упоения победой, одержанной 10 августа, продолжались недолго. Положение на фронте резко изменилось. 19 августа армия контрреволюционной коалиции перешла государственную границу и вторглась в пределы Франции. Французские войска под натиском интервентов откатывались в глубь страны. 20 августа армия герцога Брауншвейгского осадила Лонгви. Старинная французская крепость располагала сильным гарнизоном, многочисленной артиллерией, большим запасом продовольствия. Но через три дня, 23 августа, над Лонгви взвился белый флаг. Крепость была сдана. Что это было, измена? Страх перед врагом? Неспособность оказывать сопротивление? Современникам было трудно разобраться. Они терялись в догадках. Но как бы там ни было, величайшая ярость охватила сердца патриотов. А между тем интервенты продолжали двигаться вперед. Черёз несколько дней они осадили Верден — последнюю крепость, преграждавшую дорогу в Париж. 2 сентября Верден пал. Путь на Париж был открыт. На западе Франции, в Вандее, вспыхнул мятеж роялистов. Бретань была охвачена волнением. В Париже и провинциальных городах настроенные враждебно к революции элементы, не стесняясь, высказывали вслух надежды на скорый приход интервентов. Лидеры партии фейянов Александр Ламет, Адриан Дюпор, Морис Талейран и их друзья и сообщники после 10 августа бежали из Франции. Но у бежавших лидеров осталось немало тайных друзей в Париже, в армии, в провинции: они стали рассадником заговоров, недовольства, смуты. Продовольственное положение страны заметноухудшилось. Для того чтобы кормить большую и непрерывно растущую армию, нужны были значительные запасы продовольствия. Война дезорганизовала хозяйственную жизнь страны. В деревне не хватало рук, самые сильные мужчины ушли в армию. Общее количество продовольствия в стране сократилось. Прекратился подвоз товаров из колоний, из-за границы. Продовольственные затруднения били прежде всего по неимущим трудящимся города — по бедноте, рабочим, ремесленникам. В среде бедного люда росло недовольство, все чаще раздавались требования обуздать спекулянтов, обеспечить снабжение городов. Крестьянство все еще не могло избавиться от феодального гнета, который и три года после начала революции продолжал его давить. С весны 1792 года вновь поднялась волна крестьянских выступлений, прокатившаяся почти по всей стране. Даже жирондисты поняли необходимость идти на уступки. Законодательное собрание в августе 1792 года приняло декреты о разделе общинных земель и о новом порядке продажи земли эмигрантов. Поступающие в продажу участки дробились теперь на мелкие доли — от двух до четырех арпанов, что облегчало их приобретение малоимущими слоями деревни. Был принят также декрет, согласно которому феодальные права, не подтверждаемые соответствующими документами, считались утратившими силу. Конечно, аграрное законодательство августа 1792 года было шагом вперед, но оно не дало главного, к чему стремились крестьяне, — оно не уничтожило полностью феодальных привилегий и феодальных прав, оно не дало в руки крестьянства земли. Основной заботой дня, заслонившей все остальные, оставалась задача спасения страны от иностранного нашествия, организация защиты родины и революции. В эти тревожные и смутные дни жирондисты не проявили ни твердости, ни решимости. Они растерялись, когда французская армия начала отступать. Ролан предложил перенести заседания Конвента в провинцию, в Блуа или в Тур. Это предложение доказывало, что в глубине сердца Ролан, как и другие жирондисты, допускал возможность сдачи Парижа. За суровой внешностью строгого, спартанского воителя скрывалась заячья душа. Но Дантон, приобретавший все большее влияние в эти дни, решительно воспротивился этому трусливому плану. Предложение Ролана было отвергнуто. По призыву Парижской коммуны население столицы напрягло все свои силы для продолжения борьбы. Марат в эти горячие недели августа — сентября 1792 года развил кипучую энергию. Он не выпускал уже регулярно свою газету, хотя возможности для этого были теперь большими, чем раньше. Все чаще он составляет короткие воззвания, листовки к своим соотечественникам, к населению Парижа, к гражданам Франции. Эти листовки, содержавшие сжатые, энергичные обращения к народу, расклеивались на стенах столицы. Он знал, что сам народ будет заботиться о том, чтобы воззвания знаменитого редактора «Друга народа» оставались на стенах домов. И действительно, те, к кому обращался Марат, услышали его голос. Главный удар Марат сосредоточивает в это время против Законодательного собрания. Марат открыто издевается над этим собранием, именующим себя национальным, но в действительности представляющим собою силу, враждебную французской нации. Попутно он мечет стрелы и в партию бриссотинцев. Он высмеивает ее лидера Бриссо и ее прославленного оратора «тартюфа Верньо». Но это еще авангардные стычки; время решающих боев с жирондистами пока не пришло. Марат сохраняет в то время доверие к жирондистскому министерству и в ряде выступлений отзывается доброжелательно и сочувственно о министрах Исполнительного совета. Он не торопится с обвинениями. Марат не скрывает от народа опасностей, нависших над страной. Но как их преодолеть? В чем главная сила, которая может спасти Францию? Марат видит ее во французском народе. Он указывает на воодушевляющий пример Парижской коммуны, которая является истинным выразителем народных интересов. «Плоды блестящих побед будут, конечно, потеряны, — пишет Марат, — если патриоты, депутаты Коммуны, не останутся на посту, если они не разовьют всей своей энергии, пока свобода не будет закреплена». И Марат набрасывает план безотлагательных мер, призванных спасти родину. Что надо делать? Прежде всего необходимо вооружить народ; надо открыть арсеналы, выдать народу оружие, научить простых людей обращаться с ним. Необходимо организовать военный лагерь в предместьях Парижа. По форме эта мысль как будто бы совпадает с предложением, которое раньше вносили жирондисты. Но совпадение ограничивается только внешними чертами. Существенное различие между планом Марата и проектом жирондистов заключается в том, что жирондисты хотели создать вооруженный лагерь из департаментских отрядов, противостоящих революционному Парижу, тогда как Марат стремится создать вооруженный лагерь самих парижан для обороны столицы от интервентов. Он также считает необходимым, чтобы вооруженный народ столицы занял все высоты, господствующие над городом. Это чисто военная мера, но она необходима ввиду возможного прихода врагов. Наряду с военными мерами Марат выдвигает и социальные требования. Он настаивает на том, чтобы имущество эмигрантов было пущено в продажу. Он требует также, чтобы государство продало Люксембургский дворец, чтобы половина выручки, полученной от продажи имущества эмигрантов и Люксембургского дворца, была распределена бесплатно между неимущими жителями столицы, участниками славного восстания 10 августа. Социально-политическое значение этой меры очевидно. Марат предлагает также, чтобы в армии, в регулярных частях, была проведена выборность офицеров. Какие цели преследует эта мера? Подлинный революционный вождь, доверяющий инициативе и энергии народа, Марат стремится втянуть народные массы во все формы государственного строительства. Сам вооруженный народ должен выбирать из своей среды офицеров: это увеличит его ответственность за судьбу революции, позволит выдвинуть наиболее способных, талантливых, наиболее преданных родине людей. В то же время принцип выборности устранит из армии офицеров, не внушающих доверия. Обязанностью Коммуны, указывает далее Марат, является обеспечение столицы продовольствием. Необходимым условием для этого является жестокая война против гнусных скупщиков, против спекулянтов, против всех тех, кто стремится нажиться на народном несчастье. Такова программа практических мер, которые в критические часы революции Марат выдвигает перед народом. Взятые вместе, они поражают своей глубиной, обоснованностью, революционной смелостью. Но положение на фронте продолжает ухудшаться, и Марат несколько дней спустя выступает с новым обращением. Он публикует короткое воззвание, озаглавленное «Марат, Друг народа, — мужественным парижанам». Марат зовет своих соотечественников к сплочению, к объединению, к консолидации всех сил. Перед лицом грозной опасности, нависшей над страной, должны быть отброшены прочь все разногласия. Все французы, которым дорога их родина, дорога революция, должны протянуть друг другу руки, объединиться и общими силами противостоять врагу. Вот главная мысль Марата, воодушевляющая его в этих программных документах. Но Марат, человек действия, не ограничивается призывом к единству. В то же время он указывает на ряд необходимых практических шагов. Он требует от Коммуны, чтобы она произвела обыски у подозрительных, ибо он законно опасается, как бы в момент обороны не было вероломного удара в спину. Он обращается с призывом к оружейникам, ножовщикам, слесарям, полировщикам производить день и ночь кинжалы, пики и другое холодное оружие для вооружения граждан. Он требует от Коммуны, чтобы она выделила специально комиссаров, которые могли бы наладить это производство. Следует заметить, что Марат предвосхитил этим призывом последующее законодательство якобинского Конвента. Пройдет менее года, и якобинский Конвент осуществит на практике предложения Марата сентября 1792 года. В том же обращении Марат вновь возвращается к идее, встречавшейся у него раньше, в другой форме. Он требует ввиду сложившихся грозных для родины условий создать высшую временную исполнительную власть в составе трех человек, наделенных самыми широкими полномочиями. Триумвират — вот что нужно сейчас для спасения Франции. Марат считает, что триумвиры должны быть избраны из числа наиболее просвещенных, смелых и честных людей, избраны, конечно, на короткий срок. Их миссия должна закончиться в тот момент, когда враг будет полностью сокрушен. Это обращение Марата замечательно глубоким пониманием роли революционного насилия. «Не бойтесь этого слова, — пишет Марат, — только силой можно прийти к торжеству свободы и обеспечить общественное спасение». Марат в эти дни принимает самое живое участие и в избирательной борьбе, проходящей в Париже и по всей стране в связи с выборами в Конвент. В отличие от жирондистов, предлагавших организацию двухстепенных выборов, Марат настаивает на прямых выборах: только они могут обеспечить демократический порядок избрания. Он составляет и публикует в своей газете два списка — список лиц, достойных быть избранными в Конвент, за которых он призывает народ голосовать. Этот список состоит из двадцати двух имен. Первым названо имя Максимилиана Робеспьера, который для Марата оставался и в 1793 году «Аристидом нашего века». За ним идет Жорж Дантон. Марат считал Дантона замечательным патриотом, «апостолом свободы»; он требовал, чтобы Дантону, а не Ролану было поручено руководство министерством внутренних дел, и находил его наиболее подходящим для роли вождя политической партии. Но со своим острым политическим чутьем Марат рано прозрел склонность Дантона к политике компромисса, к сглаживанию острых углов. Он критиковал публично у якобинцев Дантона за недостаток твердости и решительности по отношению к Дюмурье, но эта критика знаменитого трибуна оставалась доброжелательной, товарищеской. Далее шел Жан Панис, адвокат по профессии, в 1792 году один из руководителей парижской полиции, сыгравший заметную роль в подготовке восстания 10 августа, затем член Наблюдательного комитета Парижской коммуны, где он был товарищем и почитателем Марата. Четвертым в этом списке был Никола Бийо-Варенн, которого Марат поддерживал, затем ученик Друга народа Фрерон и другие. Старый боевой товарищ по перу, с которым Марат не раз ссорился и мирился, «генеральный прокурор фонаря» Камилл Демулен в этом списке занимал лишь семнадцатое место. Бедный журналист, не имевший лишней сорочки для смены, женившись на прелестной Люсиль Дюплесси, обрел не только очаровательную жену, горячо уверовавшую в гениальность своего легкомысленного мужа, но и десятки тысяч ливров приданого и превосходное имение «Замок королевы», тут же переименованное в соответствии с духом времени и республиканскими чувствами его нового владельца в «Замок равенства». Впрочем, новый собственник «Замка равенства» оставался все тем же неугомонным повесой, «старым кордельером», по-прежнему легкомысленным и талантливым «рыцарем пера», и Марат, сохранивший к нему все то же иронически-доброжелательное отношение, поддерживал его кандидатуру в числе «превосходных патриотов», достойных быть избранными в Конвент. Одновременно Марат опубликовал второй список — «список недостойных лиц», которых рекомендуют враги свободы и, в частности, газета «La Sentinelle» — «Часовой» Луве де Кувре, субсидируемая министром внутренних дел Роланом. Этот список жирондистских политиков — Бриссо, Гаде, Ласурса, Кондорсе, Верньо и других, — сопровождаемый краткой убийственной характеристикой каждого, Марат публикует, чтобы предостеречь против них граждан-избирателей. Марат не скрывает своих пристрастий. С поднятым забралом он выступает против «свободоубийственной партии», против «клики государственных людей», как он презрительно именует бриссотинцев. Бездеятельность жирондистского правительства в борьбе против наступавших интервентов, неспособность жирондистских министров вести войну пореволюционному заставили Марата изменить отношение и к членам Исполнительного совета. До сих пор, критикуя партию Бриссо — Верньо, Марат обходил молчанием имена Ролана, Клавьера, Сервана, Лебрена, мннистров-жирондистов, занимавших высшие посты в Исполнительном совете. Он еще не терял надежды на то, что они послужат интересам революции. Теперь он меняет свое мнение. Он выступает со статьями, в которых обличает министров в неверии, трусости, двоедушии, тайных связях с бриссотинцами, в неспособности защищать революцию. В составе Исполнительного совета он видит лишь одного достойного министра — это Жорж Дантон. Дантон заслуживает полного доверия и полной поддержки, говорит Марат, но этого нельзя сказать о его коллегах по министерству. Марат резко меняет свое отношение и к Жерому Петиону — мэру Парижа, одному из авторитетных имен демократической партии. До лета 1792 года Марат отзывался всегда о Петионе с уважением и симпатией; он считал его поборником свободы, защитником интересов народа. Но с тех пор как Петион все теснее стал связывать свою судьбу с кликой Бриссо — Верньо, Марат критически переоценивает свое отношение к человеку, которого так долго уважал. Одну из своих листовок он целиком посвящает Жерому Петиону. Он публикует и расклеивает на улицах Парижа открытое письмо к Петиону, в котором разоблачает этого «доброго малого», некогда служившего интересам революции. Острая политическая борьба, шедшая в течение избирательной кампании, принесла плоды. В Париже жирондисты потерпели поражение. Депутатами столицы были избраны виднейшие якобинцы: Робеспьер, Жан Поль Марат, Дантон, Камилл Демулен, Бийо-Варенн и ряд других монтаньяров. Но если жирондисты потерпели поражение в Париже, то они сохранили все свои позиции в провинции, где их влияние все еще оставалось большим. И когда 20 сентября 1792 года в Париже собрался Конвент, то стало очевидным, что жирондисты располагают в новом Собрании большинством. Из семисот пятидесяти депутатов Конвента жирондисты обрели около двухсот депутатских мандатов, тогда как якобинцы первоначально имели лишь около ста мест. Сила Жиронды была не только в ее количественном превосходстве над Горой, но и в том, что ее вначале поддерживала самая многочисленная фракция Конвента, обширная группа депутатов, формально не примыкавшая ни к Жиронде, ни к Горе и шедшая за теми, кто в данный момент был сильнее. Эти центровые группы депутатов Конвента, имевшие решающее значение при голосовании, получили ироническое прозвище «равнины» или «болота». Прибыв в большей части из провинции, где престиж Жиронды был еще очень велик, они сразу же оказали поддержку партии Бриссо — Верньо. Преимущественные позиции Жиронды обнаружились уже на первом же, организационном, заседании Конвента, состоявшемся 20 сентября. Председателем Конвента был избран Жером Петион, а большинство мест в бюро Конвента получили жирондистскйе лидеры: Бриссо, Верньо, Гаде и другие. Созыв Национального Конвента был событием огромного политического значения в жизни страны. Конвент был первым в истории французской революции представительным органом, избранным самым демократическим для того времени путем на основе всеобщего избирательного права. Если до сих пор Марат, Робеспьер и другие якобинцы клеймили Законодательное собрание как орган, не представлявший и не выражавший мнения нации, то теперь все должны были единодушно признать, что Конвент является истинным выразителем мнения нации. Парижская коммуна, осыпавшая бранью Законодательное собрание и оспаривавшая его право на приоритет в решении судеб страны, признала высшую власть Конвента в стране. Конвент — это был голос страны, это была высшая законодательная и исполнительная власть, избранная свободно, демократически, на равных началах для всех. Вчерашние противники, сражавшиеся с противоположных позиций — справа и слева, — жирондисты и якобинцы склонили свои головы перед суверенной властью Конвента. Они признали его высшим для себя авторитетом и его коллективную волю — законом, обязательным для всех. Именно в связи с началом работ Конвента, этого высшего представительного органа революционной Франции, якобинцы предложили примирение или neремирие Жиронде. Накануне Конвента Дантон имел примирительное свидание с Бриссо. Он предложил прекратить братоубийственную войну, пожать друг другу руки и сообща выступить против общего врага. Все внутренние разногласия, старые споры должны смолкнуть перед величием задач, возложенных историей на плечи Конвента. Казалось, что эти настроения примирения, сплочения, консолидации всех сил восторжествовали в стране. 21 сентября состоялось торжественное открытие Конвента. Накануне 20 сентября, в сражении при Вальми, свершилось великое историческое событие, имевшее неисчислимые последствия и показавшееся многим современникам даже чудом. Французские войска под командованием Дюмурье и Келлермана, вступившие в сражение с наступавшей армией прусских интервентов, выстояли против яростных атак противника и одержали над ним победу. Правда, битва под Вальми не привела к уничтожению сил врага; она не означала стратегической победы, но для хода всей кампании моральное значение Вальми было огромно. Плохо вооруженные, слабо обученные, голодные, раздетые и разутые французские добровольцы оказались сильнее вышколенной, откормленной, прекрасно экипированной армии прусского короля. Вальми — это была первая победа, завоеванная волонтерами французской революции. Она вдохнула новую душу в армию, вселила надежды в народ. Гёте, находившийся в штабе прусских войск и жадно вглядывавшийся в это ожесточенное сражение, в котором грохот пушечных залпов сменялся громами бушевавшей бури, произнес знаменательные слова: «Сегодня здесь началась новая эпоха всемирной истории». Почти одновременно на юго-востоке французской границы армия генерала Монтескью вступила в пределы Савойи. Военное счастье улыбалось Франции: на всех фронтах обозначился поворот. Конвент открыл свои заседания, озаренный лучами славы Вальми. Огромное воодушевление владело депутатами Конвента. Адвокаты, клерки, земледельцы, вчерашние священники, актеры, художники, мастеровые, простые люди, явившиеся со всех концов страны в великую столицу революционной Франции, здесь, под высокими сводами старинного строгого зала, были охвачены волнующим сознанием величия задач, возложенных на их плечи историей. Их объединяли так ново звучавшие для каждого слова: «депутат Конвента»; эти два слова отодвигали в далекое прошлое все невзгоды и заботы вчерашнего дня, ставшие сразу мелкими и незначительными. Поднимаясь по каменным ступеням пологой лестницы, каждый смутно чувствовал, что он поднимается на подмостки, на великую сцену истории, где начинается действие, которое запечатлеется на века. На первом заседании Конвента не было ни споров, ни распрей, ни пререканий. Под гром аплодисментов Конвент единодушно принял декрет об упразднении королевской власти. «Дворы — это мастерские преступления, очаги разврата, логовище тиранов. История королей — это мартиролог нации!» — воскликнул под гул одобрения священник-якобинец Грегуар. И 21 сентября высший орган революционной Франции — Национальный Конвент объявил уничтоженной тысячелетнюю монархию во Франции. Конвент декретировал также провозглашение республики. Он провозгласил также день 21 сентября началом нового летосчисления, «новой эры» — первым днем IV года Свободы, I года республики. Эти простые, но великие решения, казалось, сплотили весь Конвент, весь народ, всю страну. Казалось, что Франция забыла свои раздоры и разногласия, что Конвент един в своей решимости спасти и обновить страну. Марат разделял эти новые настроения, овладевшие большинством якобинцев. Он дал веские доказательства того, что он готов пересмотреть свой политический курс. 22 сентября, то есть на следующий день после торжественного заседания Конвента, в котором он участвовал как депутат, Марат выпустил новую газету. Он прекратил издание своей прежней, прославившей его газеты «Друг народа» и вместо нее публикует новый орган — «Газету Французской республики» — с выразительным добавлением: «издаваемый Маратом, Другом народа, депутатом Конвента». Первый номер «Газеты Французской республики», вышедший 22 сентября, был полон значения. Марат ничего не изменил в своих взглядах, в своих оценках, в своих политических пристрастиях. Он по-прежнему сохраняет недоверчивое, враждебное отношение к клике Бриссо. Он выражает сожаление по поводу того, что клика Бриссо овладела высшими руководящими постами в бюро Конвента. В номере значительное место занимает обширная статья редактора доктора Жана Поля Марата, озаглавленная: «Новый путь автора». В этой статье Марат объясняет читателям, что он пришел к мысли о пересмотре методов борьбы, которую он до сих пор вел. Марат пишет, что в течение многих лет его враги клевещут, изображая его каким-то желчным безумцем, человеком, который стремится всех чернить, всех клеймить, который заражен подозрительностью, сеет рознь среди французов. Это ему полностью чуждо. Он не говорит, что переменил свои взгляды. Нет! Он откровенен. Он готов лишь изменить свою тактику, ибо у него никогда не было и нет личных целей в борьбе, которую он ведет столько лет. «Что касается приписываемых мне честолюбивых "намерений, — пишет Марат, — вот мой единственный ответ: я не хочу ни должностей, ни пенсий. Если я принял место депутата в Национальном Конвенте, то только в надежде лучше служить этим отечеству, а не обращать на себя внимание. Мое единственное честолюбие — помогать спасению народа; если он будет свободен и счастлив — осуществятся все мои желания». Марат отдает себе отчет в том, что выполнить огромные задачи, стоящие перед республикой, — победить ее многочисленных врагов, добиться победы — можно только при условии единства. Нельзя достигнуть победы, если друзья отечества не договорятся между собой, не объединят свои усилия. Марат принимает решение: «Они (друзья отечества) все считают, что можно победить своих недоброжелателей, не уничтожая их. Пусть так! Я готов принять пути, которые признаны правильными защитниками народа. Я должен идти вместе с ними. Священная любовь к отечеству — я посвятил тебе все мои бессонные ночи, мой отдых, все мои дни, все способности моей души; я приношу тебе сегодня в жертву мои предубеждения, вражду, гнев…» Марат дал публично клятву смирять себя, пресекать голос обличения, которым сурово говорил до сих пор со страной, приблизить язык своих статей и речей к голосу большинства Конвента. Грозная опасность, нависшая над страной, побуждала Друга народа все чаще звать к консолидации всех революционных сил. Как подлинно великий революционный вождь, умеющий подняться выше своих пристрастий и предубеждений, Марат готов ради достижения высшей цели — сплочения и объединения всех революционных сил — заглушить голос своих сомнений. Отныне он не будет говорить ничего такого, что могло бы разойтись со мнением большинства защитников родины. Такова новая политическая тактика, с которой выступает Марат начиная с 22 сентября, и в свете его заявлений становится понятным глубокий смысл нового названия, которое он дал своей газете. «Друг народа» выполнил свою задачу. Эти два слова стали столь известными в стране, что они теперь неотделимы от имени редактора знаменитой газеты. «Газета Французской республики» — это газета Друга народа, Марата, но в новых условиях ищущего путей к объединению всех революционных сил. Но долго ли удалось Марату оставаться на этих позициях? Сохранилась ли эта атмосфера братской сплоченности и единства, придавшая такую силу и величие первым заседаниям Конвента? Долго ли тянулось перемирие? Жирондисты, которые вначале были напуганы поражением, понесенным в столице, а затем опьянены успехом в провинции, увидев, что непартийные депутаты «болота» голосуют вслед за ними, решили перейти в наступление. Дух вражды снова восторжествовал. Вопреки перемирию, заключенному между Бриссо и Дантоном, вождь жирондистов Бриссо 23 сентября, пока не в Конвенте, а на страницах издаваемой им газеты «Французский патриот», выступил с нападками против депутатов Горы. 24 сентября, еще в глухой форме, разногласия стали проявляться уже в стенах Конвента, и, наконец, 25 сентября жирондисты, уверенные в прочности своих позиций и решающем влиянии, которое они приобрели в Конвенте, решили, что настал час свести счеты с политическими противниками. Тактический замысел жирондистов был ясен: они решили сразить двух наиболее авторитетных, наиболее прославленных руководителей Горы — они решили ударить по Робеспьеру и по Марату одновременно. 25 сентября на трибуну Конвента один за другим поднимались ораторы жирондистов: Ласурс, Банару, Верньо и другие. Их копья были направлены против Неподкупного — Максимилиана Робеспьера, против Друга народа — Марата. Их обвиняли в стремлении к диктатуре, в намерении установить власть триумвирата, в разжигании вражды и всех смертных грехах. Выступая гласно против Марата и Робеспьера, они метили также и в Дантона. Дантон, раздосадованный столь скорым крушением перемирия, пытался разрядить накаленную атмосферу хитроумной речью, в которой он делал уступки и той и другой стороне. Стремясь завоевать доверие «центра» Конвента и найти пути к примирению с жирондистами, Дантон отмежевался от Марата. Он не только никогда не выдвигал мысли о диктатуре или о триумвирате, но вообще не был близок с Жаном Полем Маратом. Он подчеркнуто обособлял свою политическую борьбу от деятельности Друга народа. Робеспьер произнес защитительную речь, резко направленную против жирондистов. После них слова попросил Марат. Когда Марат пожелал выступить, со всех скамей Жиронды и «болота» раздались негодующие возгласы. «У меня здесь много личных врагов», — спокойно сказал Марат. «Все, все!» — закричали в неистовстве жирондисты. Жирондисты боялись появления. Друга народа на трибуне Конвента. В самом деле, ни один из политических деятелей Франции той поры, казалось, не обладал такой чудодейственной властью, не представлялся столь загадочным, таинственным, могущественным, как неведомый доктор Марат. Общая неосведомленность о Марате была так велика, что Манон Ролан в одном из своих писем высказывала даже сомнение: а существует ли на самом деле этот доктор Марат? Может быть, это только вымышленное подставное лицо, какое-то условное обозначение, за которым скрывается кто-то реальный и совсем другой? Одно время ей даже казалось, что Марат — это выдуманное имя, прикрывающее статьи, сочиняемые Жоржем Дантоном. И вот Марат — загадочный, таинственный, незримый доктор Жан Поль Марат, владевший непостижимой магией слов, обладавший необъяснимою могущественной властью над людьми, должен появиться на трибуне Конвента. Все уже убедились в разительной силе его газетных статей, но, может быть, это не только замечательный публицист, лучший журналист восемнадцатого века? Может быть, Марат еще и великий оратор? А что, если сила и престиж Друга народа еще больше увеличатся, когда он взойдет на трибуну? Вот почему жирондисты хотели воспрепятствовать появлению Марата на трибуне Национального Конвента. Но Марат спокойно взошел на трибуну и добился, чтобы в наступившей настороженной тишине зала были выслушаны его простые слова. «У меня в этом собрании много личных врагов, — повторил снова Марат уже с трибуны Конвента. — Я призываю их устыдиться: не криком, не угрозами, не оскорблениями доказывают обвиняемому его виновность; не тем, что будут выражать негодование, докажут защитнику народа, что он преступник. Я благодарю того, кто исподтишка попытался запугать этим призраком робких, внести раздор между честными гражданами, вызвать недоверие к парижской делегации. Я благодарю своих преследователей за то, что они дали мне случай открыть вам всю мою душу». Это сдержанное возражение, исполненное достоинства, заставило замолчать аудиторию. Марат продолжал свою речь в полной тишине, наступившей в огромном зале, он продолжал говорить в той же простой, ясной и благородной манере. Он решительно отвел все обвинения, возводимые против Робеспьера и Дантона по вопросу о триумвирате. Его коллеги не могут быть ответственны за то, к чему они не причастны. За требование триумвирата ответствен только он один, Марат. Он был единственным писателем во Франции, который поставил вопрос о триумвирате и который действительно считал необходимым введение на короткий срок диктатуры. И простыми словами, сохраняя все то же невозмутимое спокойствие, Марат объяснил, отчего и почему, движимый какими убеждениями он считал необходимым установить во Франции диктатуру. «Если это мнение заслуживает порицания, я один в нем виноват; если оно является преступным, то я призываю отмщение нации только на свою голову… Я изложил свои взгляды публично для их рассмотрения; если они опасны, пусть мои враги их опровергнут, не предавая меня анафеме, а опровергая их серьезными доводами. Они должны уничтожать их тлетворное влияние возражениями, а не заносить над моей головой меч тирании». Эти спокойно и так просто высказанные мысли произвели большое впечатление. Но жирондисты не могли примириться с успехом Марата. Они вновь выступили с яростными нападками против него. Один из второстепенных прислужников клики Бриссо зачитал статью Марата против Петиона, придавая ей извращенное толкование. Ряд жирондистов потребовал отмены депутатской неприкосновенности, ареста Марата и препровождения его в тюрьму. В тот момент, когда уже собирались приступить к голосованию обвинительного декрета против Марата, подвергавшего его тюремному заключению, Марат снова добился права быть выслушанным. Он поднялся на трибуну, все тем же спокойным голосом сообщил, что споры и дискуссии здесь неуместны, потому что инкриминируемая статья действительно принадлежит ему, он ее написал в свое время, дней десять тому назад, и тогда, когда он ее писал, считал высказанное в ней правильным. Но с тех пор обстоятельства изменились, продолжал Марат, в новых условиях, после избрания Конвента, на который он возлагает такие большие надежды, он изменил свою политическую линию, что нашло свое отражение в статье «Новый путь автора», напечатанной в его новой «Газете Французской республики». Один из депутатов Конвента тут же зачитал эту статью вслух. После того как чтение статьи было закончено, Марат вынул пистолет из-за пояса и, приставив его к своему лбу, заявил: «Считаю долгом заявить, что если обвинительный декрет будет принят, то я тут же пущу себе пулю в лоб здесь, у подножия трибуны. Таковы плоды трех лет тюрьмы и мучений, перенесенных для спасения отечества! Таковы плоды моих бессонных ночей, моей работы, нужды, страданий, опасностей, которых я избежал! Прекрасно! Я остаюсь среди вас и безбоязненно встречу вашу ярость…» И эти так искренне, с такой уверенностью сказанные слова произвели магическое действие. Без прений декрет против Марата был отброшен. Но день 25 сентября не прошел бесследно. Он означал, что вновь вспыхнула борьба между Горой и Жирондой. Жиронда первой возобновила войну. Она рассчитывала получить головы Робеспьера и Марата, просчиталась и была отброшена; победа осталась за Маратом и Горой, но борьба теперь вновь разгорелась со всей силой. Марат сумел правильно оценить значение 25 сентября. Он понял всю глубину ненависти к нему Жиронды, он разгадал черные, преступные замыслы вождей партии. «государственных: людей». Бриссо, Пьер Бриссо, его давний друг и почитатель, прячущийся всегда в тени, незримым движением руки выпускающий на сцену Верньо, Барбару, Буало, он не удовольствуется меньшим, чем голова Жана Поля Марата. Друг народа поведал читателям, как в тот же день, или, вернее, в тот же вечер, когда Марат возвращался из Конвента, двое злодеев — двое убийц, выйдя вслед за ним из зала, продолжали преследовать его до площади Карусели, Другу народа пришлось обратиться за помощью к отряду федератов, по счастью встретившемуся на его пути. Марат не сомневался в истинном значении памятного дня 25 сентября. Он писал в своей газете: «Я приглашаю читателя задуматься над злодейством клики Гаде — Бриссо… Друзья отечества будут знать, что 25 сентября эта клика устроила заговор, чтобы уничтожить меня мечом тирании или кинжалом разбойников. Если я паду под ударами убийц, в руках друзей общества будет нить. Она приведет их к источнику». Эти слова Марата были пророческими.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ

20 ноября в Тюильрийском дворце случайно был открыт потайной железный шкаф короля. В шкафу была найдена секретная переписка, в том числе письма Мирабо, Лафайета и других бывших видных деятелей революции к Людовику XVI. Разоблачения, вызванные документами, найденными в потайном шкафу короля, возбудили глубокое негодование народа. Оскорбленные в своих чувствах, люди разбивали бюсты Мирабо. Конвент предложил завесить портрет Мирабо, висевший до сих пор в зале заседаний. Престиж Марата поднялся еще выше. И этот возросший авторитет он бросает теперь на чашу весов в момент ожесточенных споров между Горой и Жирондой, возникших в связи с вопросом в судьбе короля. Что делать с королем? Народ и демократические организации, поддерживаемые депутатами Горы, единодушно требовали предания короля суду. Жирондисты вынуждены были пойти на эту уступку, и с ноября 1792 года в Конвенте начались споры по вопросу о судьбе короля. Жирондисты — об этом речь была раньше — пытались ёще накануне 10 августа сохранить монархию, а позже, когда король стал узником крепости Тампль, старались избежать процесса. Когда же стало очевидно, что процесс неизбежен, и когда процесс начался — Людовика XVI стал судить Конвент, — тогда жирондисты начали изыскивать разные способы, чтобы любым путем сохранить королю жизнь. Максимилиан Робеспьер, Сен-Жюст, один из самых молодых депутатов Конвента, и, наконец, Марат выступили за казнь короля. С первых же дней в большой дискуссии, развернувшейся в Конвенте, Марат настойчиво добивался казни короля. Он объяснял: «До тех пор пока Людовик Капет будет жить и пока какое-нибудь непредвиденное обстоятельство может вернуть ему свободу, с ним будут связаны различные попытки всех врагов революции. И если тюрьма не станет очагом их вечных заговоров, она непрерывно будет их сборным пунктом. Не будет свободы, не будет безопасности, не будет мира, не будет покоя для французов, не будет надежды на освобождение для других народов, пока не будет срублена голова тирана». Позже, когда жирондисты стали искать различные поводы для того, чтобы воспрепятствовать приведению приговора в исполнение, когда они требовали, чтобы был поставлен на обсуждение народа вопрос о том, казнить ли Людовика XVI, а если казнить, то насколько отсрочить его казнь, Марат вновь выступил против этих уверток. «Преступления Людовика XVI установлены, им нет числа и оправдания; нация требует от вас их отмщения, и вы не можете уклониться от того, чтобы приговорить тирана к смертной казни». Марат был полон решимости противодействовать группе вертких интриганов из числа жирондистских вождей, прилагавших все старания, чтобы спасти жизнь бывшему королю. Жирондисты действовали так отнюдь не потому, что их вдохновляли идеи отвлеченного гуманизма. Марат был глубоко прав, когда отказывался принимать жирондистские обвинения в кровожадности и возвращал эти обвинения их авторам. Тога поборников гуманности, рыцарей милосердия, которой прикрывались позднее жирондисты, была лишь своеобразной маскировкой. Это один из главарей жирондистов, Инар, первым ввел зловещую формулу: «Под словом «ответственность» мы подразумеваем смерть»; позднее, во времена белого террора, он дал ужасающие доказательства того, как он претворял эту формулу в жизнь. Барбару, Жансонне, Бюзо, Кондорсе и, конечно же. скрывающийся за их спинами вожак и вдохновитель партии Бриссо — все они с 1791 года требовали применения смерти тем, кого они считали своими политическими противниками. Их сокровенные мысли, истинные мотивы их поведения с предельной отчетливостью выразил Гаде в доверительном обращении к своей жене: «Я сделаю все, что сумею, чтобы спасти Людовика XVI. Если бы гуманность и не советовала этого, то интерес страны все же требовал бы этого». Конечно, речь шла не об интересах страны, и Гаде это раскрыл откровенно в следующих за приведенными словах: «Он является последним защищающим нас оплотом; если падет его голова, то за ней последуют и наши». Но эти тайные мысли Гаде, Бриссо, Верньо были хорошо поняты Маратом. Именно Марату принадлежало знаменитое предложение — ввести поименное голосование по вопросу о судьбе короля. Марат не ошибся, внося этот проект. Он знал двоедушие, трусость, слабость своих противников. И действительно, когда началось поименное голосование, тайные пособники короля, которые накануне 10 августа давали ему советы, как удержать за собой престол, — Верньо, Гаде и другие жирондисты — не посмели выступить за сохранение жизни Людовику Капету и голосовали за казнь. Жестокая борьба, которую Марат вел против своих политических противников, против «свободоубийственной партии» Бриссо, Верньо, Жансонне, заставила его внойь столкнуться с испытаниями судьбы. Ему угрожают кинжалом. Когда он идет по улицам, за ним следуют какие-то подозрительные личности. Он получает угрожающие письма. Ему попадается на пути портфель, набитый деньгами, который он спешит тут же сдать властям. Его большая квартира на улице Кордельеров теперь находится не случайно под наблюдением драгун. Депутату Конвента, облеченному депутатской неприкосновенностью, самому знаменитому политическому журналисту и оратору Франции доктору Марату снова приходилось нередко скрываться по ночам. В своей газете он пишет, что «вновь уходит в подполье», ибо, обладая неприкосновенностью личности, он в то же время не может поручиться, что с ним ничто не произойдет. Жирондисты преследовали его по пятам, выдвигая против него самую чудовищную клевету. Но Марата нельзя было ни застращать, ни подкупить. Он продолжал ту же борьбу, нанося разящие удары клике Бриссо — Гаде. «Кто эти люди, пытающиеся сейчас помешать нам казнить тирана, запугивая вражескими государствами? — спрашивал в одном из номеров своей газеты Марат. — Это все те же, кто толкал нас на войну год назад, внушал презрение к объединившимся державам. Бесстыдные лицемеры, у них есть принципы на заказ для каждого дня; их принципы приспособляются к обстановке, ко времени, к месту, к людям. Вчера они проповедовали нам войну, сегодня проповедуют мир, они будут дуть одновременно на холодное и горячее, если им только удастся таким образом скорее обмануть народ и добиться осуществления своих преступных замыслов. Отбросим это подлое фиглярство, с которым соединяется малодушие, алчность, тщеславие, страх перед наказанием. Они первыми отбросили бы их, эти нелепые принципы, если бы они не служили их замыслам. К опасениям, которые они стремятся нам внушить, они добавляют лживое уважение к сохранению закона, лживое рвение к правосудию, лживые идеи величия. Послушайте, как они унижают троны, восклицают, что короли являются людьми, только людьми, даже меньше, чем людьми, они, всегда бывшие жалкими лакеями деспота, недавно царствовавшего над нами…» Почему они придают столько значения приговору над Людовиком, откуда ярость, с которой они выступают против мнимой поспешности тех, кто требует его казни? Нужно ли об этом говорить? Они стараются прикрыться человечностью и справедливостью, потому что они связаны с его судьбой тайными нитями». Так Марат срывал маски с жирондистских вождей и представлял их взору народа в их истинном виде. Под его ударами, наносимыми рукой уверенной и точной, рушились все хитросплетения коварной политики жирондистов; они не посмели открыто защищать короля, а Марат не позволил им обмануть народ и разоблачил действительный смысл их софизмов. В сражении со своими политическими врагами он одержал еще одну победу.
* * *
Со времени великого дня Вальми военное счастье склонялось на сторону революционной Франции. Раз одержав победу, армия французских патриотов, охваченная наступательным порывом, продолжала движение вперед. На юго-востоке французские войска овладели Ниццей. На Рейне Кюстин, командовавший французскими соединениями, 25 сентября с боем занял Шнейер и взял три тысячи пленных; это были первые пленные, захваченные армией революции. В последующие месяцы солдаты Кюстина заняли Аахен, Вормс, Майнц, Франкфурт-на-Майне. Дюмурье после Вальми вступил в сомнительные переговоры с прусским командованием; он самонадеянно рассчитывал, что ему удастся склонить прусского короля к союзу с Францией против Австрии. Он даже послал прусскому монарху в качестве презента кофе и сахар, которых недоставало в то время у пруссаков, но эта примитивная дипломатия потерпела полное крушение. Фридрих Вильгельм не пожелал вести переговоров с крамольной республикой. Военные действия возобновились. Французская армия вступила на территорию Бельгии. В течение короткого времени французы заняли большую часть земель Бельгии, встречаемые повсюду восторженными приветствиями местных жителей, видевших во французских солдатах своих освободителей. 6 ноября 1792 года французская армия под командованием генерала Дюмурье встретилась при Жемаппе с главными силами австрийцев. Сражение было ожесточенным. Оно закончилась полной победой французского оружия. Австрийская армия в смятении и расстройстве отступила. 14 ноября она оставила Брюссель; к концу месяца вся Бельгия была освобождена. Победа при Жемаппе принесла законную славу солдатам революционной Франции. Победитель генерал Дюмурье прослыл самым выдающимся полководцем французской революционной армии. Победа французских войск не была результатом их количественного превосходства или их лучшей вооруженности. Французская армия побеждала прежде всего потому, что она была сильна духом, потому что она сражалась за справедливое, за правое дело. Убежденность в своей правоте, решимость защищать свою революционную родину, завоевания революции воодушевляли французских солдат на подвиг, внушали им мужество, отвагу. Этообеспечило в конечном счете победу французских войск над армией иностранных интервентов. Но жирондистское правительство не сумело воспользоваться плодами победы. Оно курило фимиам генералу Дюмурье, прославляя его победы, но не обеспечило необходимого пополнения французской армии новыми вооруженными силами. Шарль Франсуа Дюмурье, выступавший в ту пору в ореоле национального героя, вместо того чтобы использовать плоды побед, развернуть дальше наступательные операции, решил, что пришел его час взять в свои руки игру; его внимание переместилось с карты военных действий к крапленым картам изощренных политических интриг. Человек в годах — ему шел шестой десяток, — имевший за плечами бурную, полную самых невероятных приключений жизнь авантюриста, гонявшегося за счастьем почти по всему свету, он сохранил все ту же молодую неугомонность, самоуверенность, легкомыслие, дерзость. Он менее всего был склонен руководствоваться принципами или правилами морали. Одно время он прилаживался к королю, но, убедившись в том, что эта игра не сулит выигрыша, переметнулся к жирондистам и быстро выдвинулся сначала в должности министра иностранных дел, а затем и на военном поприще. Жирондисты всячески обхаживали его, рассчитывая приручить и заставить служить своим целям. Он также шел на дружбу с партией Бриссо, надеясь, в свою очередь, использовать ее для своей карьеры и далеко идущих планов. Зимой он приехал из ставки в Париж, вел здесь рассеянный образ жизни, устраивал политические свидания. На квартире его друга известного актера Тальма давались приемы, на которых искусством занимались меньше, чем политикой. Между тем внешнеполитическое положение республики изменилось. После казни короля ряд европейских держав вступил в войну с Францией. Англия. с ее неисчерпаемыми материальными ресурсами, Испания с ее сильным по тому времени флотом, Голландия оказались в числе врагов Франции. Французской республике весной 93-го года приходилось сражаться почти со всей Европой. Англия, Австрия, Пруссия, Испания, Голландия, итальянские государства, ряд германских государств были в состоянии войны с Францией. За спиной этих держав стояла могущественная Российская империя. Хотя Россия непосредственно не воевала с Францией, однако правительство Екатерины II поддерживало интервенционистскую политику держав, оно разорвало дипломатические отношения с Францией и выслало из Петербурга представителей Французской республики. Тогда как международное положение республики заметно усложнилось, жирондистские «государственные мужи», как их иронически называл Марат, проявляли прежнюю беззаботность к вопросам обороны республики. Они не только не увеличили воинские силы, но допустили их ослабление. В армии отсутствовала необходимая воинская дисциплина. Большим недостатком организации вооруженных сил республики было их разделение на два разных вида войск: регулярные, старые линейные части и отряды волонтеров. Из-за попустительства и невнимания военачальников и высших властей в отрядах добровольцев началась убыль людского состава. Многие из волонтеров, считая, что задача выполнена, враг изгнан из пределов французской территории и война ведется на чужой земле, покидали самовольно свои части. Во многих полках личный состав сократился больше чем наполовину, добровольцы, не считаясь с воинской дисциплиной, без разрешения уходили по домам. В ряде статей и устных выступлений в Конвенте, в Якобинском клубе Марат обращал внимание на неблагополучное состояние армии; он требовал, чтобы были найдены действенные эффективные меры, которые могли бы обеспечить необходимый перелом в организации и подготовке вооруженных сил республики. Но это не было сделано. Между тем, пренебрегая происшедшими изменениями в состоянии войск, командование приняло решение возобновить наступательные операции. В середине февраля 1793 года генерал Дюмурье предпринял большие наступательные действия против Голландии. Первые дни они развивались успешно, войскам Дюмурье удалось занять несколько голландских крепостей. Но наступление не было должным образом продумано и организовано. Французские силы были распылены. 1 марта австрийцы под командованием герцога Кобургского нанесли сильный удар по французским войскам, расположенным в Бельгии, и заставили их в беспорядке отступить. Баланс, командовавший французскими войсками в Бельгии, взывал о помощи к Дюмурье: «Спешите скорей сюда! Необходимо переменить план кампании. Сейчас, минуты равняются столетиям». Но у Дюмурье был свой счет времени. 12 марта он написал дерзкое, вызывающее письмо Конвенту, а 18 марта в битве у Неервиндене французские войска под командованием Дюмурье понесли тяжелое поражение. Известие о поражении Дюмурье побудило Конвент отправить комиссаров, которым было поручено на месте ознакомиться с происшедшим. Дюмурье арестовал комиссаров и 23 марта вступил в переговоры с австрийцами. В тайных переговорах с австрийским командованием Дюмурье обещал очистить занятую территорию, повернуть армию против Парижа, разогнать Конвент и восстановить монархию. Едва лишь в Париж поступили первые тревожные сведения о поведении Дюмурье, как Марат выступил против него в печати. Марат давно уже приглядывался к деятельности этого восхваляемого вождя — бывшего министра иностранных дел в нервом жирондистском правительстве, затем популярнейшего генерала Жиронды; он внушал подозрение Другу народа. Марат в октябре 1792 года как член Конвента имел свидание с Дюмурье. Они встретились на квартире актера Тальма, во время одной из пышных вечеринок, на которой пришедший неожиданно Марат застал ряд видных политических деятелей, приглашенных Дюмурье. Беседа между Маратом и Дюмурье не дала практических результатов, но эта встреча усилила подозрение Друга народа. В отчете, опубликованном Маратом в своей газете, он писал: «Как понять, что генералиссимус республики, давший прусскому королю возможность ускользнуть из Вердена, ведший переговоры с врагом, которого он мог окружить в лагерях и заставить сложить оружие, вместо того чтобы способствовать его отступлению, избрал такой критический момент, чтобы оставить армию без командования, бегал по спектаклям и предавался оргиям у актера вместе с нимфами из оперы. Дюмурье скрыл тайные причины, приведшие его в Париж… Он явился для сговора с вожаками клики, которая интригует в целях создания федеративной республики — вот цель его приезда». Тремя неделями позже, 31 октября 1792 года, Марат публично предсказал: «Сто против одного, что… Дюмурье эмигрирует еще до марта». В своем поразительном политическом ясновидении Марат ошибся лишь в календарных сроках, и то всего на двадцать с чем-то дней. Теперь, когда стали известны подробности вероломного, изменнического поведения Дюмурье, Марат потребовал применения самых суровых и решительных мер против мятежного генерала. С присущей ему проницательностью Друг народа утверждал, что измена Дюмурье не является только актом его личного вероломства. Кто были друзья Дюмурье? — спрашивал Марат. Каким образом стал возможным этот шаг, повторяющий почти буквально, даже в мелочах, презренную измену Лафайета? Марат справедливо доказывал, что измена Дюмурье есть частное подтверждение измены жирондистов. Надо покарать Дюмурье, но этого недостаточно. Надо покарать и партию, которая взрастила измену, приведшую Францию на край новых военных потрясений. Покарать Дюмурье не удалось. Мятежный генерал, сбросив маску, решил идти напролом. Он арестовал военного министра Бернонввлля, прибывшего в ставку, и передал австрийцам. Затем он дал приказ своим войскам повернуть фронт и двинуться на Париж. Но Дюмурье просчитался. Он недооценил степень сознательности солдат революции: они отказались выполнить приказ генерала-изменника. Один из командиров батальонов, Даву, будущий знаменитый маршал наполеоновской армии, получив приказ генерала, поднял свой пистолет, чтобы убить изменника. Дюмурье должен был бросить армию и бежать с кучкой ближайших помощников в стан противника. Измена Дюмурье и предшествовавшие ей поражения ухудшили военное положение республики. В течение весны 1793 года французские войска, отступая под ударами превосходящих сил противника, вынуждены были оставить Голландию, Бельгию, германские земли на левом берегу Рейна. Это было общее отступление. В марте 1793 года вновь вспыхнул контрреволюционный роялистский мятеж в Вандее. Он быстро разрастался, перекидывался из одного департамента в другой, вовлекал все новые слои крестьян, с оружием в руках поднявшихся против революционной власти. Бедственное экономическое положение республики, недостаток продовольствия, падение Денежного курса, мобилизация в армию питали недовольство части крестьян, пошедших за боевой зажиточный верхушкой деревни, сомкнувшейся с контрреволюционным духовенством и российской эмиграцией. Внутренняя контрреволюция рассчитывала на успехи оружия внешней контрреволюции — интервентов. Возникала реальная опасность, что обе враждебные революции силы объединятся. Но жирондистское правительство топталось на месте, бездействовало, и вместо борьбы против грозных сил контрреволюции выискивало средства, чтобы поразить своих политических противников — монтаньяров. Бриссо во «Французском патриоте», зная, что он пишет заведомую ложь, уверял, что мятеж в Вандее разожжен агентами якобинцев, действующих по приказу Питта. Так жирондисты, ответственные как правящая партия за оборону республики, вместо мобилизации сил нации на борьбу с врагом сбивали с толку народ, натравливая его против истинных патриотов. 9 марта жирондистское большинство Конвента приняло декрет, обязывающий депутатов Конвента, издающих газеты, либо сложить с себя депутатское звание, либо прекратить издание газеты. Декрет этот целил в Марата: он и был тем депутатом Конвента, который издавал «Газету Французской республики». Но Марат сумел уклониться от наносимого ему удара. Декрет есть декрет; после того как он приобрел законную силу, спорить против него было бесполезно. В понедельник 11 марта «Газета Французской республики» вышла в последний раз. Но уже через три дня, в четверг 14 марта, на улицах Парижа продавалось новое издание — «Публицист Французской, республики», издаваемое по-прежнему Маратом, Другом народа, депутатом Конвента. Марат посмеивался над своими противниками. В декрете Конвента говорилось только о запрещении депутатам издавать органы печати, именуемые газетами. Но декрет не предусматривал всех видов печати; иначе ему пришлось бы запретить и «Французский патриот» Бриссо. Чем «Публицист Французской республики» хуже «Французского патриота»? Отравленная стрела противника пролетела мимо цели. Чтобы позлить своих врагов, Марат на новой своей газете восстановил старую нумерацию. Первый номер «Публициста Французской республики» имел порядковый № 144; он сохранил также прежний формат, те же восемь страниц и весь внешний вид «Газеты Французской республики» Мартовский кризис, порожденный изменой Дюмурье, еще выше поднял престиж и авторитет Марата. Люди убеждались, сколь проницателен, сколь мудр Друг народа. Дантон защищал Дюмурье, а Марат предупреждал: не верьте этому вероломному генералу, он связан с кликой Бриссо; он предаст и продаст революционную Францию. Слава Марата росла. Каждый день приносил новые тому подтверждения. Якобинский клуб, или Общество друзей свободы и равенства, как истинно демократическая организация, не имел постоянного председателя. Президенты общества избирались сроком на две недели из числа политических деятелей, пользующихся наибольшим уважением членов Якобинского клуба. И когда 5 апреля наступило время избрать нового президента, единодушно, огромным большинством голосов был избран Жан Поль Марат. Марат — депутат Конвента, Марат — председатель Якобинского общества, Марат — редактор «Публициста Французской республики» — это был теперь самый прославленный, самый популярный в народе вождь Горы. Наряду с Робеспьером и в значительной мере также и с Дантоном он разделял славу, авторитет, почет, которыми партия Горы пользовалась в глазах французского народа. У этого человека, казалось бы утомленного долгими годами непрерывной, всепоглощающей борьбы, энергия не иссякала. Представлялось невероятным, как могли плечи одного человека выдержать груз такого напряжения. Но Марат все выдерживал. Лишь изредка из-под его пера срывались горестные признания. Иногда и как бы нехотя он все-таки признавался, что безмерно устал. Порою он вспоминал свой одинокий тихий дом на улице Старой голубятни. Его рабочий стол, голубой дым ночи за окнами, золотые и красные огоньки над потрескивающими, охваченными пламенем поленьями в большом камине и сторожкая глубокая тишина… Ах, как много бы он дал, чтобы вновь вернуться к этому далекому, навсегда ушедшему времени! Это были минуты слабости, мгновения, когда он смежал веки, чтобы перевести дыхание. Он стряхивал с себя оцепенение и вновь ввязывался в борьбу.
* * *
В значительной мере под влиянием требований Марата Конвент 6 апреля принял декрет о создании Комитета общественного спасения, избранного в составе девяти человек. Комитет общественного спасения должен стать органом революционной диктатуры. Идея Марата о роли Комитета общественного спасения — это продолжение идеи диктатуры, которая в зачаточной форме возникала у него и раньше. От трибуна — к триумвирату, от триумвирата — к Комитету общественного спасения — так постепенно в его представлении расширяется мысль об организации органов революционной диктатуры. Руководящая роль в первом Комитете общественного спасения принадлежала Дантону и его ближайшим друзьям. Марат весной 1793 года уделяет большое внимание и социально-экономическим вопросам, имевшим в ту пору большое значение. Республика испытывала серьезные экономические затруднения. Быстро падал курс бумажных денег, росли цены на продукты питания, все меньше в обращении становилось товаров. Как преодолеть прогрессирующие экономические затруднения? Марат выдвигает свой план. В ряде выступлений, статей он требует проведения неотложных энергических мер. Он предлагает разрешить финансовые затруднения путем уничтожения государственного долга и оплаты кредиторов государства национальными бонами, которые должны быть выпущены на сумму долгового обязательства. Насколько этот план был целесообразен и практичен? Об этом трудно судить, поскольку он не был реализован. Во всяком случае, его преимущества не очевидны и не бесспорны. Гораздо более глубокий революционный смысл имело другое его предложение в области социальной политики, с которым Марат 6 марта 1793 года обратился к «Патриотам Конвента». Марат в своем обращении поднимает один из самых жгучих социальных вопросов — о борьбе с нищетой. «Недостаточно помешать увеличению нищеты, нужно начинать с ее уничтожения; это был бы лучший способ для укрепления республики…» Марат критикует финансовую и социальную политику всех предшествующих высших органов революции, начиная с Учредительного собрания. Эта политика и в особенности установленная система продажи церковных имуществ — главного богатства, отвоеванного революцией, — были неправильными; от нее выиграли только богатые, а бедные проиграли; число неимущих увеличилось вдвое. Друг народа предлагает свой проект реализации церковных имуществ. Они должны быть разделены на три равные части: одна из них должна пойти на оплату служителей религии, вторая — на уплату долгов правительства и третья — в пользу неимущих. Эта третья часть церковных земель должна быть разделена между неимущими мелкими участками. Тем самым, говорил Марат, «выполнили бы по отношению к ним неотложное обязательство, возлагаемое справедливостью, сделали бы их полезными гражданами, крепко бы привязали их к революции, и государство выиграло бы от этого вдвойне». В том же обращении к Конвенту Марат предлагает одновременно все общинные пустошные земли также разделить между бедняками, распределить их небольшими участками, снабдив дополнительно неимущих земледельческими орудиями, семенами и средствами пропитания на первые полгода. Эти предложения Марата касались самых важных проблем революции. Марат, казалось, исправлял свои прежние ошибки. До сих пор серьезным промахом его политической программы, его политической линии было недостаточное внимание к крестьянскому вопросу — главному вопросу Великой французской революции. Его обращение к Конвенту в марте 1793 года, его смелый и практически легко осуществимый проект: разделить часть церковных и общинных земель между неимущими — были исполнены революционного дерзания и мудрости. Этот план, будь он осуществлен в жизни, означал создание нового широкого слоя крестьянства, получившего землю от революции. Понятно, что в этом плане не было ничего социалистического. Речь шла о создании нового класса мелких собственников крестьян. Но эта мера в ту эпоху — смертельной войны с феодализмом — имела огромное революционное значение. Замечательно, что Марат, внося свой предложения в Конвент, выступал прежде всего как революционный вождь, видевший в предлагаемых мерах решение стратегических задач. Конечно, он говорит о долге перед неимущими, о принципах справедливости. И все-таки главное для него в другом. Марат дважды подчеркивает, что, наделяя неимущих землей, тем самым привязали бы их крепко к отечеству, к революции. Это значит, говоря иными, современными словами, что Марат видел в этом прежде всего средство расширения социальной базы революции, создание в лице нового крестьянства, получившего землю от революционной власти, прочной социальной опоры революции. Несколько месяцев спустя, после того как якобинцы пришли к власти, в иной форме, с рядом поправок и дополнений, эти идеи Марата были претворены в жизнь в аграрном законодательстве якобинского революционного правительства. Но первым необходимым условием разрешения экономических, социальных и политических задач, стоящих перед республикой, является, по мнению Марата, доведение до конца борьбы против Жиронды. Сокрушить «партию государственных людей», уничтожить ее политическое влияние — это является повелительным требованием момента, условием существования республики. Борьба против Жиронды становится постоянным мотивом всех выступлений Марата в это время. Так, например, отвечая на письмо одного из своих корреспондентов, некоего гражданина Шарпантье из департамента Вьен, который жаловался на различные местные злоупотребления, Марат писал так: «Необходимо подождать, мой доблестный согражданин, казни бывшего монарха и окончательного ниспровержения партии Ролана. Тогда мы посмотрим, как установить царство равенства и свободы, ибо мы все еще пребываем в царстве злоупотреблений, беспорядков и анархии. Если усилия Конвента окажутся бесплодными, придется подождать событий, которые, во всяком случае, произойдут, ибо народ хочет быть свободным. И вот как только восстание станет повсеместным, тогда придет время призвать к ответу ваших утеснителей, этих опор старого прошлого. Народу давно следовало бы взяться за это. Без этого нечего надеяться ни на мир, ни на свободу, ни на счастье». В этой записке, которая интересна тем, что она выражает, так сказать, будничные, повседневные мысли Марата, примечательны две идеи, высказанные вполне отчетливо: это твердая уверенность в том, что необходимо уничтожить партию Ролана, те есть партию жирондистов, и мысль, что, видимо, не удастся обойтись без нового народного восстания. Марат, следовательно, еще в декабре 1792 года допускал возможность нового народного восстания для устранения власти Жиронды. И он вновь и вновь возвращается к этой идее во многих своих выступлениях. В статьях в своей газете, в речах в Конвенте, в Якобинском обществе он обличает «государственных людей», он зовет к борьбе против свободоубийственной партии Жиронды. Всей силой своего огромного авторитета Марат обрушивается на жирондистов — на этих коварных и вероломных «усыпителей», партию, «которая является не только решительной защитницей контрреволюции, но и сама представляет собой открытую контрреволюцию». Может быть, он вспоминал теперь иногда дни своей юности на берегах Жиронды, в богатом, цветущем, кипящем жизнью Бордо? Это они — все эти богатые купцы, финансисты, арматоры, мануфактуристы, жадно тянущиеся к золоту, гонящиеся за наживой, охотящиеся за барышом, сегодня, как волки, готовы наброситься на республику, провозглашавшую своей великой целью — равенство. За спиной Бриссо, Верньо, Гаде, Жансонне, за спиною партии Жиронды он видел эту алчную стаю хищников, так знакомую ему по первым нестираемым воспоминаниям молодости. И он писал депутатам Конвента со всею силой глубокой убежденности: «Необходимо, чтобы мы их раздавили, или они раздавят нас; куда же ведет ваша политика умеренности, как не к гибели отечества? И разве вы не чувствуете, что со времени казни тирана для вас нет спасения, кроме победы?» Исход борьбы в Конвенте решала «равнина» — она колебалась. Депутаты «болота», которые определяли всякий раз, на чьей стороне большинство, чувствовали, как быстро тает престиж и падает влияние Жиронды, как растет против нее раздражение народных масс, как возрастает авторитет якобинцев. Но они все еще не решались оставить Жиронду; завершение сражения им все еще казалось не ясным; кто победит — было трудно предугадать, и они голосовали еще, по большей части, за партию Бриссо — Верньо. Но голос Марата был слышен не только в стенах Конвента, где тертые политические дельцы из числа. депутатов «болота» всякий раз хладнокровно взвешивали — чья перетянет? Голос Марата был всегда обращен к народу; он доверял революционному чувству и политическому разуму простых людей; и свои послания к Конвенту он публиковал на страницах своей газеты, через головы депутатов, апеллируя к народу Парижа.. И простые люди внимали голосу Друга народа. В Сент-Антуанском и Сен-Марсельском предместьях, в кварталах, населенных парижским плебейством, не было более популярного и уважаемого имени, чем имя доктора Жана Поля Марата. Его горячие елова доходили до их сердец. Он выражал вслух, во всеуслышание то, что неясно бродило в их сознании. Он был выразителем их дум и чаяний, но он не только формулировал их часто недодуманные до конца мысли, он их обогащал новыми идеями, он звал их вперед, открывал широкие перспективы, подсказывал правильный образ действий. В понедельник, 8 апреля, депутация секции Бон-Консей, одной из самых боевых демократических секций столицы, явилась в Конвент, чтобы представить ему петицию. Представитель секции обратился к депутатам с речью: «Законодатели! Секция Бон-Консей направила нас к вам, чтобы потребовать от вас самого строгого расследования предательства презренного Дюмурье… Предатель имел сообщников не только в рядах своих легионов. Не вправе ли народ полагать, что они имелись всюду, вплоть до вашей среды…» Буря негодования на правых скамьях и аплодисменты на левых прервали оратора. Но он продолжал: «Уже давно голос народа вам указывает на всех этих Верньо, Гаде, Жансонне, Бриссо, Барбару, Луве, Бюзо и им подобных; что вы медлите с обвинительным декретом против них? Вы объявляете Дюмурье вне закона, но вы оставляете его сообщников заседать среди вас!» И он призвал представителей народа, патриотов Горы, подняться в единодушном порыве, чтобы искоренить до конца измену. Чьи это были требования? Чьи призывы? Не надо было обладать особой проницательностью или тонким слухом, чтобы расслышать в этих требованиях, так властно продиктованных народом Парижа Конвенту, голос Друга народа. Да, это были политические требования Марата, многократно высказываемые им на страницах его газеты и в Якобинском клубе. Но теперь усвоенные народом и повторенные его могучим, повелительным голосом, они звучали с новой, убедительной силой, заставлявшей бледнеть депутатов Жиронды и вселявшей смятение в сердца, депутатов «равнины».
* * *
В борьбе, становившейся все более ожесточенной, Марат опирался на моральный авторитет, жирондисты — на авторитет государственной власти. Их ненависть к Другу народа не имела предела. Теперь, когда Марат завоевал поддержку народа, когда он стал направлять его чувства и помыслы и парижские секции стали рупором его политической программы, Марат представлялся жирондистским лидерам самым грозным противником. Пока они еще держат в своих руках руль государственной машины, пока за ними большинство в Конвенте, нельзя терять времени — надо действовать. В апреле соотношение сил в Конвенте сложилось благоприятно для черных замыслов партии Бриссо. Более половины состава Конвента отсутствовало: депутаты уехали как комиссары Конвента на фронт, в армии, в департаменты. Из семисот пятидесяти депутатов на месте было едва ли не триста пятьдесят человек. Что было еще важнее для замыслов жирондистов — это отсутствие большинства якобинских депутатов; они отправлялись первыми сколачивать оборону страны. Уже давно охотились жирондисты за головой Жана Поля Марата. Теперь, как они полагали, настал желанный час. В пятницу, 12 апреля, на трибуну полупустого зала заседания Конвента поднялся депутат от Жиронды, друг и правая рука Бриссо — Эли Маргерит Гаде. Он начал с прямой лобовой атаки против Марата. Его напористая речь была обращена главным образом к депутатам «равнины». Он старался убедить {ведь их голосование решало исход сражения!), что Марат поднимает гнев народа против них, что «кровавые призывы» Марата угрожают их благополучию, самому их существованию, их жизни и что если эту подстрекательскую деятельность не пресечь, то все они падут жертвами чудовищных замыслов этого страшного человека. Чтобы придать своим обвинениям большую убедительность, Гаде зачитал циркуляр Якобинского общества от 5 апреля, подписанный Маратом, как его председателем, призывавший всех патриотов бороться против сообщников Дюмурье. В якобинском циркуляре, зачитанном Гаде, не были названы имена, и хотя было очевидным, что якобинцы целили в партию Бриссо — Верньо, этот ловкий политический оборотень Гаде, напуская туман, пытался представить дело так, что Марат пытается зачислить всех депутатов Конвента в сообщники изменника Дюмурье; тем самым он вселял страх и смятение в робкие души депутатов «равнины». Речь Гаде была закончена под негодующие возгласы многих депутатов: «В Аббатство! В Аббатство!9 В тюрьму!» Марат устремился на трибуну. Он подтвердил, что подписал циркуляр якобинцев 5 апреля и что, являясь его автором, он полностью согласен со всем там сказанным. Но к чему это представление! «Здесь ищут химерический заговор вместо того, чтобы задушить заговор существующий, к несчастью, реально». Говоря о сообщниках Дюмурье, он снова не назвал имен, и колебавшиеся депутаты «болота» вновь ощутили себя в опасности. Предложение арестовать Марата и сформулировать против него обвинительный декрет было поддержано большинством голосов. Дантон потребовал слова. «Разве Марат не представитель народа?!» Он предостерегал собрание против опасного, против гибельного намерения лишать депутата Конвента принципа неприкосновенности. До сих пор «талисман неприкосновенности» удерживал разногласия и споры в Национальном Конвенте в определенных границах. Сегодняшнее большинство голосов уничтожит этот талисман. А что будет завтра? Дантон напоминал, что данное заседание не представляет большинства Конвента. Он заявил, что если надо прислушиваться к обвинениям, выдвинутым против Марата, то с таким же вниманием следует отнестись к обвинениям Марата против своих обвинителей. Дантон предложил, чтобы и обвинения против Марата и обвинения против Жиронды были переданы в комитет для рассмотрения. Эта уверенная речь Дантона породила смятение в зале. «Равнина» снова заколебалась. Партия Бриссо — Гаде почувствовала, что она проигрывает сражение. Но жирондисты не могли допустить, чтобы Марат еще раз выскользнул из их когтей. Такой случай не представится вторично. Старый друг — вечный враг Пьер Бриссо, он торопился набросить петлю на могучую шею Марата. Этот маленький человек с большим длинным лицом, как всегда в подобных случаях, старался быть незаметным. Он не произносил речей с трибуны Конвента; он был сдержан: не подавал даже реплик; но только он своим быстрым взглядом мог мгновенно оценить сложную картину сражения, чтобы направить по новому руслу ход событий. Нельзя было оставлять время для колебаний. Жирондистский депутат Буайе-Фонфред, овладев трибуной, обрушил поток самых невероятных обвинений против Друга народа. Валазе, Лакруа и другие жирондисты выкриками с мест поддерживали эту яростную атаку. В сумятице заседания жирондистам удалось провести решение о немедленном аресте Марата, с тем чтобы через день обсудить обвинительный акт против него. Предвзятый характер этого решения был очевиден. Если обвинительный акт будет составлен через два дня, то какая необходимость сегодня, попирая закон, запирать в тюрьму депутата Конвента, пользующегося неприкосновенностью? Но жирондисты отнюдь не были озабочены ни соблюдением формальностей, ни существом обвинений. Они увлекли за собой депутатов «болота» и вырвали нужное им решение. Офицеру стражи был передан тут же на ходу написанный декрет о немедленном аресте депутата Конвента Жана Поля Марата. Начальник стражи направился к нему и предложил следовать за ним в тюрьму. Группа депутатов-монтаньяров поднялась со своих мест и, окружив Друга народа, заявила о своем желании сопровождать его до места заключения. Но Марат не склонен был подчиняться воле банды врагов, вырвавших у Собрания незаконное решение. Он достаточно хорошо знал своих противников, чтобы не сомневаться в их черных, преступных замыслах. Его голова еще нужна отечеству и революции; он не подставит ее под нож Бриссо. Марат заявил, что не подчиняется намерению заключить его в тюрьму, и решительным шагом, окруженный друзьями-якобинцами, пошел к выходу. Но у дверей ему преградил путь часовой. Жирондисты, молча наблюдавшие эту сцену, потирали руки: вот теперь Марат не выберется; наконец он попался в мышеловку! Народ, присутствовавший на заседании, спускается с галерей в зал и окружает Марата; вместе с ним его друзья-монтаньяры. Но к толпе, сгрудившейся у дверей выхода, приближается стража со своим командиром. Офицер стражи торжественно вынимает декрет Конвента о немедленном аресте Марата и предъявляет его депутатам. Все кончено. Воцаряется долгая пауза. Но вот один из депутатов что-то слишком долго читает бумагу, затем передает другому, третьему, они о чем-то шепчутся и передают текст декрета Другу народа. Второпях жирондистские главари забыли получить подписи министра юстиции и председателя Собрания, как это предписывалось законом. Декрет, не скрепленный надлежащими подписями, не имел законной силы; это был просто клочок бумаги. Марат вернул растерявшемуся офицеру эту ненужную бумагу и с гордо поднятой головой, окруженный толпой народа, прошел сквозь расступившуюся стражу к двери. Через несколько мгновений он уже затерялся в огромном городе. Дьявольский план жирондистских главарей сорвался. Им не удалось нахрапом захватить ненавистного трибуна Горы. Марат — в который раз! — вновь ускользнул от расставленных силков. Но игра была начата — ее надо было завершать. Уже на следующий день, 13 апреля, Законодательный комитет представил Конвенту обвинительное заключение против Марата. Но прежде Конвент должен был прослушать адресованное ему письмо депутата Марата. Оно было исполнено достоинства. «Прежде чем принадлежать Конвенту, я принадлежу отечеству, принадлежу народу». Долг защищать дело свободы важнее всего остального, и он ему будет следовать. До тех пор пока Бриссо, Верньо, Гаде, Бюзо, Ласурс, Жансонне, Салль, «пока все эти вероломные господа, заклейменные общественным мнением как изменники отечества, не будут сидеть в тюрьме Аббатства, до той поры я и не подумаю отдаваться под стражу в угоду акту произвола, облеченного в форму декрета, изданного против меня беспощадными моими врагами…» Письмо Марата произвело глубокое впечатление. Но жирондисты, руководившие заседаниями, не допустили его обсуждения. Делоне-младший от имени Законодательного комитета зачитал обвинительный акт. Марат объявлялся виновным в призывах к ограблению и убийству; ему вменялись в вину контрреволюционные цели: покушение на народный — суверенитет, намерение уничтожить Конвент. За эти преступления Марат подлежал суду Чрезвычайного уголовного трибунала. Но когда Делоне перешел к чтению документов и начал с оглашения адреса Якобинского общества от 5 апреля, произошло непредвиденное. Дюбуа-Крансе, депутат-монтаньяр, прервал Делоне; «Если этот адрес преступен, то декретируйте обвинение и против меня; я его полностью одобряю». «Мы все его одобряем!» — воскликнуло сразу множество голосов. Знаменитый Давид, самый прославленный художник Франции, потребовал, чтобы ему передали текст циркуляра якобинцев, и тут же, поднявшись на трибуну, поставил на нем свое имя ниже имени Марата. Вслед за Давидом девяносто пять депутатов-монтаньяров поставили свои подписи под якобинским циркуляром, который должен был служить одним из главных документов обвинения. В зале наступило замешательство. Но жирондисты, чувствуя, как колеблется почва под их ногами, потребовали немедленного голосования обвинительного акта. Тщетно Робеспьер убеждал, что нельзя голосовать, не заслушав обвиняемого и даже не обсудив обвинительного заключения. Жирондисты навязали решение: немедленно, без прений голосовать. Кто-то из монтаньяров предложил, чтобы голосование было поименное, и это предложение было принято. Только дважды Конвент проводил поименное голосование. Первый раз — по вопросу о судьбе короля, и теперь — о предании Марата суду трибунала. Голосование проводилось шестнадцать часов, с трех часов дня до восьми часов утра. Народ, собравшийся на галереях Конвента, не расходился, терпеливо ожидая окончательного решения. Один за другим поднимались депутаты на трибуну. Максимилиан Робеспьер заявил, что он с негодованием голосует против обвинительного декрета, попирающего законные права народного представителя, все принципы, все нормы. Он видит в обвинительном декрете против Марата акт мести, несправедливости, пристрастия, дух фракционности. Его младший брат, Огюстен Робеспьер, голосуя против, сказал: «Убежденный в том, что политики тирании изображают Марата таким, как они хотят, а не каков он на деле, для того чтобы опозорить патриотов, надев на них безобразные маски, убежденный в том, что это обвинение является только предлогом, чтобы погубить пламенного патриота, человека, который до тех пор, пока он жив, заставляет дрожать мошенников всех мастей, я говорю — нет!» Давид кратко выразил разящую жирондистов мысль: «Какой-нибудь Дюмурье сказал бы — да; республиканец говорит — нет». Камилл Демулен назвал Марата великим пророком, которому будущие поколения воздвигнут памятники. Вадье напомнил о борьбе Марата против Неккера, против Лафайета, против Дюмурье. «Марат не может быть врагом республики, потому что все, кто ее предавал, были его врагами». Не только депутаты-монтаньяры, которых было немного, «о и некоторые депутаты «равнины» в своих речах признавали великие заслуги Марата перед республикой. К утру результаты голосования были подсчитаны. Из трехсот шестидесяти присутствовавших депутатов (меньше половины состава Конвента!) девяносто два голосовали против, сорок восемь воздержались и двести двадцать голосовали за обвинительный декрет. За предание Марата суду проголосовало менее одной трети всего состава Конвента; и все-таки это решение было объявлено законным, и обвинительный акт был передан Чрезвычайному трибуналу. Марат не появился более на заседаниях Конвента; его не видели и на собраниях Якобинского клуба; он исчез; он пропал. Ищейки «партии государственных людей», как они ни рыскали по Парижу, нигде не могли напасть на его след. А между тем Марат продолжал борьбу. К изумлению современников, к ярости его врагов, его газета «Публицист Французской республики» продолжала выходить и продаваться на улицах столицы. Она вышла 14 апреля, затем 16-го, 17-го и во все последующие дни. Правда, вместо обычной подписи внизу: «Издание Марата. Улица Кордельеров», теперь осталось только «Издание Марата», адрес исчез. Но газета регулярно выходила в свет. 18 апреля Марат направил письмо Национальному Конвенту Франции; он адресовал его «Верным представителям народа». На следующий день он переправил эго письмо своим «братьям и друзьям» в Якобинском обществе; он просил их оказать ему поддержку и опубликовать письмо. Он подписывался: «Марат, депутат Конвента, член общества, 19 апреля, из подземелья». Марат писал из подземелья. Но это был не приглушенный, тихий голос, а гремящий призыв к битве. В письме, направленном депутатам Конвента, он раскрыл политический смысл судебного процесса, организованного против него. Марат писал: «Верные представители народа! «Партия государственных людей», эта преступная шайка, которую я по добродушию щадил, считая ее просто сбившейся с дороги, тогда как она глубоко преступна; эта роялистская шайка, которая голосовала за апелляцию к народу и тюремное заключение Луи Капета с целью зажечь гражданскую войну в надежде спасти тирана; эта хищническая шайка, которую Дюмурье признает своими сообщниками; эта заговорщическая шайка, которую й принудил открыто объявить себя сторонниками мятежных Капетов, скрывшихся за рубежом, неоднократно требуя от них объявления этих мятежников вне закона, в чем они упорно отказывали; эта бесстыдная шайка, которая гнусно наказывает меня сегодня за то, что я раскрыл ее лицо и опозорил ее в глазах всей Франции; эта шайка, говорю я, направила против меня обвинительный декрет». Весь Марат с его выразительным, гибким, ему одному присущим стилем письма в этой блестящей обвинительной тираде. Раз найдя это точное определение для «партии государственных людей» — шайки, Марат как бы расширяющимися кругами, развертывающими список ее злодеяний, раскрывает ее действительную преступную роль. Марат зовет к борьбе. Он объявляет, что явится на суд, а пока как верный представитель народа, неприкосновенный член Конвента будет работать в силу врученных ему полномочий и будет звать к очищению высшего Собрания от роялистской шайки, от «партии государственных людей» в отсутствие депутатов-патриотов, незаконно присваивавших себе право говорить и декретировать от имени Конвента. Марат сражается из подполья, но он не одинок. Его обвиняющий голос, прорывающийся неизвестно откуда, поддерживают сотни, тысячи, десятки тысяч голосов. Нарушив «талисман неприкосновенности», предав Марата суду трибунала, жирондистские главари затеяли опасную для себя игру. Ни один из актов Конвента не встретил такого общественного негодования, как обвинительный декрет против Марата. Якобинцы, кордельеры, народные общества, секции Парижа, все патриоты единодушно выступили на поддержку великого трибуна. Движение солидарности с Другом народа перекинулось и в провинцию. 16 апреля четыре тысячи патриотов Окзера приняли такое обращение: «Друзья! Обвинительный акт против Марата должен рассматриваться патриотами как общественное бедствие; мы не в состоянии бежать достаточно быстро, чтобы кинуться навстречу ножу, предназначенному для убийства патриотов, которым хотят его сразить контрреволюционные члены Конвента; мы поспешим вам на помощь и вместе с вами добьемся торжества народного дела». Сходные с этим по духу и чувствам постановления принимали другие народные общества и политические клубы на местах. В Париже народное негодование против жирондистов было еще сильнее. Якобинцы и так называемые «бешеные» — наиболее левые представители части плебейства, — объединив свои усилия, развернули энергичное наступление против Жиронды. 15 апреля, тридцать пять секций Парижа (из общего числа сорок восемь), поддержанные Коммуной и мэром Парижа Пашем, подали петицию в Конвент, изобличающую преступления двадцати двух его членов, принадлежащих к клике Бриссо — Гаде — Верньо. «Партия государственных людей», еще сохранившая влияние в Конвенте, путем сложных маневров сумела избежать обсуждения этого убийственного для нее требования народа. 18 апреля новая делегация санкюлотов и Коммуны Парижа представила составленную в Якобинском клубе петицию, требующую установления максимальных цен на продукты питания. «Пусть нам не возражают ссылкой на право собственности. Право собственности не может быть правом доводить до голода своих сограждан». Жирондисты, со своей стороны, также взывали о поддержке, обращаясь к имущим слоям Парижа и в особенности департаментов. Жером Петион написал в апреле «Письмо к парижанам», которое было, в сущности, призывом к буржуазии столицы. Петион ее пугал: «Ваша собственность находится под угрозой, а вы закрываете глаза на эту опасность. Готовится война между собственниками и теми, кто не имеет собственности, а вы не предпринимаете ничего, чтобы предупредить ее». На деле же Жиронда сама разжигала гражданскую войну. Но могла ли она рассчитывать на поддержку в Париже? Сохранила ли она вообще влияние в стране? Оставалась ли она еще правящей партией? На это должен был ответить процесс Марата. И вот этот день настал. 24 апреля Чрезвычайный трибунал должен был рассматривать дело Жана Поля Марата, обвиняемого Национальным Конвентом. С раннего утра огромные толпы санкюлотов заполнили галереи, амфитеатр, коридоры, залы дворца, где заседал трибунал, заполнили двор, площадь, все окрестные улицы. Казалось, весь народ Парижа вышел в это утро на улицы. В десять часов, когда весь состав трибунала был уже в сборе и должно было начаться заседание, перед судьями предстал Марат. Он явился накануне вечером 23-го неизвестно откуда, в сопровождении многих друзей-якобинцев в тюрьму. Администрация тюрьмы, приняв неожиданно столь знаменитого гостя, добровольно пришедшего, чтобы стать узником, окружила его всяческими заботами. Заседание началось. Марат прошел череззал, стал на последнюю ступеньку у кресла и громким голосом произнес: «Граждане, не преступник предстает перед вами, это Друг народа, апостол и мученик свободы. Уже давно его травят неумолимые враги отечества, и сегодня его преследует гнусная клика государственных людей. Он благодарит своих преследователей за то, что они дают ему возможность со всем блеском показать свою невиновность и покрыть их позором». Громкие аплодисменты в разных концах зала покрыли его слова. Судебное разбирательство длилось сравнительно недолго — несколько часов. Обвинение Марата в контрреволюционных намерениях, в призывах к убийству, желании унизить и распустить Конвент настолько противоречило всему облику великого революционера и его боевой публицистике (в ходе заседания зачитывались вслух его статьи), что оно распадалось тут же на глазах судей и публики. В ходе судебного раздора документального материала, приложенного обвинением, был публично разоблачен грубый подлог, совершенный Бриссо, в одном из документов злонамеренно поставившего фамилию Марата там, где должна была стоять фамилия Горса. Присутствующий в зале народ громко выражал свое возмущение и аплодировал обвиняемому до тех пор, пока Марат не обратился к нему со словами: «Граждане, мое дело — это ваше дело, это дело свободы. Я прошу вас соблюдать полное спокойствие, чтобы не давать преследующим меня врагам отечества предлога клеветать на вас и обвинять в воздействии на решение суда». Марат действительно с блеском доказал свою полную невиновность; его ответы на вопросы и краткая речь, которую он держал, были не столько защитой, сколько сокрушительным обвинением обвинителей. Присяжные удалились на совещание. Через три четверти часа суд возвратился, и в полной тишине, воцарившейся в зале, председатель суда, резюмируя единогласные заключения присяжных, огласил приговор: «Трибунал признает невиновность Жана Поля Марата в предъявленном ему обвинении и постановляет, что он должен быть немедленно освобожден». Громадный зал сотрясся от рукоплесканий. В течение нескольких минут этот гремящий гул оваций ширился и нарастал. «Оправдан!» — это слово передавалось из уст в уста, из зала заседаний в коридоры, соседние залы, на двор, на площадь, на улицы, и десятки тысяч людей, до которых докатывалась эта радостная весть, неистовыми рукоплесканиями и громкими возгласами приветствовали победу народа. Сотни, тысячи рук протягивались к Марату, ему бросали цветы, его хотели обнять. Национальные гвардейцы должны были выстроиться в два ряда, чтобы дать возможность Марату выйти из зала суда среди ликующей толпы. Но когда он показался в дверях — в своем длинном зеленом сюртуке с потемневшим горностаевым воротником, широкоплечий, коренастый, с иссиня-черными волосами, жесткими прядями ниспадавшими на высокий лоб, с пристальным, острым взглядом черных глаз, когда десятки тысяч людей увидели, наконец, своего Марата, Друга народа, снова вышедшего победителем из этого сражения, грозившего ему гибелью, волна оваций, восторженных возгласов прокатилась по несметной толпе народа. Марат был сразу подхвачен сотнями дружеских рук, и в кресле, утопавшем в цветах, гирляндах, с Лавровым венком на голове, под непрерывные выкрики «Да здравствует республика, свобода и Марат!» он поплыл над колышущимися, движущимися рядами голов и знамен, устремившихся в сторону Конвента. Через Новый мост, по улицам де Моне и Сент-Оноре эта грандиозная и величественная процессия направилась к Конвенту. В пути народ все прибывал и присоединялся к движущимся плотными рядами колоннам. Сколько их было — парижан, вышедших праздновать победу Марата в этот теплый, солнечный апрельский день? Очевидцы расходились в цифрах. Одни говорили — двести тысяч, другие — сто пятьдесят, третьи — сто тысяч. Сколько бы их ни считать, все сходились на том, что это было безбрежное море людей, затопившее все улицы и площади столицы, море, расцвеченное цветами, гирляндами, флагами; радостными лицами и улыбками. Это был весь Париж — Париж санкюлотов, борцов за торжество революции, истинных патриотов, вышедших стихийно, по зову сердца, по велению революционного инстинкта, защищать Друга народа или праздновать его победу. Огромное шествие, медленно двигаясь, наконец, достигло Конвента. Престиж Конвента был так велик, что манифестация остановилась у его дверей. Должностные лица и национальные гвардейцы, возглавившие шествие, отделились и прошли в зал, чтобы возвестить Конвенту о прибытии Марата и потребовать разрешения продефилировать в зале. Жирондисты были в величайшем смятении. Вот как повернулась против них эта начатая ими рискованная игра! Они слышали за окнами гул многотысячной толпы, и он внушал им страх» Председательствовавший Ласурс, жирондист, пытался объявить заседание Конвента закрытым. Но монтаньяры и народ на галереях яростно запротестовали. Огромные толпы народа заполнили все помещение Конвента. Под ликующие возгласы «Да здравствует республика, да здравствует Гора, да здравствует Марат!» национальные гвардейцы внесли на руках Друга народа и опустили его среди депутатов Горы. Сапер Роше, шедший во главе национальных гвардейцев, приблизившись к решетке Конвента, сказал: «Гражданин председатель! Мы привели к вам обратно мужественного Марата; мы ввергнем в замешательство всех его врагов; я уже защищал его в Лионе, я буду защищать его здесь, и тот, кто захочет голову Марата, получит и голову сапера». Устами этого простого солдата говорил народ. Жирондистские лидеры бежали из зала заседания. Все депутаты, весь Конвент стоя рукоплескали Марату. Жан Поль Марат поднялся на трибуну и сказал: «Законодатели, свидетельства патриотизма и радость, вспыхнувшие в этом зале, являются данью уважения к национальному представительству, к одному из ваших собратьев, священные права которого были нарушены в моем лице. Я был вероломно обвинен, торжественный приговор принес триумф моей невиновности, я приношу вам чистое сердце, и я буду продолжать защиту права человека, гражданина и народа со всей энергией, данной мне небом». Снова громы аплодисментов сотрясают своды, раздаются приветственные возгласы, в воздух летят шапки, цветы; мужчины, женщины, дети, забившие до отказа громадное здание, народ и депутаты Конвента, слившись в единодушном порыве, приветствуют Друга народа и торжество принципов подлинного патриотизма. То был великий день триумфа Горы, день триумфа вознесенного на ее вершину Жана, Поля Марата, Друга народа.
* * *
Первый биограф Марата Альфред Бужар писал: «Исход процесса Марата оказался прямо противоположным тому, на что рассчитывали его обвинители; они хотели убить Марата; и вот — он еще более велик, чем когда-либо. Вчера он был писателем, депутатом — сегодня он стал знаменем». Это было сказано верно. Престиж и авторитет Марата после провала обвинения и торжеств 24 апреля поднялись на недосягаемую высоту. В течение ближайших дней после оправдательного вердикта местные революционно-демократические организации, клубы якобинцев, кордельеров, народные общества, отдельные патриоты со всех концов Франции слали выражения горячего одобрения оправдательного приговора и чувства восхищения и любви Другу народа. Но сам Марат уже через день после его торжества стал тяготиться оказываемыми ему почестями. Когда 26 апреля в клубе Якобинцев ему устроили восторженную встречу и президент общества, а затем четырехлетний ребенок поднесли ему венки, Марат поднялся на трибуну и сказал: «Не будем заниматься венками, будем защищаться с одушевлением, оставим все эти ребячества и будем думать только о том, чтобы сокрушить наших врагов». И он больше ни в выступлениях, ни в статьях, ни в письмах не возвращался сам и не разрешал другим напоминать о его великом триумфе 24 апреля. Марат справедливо рассматривал свой процесс как одну из авангардных схваток в решающем сражении с жирондистами. Все его выступления весной 1793 года были пронизаны одной мыслью: «только одни революционные меры действительны». Народ должен снова, как и раньше, сам себя спасти; он должен снова подняться на спасительное восстание, изгнать изменивших родине и революции жирондистов из Конвента и укрепить революцию, передав руководство в руки подлинных патриотов. Обогащенный опытом революции, Марат в период подготовки народного восстания, которое должно было свергнуть власть Жиронды, значительно расширил и углубил свое понимание революционной диктатуры. В нем окончательно укрепляется «мужество беззакония», признание революции высшим и самым авторитарным фактором общественной жизни. Еще ранее в речи по поводу суда над королем, то есть в начале января 1793 года, Марат дает замечательное определение Конвента как потенциального органа революционной диктатуры. Полемизируя с жирондистами, Марат пишет: «Если бы Конвент был только законодательным собранием, то они, несомненно, были бы правы, но он наделен неограниченной властью, то есть всеми видами власти, которые требуются для спасения общественного дела; поэтому нет такой разумной или насильственной меры, которую в случае ее надобности он не был бы уполномочен принять для торжества свободы…» И дальше: «И если бы пришлось пожертвовать всеми законами ради общественного блага — первого из законов, то я утверждаю, что среди нас не найдется никого, кто бы не захотел этого сделать». Эти мысли у него укреплялись и получали дальнейшее развитие. Рассматривая Конвент как революционный орган, наделенный неограниченной властью, в том числе властью революционного насилия, считая, что интересы революции доминируют над всеми законами, Марат, в сущности, предвидел ту революционно-демократическую диктатуру, какая через несколько месяцев сложилась в практике якобинского этапа революции. Поражение жирондистов в сражении против Марата показало, как изменилось к весне 1793 года соотношение сил. Теперь перевес уже явственно обозначился на стороне якобинцев. Гора одолевала Жиронду. Но в ослеплении бессильного бешенства жирондисты не только не стали благоразумнее — они еще яростнее нападали на своих противников и в неистовстве ненависти перешли к угрозам всему Парижу. В мае Инар, жирондист, в последний раз проведенный его друзьями на пост президента Конвента, посмел публично, на официальном заседании заявить депутации Парижской коммуны: «Если будет нанесен удар национальному представительству, то я объявляю вам от имени всей Франции, что скоро будут искать на берегах Сены место, где некогда стоял город Париж…» Это был язык герцога Брауншвейгского, язык контрреволюционных интервентов. Жиронда грозила гражданской войной, она развязывала ее. И она дождалась возмездия, которое сама на себя накликала. Народное восстание 31 мая — 2 июня 1793 года низвергло власть Жиронды. Двадцать девять депутатов-жирондистов во главе с Бриссо, Верньо, Гаде, Жансонне, Петионом, Бюзо, Барбару по предложению Кутона были исключены решением Конвента из его состава и подвергнуты домашнему аресту. Жиронда первой, проводя в апреле в Конвенте решение об аресте Марата, уничтожила «талисман неприкосновенности», охранявший до тех пор представителей народа. Теперь эта мера обернулась против нее. Если можно было оскорбить народ Парижа, предав суду его избранника, то почему должны оставаться священными депутатские полномочия сообщников Дюмурье? Так рассуждал народ Парижа, окруживший 2 июня плотным кольцом здание Конвента и нетерпеливо ожидая, когда он произнесет приговор, очищающий его ряды от депутатов, поднявших руку на революцию. Марат сыграл большую и важную роль в организации и руководстве народным восстанием 31 мая — 2 июня 1793 года. Существует версия, будто в ночь с 1 на 2 июня он сам поднялся на каланчу, чтобы первым ударить в набат, призывавший к восстанию. Об этом имеется ряд свидетельств современников, но сам Марат в своем рассказе о событиях этих дней не упоминает об этой подробности. Может быть, он не рассказал об этом из скромности? Или не придавал этому эпизоду значения? А может быть, он и не поднимался на каланчу и не бил в набат и весь этот рассказ надо отнести за счет разгоряченного воображения участников событий — его друзей или врагов? Как бы там ни было, остается несомненным, что все решающие три дня Марат был в самой гуще событий. В Конвенте, в Коммуне, в Комитете общественной безопасности — он всюду вмешивался в ход борьбы, давал советы обращавшимся к нему участникам восстания, направлял их деятельность, требуя доведения восстания до полной победы. Победа народного восстания 31 мая — 2 июня была великой победой Горы. Она была и великой победой Марата. На протяжении двух последних лет вместе со своими собратьями по оружию — якобинцами — Марат вел жестокую, беспощадную, изнурительную, поглощавшую все его силы борьбу против Жиронды. Когда он начинал эту борьбу, «партия государственных людей» была в зените своей славы, она была могущественной, влиятельной, популярной партией, державшей в своих руках руль государственной власти, господствовавшей в Конвенте, в правительстве и в аппарате, почти во всех местных органах провинциальной Франции. Марат разоблачал двоедушие, двурушничество, тайное пособничество врагам, недоверие к народу, склонность к измене «партии государственных людей — жирондистов». Прошло два года, и то, что он увидел в зародыше или в самом начале, выросло и дошло до своего логического завершения: партия Жиронды превратилась в партию контрреволюции и национальной измены. Французский народ еще раз мог убедиться в политической прозорливости и мудрости Жана Поля Марата. Изгоняя жирондистских депутатов из стен Конвента, свергая политическое господство партии Жиронды и передавая власть в руки Горы, французский народ своими великими революционными действиями вновь подтверждал, что он идет за неустрашимой партией якобинцев и за самым любимым ее вождем — за тем, кого все санкюлоты Парижа называли уважительным и ласковым именем — Друг народа.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ ГИБЕЛЬ
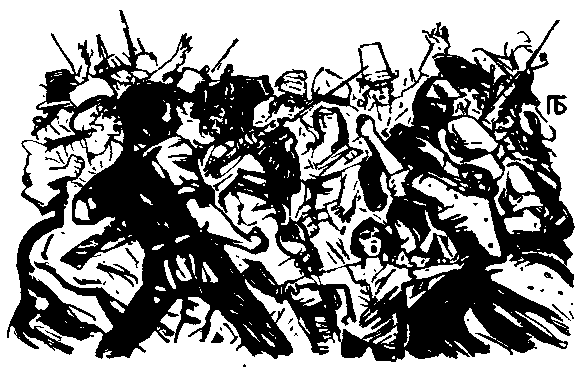
Якобинцы взяли власть в критические для республики дни. Пять армий интервентов на всех фронтах перешли в наступление. На севере и северо-востоке республиканские солдаты ценою нечеловеческого напряжения сдерживали наседающие на них со всех сторон прусские и австрийские войска. На юге — испанцы, перевалив через Пиренеи, теснили отступающих французов к Перпиньяну и Байонне. Английский флот блокировал берега Франции, а английское золото поощряло военные усилия контрреволюционной коалиции, покупало наемников-убийц, диверсантов, поджигателей с помощью притаившихся роялистов и других контрреволюционеров, тайно стремившихся дезорганизовать оборону страны. Корсика отделилась от Франции, и корсиканские мятежники вступили в прямую связь с Англией. Роялистский мятеж в Вандее ширился, охватывая все западные приморские департаменты. Ролан, Бюзо, Барбару и другие жирондистские вожди в первую же ночь бежали из-под домашнего ареста. Они пробирались на юг и там поднимали народ против революционной власти в Париже. Бюзо, бежавший в департамент Эр, распространял там слухи, что в Париже устанавливается диктатура Марата; уже 7 июня он добился решения О создании департаментских вооруженных сил в четыре тысячи человек, которые должны быть двинуты против Парижа. Верньо звал на помощь департамент Жиронды. Департамент Кальвадос также поднял оружие против центрального правительства. Жирондистский мятеж быстро сливался с роялистским, роялистский — с иностранной интервенцией. Кольцо смыкалось. В середине июня шестьдесят департаментов из восьмидесяти трёх были охвачены пожаром мятежа. Армии интервентов продолжали наступать. Республика, казалось, находилась на краю гибели. В эти часы смертельной опасности, когда все враги революционной власти в Париже предрекали ее неминуемую гибель, якобинцы, возглавившие революцию, проявили неиссякаемую энергию, смелость, решимость, непоколебимую волю к победе. В течение шести недель они приняли декреты исторического значения, разрешавшие важнейшие задачи революции. Одним ударом они уничтожали все феодальные повинности, привилегии и пережитки — то, что революция не смогла сделать за все предшествующие четыре года. Еще ранее, в первые десять дней после победы народного восстания, декретами от 3 и 10 июня эмигрантские и общинные земли были разделены равными долями между неимущими крестьянами. Аграрное законодательство якобинцев нанесло сокрушительный удар феодализму там, где он коренился сильнее всего, — в сельском хозяйстве; оно освободило все крестьянство от многовекового ненавистного феодального гнета и дало значительной части крестьянства землю. Этими спасительными декретами якобинское правительство обеспечило переход основной массы крестьянства на свою сторону и тем самым вырвало почву из-под ног жирондистской контрреволюции и создало прочную опору якобинской революционной власти. В кратчайший срок — за три недели — якобинский Конвент выработал и утвердил новую конституцию — конституцию первой республики — самую демократическую из всех известных до того времени в истории. Конституция 1793 года, поставленная на утверждение всего народа и встретившая самое горячее одобрение, стала политической платформой, объединявшей вокруг революционного Конвента большинство нации. Марат, как и Робеспьер, был один из великих вождей партии Горы, в неразрывном единстве с народом преодолевавшей неисчислимые преграды, стоявшие на пути революции. Он разделял и славу и ответственность за великие свершения якобинского революционного правительства на последнем, самом высшем этапе революции. Но тяжелая болезнь, поразившая Марата, сковывала его неукротимую энергию, ограничивала его участие в политической бор^эе. Эта болезнь началась у него еще весной 1793 года. Сам выдающийся врач с огромным практическим опытом, Марат не мог точно определить природы своего заболевания. Он жаловался на то, что находится все время в лихорадочном состоянии, у него жар, его мучает непрерывный зуд. По-видимому, это были последствия страшного напряжения душевных и физических сил последних четырех лет. Но ему не было еще пятидесяти лет; он находился в расцвете сил; его могучий организм сопротивлялся болезни. С 5 по 20 июня он лежал прикованным жестоким недугом к постели. Но и лежа он продолжал работать. Большая квартира в пять комнат в доме № 30 по улице Кордельеров была превращена в редакцию «Публициста Французской республики». Его верный друг и жена Симонна окружает его не только вниманием, заботой и лаской, она его ближайший помощник и товарищ. Теперь на ее плечи легли все заботы по изданию газеты. Ей помогают ее сестра Екатерина и старый типографский рабочий Лоран Ба; хозяйственные дела ведет их служанка Жанетта Марешаль. Этот большой дом согрет любовью трех женщин — каждой по-разному — к этому большому, сильному мужчине, прикованному тяжелым недугом к постели. Марат болеет, но его газета «Публицист Французской республики» продолжает выходить так же регулярно; каждый день по-прежнему продавцы газет протягивают те же сложенные, как обычно, восемь газетных страниц. Правда, в газете теперь больше информационного материала, сообщений о заседаниях Конвента, писем корреспондентов, чем статей ее знаменитого редактора. Но даже прикованный к постели, испытывавший мучительные страдания, Марат своим орлиным взором зорко следит за совершающимся в стране, ничто не уходит из поля его наблюдений. И короткими письмами в Конвент, Якобинскому обществу, сжатыми заметками в газете он помогает своим друзьям и братьям, он по-прежнему участвует в руководстве революцией и страной. Марат остается верен себе. Он не предается радостям по поводу одержанной над жирондистами победы, он рисует народу и Конвенту грозную опасность, нависшую над республикой, и указывает средства борьбы против нее. С присущей ему проницательностью разгадывая тайных недругов революции, он требует удаления с поста военного министра генерала Богарнэ; высказывает свое недоверие генералам Бирону и Кюстину; он обвиняет ряд депутатов Конвента, начиная с гибкого, изворотливого Барера, в недостатке энергии и твердости в борьбе против врагов. В ряде статей и в обращении к членам Конвента Марат бичует слабость, половинчатость, примирительность к жирондистам тогдашнего Комитета общественного спасения, возглавляемого Дантоном. Марат всегда относился к Дантону с большим уважением; он верил в его патриотизм, он ценил его революционную энергию, его талант трибуна. Но интересы революции были для него всегда выше личных симпатий или пристрастий. Он был, пожалуй, первым из якобинцев, кто увидел и сумел осознать, что Дантон после свержения Жиронды стал отклоняться вправо от потока революции. Марат, как и Робеспьер и Сен-Жюст, требовал смелого расширения и углубления революции, развязывания инициативы народа, революционного бесстрашия, непримиримости к врагам. Дантон, напротив, был обеспокоен размахом революции после победы народного восстания 31 мая — 2 июня, он готов был протянуть руку примирения побежденным жирондистам, смягчить ожесточенность борьбы, найти формы компромисса, притупляющие непримиримость классовой войны. Марат первоначально предостерегал против политики Дантона в общей и внешне безличной форме: «Недостаточные меры Комитета общественного спасения для сохранения отечества», «Недостаток энергии у Комитета общественного спасения», — писал он в заголовках своих статей. Но позже он стал называть Дантона по имени. «Лакруа и Дантон, — писал он в предпоследнем номере своей газеты, — …заслуживают серьезных упреков. Я льщу себя надеждой, что они не доведут до предела свое неблагоразумие…» И в этот период, как и раньше, Марат разделял не только доблесть и добродетели якобинских вождей, но и их ошибки и заблуждения. Он тоже принял участие в борьбе против «бешеных» — самой левой политической группировки во французской революции. Всею силой своего громадного авторитета он выступил против Жака Ру, Леклерка и Варле с необоснованными и неправильными обвинениями. Но не ошибки эти, которые были присущи Марату в такой же мере, ка# Робеспьеру, Кутону, Шометту и всем другим якобинцам, определили его место и роль в сознании народа, творящего революцию. Марат оставался для народа, в особенности для санкюлотов Парижа, самым любимым революционным вождем. Якобинское общество избрало его своим почетным председателем. В клубе Кордельеров его статьи из «Публициста Французской республики» читались вслух; не было другого революционного деятеля, который обладал бы у кордельеров таким непререкаемым авторитетом. 17 июня Марат поднялся; он пошел на заседание Конвента. Он надеялся напряжением воли одолеть, подчинить подтачивающую его болезнь. Но на ногах он удержался лишь два дня — болезнь оказалась сильнее его воли и снова свалила его. Марат не сдавался. Он продолжал работать; недуг был не в силах сломить его могучего организма, его кипучего темперамента. Он писал в постели. Затем он соорудил своеобразный рабочий стол. Поперек ванны была установлена широкая гладкая деревянная доска, на ней лежали листы чистой бумаги, книги, чернильница, гусиное перо, письма, газеты. Марат оставался на своем посту. Он погружался на несколько часов в ванну, заполненную доверху теплой водой, и это несколько смягчало невыносимый зуд; по крайней мере он мог, находясь в ванне, работать. «Публицист Французской республики» продолжал регулярно выходить каждый день. Затягивавшаяся болезнь Марата вселяла тревогу в сердца патриотов. Клуб Кордельеров постановил направить к нему делегацию; Марат встретил ее радушно, на прощание он сказал: «Буду ли я жить десятью годами больше или меньше — для меня совершенно безразлично. Мое единственное желание — это чтобы я мог при последнем вздохе сказать: «Я умираю довольным — отечество спасено». Эти слова свидетельствовали о том, что Марат был далек от мыслей о смерти, до спасения отечества надо было пройти еще долгий путь. 12 июля Марата посетила делегация клуба Якобинцев. Марат был тронут этим знаком внимания. Мор, докладывавший затем Якобинскому обществу об этом посещении, также высказал радужные надежды на улучшение состояния больного. Он произнес при этом знаменательные слова: «Это не простая болезнь… Это много патриотизма, сжатого, втиснутого в небольшое тело; неистовое напряжение патриотизма, возбуждаемого со всех сторон, его убивает». Он сообщил также, что якобинцы застали Марата работающим в ванне, всецело занятым заботами об общественном благе. Но в целом встреча со знаменитым трибуном настроила их оптимистически: они нашли своего прославленного собрата хотя и страдающим от недуга, но полным жизненной энергии. Эти посещения Марата в дни его болезни делегациями революционных обществ и клубов были трогательным проявлением народной любви к великому вождю революции. Но в той же мере, в какой широкие народные массы, простые люди, санкюлоты любили, ценили, глубоко чтили Марата как истинного друга народа, в той же мере все изменившие революции и народу, все перебежчики в стан контрреволюций — фейяны, лафайетисты, жирондисты и им подобные — его ненавидели, ненавидели яростно, неистово, исступленно. После 2 июня, когда вся «партия государственных людей» — все эти бриссо, роланы, гаде, барбару — из министров и парламентских вождей превратилась в беглецов, преследуемых народной ненавистью, их злоба против Марата превзошла всякие пределы. Он, избежавший всех их ударов, смеявшийся над ними, превративший суд над ним в свое торжество и посрамление Жиронды, — он вызывал у них бешеную ярость. И если для какого-нибудь Луве де Кувре, автора «Фоблаза», ставшего злобным врагом якобинизма, было достаточно чернил, чтобы разрядить душившую его ненависть в пасквилях против якобинских вождей, то для его партии, для жирондистов в целом, чернил было недостаточно: им нужна была кровь.
* * *
Лето было в разгаре. В субботу 13 июля был знойный, безветренный, душный день. С утра уже парило. Марат чувствовал себя плохо. Симонна распорядилась, чтобы к больному никого не пропускали. Ранним утром она подготовила ванну, соорудила над ней уже ставший привычным для Марата рабочий стол. Жан Поль опустился в прохладную воду. Как ни скверно он себя чувствовал, но надо было работать. Ему предстояло прочесть газеты и письма, только что вышедший номер «Публициста Французской республики», а главное — подготовить материал для завтрашнего, воскресного номера своей газеты. Превозмогая страдания, Марат работал. В одиннадцать, может быть, в полдвенадцатого дня сквозь раскрытое окно послышалось цоканье копыт по булыжной мостовой. Улица Кордельеров в эти утренние часы была тихой, безлюдной, поэтому каждый звук был отчетливо слышен. По-видимому, проезжала коляска. Стук копыт по мостовой приближался, затем он прекратился. Коляска остановилась у дома № 30. Молодая женщина показалась в дверях передней. Вышедшей к ней Симонне она сказала, что ей надо увидеть гражданина Марата; она должна сообщить ему весьма важные для него сведения. Симонна возразила, что видеть Марата нельзя, он настолько болен, что никто не может быть к нему допущен. Женщина настаивала, но Симонна осталась непреклонной. На повторные вопросы, когда же можно будет увидеть Марата, Симонна снова дала уклончивый ответ: он тяжело болен, и ничего определенного она не может сказать. Молодая женщина ушла. Марат продолжал работать. Он закончил составление воскресного номера своей газеты. Его главным содержанием были материалы, разоблачающие предательство генерала графа Кюстина. Марат поместил письмо, поступившее в Комитет общественного спасения, о Кюстине и свою собственную заметку, озаглавленную: «Кюстин — изменник отечества. Доказательства его вероломства. Необходимость его отстранения». Однако, по-видимому, Марат чувствовал себя в этот день настолько худо, что был не в состоянии написать статью так, как он ее задумал. Содержание заметки не соответствует ее заголовку. О Кюстине здесь говорится всего два-три слова; обещанных в заголовке статьи доказательств его вероломства нет вовсе. Основное содержание заметки составляют резко-критические суждения о Комитете общественного спасения. Более того: если внимательно вчитаться в текст заметки, то надо прийти к заключению, что она вся или по крайней мере большая часть ее была написана не в субботу 13 июля, а несколькими днями раньше. Резкие слова и справедливые упреки, адресованные Комитету общественного спасения, не оставляют сомнения в том, что Марат имеет в виду комитет в его старом составе. Между тем 10 июля Комитет общественного спасения был радикальным образом обновлен: Дантон и его сподвижники были устранены, в комитет были избраны мужественные патриоты, друзья Робеспьера — Сен-Жюст, Кутон и другие, о которых Марат отзывался всегда сочувственно. Остается предположить, что эта старая заметка, написанная до 10 июля, должна была послужить лишь началом, остальные Марат должен был написать. И в этот тяжелый, трудный для него день Марат продолжал работать до вечера. В половине восьмого ему передали доставленное почтой письмо. Оно было кратким: «Я из Кана. Ваша любовь к родине должна внушить вам желание узнать о замышленных там заговорах. Я жду вашего ответа». Едва лишь Марат успел задуматься над прочитанным, поговорить со своим верным другом — Симонной, как в дверь позвонили. Это было около восьми вечера. Привратница гражданка Пен открыла дверь и узнала в вошедшей ту же молодую женщину, которая приходила утром. Привратница повторила ей то же, что было сказано утром Симонной: Марат тяжело болен, беспокоить его нельзя. Но юная посетительница настаивала, ссылаясь на важность, на необходимость беседы с Маратом. Шум спорящих женских голосов донесся до слуха Марата. Перед его глазами было недавно прочитанное тревожное письмо. Он приказал впустить к нему посетительницу, так настойчиво добивавшуюся свидания. К Марату вошла девушка в темном платье, с большой косынкой, по тогдашней моде, на груди. Она держалась уверенно, спокойно, просто. У изголовья ванны, прикрытой покрывалом, сидела Симонна. Ей показалось нескромным оставаться при разговоре, касающемся важных государственных тайн, и она вышла из комнаты, оставив посетительницу наедине с Маратом. Девушка села на стул рядом с ванной, прямо против Марата. Она оставалась, как позднее в том призналась, совершенно спокойна. — Так что же происходит в Кане? — спросил Марат. — Там царствуют восемнадцать депутатов Конвента, действующих в согласии с департаментскими властями. — Вы можете их назвать по именам? Да, она могла их назвать. Она начала перечислять: Горса, Ларивьер, Бюзо, Барбару, Луве, Петион, Гаде, Салль и другие. Все это были жирондисты. Она не могла вспомнить лишь фамилии пятерых депутатов. Марат принялся записывать имена. По ее словам, он сказал в это время: «Они не избегут гильотины». Когда она вошла, когда она села напротив, когда между ними началась беседа, Марат своим пристальным, пронзительным взглядом смотрел в лицо, в глаза своей посетительницы. В ее лице ничто не дрогнуло, она выдержала этот взгляд. Взяв в руки перо, набрасывая бегло имена на бумаге, Марат должен был отвернуться на миг от своей собеседницы. И в это мгновение — счет времени шел на секунды, на доли секунд — быстрым, почти неуловимым движением женщина скользнула руками по платью; в ее руке был уже нож, и, поднявшись, она с силой по рукоятку вонзила его в открытую грудь Марата. «Ко мне, моя дорогая, ко мне!» — крикнул громко Марат, и голос его сразу же оборвался: он был сражен; кровь хлынула из раны ручьем. Симонна, услышав этот ужасающий хриплый вскрик, сразу же поняла его страшное значение. «А! Мой бог! Его убили!» — закричала она, и ее голос поднял на ноги весь дом. В ту же минуту она увидела, как молодая женщина с бледным лицом, выбежав из ванны, стремительно бросилась к двери. Жанетта Марешаль и Лоран Ба, типографский рабочий, преградили ей путь и вместе с Симонной повалили убийцу на пол; затем Симонна кинулась к мужу. Марат был мертв. Правая рука Марата с белым гусиным пером в сжатых пальцах бессильно свисала на пол. Марат лежал, откинувшись на покрытую белой простыней спинку ванны. Голова немного склонилась набок, из-под белой повязки выбивались пряди черных, гладких, слипшихся волос. Под черными волосами лицо казалось изжелта-белого цвета. Глаза были полуприкрыты тяжелыми веками, могло казаться, что взгляд еще скользил куда-то вниз. Губы были разомкнуты. Может быть, оттого, что глаза и рот были полураскрыты, в этом желто-белом лице, выражавшем неизъяснимую муку, было что-то детское и беспомощное. Таким был мертвый Марат, как его запечатлела кисть Давида. Квартира сразу заполнилась народом из соседних домов по улице Кордельеров; мужчины, вооружаясь на ходу чем попало, женщины, потрясенные горем, подростки, дети — все опешили к дому, где совершилось ужасное убийство. Узкая улица в короткий срок оказалась запруженной толпами санкюлотов. Подобно кругам по воде от брошенного камня, страшная весть мгновенно разнеслась по окрестным улицам, она потрясла Париж, она повсюду вселяла горе, смятение, гнев. Полицейский комиссар секции французского театра Гейяр, с трудом пробравшийся сквозь толпу в дом Марата, едва сумел предотвратить расправу разгневанных людей над убийцей Друга народа. Под усиленной охраной она была доставлена и помещена в Тюрьму Аббатства; с нее был снят допрос. Женщина, убившая Марата, именовалась Шарлоттой Корде. Ее полное имя было Мария Анна Шарлотта де Корде. Ей было 24 года и 11 месяцев. Она родилась в Сен-Сатюрнен де Линьерне, в родовитой, но обедневшей дворянской семье, была внучкой Корнеля, воспитывалась в аристократическом женском монастыре, затем большую часть времени жила в городе Кане. Эта девушка с сильным характером с детских лет мечтала в одиночестве о яркой жизни, о большом подвиге. Она грезила о великих свершениях, перед ее глазами стояла тень Жанны Д’Арк. Хотя она и говорила позднее, на суде, что росла республиканкой, но верить этому было нельзя; по своему воспитанию, по убеждениям она была роялисткой. Революция, развертывавшаяся в своем великом размахе, вызывала у нее ужас. Она находилась под влиянием Бугон-Лонгре, генерального прокурора департамента, жирондиста, после 2 июня пошедшего с оружием в руках против Парижа. По-видимому, их связывали и любовь и общность взглядов. Когда в Кан приехали бежавшие из-нод ареста жирондистские депутаты, она жадно внимала их воспламененному яростью красноречию, их подстрекательские речи она принимала за голос оскорбленной справедливости. Чаще, чем с другими, она встречалась с Барбару; в тюрьме она написала ему письмо. На следствии и на суде она давала откровенные показания. Она спокойно рассказала о том, что приехала в Париж с единственной целью — убить Марата. Утром 13 июля она поехала в Пале-Рояль и купила там нож — столовый нож в чехле, с черной ручкой, обыкновенных размеров, стоимостью сорок су. Когда ее спросили, как она убила Марата, она так же бесстрастно ответила: — Я убила его ножом, купленным в Пале-Рояле. Я вонзила его ему в грудь. — Когда вы наносили удар, хотели ли вы убить? — Да, таково было мое намерение. На вопрос о том, почему она убила Марата, Шарлотта Корде отвечала: — Я знала, что он губит Францию. Я убила одного человека для спасения ста тысяч других. Кроме того, он скупал серебро. В Кане задержали одного человека, который покупал для него серебро. Ее наивные ответы показывали, что она принимала все слышанное на веру. Она отрицала, что у нее были сообщники. В своей простоте она не понимала, что была лишь слепым орудием, послушной исполнительницей чужой и злой воли, незримо направлявшей все ее действия. Еще за полгода до своей гибели Марат в статье против клики Бриссо — Гаде пророчески предупреждал: «Если я паду под ударами убийц, в руках друзей отечества будет нить; она приведет их к источнику». От ножа Шарлотты Корде нить вела к старым беспощадным врагам Марата — к мятежному контрреволюционному подполью неистовой в своей ненависти Жиронды.
* * *
Весть о гибели Марата распространилась еще вечером 13 июля в Париже. Горе и ярость объяли население столицы. Люди покидали дома, выходили на улицы, собирались группами. Товарищи в великой борьбе, они ощутили потребность стать ближе друг к другу, почувствовать тепло дружеской руки в час общей скорби. 14 июля было воскресенье. Газетчики на улицах продавали «Публицист Французской республики, издаваемый Маратом, Другом народа, депутатом Конвента». Марат был убит, но его голос еще продолжал звучать. Ах, если бы Марат мог увидеть, с каким нетерпением, с какой жадностью люди раскупали в это утро его газету! Эти пахнущие типографской краской влажные серо-желтые листы, казалось, сохраняли еще тепло дыхания Друга народа. Газетчики выкрикивали: «Купите газету Марата!», «Последний номер газеты Друга народа!», «Последняя статья Марата!», «В последний раз!», «В последний раз!» И эти простые слова: «В последний раз!», доходя до сознания, ранили сердца. 14 июля была годовщина взятия Бастилии, но народное горе заслонило и стерло праздник. Утром, несмотря на воскресный день, открылось заседание Якобинского общества. Лорана Ба заставили рассказать все ему известное, до мельчайших подробностей, о страшной гибели великого собрата якобинцев. Гнев и скорбь господствовали на этом собрании якобинцев, гнев против жирондистов, против презренной клики сообщников Бриссо, поразивших кинжалом самого чистого, самого благородного сына Франции. От народных клубов Парижа, от дочерних филиалов Якобинского общества один за другим поступали адреса, дышавшие чувством гнева; они звали к сплочению всех патриотов, к отпору врагам революции. В понедельник утром открылось заседание Национального Конвента. Зал, галереи, проходы — все было заполнено людьми. Председатель Конвента Жан Бон Сент-Андре поднялся со своего кресла. В зале наступила полная тишина. «Граждане, — сказал он, — великое преступление совершено против представителя народа: Марат убит в своем доме». Все уже знали о страшном злодеянии 13 июля. Но зал еще раз вздрогнул, и сдерживаемый ропот пробежал по его рядам, когда вновь были услышаны слова правды без прикрас. Депутации секции Пантеона, секции Общественного договора, секции Кордельеров требовали величайших почестей погибшему Другу народа, жестокой, беспощадной кары его убийцам. Народ и депутаты Конвента требовали отмщения. «Над нами занесен убийцами кинжал! Усилим насколько возможно нашу политическую деятельность!» — воскликнул депутат Конвента якобинец Рене Левассер. Прах Марата по настойчивой просьбе клуба Кордельеров был помещен в церковь, где проходили заседания клуба. Гроб Марата был установлен на постаменте, к которому вели сорок ступеней, покрытых трехцветными знаменами. 16 июля, во вторник, в пять часов вечера, Париж, Франция провожали Друга народа. Весь Конвент в полном составе, Коммуна Парижа, Общество якобинцев, клуб Кордельеров, народные общества, несметные толпы народа, солдаты республиканских армий, санкюлоты предместий — весь Париж революции со склоненными знаменами шел за гробом Друга народа, провожая его в последний путь. Марат был похоронен в саду Кордельеров, под шелестящей зеленою листвой деревьев. На могильной насыпи был воздвигнут памятник — нагромождение камней, изображающих гранитный утес — символ несокрушимой твердости Друга народа, выдержавшей все удары грозы контрреволюции. На большом могильном камне были высечены простые слова: «Здесь покоится Марат, Друг народа, убитый врагами народа 13 июля 1793». Весь долгий вечер, до часу ночи, со склоненными знаменами, с непокрытыми головами, в скорбном молчании проходили делегации революционных организаций Парижа мимо могильного холма, где под камнями покоился прах Марата. И после того как торжественная церемония прощания закончилась, еще всю ночь приходили к могиле Марата озаренные колеблющимся светом факелов простые люди, рядовые бойцы великого города революции. Позднее в здании Конвента была выставлена картина знаменитого художника Луи Давида «Смерть Марата». «Я писал ее сердцем», — говорил о ней Давид. Солдаты республиканской армии, уходившие на фронт, приходили и подолгу смотрели на картину художника. Скорбное величие строгой простоты этой картины потрясало сердце. В руке, сжимавшей листок бумаги, еще чувствовалось уходящее тепло только что оборванной жизни. Марат был глубоко человечен и в то же время представал как символ революции, символ отечества, пораженного кинжалом врагов. Картина звала к возмездию. Жан Поль Марат, доктор Марат, одинокий обитатель уединенного кабинета ученого на улице Старой голубятни, сочинитель научных трактатов, знаменитый публицист, депутат Конвента, неустрашимый вождь революции кончил свою жизнь; он перешел в историю. Теперь начиналась посмертная слава Марата, Друга народа, великого революционера восемнадцатого столетия.

Когда Марат был убит, вся революционная Франция восприняла его гибель как великое бедствие. Марат стал отныне самым любимым, мученически погибшим народным героем революционной Франции. Бюсты и другие изображения Друга народа украшали все общественные здания республики — от строгого зала Конвента до какой-нибудь маленькой хижины в глухой, затерявшейся в лесах деревушки, где собирались несколько членов местного революционного комитета. Ораторы, всходившие на трибуну собрания, чтобы высказать свои мысли и заботы о революции, начинали свое слово с обращения к памяти Друга народа. Позднее его прах был перенесен в Пантеон. Но в то же время сначала келейно, в тиши, шепотком, тайные недруги революции со скорбным сочувствием говорили о Шарлотте Корде — убийце Марата, казненной по приговору Революционного трибунала. Потом, после термидора, после «слепой амнистии», распахнувшей двери тюрем всем врагам революции, уже заговорили о том же громче и увереннее. Прошло еще несколько месяцев, и в начале 1795 года останки Марата были выброшены из Пантеона, а скульптурные изображения Друга народа,украшавшие дотоле здания общественных учреждений, были разбиты вдребезги бандами «золотой молодежи». С тех пор имя Марата было вычеркнуто из летописей французской национальной славы. Больше того, оно было предано хуле и поношению; его обливали грязью, возводили на него самую невероятную клевету. Все чудовищные обвинения, которые с такой изобретательностью измышлялись врагами Марата при его жизни, чтобы подвести его под гильотину, даже после того, как Марат был убит, сохранили свою живучесть. Из партийных и фракционных газет, брошюр, листовок эпохи революции и контрреволюции эта клевета перешла в мемуарную литературу, а отсюда, наслаиваясь новыми лживыми домыслами и легендами, порожденными мстительным воображением, — в дворянскую и буржуазную историографию. Хулить и поносить последними словами Марата, изображать его воплощением всех людских пороков и самых низменных страстей стало трюизмом, признаком хорошего тона. Это даже перестало быть привилегией французских историков; со времени Лоренца Штейна, третировавшего Марата как мелкого завистника, и Карлейля, издевавшегося над французским революционным вождем, немецкие и английские историки стали с успехом соперничать с французскими в глумлении над его памятью. Миновало столетие, прошло полтора с лишним века после смерти Марата, а ненависть, чернившая его память, искажавшая до неузнаваемости мстительной ложью, злобным вымыслом его подлинный облик, передаваясь от поколения к поколению господствующих классов, не остывала, сохраняла все тот же накал. Но народ не мог забыть великого политического борца, которого он называл своим другом. Память о Марате жила в сознании революционных бойцов следующих поколений. Историческая роль Марата была высоко оценена великими творцами освободительной теории рабочего класса — Марксом и Энгельсом. Фридрих Энгельс в статье «Маркс и Новая Рейнская газета» писал: «Когда впоследствии я прочел книгу Бужара о Марате, я увидел, что мы бессознательно подражали во многих отношениях великому образу подлинного (не фальсифицированного роялистами) «Друга народа» и что все яростные вопли и вся фальсификация истории, исказившие на целых сто лет истинный облик Марата, объясняются только тем, что он безжалостно совлек покрывало с тогдашних кумиров — Лафайета, Байи и других, разоблачив в них уже готовых изменников революции и тем еще, что подобно нам он не считал революцию завершенной, а хотел сделать ее перманентной»10. Великий Ленин высоко ценил замечательного французского революционера восемнадцатого столетия. В великой стране социализма, в СССР, имя Марата пользуется наибольшим почетом. Его сочинения неоднократно издавались у нас; в последний раз, в 1956 году, вышли его «Избранные произведения» в трех томах. Именем Марата названы улицы многих городов Страны Советов. В городе Ленина улица, носившая ранее имя двух русских императоров — Николаевская улица, со времени Великой Октябрьской социалистической революции именуется улицей Марата. В Москве одна из улиц носит имя Марата. Его именем был назван один из первых военных кораблей, охранявших границы Советской республики, ряд фабрик и заводов. Но Марат живет не только в своих книгах и мемориальных памятниках. Он живет в делах. Его жизненный путь стал примером для многих поколений революционных борцов. Его имя стало партийным псевдонимом крупных деятелей большевистской партии. Комсомольцы двадцатых годов, уходившие на фронты гражданской войны, называли своих сыновей именем бесстрашного французского революционера; они учились у него революционной смелости, непримиримости к врагу; они хотели, чтобы и их сыновья восприняли те же гражданские доблести. Но политическое наследие Марата имеет и более общую ценность, в особенности для французского народа, для его авангарда. Вскоре после того, как была создана Французская Коммунистическая партия — первая подлинно революционная партия французского пролетариата, наследница и продолжательница лучших революционных традиций французского народа, Поль Вайян-Кутюрье, один из делегатов Французской компартии на III конгрессе Коммунистического Интернационала, встретился с Владимиром Ильичем Лениным. Вайян-Кутюрье — поэт и журналист, фронтовик, пришедший к коммунистическому движению из окопов первой мировой войны и с первых же дней создания партии ставший одним из самых верных ее сынов, засыпал Ленина вопросами. Партия была молода, она не освободилась от многих слабостей и недостатков прошлых этапов французского рабочего движения, ей предстояло преодолеть множество трудностей. Беседа, естественно, охватила множество самых разных проблем: о задачах партии, о крестьянстве, о революционных традициях, о Великой французской революции XVIII века. В конце беседы, заключая ее, величайший из всех революционных вождей — Ленин сказал молодому французскому коммунисту: «Хорошенько изучайте Жана Поля Марата». Этими словами сказано очень многое. Революционный вождь восемнадцатого столетия, полный непреклонной решимости, бесстрашия, устремленный вперед так, как его запечатлел художник на старинной гравюре, — он протягивает руку с трибуны Конвента к последующим поколениям революционных борцов. Голос его из далекого прошлого доносится и до нашего времени. Так пришла пора второй, посмертной славы Жана Поля Марата, Друга народа.
* * *
Марат прожил неполный человеческий век. Он был убит вероломно, в своем доме, рукой, направленной политическими врагами, когда ему не минуло ещё пятидесяти лет. За свою полувековую жизнь и в особенности за последние пять лет этой жизни, пять лет революции, он обрел миллионы друзей и немало врагов. Марат вошел в историю своей страны, в историю передового человечества со славным именем Друг народа. Это великое имя, почетнее которого трудно найти, не было, конечно, никем декретировано. Марат вступил в революцию, не имея за плечами крыльев славы, подобно, скажем, маркизу Лафайету — «герою Нового Света», в двадцать с небольшим лет ставшему генералом армии американской революции. У него не было и громкой известности Мирабо и его поразительного ораторского дара, приковывавшего к нему внимание страны с первых его выступлений в Генеральных штатах. Короче говоря, Марату не было подготовлено место в первых рядах революционных деятелей. Он вошел в революцию почти незамеченным и не занимал никаких парадных или даже официальных постов; лишь в последний год своей жизни он стал депутатом Конвента. Единственным оружием Марата было перо. Но он так владел этим оружием, что прошло лишь два-три года, и имя Марата стало одним из самых известных в стране и Европе, самым любимым и чтимым в народе, самым ненавистным для врагов новой Франции. Он стал одним из руководителей партии якобинцев, одним из вождей революции, он стал самим голосом революции. Воспитанный, как и большинство якобинцев, на идеях Руссо, Марат отнюдь не был слепым последователем знаменитого автора «Общественного договора». Он представлял более позднее поколение, выросшее в ту пору, когда, революционная буря уже почти вплотную надвинулась на Францию. Обогащенный многосторонним жизненным опытом, наблюдениями над общественной жизнью во всех ее социальных разрезах, впечатлениями промышленной революции в Англии, Марат пошел во многом дальше Руссо. Оригинальный социальный мыслитель, Марат при всей противоречивости своих взглядов сумел уже в своих первых социально-политических произведениях («Цепи рабства», «План уголовного законодательства» и др.) прийти к пониманию, хотя, конечно, и неотчетливому, значения общественных противоречий в историческом процессе и к смелым революционным выводам. Переход к революционной практике был подготовлен для Марата всем его предшествующим идейным развитием. Ученый и теоретик, он стал с первых дней революции народным трибуном, выразителем и защитником интересов народа, непримиримым борцом против сил реакции, против тайных изменников, против колеблющихся и двоедушных. Он был выдающимся мастером революционной тактики. В острых, нередко кончавшихся гильотиной спорах линия, отстаивавшаяся Маратом, обычно наиболее соответствовала интересам революции. Объективно эта линия намечала пути разрешения задач буржуазной революции плебейскими методами. Марат чувствовал и понимал чаяния широких масс народа, понимал их интересы в развертывавшейся великой социальной и политической борьбе; это и придавало силу политической позиции, которую он защищал. Марат был великим патриотом в том возвышенном и глубоком понимании этого слова, которое объединяло в ту эпоху как нечто неразрывное целое и преданность родине и преданность революции. Лично для себя он не искал в революции ничего: он отдавал целиком, без остатка все свои силы, талант, разум, страсть служению своему народу, своей родине и революции. Марат был великим гуманистом. Он прожил трудную жизнь — скитальческую, полную лишений, неустроенную. При его талантах, при его знаниях, при его положении — у него было большое имя ученого в Европе — он мог без труда обеспечить себе довольство, богатство, почести, легкую ровную жизнь всеми почитаемого мастера науки. Но он был равнодушен к благам жизни. Его не прельщали ни деньги, ни почести, ни слава. Великий революционер, он постиг ту жестокую истину, что путь к освобождению народа проходит не через усеянные розами сады, а через суровое поле битв, кровавых сражений. Убежденный в истинности избранного им пути, он стал неуязвим для врагов. Его нельзя было ни подкупить, ни застращать. Он любил жизнь, единственную и неповторимую, которая дарована природой человеку, но он рано понял, что, встав на путь борьбы, ему не избежать вражеских ударов, и смерть его не страшила. Его руки были чисты, он оставался беден и свободен; он никого и ничего не боялся, и он шел своей дорогой, смело говоря, что ему подсказывала совесть, что требовали, по его мнению, интересы народа. Политические враги Марата при жизни, а затем их духовные потомки постоянно обвиняли Марата в жестокости, кровожадности. Все это черная клевета. Марат был непримирим к врагам, но он был всегда воодушевлен высокими чувствами человечности, благородной заботой о благе человечества; он боролся ради того, чтобы людям жилось лучше. Уже более ста лет тому назад наш великий Виссарион Белинский замечательно сказал: «Я понял… кровавую любовь Марата к свободе… я начинаю любить человечество по-маратовски». Белинский понял и оценил гуманизм великого французского революционера. Марат был политическим писателем большого и яркого литературного дарования. Его манере были присущи строгая простота и в то же время, как ни парадоксальным кажется это сочетание, какая-то торжественная патетичность. Его речь была ораторски приподнята; она была всегда взволнованна, эмоциональна; чаще всего она была облечена в форму обращения от первого лица к широкой аудитории слушателей. Марат в совершенстве владел и язвительным сарказмом, и тонкой иронией, и презрительной насмешкой, и гневным прямым обличением. Литературный стиль Друга народа был в равной мере далек и от легкого искрящегося остроумия и изящества письма Камилла Демулена и от нарочито грубого, подделывающегося под псевдонародный лубочный стиль площадного языка «Пер Дюшина» Эбера. Марат писал великолепным французским языком — выразительным, красочным, гибким; его мысль была выражена всегда ясно и точно; его стиль был пластичен, монументален и патетичен. В произведениях Марата их внутреннее содержание и облекающая его форма находились в полном гармоническом соответствии. В истории политической литературы нового времени Марат остался величайшим публицистом восемнадцатого столетия. И теперь, почти двести лет спустя, перечитывая статьи, речи, памфлеты Марата, читатель наших дней не только постигает политические идеи великого революционера восемнадцатого века — он вовлекается в далекий мир ожесточенных классовых битв, двигавших вперед развитие французского общества, он чувствует биение пульса больших страстей, взволнованное дыхание движущихся многомиллионных народных масс, живой трепет эпохи, как бы застывшей в строках, вышедших из-под пера Друга народа.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖАНА ПОЛЯ МАРАТА
1743, 24 мая — Жан Поль Марат родился в городке Будри кантона Невшатель, в Швейцарии. 1754 — Семья Маратов переезжает в Невшатель. 1759 — Жан Поль Марат переезжает в Бордо; работает воспитателем у негоцианта Нерака. 1762 — Жан Поль Марат поселяется в Париже; занятия естественными и философскими науками. 1765–1776 — Марат в Англии; занятия медициной, естественными и философскими науками. Около 1769 — В Лондоне выходит первая книга Марата «Об одной глазной болезни». Около 1770 — Марат заканчивает роман «Польские письма», оставшийся неопубликованным. 1770–1775 — Марат работает над научно-философским сочинением «О человеке» 1773 — В Лондоне на английском языке выходит двухтомное сочинение Марата «О человеке». 1774 — В Лондоне на английском языке выходит первое политическое сочинение Марата «Цепи рабства». 1775 — Эдинбургский университет Святого Эндрьюса присуждает Марату высшую ученую степень — доктора медицины. 1775 — В Амстердаме на французском языке выходят три тома сочинения Марата «О человеке». 1776 — Марат на несколько месяцев приезжает во Францию; в конце года окончательно переезжает в Париж и поселяется на улице Старой голубятни. 1777–1789 — Марат работает как ученый физик и медик; имеет большую медицинскую практику в Париже. 1779–1786—Марат состоит на службе врачом при дворе брата короля графа Д’Артуа. 1779 — В Париже опубликован труд Марата «Об огне, электричестве и свете». 1780 — В Невшателе издана работа Марата «План уголовного законодательства». 1780–1788 — Публикуется ряд работ Марата по физике и оптике. 1783 — Переговоры о приглашении Марата президентом Мадридской Академии наук. 1788 — Выход из печати Собрания научных сочинений Марата («Академические мемуары»). 1789, февраль — Политическое сочинение Марата «Дар отечеству». Апрель — Публикация «Дополнения к «Дару отечеству». 1789, 14 июля — Взятие Бастилии. Начало Великой французской буржуазной революции. 1789, июль — Марат полностью порывает со своими занятиями ученого и целиком посвящает себя «науке политики». 1789, август — Марат опубликовывает свой проект Декларации прав и конституции. 1789, сентябрь 9 — Выходит первый номер газеты Марата «Парижский публицист»; 16-го — газета меняет название на «Друг народа». 1789 — Марат принимает участие в народном движении 5–6 октября. Первое постановление об аресте Марата; Марат скрывается; с 8 октября по 5 ноября «Друг народа» не выходит. 1790, январь — Вторая попытка ареста Марата; он уезжает в Англию. Памфлеты Марата против Неккера. 1790, май — Марат возвращается во Францию и возобновляет издание «Друга народа». 1790, июль — Новые преследования Марата. Марат ведет борьбу из подполья. 1790 — Выступления против Мирабо, Лафайета и антидемократической политики Учредительного собрания. 1790 — Знакомство и сближение с Симонной Эврар. 1791 — Марат из подполья продолжает борьбу против господствующей партии конституционалистов. 1791, декабрь—1792, март — Марат вынужден скрываться в Англии. 1792, апрель — Возобновление издания «Друга народа». Начало борьбы Марата против жирондистов. 1792, июль — август — Марат участвует в подготовке народного восстания 10 августа, свергнувшего монархию. Марат избирается членом Наблюдательного комитета Коммуны. После свержения монархии Марат выходит из подполья. Борьба против Законодательного собрания. Сентябрь — Марат в числе других якобинцев избирается депутатом Конвента от Парижа. 21 сентября — Открытие Национального Конвента. Марат изменяет название своей газеты: «Газета Французской республики». «Новый курс» Марата — призыв к сплочению всех сил. 25 сентября — Атака жирондистов в Конвенте против Марата; попытка предать его суду. Поражение жирондистов. Возобновление борьбы Марата против жирондистов. 1792, ноябрь—1793, январь — Процесс над Людовиком XVI; выступления Марата в связи с процессом короля и разоблачения Жиронды. 1793, март — Марат вынужден дать новое название своей газете; «Публицист Французской республики». Измена Дюмурье и разоблачение Маратом связи жирондистов с Дюмурье. 1793, 5 апреля — Избрание Марата президентом Якобинского общества. 12 апреля — Жирондисты проводят в Конвенте решение о предании Марата суду., Протесты демократических организаций против суда над Другом народа. 24 апреля — Суд над Маратом, оправдание его и триумфальное возвращение в Конвент. 31 мая—2 июня — Народное восстание против Жиронды; Марат деятельно участвует в руководстве восстанием. Июнь — июль — Болезнь Марата. Его письма Конвенту и Якобинскому обществу. 13 июля — Убийство Марата Шарлоттой Корде.КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
I. Основные издания сочинений Жана Поля Марата
Жан Поль Марат, Избранные произведения, т. I–III, Академия наук СССР. Составители В. П. Волгин и А. 3. Манфред, перевод С. В. Кана и В. М. Далина, вступит, статья А. 3. Манфреда, комментарии В. М. Далина, ответств. редактор акад. В. П. Волгин, М., 1956. Жан Поль Марат, Памфлеты. Составитель Ц. Фридлянд, М., 1933. Марат, Письма 1776–1793. Перев. под ред. А. К. Дживелегова, М., 1923. Vеllау, Les pamphlets de Marat. Paris, 1911.,The Chains o! Slavery". London, 1774. „De l'homme on des principes et des lois le l’influence de l’ame sur le corps et ducorps sur l’ame“, 1—111, Amsterdam, 1775. Plan de législation criminelle". Paris, 1790 (1-е издание 1780). Marat, Recherches physiques sur le feu“. Paris, 1780. Oeuvres de m. Marat, Mémoires académiques, Paris, 1788. „Offrande à la patrie" et,Supplément a l’offrande à la Patrie".,L’Ami du peuple", 1789–1792. Paris, 1789. „Journal de la République française*, 1792–1793. Le Publlciste de la République française", 1793.II. Литература о Марате
В. П. Волгин, акад., Марат. В книге: «Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в.», М., 1958, стр. 256–273. Е. В. Тарле, Жан Поль Марат, Друг народа, Соч., т. VI, стр. 261–291. А. 3. Манфред, Жан Поль Марат, Друг народа. В книге: «Очерки истории Франции XVIII–XX вв.», М., 1961, стр. 9—58. Г. Г. Солтановская, Тактика Ж. П. Марата в период деятельности Законодательного собрания и борьба народных масс за свержение монархии во «Французском ежегоднике», 1959, М., 1961, стр. 121–155. Ц. Фридлянд, Жан Поль Марат и гражданская война XVIII в., 2-е изд., М., 1959. Bougeart, Jean Paul Marat, ami du peuple, v. 1–2. Paris, 1865. A. Cabanes, Marat inconnu, Paris, 1911. T. Chèvremont, Jean Paul Marat, esprit politique, v. 1–2, Paris, 1880. P. Corn pt on, Marat, London, 1935. L. Gottschalk, Jean Paul Marat, New-Vork, 1927. G. Marfln, Marat, l’oeil et l’ami du peuple. Paris, 1938. J. Massln, Marat, Paris, 1961. G. Walter, Marat, Paris, 1933.ИЛЛЮСТРАЦИИ
 Марат. Портрет неизвестного художника. Собрание Карнавале.
Марат. Портрет неизвестного художника. Собрание Карнавале.
 Дом, в котором родился Марат.
Дом, в котором родился Марат.
 «Открытие Генеральных штатов в Версале 5 мая 1789 года». С картины Кудэ (Версальский музей).
«Открытие Генеральных штатов в Версале 5 мая 1789 года». С картины Кудэ (Версальский музей).
 «События на площади Людовика XV 12 июля 1789». Гравюра Берто по рисунку Приера.
«События на площади Людовика XV 12 июля 1789». Гравюра Берто по рисунку Приера.
 Титульный лист английского издания «Цепей рабства».
Титульный лист английского издания «Цепей рабства».
 «Приезд короля в Париж 6 октября 1789 года». Гравюра Берто.
«Приезд короля в Париж 6 октября 1789 года». Гравюра Берто.
 «Возвращение королевской семьи в Париж 6 октября» (современная гравюра).
«Возвращение королевской семьи в Париж 6 октября» (современная гравюра).
 «Роже де Лиль поет впервые «Марсельезу» у мэра Страсбурга Д. Дитриха». По картине де Пиля (Лувр).
«Роже де Лиль поет впервые «Марсельезу» у мэра Страсбурга Д. Дитриха». По картине де Пиля (Лувр).
 Первая страница книги «Новые разоблачения Марата».
Первая страница книги «Новые разоблачения Марата».
 «Арест короля в Варенне 21 июня 1791 года». По гравюре М. Бови.
«Арест короля в Варенне 21 июня 1791 года». По гравюре М. Бови.
 «Марат в подполье». Иллюстрация из старинного издания.
«Марат в подполье». Иллюстрация из старинного издания.
 «Взятие Тюильри 10 августа 1792 года». Картина Дюплесси-Берто (Версаль).
«Взятие Тюильри 10 августа 1792 года». Картина Дюплесси-Берто (Версаль).
 «10 августа 1792 года». Гравюра Хельмана по рисунку Моннэ,
«10 августа 1792 года». Гравюра Хельмана по рисунку Моннэ,
 «Война». Скульптура де Рюда.,
«Война». Скульптура де Рюда.,
 «Журнал Французской республики Марата, Друга народа, депутата Национального Конвента»,
«Журнал Французской республики Марата, Друга народа, депутата Национального Конвента»,
 «Битва при Вальми 20 сентября 1792 года». Литография Белланже.
«Битва при Вальми 20 сентября 1792 года». Литография Белланже.
 Жан Поль Марат. Восковой барельеф неизвестного художника. XVIII век.
Жан Поль Марат. Восковой барельеф неизвестного художника. XVIII век.
 Дантон. С картины неизвестного художника. Собрание Карнавале.
Дантон. С картины неизвестного художника. Собрание Карнавале.
 «Квартира Марата». Гравюра неизвестного автора.
«Квартира Марата». Гравюра неизвестного автора.
 «Убийство Марата». Гравюра Винкелоса по рисунку Бриона.
«Убийство Марата». Гравюра Винкелоса по рисунку Бриона.
 Шарлотта Корде. Карандашный рисунок 1793 года. Коллекция Карнавале.
Шарлотта Корде. Карандашный рисунок 1793 года. Коллекция Карнавале.
 Декрет Национального Конвента о похоронах Марата.
Декрет Национального Конвента о похоронах Марата.
Последние комментарии
5 часов 40 минут назад
21 часов 44 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
3 дней 13 часов назад
3 дней 17 часов назад