Щепкин [Виталий Иванович Ивашнев] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Виталий Ивашнев ЩЕПКИН
В России любят театр, любят страстно… Театр имеет для нашего общества какую-то непобедимую, фантастическую прелесть…В. Г. Белинский
ЭХО ОТЗВУЧАВШИХ ЭПОХ (Вместо вступления)
«Из всех художников художник-актер, без сомнения, производит самое сильное, живое впечатление; но зато и самое непрочное… Актер не оставляет свидетельства своего таланта, хотя разделяет творчество с драматическим писателем: ни картина, ни статуя, ни слово, увековеченное печатью, не служит памятником его художественной деятельности» — эти слова написаны Сергеем Тимофеевичем Аксаковым и прозвучали на чествовании великого русского артиста Михаила Семеновича Щепкина по случаю пятидесятилетия его беззаветного служения театру. Еще категоричнее звучат откровения Виссариона Григорьевича Белинского: «Сценическое искусство есть искусство неблагодарное, потому что оно живет только в минуту творчества и, могущественно действуя на душу в настоящем, оно неуловимо в прошедшем…» Да, для того чтобы судить о писателе, художнике, композиторе, об уровне их дарования, достоинствах их произведений, достаточно прочесть книгу, увидеть картину или раскрыть нотную тетрадь. Это можно сделать сегодня, как и через десятилетия, века, тысячелетия. И все равно — писатель, художник, композитор — вот они перед нами во всем их прежнем и всегда свежем обличье, с неизменным слогом, стилем, художественной образностью, строем мысли, глубиной чувств — смотрите, слушайте, постигайте, проникайте в их сокровенные, еще не раскрытые тайны. Более того, настоящая ценность их произведений, как и самих творцов, нередко открывается лишь с течением продолжительного времени и даже веков. Примеров тому история искусств знает множество, когда неоцененные современниками иные мастера становились великими у их потомков. Как это случилось, к примеру, с великими Моцартом, Кипренским или Саврасовым. С искусством театра не так. Не оцененные современниками, не удостоившиеся внимания критиков, не зафиксированные в живых отзывах и описаниях, отчетах и рецензиях, самые великие откровения, неповторимые взлеты души актера растворяются в сиюминутности жизни, не оставляя для будущих поколений подчас и следа их былого успеха, их самых высоких созданий. Не только через века, уже в следующее мгновение актер — другой, неповторимый, как сама жизнь, меняющийся в зависимости от его настроения, внутреннего состояния, настроения зрительного зала. Как, какими самыми совершенными средствами, записывающими и передающими устройствами зафиксировать то, что в постоянном движении, видоизменении, в непрерывности? Как зафиксировать течение воды, пробуждение стихии, рождение мысли? Как воспроизвести эхо прогремевшего некогда грома или сияние давно погасшей звезды? А всякая роль, исполненная актером, — это уже отголосок свершившегося, порыв пережитого невозвратного душевного волнения. Так что же, отступиться? Склониться перед невозможностью остановить мгновение, заглянуть в прошлое? Согласиться с неизбежностью забвения? Аксаков и Белинский сами и отвечают на ими же поставленный вопрос. «Потому о художнике-актере надобно более писать, чем о художниках другого рода, которые своими созданиями говорят сами о себе даже отдаленному потомству. Да сохранится же по крайней мере благородное имя сценического художника в истории искусства и литературы, — почти патетически восклицает Сергей Тимофеевич в заключение своей приветственной речи, — да сохранится память уважения к нему признательных современников!» А чтобы труд рецензента не был бесполезным, предупреждает будущего критика Виссарион Григорьевич, для этого ему самому надобно «сделаться поэтом… иметь душу вулканическую и страстную и не только способную в высшей степени страдать и любить, но и заставлять других страдать и любить…». Не лучшим ли тому примером были они сами, авторы этих напутственных слов?! Действительно, искусство актера не оставляет по себе «вековечных памятников». Не успевает актер сойти со сцены, «как уже след его деятельности исчезает, и для будущих поколений остается лишь звук имени да темные предания». Все вроде бы так, что и дает основания считать труд актера в этом отношении «неблагодарным», а самого властелина сцены обиженным перед художниками, избравшими другие виды искусств. И все же всякие суждения о долговечности художественных произведений относительны. Не только искусство актера не оставляет по себе «вековечных памятников». Любое творение художника хрупко. Еще в прошлом веке историк заметил, что время «съедает» металл и камень. «Где краски Апеллеса, где мрамор Фидия?» — обращался он к современникам. Сегодня этот процесс разрушения металла и камня, существовавших тысячелетиями и считавшихся вечными, совершается на наших глазах, вызывая небезосновательную тревогу за сохранение многих величайших произведений искусства. Стало быть, «вековечность» не в сохранности произведения искусства, не в стойкости материала, из которого оно создано, а в том, какой отзвук в сердцах и сознании нашло оно у современников и у потомков, какое воздействие оказало на творчество последующих художников, на развитие искусства в десятилетиях и веках, как и чем отзывалось в учениках, в последователях, в грядущих поколениях творцов. Да, затерявшееся эхо отзвучавших эпох уходит во вселенную, растворяясь в ее бесконечности. Но жизнь человека, результаты дел его не исчезают бесследно, продолжают жить в других, в новом времени, в звучании новых голосов. Не воскресить уже в доподлинности сценические образы, созданные некогда актером, не повторить его интонации, но отголоски их, если хорошо вслушаться, можно узнать в голосах последователей и учеников, в документах эпохи, в воспоминаниях современников или его собственных, и, наконец, преданиях, также дополняющих портрет художника совершенно особыми по колориту красками. Все это необходимо, видимо, свести воедино, чтобы увидеть свет той далекой звезды, которая все еще посылает нам свои сигналы, услышать эхо прокатавшегося по небосклону грома и насладиться его таинственным звучанием. В этом путешествии в прошлое нам готовы прийти на помощь и сам артист, и те, кто был рядом с ним, видел его в быту, на сцене, в общении — великие писатели, артисты, критики и ученые, композиторы и художники, — с кем связан высочайший взлет, золотой век русской культуры XIX столетия.ЭТОГО ДНЯ Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ…»
По счастию, случай, который баловал меня в течение целой жизни… и в настоящее время помог мне…М. С. Щепкин
В утешение и на радость…
Доподлинно известно, что первые строки «Записок актера Щепкина» вписаны в тетрадь не им самим, а ни больше ни меньше — самим Александром Сергеевичем Пушкиным. Произошло это уже менее чем за год до смерти поэта в одну из их встреч, после того как, наслушавшись о веселых и грустных (больше грустных, порой до слез, до боли сердечной) случаях из жизни артиста и людей «того века», Александр Сергеевич принялся убеждать Щепкина переложить на бумагу все то, о чем он так трогательно рассказывал, как и многое из того, что оставалось невысказанным. Ну а что рассказ должен получиться увлекательным и в меру поучительным, вызвать к себе живой интерес и внимание многих, сомнений не было. Тому зароком могла служить сама жизнь Михаила Семеновича, наполненная драматическими и прелюбопытнейшими историями, а также острый взгляд его, способность выразить увиденное и пережитое метким, сочным словом. Пушкин был одержим тогда идеей создания своего рода литературного памятника замечательным людям России, сооруженного пером самих героев. Всякое время рождало великих людей Отечества, дела которых, как и память о них, во много раз переживали их творцов. Но потомкам оставались от их реальных дел порою лишь скупые отрывочные сведения или же легенды, в которые можно было верить, как в равной степени и усомниться. Поэт же хотел, чтобы через века звучал собственный голос каждого мастера во всей своей доподлинности и чистоте. Поэтому с такой настойчивостью и верой в праведность задуманного дела убеждал своих современников, в ком видел личности, выходящие за пределы обыкновенности, непременно вести личные записи, дневники, жизнеописания, в которых бы запечатлелись время, события, люди. Среди первых, к кому обратился Пушкин с подобными предложениями, были герой Отечественной войны 1812 года, поэт Денис Давыдов и артист Московского Императорского Малого театра Михаил Щепкин. Пушкин понимал, как не легко сделать первые шаги на литературном поприще, тем более человеку, привыкшему до того веселить или печалить публику волшебством звучащего, а не печатного слова, а потому, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки и усадить артиста за письменный стол, сам взял в руки перо, озаглавил сей труд — «Записки актера Щепкина» и начертал от имени автора: «Я родился в Курской губернии Обоянского уезда в селе Красном, что на речке Пенке…» Так Первый поэт России вдохновил Первого артиста Отечественного театра на ведение «Записок». Правда, скажем наперед, брался Михаил Семенович за них без большой охоты, позволяя себе длительные перерывы и возможность сомневаться: а стоит ли продолжать это дело? А дело оказалось хлопотное и вовсе непростое. Щепкин признавался: «Для меня писать — страшная работа». И если друзья сильно напирали, добавлял: «Писать не могу, вы сами видите, что я не мастер этого дела». Зря грешил на себя. Даже то немногое, что осталось от написанного им, включая письма, свидетельствует о литературных способностях артиста, а главное — о его незаурядном даре видеть больше того, что открывается другим. Именно этим «Записки» сразу привлекли пристальное внимание современников. Среди ее первых читателей, как и слушателей неповторимых устных рассказов Щепкина, были Гоголь и Тургенев, Белинский и Герцен, Аксаков и Панаев, Некрасов и Шевченко и, наконец, Достоевский и молодой Толстой. Со многими из них Михаил Семенович был близко знаком и дружен. Их одобрительные отзывы о его литературном дебюте вселяли уверенность и вновь возвращали его к письменному столу. Впрочем, как оказывалось, всякий раз ненадолго, пока и вовсе не оставил этого отнимающего много времени и сил занятия, успев описать лишь некоторые эпизоды из детства и актерской жизни в провинции, едва дотянув повествование до времени переезда в Москву и вступления в труппу столичного театра. Причиной тому была, конечно же, не леность актера и не «ужас» перед «страшной работой», а его занятость в театре, предельная заполненность каждого дня работой, уроками с учениками, семейными заботами, частыми гастролями и своими поездками по российским городам. Было и еще одно препятствие, которое охлаждало его писательский энтузиазм. Это невозможность в условиях цензурного надзора и жестких полицейских репрессий высказываться откровенно, говорить то, что он позволял себе в узком кругу друзей. А говорить правду — это было его кредо, тем принципом, который оправдывал его стремление записать виденное, услышанное и пережитое. «Мои записки будут иметь одно достоинство, — предупреждал автор своих будущих читателей, — истину. Я ничего не солгу, а записываю только то, что было в действительности». Уже позднее, когда Щепкин убедился в том, что правда труднее всего пробивается к читателю, встречая на пути своем массу препон, он с досадой скажет: «Мне нельзя написать полных моих записок, или по крайней мере они не только не могут быть изданы при моей жизни, но разве только спустя после моей смерти; много в них найдется такого, что нельзя напечатать». Однако не будем опережать события. А пока, подчинившись воле своего именитого соотечественника (отступать было некуда), Щепкин, приняв из рук поэта еще не обсохшее от чернил перо, старательно принялся выписывать начало своей биографии: родился «… в 1788 году ноября 6 числа. Отец мой Семен Григорьевич был крепостной человек графа Волькенштейна, но дед мой был сын священника Иоанна, который священствовал в Калужской губернии Мосальского уезда, в селе Спасе, что на речке Перекше, и потом скончался иеромонахом в Москве, в Андроньеве монастыре, где и прах его почивает; правнук же его и теперь еще священствует в селе Спасе. Это не должно казаться странным, ибо в том веке делалось это часто, так что дед мой не слишком удивился, когда, заснув свободным, проснулся крепостным, а только немного погрустил — и то, разумеется, безотчетно; наконец совершенно привык к новому своему званию…». Решаемся прервать рассказ Щепкина, потому что есть в нем некоторые упущения весьма важных, как кажется, фактов его биографии, ну а другие требуют некоторых разъяснений для современного читателя. Если для деда артиста не было удивительным то, что «заснув свободным, проснулся крепостным», то нам сегодня это не так просто осознать и тем более привыкнуть к столь фантастическому превращению. …Нет, не на радость ему самому и будущим потомкам природа одарила деда Щепкина, которому к тому времени едва минуло тринадцать лет от роду, прекрасным голосом и великолепным музыкальным слухом. Пение мальчика в церковном хоре привлекло однажды внимание владельца большого имения в Курской губернии графа Семена Егоровича Волькенштейна. Невольно заслушался он многоголосием хора, что сопровождал таинство священного служения, выделяя редкостной чистоты и красоты звучания голос молодого поповича Григория, старшего сына священника. И хотя еще Петром Первым был издан указ, делающий исключение для старших сыновей священников при закреплении за помещиками душ (им по закону надлежало оставаться при отце), желание графа взять в собственное и вечное владение талантливого певца оказалось сильнее царского указа. Ему стоило лишь обратиться в местную канцелярию, производившую ревизию, с просьбой записать Григория за собой, как незамедлительно было вынесено следующее постановление: «Отдать попова сына Григория ему, графу Волькенштейну в вечное владение». Так была решена судьба деда Щепкина, а вместе с ним и всех народившихся от него отпрысков, которым суждено было своим бесправным существованием многие годы расплачиваться за дарованный Григорию природный талант. Беззаконие и вероломность подобного закрепощения тем более очевидны, что родной брат Григория оставался вольным и вскоре принял приход в одном из храмов той же Калужской губернии. «…Мать моя, Мария Тимофеевна, — продолжал записывать Щепкин, — была тоже из крепостных, пришедшая в приданое за графиней: так уж издавна велось и теперь продолжается, что камердинер молодого господина женился на сенной девушке молодой барыни… Граф и графиня были примерной доброты, хотя оба как люди имели свои недостатки: но эти недостатки были так мелочны, что для людей, им подвластных, при тогдашних обстоятельствах и образе мыслей, не могли быть чувствительны». Конечно, автору «Записок» приходится быть предельно аккуратным. Он писал эти строки, когда еще свежи были события декабрьского восстания 1825 года и из памяти многих не изгладились его трагические последствия, казни, жестокие репрессии, постыдные гонения. Но внимательный читатель понимал, что хотел сказать автор своими строками: «Так уж издавна велось и теперь продолжается»… Хотя Щепкин пишет, что граф и графиня Волькенштейн «были примерной доброты», они, конечно, мало чем отличались от других владельцев крепостных душ. Об этом свидетельствовал позднее А. С. Щепкин, младший брат великого артиста: «Граф Волькенштейн при всей доброте и при всем расположении к окружающим его людям в самом деле был не что иное, как помещик, который поддерживал систему крепостного состояния и был проникнут чувством раболюбия в самой высшей степени. Графиня также принадлежала к числу самых раболюбивых созданий». Впрочем, к семейству Щепкиных, в сравнении с другими крепостными, судьба оказалась более милостивой. Отец Михаила Щепкина Семен Григорьевич занимал должность графского камердинера. Человек честный, образованный, прилежный в делах, он завоевал расположение своих хозяев и был назначен графом управляющим имением, раскинувшимся на семьдесят верст и состоявшим из тысячи двухсот душ крепостных (напомним, что счет шел лишь по лицам мужского пола). На этом поприще способности Семена Григорьевича развернулись с новой силой, хозяйский доход постоянно увеличивался, но рос не за счет непомерных поборов с крестьян, а в результате умелого и рачительного ведения хозяйства. Граф видел, что его управляющий ни малейшей личной выгоды от прибыли не имел, и был абсолютно спокоен за каждый свой рубль, поэтому ценил Щепкина и прощал ему некоторые черты его характера, которые другим господам могли и не нравиться — независимость, упрямство, убежденность в своей правоте. Видимо, вольное существование предков наложило свой неизгладимый отпечаток на его характер. Мать Михаила Щепкина, Мария Тимофеевна, по-прежнему прислуживала графине, выполняя разные поручения по дому. Так что жизнь семейства Щепкиных складывалась относительно благополучно, им не приходилось непрестанно думать о хлебе насущном, как другим крепостным. Но у них были свои горести. Более всего омрачили жизнь молодых супругов последовавшие одна за другой смерти их первенцев — сына и дочери. Эти горестные утраты, столь частые в крестьянских семьях, не охладили их сердец, не привели в уныние. Наверное, их молитвы были услышаны и в осенний день 1788 года родился третий ребенок, нареченный Михаилом. Родители в страхе за его жизнь по наставлению набожных старушек не сами выбирали ему крестных, а положились на волю случая и породнились кумовством с первыми встречными. Так крестным отцом будущего великого артиста, как он сам писал позднее, стал «пьяный лакей, а крестной — повариха». То ли предсказания старушек оправдались, то ли родился мальчик под счастливой звездой, но он остался жить и оказался на редкость стойким. С ним бывали ситуации, когда, казалось, жизнь его висела на волоске и он вот-вот отправится в мир иной, но странным образом всякий раз выходил из этих обстоятельств живым и невредимым, будто вобрал в себя в утешение родителей нерастраченную силу ушедших братика и сестры, радуя окружающих отменным здоровьем, добрым нравом и редкой удачливостью. А злоключения начались, можно сказать, прямо с рождения, когда незадачливая повитуха что-то и как-то плохо перевязала, так что младенец едва не изошел кровью, но повезло: «кто-то вовремя рассмотрел беду, — как впоследствии напишет сам герой, — и новой суровой ниткой, ссученной вдвое, так сказать, привязали меня к жизни, и — благодарю Бога — по сие время я не имел причин жаловаться на ее непрочность». И дальше испытаний судьбы на долю мальчика выпало в избытке… Как-то Марию Тимофеевну, купавшую сына, позвала к себе госпожа. Графиня не любила ждать и повторять приказания дважды и не терпела ослушания даже в мелочах. Молодая мать поспешила исполнять господскую волю, наказав золовке довершить купание Миши и присмотреть за ним. Но та, то ли не услышала этой просьбы, то ли, увлекшись своими делами, позабыла о несмышленыше. По крайней мере, возвратившись, Мария Тимофеевна застала сыночка все в той же купели. В ужасе она бросилась к нему и извлекла из давно остывшей воды неподвижное тельце Миши, а тот, почувствовав тепло материнских рук, проснулся и прильнул к ее груди всем тельцем. Не иначе как счастливым провидением и случайными крестными объяснялось это чудесное спасение, грудной ребенок даже не простудился, проведя в холодной воде больше часа… Другой случай произошел в один из пасхальных дней, когда родители вместе с сыном собрались ехать в церковь к обедне. Мать с Мишей уселись в дрожки, а отец пошел отворять ворота, как вдруг лошадь, чего-то испугавшись, резко рванула с места. Мария Тимофеевна тотчас упала с дрожек, а мальчика лошадь стремительно помчала вперед. Страх сковал несчастных родителей, казалось, беды не миновать, но колесо дрожек задело за боковые стойки ворот, дрожки спружинили и малыша самым немыслимым образом перебросило через их верхнюю перекладину. Мальчика подняли без признаков жизни, однако и на сей раз ему повезло, сознание вернулось к Мише, он стал поправляться. Огромный синяк на лбу потихоньку рассосался и только большое желтое пятно на его месте еще долго напоминало о печальном событии. Через неделю мальчишка уже бегал с деревенской беднотой во дворе. С благодарностью уповали на судьбу родители и после того, как сынуля чуть не утонул в той самой речке Пенке, которую много лет спустя Пушкин упомянет, выводя первую строку будущих «Записок» Щепкина. И хотя речка та была неглубока и неширока и не значилась ни на одной карте, она таила немало опасностей для трехлетнего малыша, который решил попробовать водичку в излучине у села с красивым названием Красное. И быть бы несчастью, не окажись поблизости дворовых ребят, охотившихся за пескарями. Всего-то на несколько мгновений скрылась его круглая головка под водой, но и этого оказалось довольно, чтобы незадачливый пловец захлебнулся. Сознание уже покидало малыша, когда его успели вытащить на берег, а подоспевшие взрослые помогли вернуть его к жизни. На этом не кончились злоключения маленького Миши. Мальчик рос резвым, любознательным, страстно любил одиночные прогулки и однажды заблудился в лесу. Два дня и две ночи его безуспешно искали. А Миша тем временем осваивал новый мир лесных звуков, цветов и запахов. Утонув в густых зарослях кустарника и немного струхнув, он все же пошел дальше и оказался среди могучих деревьев. Переливы птичьих голосов, стрекот кузнечиков, яркое многоцветье завораживали и заманивали мальчика все дальше и дальше в лес. Притомившись, он почувствовал приступ голода, захотел домой. Повернулся назад, побежал, но лес не кончался и никакого просвета впереди видно не было. Миша заплакал, стал кричать, все тщетно. Обессилев, он упал в мягкий мох, как в взбитую перину, и… уснул. Утреннее пробуждение было безутешным, голод становился невыносимым, а вокруг по-прежнему ни души. Между тем поиски пропавшего мальчика продолжались, родители пребывали в полном отчаянии, а тут еще поползли слухи, что в округе объявилась волчица… Нашел Мишу старый крестьянин, принес вконец обессилевшего малыша в свою избу, напоил теплым парным молоком, накормил сотовым медом, а вскоре и родители подоспели. По случаю чудесного спасения сына заказали в местной церкви молебен Николаю Чудотворцу, «вернувшему» их единственное чадо. Видимо, на роду у него было написано, что пройдет он через все превратности судьбы живым и невредимым. И все же, несмотря на пережитые отцом и матерью волнения за сына, воспитывался он в строгости и поблажек не имел. Отец в особенности следил за тем, чтобы ребенка не баловали ни супруга, ни окружавшие их люди. Мальчику было дозволено с родителями бывать в барском доме. Пользуясь расположением графа и графини, он мог иногда позволить себе детские шалости, веселые проказы. У Миши были хорошая память и музыкальный слух, унаследованный, очевидно, от деда. Он легко запоминал стихи и детские песенки и к удовольствию господ и прислуги охотно демонстрировал их публике. Ирония судьбы: когда-то деда его взяли в личное владение графа для услаждения слуха, теперь внук его забавлял потомков графа и пребывал в полной зависимости от милости барской, о которой спустя несколько десятилетий А. С. Грибоедов напишет: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь!» Не миновали этого и Щепкины, однако им удалось отделиться от графского дома и постоянного прислуживания господам. Отцу было разрешено переехать на хутор Проходы — центр управляемого им имения, а вместе с ним удалось переселиться и супруге. К тому времени семейство пополнилось еще одним прелестным существом — родилась дочь, названная Александрой.Учение
Рано проявившиеся способности Щепкина позволили ему без особого труда уже в шесть лет обучиться грамоте. Первым наставником будущего артиста стал старый ключник при винокуренном заводе. Миша легко освоил беглое чтение, но скоро перестал испытывать радость от занятий. Ведь книги, по которым он учился, были церковные — часослов да псалтырь, а в них он мало что тогда понимал. Всю псалтырь он выучил наизусть, от буквы до буквы, тогда как его «однокашники» (их было еще двое) с трудом, по слогам осваивали сию премудрость, а ключник ничего больше не мог предложить преуспевающему ученику. Тот только с детской хитростью мог извлекать пользу из этих своих успехов: скороговоркой проговорив заданную часть из псалтыри, он получал желанную свободу и отправлялся гулять, в то время как другие терпеливо продолжали зубрежку. Можно было бы и не останавливаться на этом, но те детские успехи сослужили великому артисту плохую службу. Он так привык быстро и нечленораздельно проговаривать текст, что долго потом не мог избавиться от этой пагубной для театра привычки. Эта коварная скороговорка преследовала его всю жизнь, о чем свидетельствуют современники. Н. В. Гоголь в связи с исполнением Щепкиным роли городничего в «Ревизоре» писал ему: «Ваш большой порок в том, что вы не умеете выговаривать твердо всякого слова». В этом заключалась, пожалуй, главная претензия взыскательных критиков и зрителей к актеру Щепкину, о чем он знал и мучительно боролся с «прилипшей» с детства дурной привычкой. Тем и закончилось обучение Миши в церковно-приходской школе. Семен Григорьевич, видя, что сын совсем потерял интерес к занятиям, решил отправить его на учебу в село Кондратово к священнику, отцу Димитрию. Но новый учитель оказался еще более безграмотным, чем прежний наставник. Убедившись, что ученик вызубрил псалтырь основательно, он решил приобщить его к пению в церковном хоре, обнаружив у мальчика хороший музыкальный слух и голос. Сам Щепкин позднее признавался: «Достаточно было слышать один раз какой-нибудь мотив, и я мог петь его безошибочно». Около трех месяцев простоял Михаил на клиросе, прежде чем Семен Григорьевич, не видя прока в таком образовании, забрал сына и вместе с сестрой Александрой решил отправить чад теперь уже в город, Белгород. Сборы продолжались около двух недель, дети наслаждались свободой, а Мария Тимофеевна, тихо оплакивая каждую вещь, уложенную в дорожный сундучок, собирала их в путь и страшилась разлуки. И вот настал день отъезда. Мать, как ни старалась, не могла унять своего горя, поэтому отец поспешил усадить детей в дрожки и почти с места пустил лошадей рысью. Путь в Белгород лежал через имение хозяина, графа Волькенштейна, где и остановились на ночлег. Граф одобрил намерение управляющего обучить детей грамоте. По счастливой случайности именно в этот день силами крепостных в доме графа давали любительский спектакль — оперу «Новое семейство» композитора С. К. Вязмитинова. Граф разрешил семейству Щепкиных присутствовать на нем. На Руси издавна любили зрелища, будь то скоморошьи игрища или кулачные бои, медвежья борьба, обрядовые празднества или кукольные представления. Всякое диво вызывало любопытство, восторг и желание испробовать свои силы в этом деле. Потому-то, видать, едва прошел слух о выступлениях в столице ярославских артистов во главе с Федором Григорьевичем Волковым, положившим начало первому отечественному профессиональному театру, как повсюду на Руси стали возникать многочисленные труппы и целые театры, хоры, оркестры, некоторые из домашних коллективов превращались в публичные, общедоступные. Кроме крепостных в них работали и вольные люди, а порой и представители высших сословий, влюбленные в театр. Содержать домашние театры становилось модным и престижным занятием. Не пристало отставать от прочих и графам Волькенштейнам, гордившимся своим хором, в котором, напомним, пел дед Михаила Щепкина. Шло время, одно поколение господ сменяло другое, а хор и оркестр, а позднее и театр и опера, продолжали существовать. Семен Григорьевич подоспел в имение в разгар последних приготовлений к спектаклю. Миша с интересом наблюдал, как устанавливались декорации, настраивались инструменты, артисты готовились к началу спектакля. Наконец зазвучала музыка, раздвинулся занавес и мальчик зачарованно наблюдал за сценой, позабыв обо всем на свете. Актеры в нарядных костюмах величественно расхаживали перед зрителем, красиво пели и танцевали. Публика взрывалась благодарными аплодисментами, а актеры галантно раскланивались. Миша разгоряченно бил в ладоши, его переполняли радость и восхищение, такого он еще не видывал. Это первое увиденное им театральное представление навсегда запало в душу и повлияло на всю его дальнейшую жизнь. «В тот вечер решится вся будущая судьба моя», — напишет потом Щепкин. А пока Миша уезжал вместе с сестрой за сто с лишним верст от родительского крова. Это была первая длительная разлука с отцом и матерью, по сути дела — отъезд в другую жизнь. Теперь Щепкин будет наведываться к родителям как редкий гость. Так в свои неполные семь лет уходил Миша, как тогда говорили, в люди, в свою самостоятельную жизнь. Немного радости выпало мальчику за четыре года жизни у священника: снова зубрежка — латынь, псалмы, библейские истории. И еще он помогал своему наставнику в совершении богослужений, пел в церковном хоре. Было что-то от театра, увиденного в графском доме, в церковных ритуалах, песнопениях, молитвах, переодеваниях священника в золоченые, усыпанные сверкающими камнями одежды. И все-таки красочность и торжественность богослужений не могли заслонить воспоминаний о первом увиденном спектакле. Повторить это чудо ему довелось нескоро… Всему приходит конец, вот и ушло в прошлое пребывание Миши у священника. Вместе с сестрой он был переведен в училище, что находилось в маленьком уездном городке Судже Курской губернии. Запомнилось оно Щепкину главным образом тем, что здесь впервые он вышел на сценические подмостки. А началось все с того, что учитель словесности предложил своим питомцам сыграть комедию известного писателя Александра Петровича Сумарокова — «Вздорщицы». Конечно же, Мише не терпелось участвовать в спектакле, хотя надежды на это было у него мало, ведь в классе обучалось около шестидесяти человек. Выбор превеликий. Среди учеников были дети состоятельных и влиятельных родителей. Но Илья Иванович объявил, что рассчитывать на роль могут только лучшие ученики и первыми среди счастливчиков назвал брата и сестру Щепкиных. Миша действительно выделялся в классе своими успехами, что подтверждает и запись в «Книге учащихся» — мальчик, «обучавшийся ранее у дьячка, поведения добронравого, по способностям остр». Получил Михаил роль слуги Розмарина, а его сестра Александра — роль вздорщицы Розалии. Радости их не было предела. Остальные женские роли готовили мальчики, так как девочкам из благородных семейств родители запретили участвовать в спектакле, полагая, что быть «комедиантами» — не самое достойное для них занятие. Юные актеры тотчас принялись разучивать роли. Вызубрить текст для них не составляло труда. «Я свою роль читал с такой быстротой, — вспоминал Щепкин, — что все приходили в удивление, а учитель приговаривал, улыбаясь: «Ты, Щепкин, уж слишком шибко говоришь, а, впрочем, хорошо, хорошо». Но как свести все действо воедино, в нечто целостное, называемое спектаклем, в этом ученики разбирались смутно, и Миша, помня о первом увиденном спектакле, начал было подсказывать другим, как надобно разыгрывать комедию в лицах. Тут пригодился авторитет учителя, чтобы заставить каждого делать именно то, что полагалось по роли. И вот настало время показать свое искусство. В зале чинно расселись учителя, родители некоторых учеников и даже губернатор самолично пожаловал на спектакль. Все места были заполнены до отказа учениками, многие стояли вдоль стен. Страх и волнение охватили юных артистов, но уже первый выход на сцену слуги, Щепкина, сопровождавшийся безостановочной скороговоркой, его ужимки, энергичная жестикуляция вызвали одобрительный смех зрителей, который не умолкал до конца представления. «Вначале я как будто струсил, — признавался Щепкин, — но потом был в таком жару, что себя не помнил, и чувствовал какое-то самодовольствие, видя, что быстрее меня никто не говорит. Посетители были довольны, хлопали напропалую». Успех был несомненный. Губернатор даже пригласил юных комедиантов к себе, чтобы через три дня на свадьбе дочери они сыграли бы пьесу еще раз. И хотя с наступлением Масленой недели ученикам полагались каникулы, вынужденная отсрочка свидания с родителями не очень сильно огорчила юных артистов. Ну а Миша чувствовал себя именинником и, как подобает премьеру, гордо расхаживал по коридору училища, ловя на себе восхищенные взгляды ребят. Молва быстро разнесла весть о школьном спектакле и его повторе у губернатора, желающих стать его зрителями было предостаточно. «Губернаторский» спектакль прошел с еще большим успехом, смех не утихал в зале, все были восхищены и восторженно аплодировали. Губернатор, растрогавшись, одарил каждого актера большим пряником и медным рублем, а Мишу выделил особо, потрепал по щеке, приговаривая: «Хорошо, плутишка… Молодец! Бойчее всех говорил: хорошо, братец, очень хорошо! Добрый слуга будешь барину!» Известный критик В. В. Ермилов, комментируя эти слова, впоследствии заметил, что «из этого маленького случайного актера выйдет со временем великий актер на славу и удивление всей России и что заслуга его будет заключена не в том, что он был добрым лакеем у барина, а в том, что из него вышел верный и добрый слуга своему отечеству и великому искусству». И хотя тот спектакль довелось увидеть немногим, слухи о потехе, учиненной юными артистами, еще долго ходили по уездному городу, радуя души его участникам. Докатились они и до отца Миши и тот, видя незаурядные способности сына, не посчитался с расхожим суждением о бесполезности знаний для крепостного человека и озаботился тем, чтобы дать ему хорошее образование. Желанию своего управляющего граф не противился, желая извлечь из этого и свою выгоду. Поэтому на тринадцатом году жизни Миши и на одиннадцатом его сестры Александры граф, уезжая в Курск, по просьбе Семена Григорьевича взял младших Щепкиных с собой. Мишу он пристроил в губернское училище и пользовал его при необходимости как слугу, а Александра прислуживала графине. При поступлении в училище Щепкину был учинен строгий экзамен и по единогласному решению компетентной комиссии зачислен сразу в третий класс при четырехлетием обучении. Его не раз будут ставить в пример другим ученикам. Вскоре училище было переименовано в гимназию с обязательным преподаванием французского языка. Однако присутствовать на этих уроках дозволялось лишь господским детям. Уязвленный до глубины души юный Щепкин решил в знак протеста не учить ни немецкий, ни латынь, но этого бунта никто и не заметил, не хочет — не надо, зачем крепостному знать все эти премудрости? Еще, чего доброго, наберется вольнолюбивых мыслей, а там и до непослушания недалеко… Мог ли тогда он предполагать, что придет время и он остро, с горечью осознает пробел в знании языков, когда ему представится возможность видеть и слышать знаменитую французскую актрису Элизу Рашель, великого английского артиста Олдриджа, бродить по улицам Парижа и Лондона? Время, отведенное на изучение иностранных языков, Михаил попусту не терял, он пристрастился к чтению. Вначале брал книги у приказчика книжной лавки за мелкие услуги, и тот, видя, с какой аккуратностью ученик возвращал их в полной целости и сохранности, отказа не чинил. Потом получил возможность пользоваться библиотекой известного на рубеже XVIII и XIX веков писателя, автора нашумевшей поэмы «Душенька» — Ипполита Федоровича Богдановича. Это о нем Пушкин напишет в «Евгении Онегине»:Его величество Случай…
Сколько артистов дал миру счастливый, ставший хрестоматийным, случай!.. Например, заболел исполнитель главной роли, спектакль под угрозой срыва и его заменяют другим актером, как правило, не известным публике. Сколько великих и обыкновенных мастеров начинали свой творческий путь в театре благодаря господину Случаю! Вот и Щепкин сподобился… Актер, который должен был исполнять роль Андрея-почтаря в пьесе французского драматурга Мерсье «Зоа» (или как тогда писали «Зоя»), отнюдь не заболел, а прокутил в трактире все свои финансы и единственное платье, а поскольку и без того скромное жалованье, которое ему причиталось, он забрал вперед, то не имел возможности скоро выкупить свое немудреное имущество, без которого он, разумеется, не мог выйти в одном исподнем белье из своего вынужденного заточения на всеобщее обозрение курского населения. Помочь же ему в столь затруднительном положении никто из актеров не спешил по причине собственной бедности и безнадежности в обозримом будущем получить отданное в долг обратно. Печальную эту историю Щепкин услышал в доме графа от ведущей актрисы Курского театра, известной в провинции Пелагеи Гавриловны Лыковой, чей бенефис столь нелепым образом оказался на грани срыва. Щепкин решил, что настал час действовать. В крайнем волнении он предложил Пелагее Гавриловне свои актерские услуги, заверив ее, что роль хорошо ему известна, что он не раз суфлировал спектакль. — Да разве ты играл на сцене? — с недоверием спросила актриса. — Помилуйте, много раз, в домашнем театре графа. — Что же ты играл? — …Фирюлина в «Несчастье от кареты» и даже Инфанта в «Редкой вещи», а в будущее лето буду играть Фому в «Новом семействе». — Да как же, милый мой, — продолжала Лыкова, — ведь бенефис завтра; успеешь ли ты выучить роль? — Не извольте беспокоиться, это для меня безделица, вот увидите. Лыкова, скорее от отчаяния и безвыходности положения, нежели надеясь на успех, согласилась на этот риск. Была назначена репетиция — первая репетиция Щепкина в настоящем, профессиональном театре, на той губернской сцене, о которой он тайно мечтал. Можно представить, с каким волнением он готовился к ней. Весь свой текст он знал наизусть, помнил и реплики других персонажей, продумал до мелочей, как вести себя на сцене, и задолго до назначенного срока собрался в театр. Правда, надлежало получить на отлучку разрешение у графа. Услышав просьбу юноши, граф одобрительно рассмеялся: «Браво, Миша, браво! Но смотри, не осрамись!» Графиня восприняла сообщение Щепкина более сдержанно, не преминув заметить, что теперь он будет не с таким старанием рисовать для нее узоры для вышивания, но юноша горячо заверил, что опасения ее напрасны. Будущий актер был благополучно отпущен в театр. На репетиции, одобренный расположением к себе участников спектакля, Щепкин быстро справился с волнением, весь свой текст говорил бойко и вовремя, на сцене держался уверенно. Заслужил лишь одно замечание и все по поводу той же несчастной скороговорки. «Конечно, всякое твое слово слышно, — отметила после репетиции Пелагея Гавриловна, — но этой быстротой ты вредишь себе, душишь себя и потому, когда некоторым словам надо придать больше силы, ты их уже напрасно истратил». Щепкин все воспринял и с усердием старался исправить свою речь. Уединившись, он снова и снова прочитывал свой текст, стараясь делать верные паузы, ударения, выделять голосом важные реплики. И вот спектакль начался. Мало кто из зрителей знал, что в спектакле дебютант, настолько органично и профессионально он держался на сцене. Лишь румянец на щеках да некоторая суетливость в движениях выдавали волнение новичка. Он не помнил себя от радости и страха, что он играет рядом с известными в городе актерами, что на него смотрит почтенная публика и реагирует на все его реплики и действия на сцене. Ему казалось, что все внимание зрительного зала приковано лишь к нему, Андрею-почтарю. Этот образ чем-то напоминал ему Степана-сбитенщика, такой же веселый, изворотливый и плутоватый, но благородный малый. По пьесе он слуга влюбленного в Зою молодого господина, который обводит вокруг пальца строгого и высокомерного отца девушки, преследующего влюбленных, и помогает молодым устроить свое счастье. Щепкин так естественно вошел в роль предприимчивого героя, что вскоре забыл и о своем волнении, и о зрителе, и о наставлениях, полученных на репетиции. Спектакль прошел благополучно, и Щепкин был счастлив. «По окончании роли, — вспоминал он позднее, — я ушел под сцену и плакал от радости, как дитя». Актеры поздравляли его с успехом. Пелагея Гавриловна тоже похвалила его и поблагодарила за то, что так удачно выручил театр, а Барсов, присоединившись к поздравлениям, все же заметил: «Хорошо, а все-таки спешил говорить!» Граф Волькенштейн, посетивший спектакль, одобрил: «Браво, Миша, браво!» и позволил поцеловать себе ручку. После чего в память о сем событии подарил ему трикотажный жилет и сверх того распорядился напоить чаем, что почиталось особой честью. Волькенштейну льстил успех своего подданного на губернской сцене, и он поощрял Щепкина, тем более что тот, подобно герою Бомарше, успевал исправно прислуживать хозяину и разучивать новые роли в театре. «Разумеется, в достопамятный день представления «Зои», — писал по случаю 50-летия творческого пути Щепкина его современник, известный писатель и критик Сергей Тимофеевич Аксаков, — никто из окружающих Щепкина не подозревал в нем будущего славного актера, и всякий только посмеивался, глядя на его озабоченное лицо и важность, придаваемую им такому, по-видимому, пустому делу; но Щепкин чувствовал бессознательно, что роль почтаря Андрея решает его судьбу и определяет славную будущность». Совсем не напрасно радовался безмерно семнадцатилетний Щепкин своему первому выступлению в профессиональном театре. Оно оказалось началом его большого творческого пути, первой успешной попыткой, пробой сил, ставшей его судьбой. Теперь ни о чем другом не мог помышлять юноша, сцена захватила его целиком и полностью. Совсем неспроста Владимир Алексеевич Гиляровский, знавший актерский мир не хуже знаменитой тогда Хитровки, напишет более чем через столетие, что в «старые времена не поступали в театр, а попадали, как попадают не в свой вагон, в тюрьму или под колеса поезда. А кто уж попал туда, там и оставался». Для Щепкина театр стал всем, самой жизнью. Тот спектакль окончательно захлопнул за ним ворота «неволи», колесница фортуны уносила его в желанный мир вечных мук и страданий, радости и печали, счастья ни с чем не сравнимого… Впоследствии он напишет о том спектакле: «Этого дня я никогда не забуду, ему я обязан всем, всем!» Так началась актерская эпопея Михаила Щепкина длиною более полувека — преданной, бескорыстной, самозабвенной службы Его Величеству Театру.НА ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ СЦЕНЕ
Всю свою жизнь я изучал драматическое искусство, руководствовался всеми великими творцами по этой части и выслушивал мнения современных мне мыслящих людей и даже начинал думать, что кое-что смыслю…М. С. Щепкин
Разгадка секрета
Курский вольный театр, ставший в ноябре 1805 года началом творческой биографии Щепкина, размещался тогда в здании Благородного собрания. Его основателями в 1805 году были братья Михаил, Алексей и Петр Барсовы. Он считался одним из первых в России антрепренерских театров. Впрочем, вольным театр мог называться лишь условно, поскольку большую часть его труппы составляли крепостные. Да и существовать на одни сборы от спектаклей не мог, поэтому вынужден был обращаться за помощью к; богатым меценатам. Они, по сути дела, и были его настоящими хозяевами. Театр в России еще не пользовался таким авторитетом, какой он завоюет позднее, и служил в основном забавой для господ. Простой люд доступа туда почти не имел. Пьесы шли преимущественно переводные — с французского и переделанные на русский лад. Пустенькие водевили об обманутых мужьях и неверных женах, коварных соблазнителях, охотниках за чинами и приданым — таковы были незамысловатые сюжеты театральных представлений. Простенькие сюжеты украшались музыкой, пением, танцами и, как правило, завершались благополучным веселым концом, иногда и не вытекавшим из логики развития событий пьесы. После удачного дебюта Щепкин был замечен, ему стали поручать и другие роли, но первое время это были замены — привычное дело для новичков. «Захворал ли, загулял ли кто-нибудь из актеров, — Щепкин в несколько часов выучивал его роль… Одним словом: им затыкали все прорехи малочисленной труппы и скудного репертуара, — писал С. Т. Аксаков. Оркестр прозвал его «контрабасною подставкой», и вся труппа со смехом повторяла остроумное прозвище». Но так как Щепкин, по словам Аксакова, «играл всегда лучше того, чье занимал место», его все с большей и большей охотой вводили в различные спектакли. Скоро основным исполнителям, заметно проигрывавшим в сравнении с молодым актером, пришлось потесниться на олимпе славы и уступить ему некоторые свои роли. И хотя Михаил Щепкин, как и другие актеры того времени, полагал, что жизненные и сценические реальности несовместимы, искренность его переживаний, непосредственность и убедительность поведения на сцене заметно выделяли его из общей труппы. В пору вступления Щепкина на артистическую стезю в театре царил «его величество» штамп. Игра строилась на определенном наборе приемов, обозначающем то или иное состояние сценического героя, то, что позднее назовут «театральщиной», считалось лучшим проявлением таланта. Годилось все, что было не похоже на жизнь. Уходя со сцены, актер должен был поднять правую руку и в такой пафосной позе покинуть сцену. Считалось, что эмоциональные монологи надо произносить как можно громче, «как только доставало силы в человеке», обращаться при этом надлежало не к партнеру, а к зрительному залу. Страстные переживания сопровождались завываниями, заламыванием рук, закатыванием глаз, словом, всеми теми актерскими приемами и штампами, что осудил еще великий Шекспир в «Гамлете». «Есть актеры, — говорит принц датский бродячим комедиантам, — и я видел, как они играли, и слышал, как иные их хвалили, и притом весьма, которые… так ломались и завывали, что мне думалось, не сделал ли их какой-нибудь поденщик природы, и сделал плохо, до того отвратительно они подражали человеку… Произносите монолог, прошу вас, как я вам его прочел, легким языком… и не слишком пилите воздух руками… Мне возмущает душу, когда я слышу, как здоровенный, лохматый детина рвет страсть в клочки, прямо-таки в лохмотья, и раздирает уши партнеру, который по большей части ни к чему не способен, кроме невразумительных пантомим и шума; я бы отхлестал такого молодца… Прошу вас, избегайте этого». Конечно, отхлестать можно было почти любого актера, только то была не его вина, а общая беда, таковы были правила игры и другого не ведали, не знали иных образцов игры. Шли на поводу публики, подкидывая ей то, что и нравилось — побольше комедийных трюков, пафосности, страстей, внешних эффектов. И в этом провинция соревновалась со столичными театрами, которые и задавали этот фальшивый тон, о чем не преминул съязвить А. С. Пушкин в «Онегине»:В любви и согласии
Летом 1810 года в жизнь двадцатидвухлетнего Михаила Щепкина вошли любовь и женитьба на Елене Дмитриевне Дмитриевой — бедной девушке-сироте. Ей и фамилия, имя, отчество достались не по рождению, о своих родителях она ничего не знала. Скорее всего, они погибли во время взятия русскими войсками крепости Анапа в 1791 году. Плачущую смуглолицую девочку лет двух от роду нашли русские солдаты среди развалин обгоревшей турецкой деревни, взяли с собой, окрестили, назвав Еленой. Отчество и фамилию образовали от имени крестного отца, Дмитрия Орбелиани, первое время покровительствовавшего сироте. Походная военная жизнь, конечно, мало подходила для воспитания малолетки, и пришлось отдать девочку в более надежные руки. Так маленькая «турчаночка», как все ее называли, оказалась в доме княгини Салатовой. Девочка росла на положении между воспитанницей и прислугой. Княгиня охотно показывала ее гостям как некое диво, демонстрируя великодушие знатной дамы, взявшей на содержание бедную сиротку. Ей даже сшили маленький кафтанчик из яркого полосатого полотна, голубые атласные шаровары с широким шелковым поясом, красную, вышитую серебром шапочку и желтые сафьяновые сапожки. В таком экзотическом наряде она представала перед господскими гостями. А те приезжали часто, и девочке приходилось всякий раз переодеваться и терпеливо выслушивать в который раз рассказ о необычной судьбе сиротки, получившей приют у княгини. Позднее Елена Дмитриевна признавалась, что в доме Салаговой ей пришлось испытать немало невзгод и горьких унижений, но обиды не ожесточили ее сердца. «Живши у чужих людей, видевши много дурного, — писала она, — я при этом дурного не заняла… Я всегда была очень вспыльчива, но зла не была и всегда имела сострадание к несчастным». Образования девочка никакого не получила. Ей преподали лишь несколько уроков грамоты да приемов шитья. Большего, по мнению княгини, девочке не требовалось. Иногда госпожа брала ее с собой в Тулу, в Крым, в деревню, но постепенно интерес к приемной воспитаннице угас, и при переезде в Петербург княгиня взять ее с собой не пожелала. Оставшись в деревне, она сама научилась зарабатывать себе на хлеб, обретя много полезных навыков. Позже умение Елены Дмитриевны вести хозяйство, хорошо шить пригодится семейству Щепкиных, особенно в дни финансовых затруднений. Первая встреча Михаила Щепкина с девушкой произошла в имении князей Салатовых в деревне Ахремовка, расположенной в пятнадцати верстах от села Красное, куда он приехал на лето в 1810 году. Однажды он отправился рисовать по поручению графа Волькенштейна план местной церкви и, увлеченный этим занятием, не обратил внимания на стайку любопытствующих, с интересом наблюдавших за незнакомцем. Он оторвался от рисунка, чтобы перейти на новое место, и взгляд его в крайнем изумлении остановился на черноволосой красавице. Откровенное восхищение юноши смутило смуглянку, и она быстро юркнула в пышные заросли боярышника. В доме графа он слышал о необыкновенной судьбе девушки, а встреча с ней так поразила его воображение, что теперь он только и жил мечтою еще раз встретить «турчанку». Предлог вновь побывать в Ахремовке найти было нетрудно. Теперь знакомство состоялось. Их многое сближало в своем положении, общий язык нашелся сразу. Рассказы Михаила о театре увлекли и заворожили девушку, ей открылся совершенно новый мир, полный ярких красок и впечатлений. Время пролетело как один миг. Едва встретившись, они должны были разлучиться, Михаилу предстояло вернуться в Курск к началу театрального сезона. В один из своих переездов из Курска на хутор Проходы и с хутора в Курск ему пришлось выступить в роли спасителя. Путь его лежал через речку Псел, когда он услышал крики о помощи, в речке барахтались два селянина. Михаил не раздумывая бросился в воду, спас попавших в беду. Выяснилось, что один из них бросился на помощь другому, но плавать сам не умел. Этот поступок поразил тогда Щепкина, и он не раз рассказывал потом своим друзьям об этом случае, восхищаясь бескорыстным порывом крестьянина, в котором так ярко выразился русский характер. Тем временем княгиня вызвала Елену в Петербург. Воспользовавшись случаем, девушка остановилась в Курске на квартире у сестры Михаила, Александры. Произошло это в конце декабря. Влюбленные могли теперь видеться каждый день. Встречи прерывались лишь спектаклями да короткими часами сна. Это было, наверное, самое счастливое время в их жизни. «Святки мы проводили очень весело», — вспоминала Елена Дмитриевна. Она посещала спектакли с участием Щепкина и о первом из них «Опыт искусства, или Один за семерых» писала, что Михаил Семенович «играл один за четверых и очень было хорошо. Мне, знать, потому понравился, что он играл, я же в первый раз видела представление». Когда пролетели Святки, Елена Дмитриевна продолжила свой путь в Петербург. На этот раз они расставались почти на целый год. Лишь осенью судьба подарит им встречу, а пока приходилось довольствоваться перепиской. Свои письма Михаил подписывал, ради конспирации, очевидно, «Маша». Выражая свои сердечные чувства, он не мог не горевать о том, что является крепостным, а по закону его жена тоже попадает в положение крепостной. Его безмерно угнетало это обстоятельство. Елена Дмитриевна, как могла, успокаивала возлюбленного, писала, что свободы своей она все равно не чувствует, а без него ей жизнь не в радость. На лето Щепкин вновь уехал в деревню, теперь он не мог часто писать и Елена Дмитриевна обеспокоенно обратилась к сестре Михаила: «Я думала, что он болен и бог знает, что в голову приходило. И я стала прихварывать понемногу…» Александра успокоила ее письмом, что Михаила просто нет в Курске, он в деревне, потому и не пишет, и добавила — приезжай в Курск, «мой дом для тебя всегда открыт». Елена Дмитриевна, не в силах справиться со своими чувствами, наконец призналась княгине, что любит крепостного — актера Михаила Семеновича Щепкина и намеревается выйти за него замуж. Княгиню это известие оскорбило. Ее воспитанница намеревается связать свою жизнь с господским человеком, да еще и комедиантом!.. Она употребила все свое красноречие и влияние, чтобы образумить девушку. Приводила такие доводы: «…Вышедши за господского человека, ты все должна будешь делать, что заставят, ну, например, его сделают пастухом. И твоя участь, понимаешь, какая будет». Елена стояла на своем твердо: «Я себя на все приготовила. Только бы жить с любимым человеком, я все буду выносить с терпением, ибо сколько я его люблю и жить без него не могу. Все равно я не переживу, когда за него не выйду». И княгине ничего не оставалось, как выдать воспитаннице «вид на жительство», без которого нельзя обвенчаться. С радостным чувством ожидания скорой встречи с суженым ехала Елена Дмитриевна в Курск, да так торопилась, что опередила Щепкина. Остановилась в доме его сестры. Теперь ей пришлось выслушивать «самые натуральные резоны», чем грозит ей брак с крепостным, уже от мужа Александры, рассудительного Никанора Агапьевича, но ничто не могло изменить ее решения. Родители Щепкина препятствий сыну в женитьбе не чинили, Михаилу шел двадцать четвертый год, возраст более чем подходящий для семейной жизни. Не было причин отказывать в женитьбе и со стороны графа, тем более что он обретал еще одну подданную. По приезде в Курск молодые обручились, а летом следующего года поженились. Справка о бракосочетании свидетельствует: «Господин Щепкин женится в 1812 г., 12 июля, в Курской губернии Судженского уезда в имении графа Волькенштейна». Если вспомним, что Отечественная война 1812 года началась 12 июня, ровно за месяц до этого брака, то можно предположить, что время для свадебных торжеств молодые выбрали не самое удачное. Но сердцу не прикажешь… Брак Михаила Семеновича и Елены Дмитриевны оказался счастливым. Супруга стала верным другом своему мужу, стойко переносила все трудности, какие в избытке выпадали на их долю за многие годы совместной жизни. Театр сразу пришелся ей по душе, отныне она жила интересами супруга, живо откликалась на все, что его волновало, оберегала, как могла, от невзгод, поставила на ноги семеро детей. Первой появилась на свет Фекла (Фанни) в 1814 году, следующим ждали сына, и имя ему уже было приготовлено Александр — защитник людей, но родилась опять дочь, а имя менять не стали. Девочка была слаба здоровьем и век ей был отпущен короткий. Долгожданный мальчик родился через год, названный Дмитрием, затем были Николай, Петр, Александр и Вера. Итого счастливое число, как раньше говорили — «семеро по лавкам». Рожденные в любви и согласии, дети радовали родителей, укрепляя их семейное счастье и сызмальства проявляя живой интерес к искусству, наукам, литературе. Со временем из них вырастут ученые, юристы, издатели, общественные деятели и, конечно же, артисты. А пока дела в театре для Щепкина от сезона к сезону складывались все благополучнее, он уже прочно вошел в репертуар театра, имел самый высокий в труппе оклад — 350 рублей ассигнациями, его любила публика. Казалось, так будет вечно. Но в начале 1816 года пришло известие, что театр закрывается ввиду капитального ремонта здания. Другого подходящего помещения в городе не нашлось, ремонт требовал не менее двух-трех лет, и труппа распалась. Совершенно убитый случившимся, Щепкин вынужден был вернуться в деревню. Не зная, чем успокоить израненную душу, он «с горя», как сам признавался, прочитал историю Роллена в переводе Тредиаковского «от доски до доски». «Древняя история» и «Римская история» Шарля Роллена и продолжающая их «История римских императоров» Кревье составляли ни много ни мало тридцать томов. Но и любимое чтение не заглушило тревоги о своем будущем. Права, однако, народная пословица — «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Щепкин получил письмо от Петра Егоровича Барсова с предложением отправиться вместе с ним в Харьков по приглашению антрепренера Ивана Федоровича Штейна. Судьба вновь оказалась милостивой. О харьковском театре и его труппе Щепкин был наслышан и с некоторыми актерами знаком лично. Штейн считался известным в русской провинции антрепренером. Несказанно обрадованный столь неожиданным и счастливым поворотом судьбы, Михаил не раздумывая дал Барсову свое согласие. Впрочем, ему еще предстояло испросить разрешение у графини (граф Волькенштейн к тому времени умер) и получить благословение родителей и жены. К счастью, заминки ни в чем не произошло, и он благополучно отбыл на Украину. Так закончилось самым неожиданным образом десятилетие курской театральной биографии Щепкина, но именно этому театру он обязан тем, что отныне театр стал его призванием, здесь он приобрел первый профессиональный опыт, получил известность и признание. С благодарностью и грустью покидал он милое свое гнездовье, чтобы опробовать свои окрепшие крылья в новых полетах, на новых горизонтах театрального небосклона.Харьков
В те годы Харьков был уже крупным городом, известным культурным центром. Здесь более десяти лет как открылся один из пяти российских университетов, на базе которого формировался слой образованных людей. Щепкину предстояло прожить в городе немногим более года, но об этом он еще не ведал и был исполнен самых радужных надежд и ожиданий. Его воображение рисовало красивое монументальное здание его обители — театра, расположенного на центральной площади города и потому названной Театральной. Но первая встреча с театром разочаровала. Храм искусства, которым он представлялся в его воображении, оказался довольно ветхим, малоприметным деревянным строением. Его принадлежность к театру выдавалась лишь яркими афишами, призывно обращенными к зрителям: «Бенефис г-на Н. Первый раз — «Неслыханное диво, или Честный секретарь». Водевиль в одном действии; «Марфа и Угар, или Лакейская война», «Железная маска» и т. д. Единственно, в чем не ошибся Щепкин, так это в местоположении здания театра. Оно действительно располагалось на главной площади города. Впрочем, харьковчане искренне гордились своим театром, особенно тем, что открытие его было связано с именем императрицы Екатерины Великой, удостоившей его своим посещением во время проезда через Харьков около четверти века назад. Еще более убогое впечатление производил театр своим внутренним видом, его закулисной частью: узкие проходы, затертые стены, покосившиеся лестницы и полное отсутствие элементарных технических устройств на сцене. Об этом можно судить лишь по одному эпизоду, описанному Щепкиным в его «Записках». В день приезда Барсова и Щепкина в Харьков давали «Дон Жуана» Мольера. В Курске этот спектакль не шел из-за того, что сцена не была оснащена для финального сценического трюка, когда Дон Жуана за все его прегрешения отправляют в ад. В харьковском театре Щепкин, как ни старался, никакого технического оборудования для этой сцены не обнаружил и поинтересовался у сведущих людей, как же будет решен финал пьесы. «Да все очень просто, — объяснил ему Осип Иванович Калиновский, исполнитель роли Дон Жуана, — сверху на веревке спустят фурию, и она унесет великого соблазнителя в ад». Как позднее оказалось, фурию изображал не кто иной, как помощник механика некий Миньев, в задачу которого входило незаметно для зрителей зацепить крючком, крепившимся у него на поясе, кольцо на ремне Дон Жуана и таким способом увлечь его за собой. И вот долгожданная сцена финала… «Посреди театра из падуги показывается пара сапог, потом белая юбка с блестками, и, наконец, является и вся фигура фурии. Костюма фурии подробно передать я не в состоянии, — пишет Щепкин, — какой-то шарф перекинут через плечо, на голове какой-то венец с рогами. Но это все ничего, а вот что изумительно: как только фурия отделилась совсем от балки и повисла на веревке, то новая веревка от тяжести стала вытягиваться и раскручиваться, и так как фурию спускали медленно, то она, прежде чем стать на ноги, перевернулась раз двенадцать, отчего голова у ней, разумеется, закружилась (выпила она для храбрости тоже порядочно). Ставши на пол, фурия ничего не видит; одною рукой держит крючок, а другою, размахивая, ищет Дон Жуана, но ищет совсем в другой стороне. Калиновский в бешенстве забывает, что это на сцене, и кричит громко: «Гунство! (Добавим к рассказу Щепкина, что Калиновский был поляк по национальности и мысли свои в крайнем волнении или ярости выражал не всегда понятно. — В. И.) Сюда, сюда!» Наконец фурия ощупывает кое-как Дон Жуана, обхватывает его одной рукой, а другою старается поддеть кольцо на крючок… но никак не подденет. Калиновский в совершенном отчаянии, желая помочь горю, протягивает назад руку, берет свое кольцо, а между тем бранные слова сыплются на фурию; но ничто не помогает, и фурия никак не может сцепиться с Дон Жуаном. Всему этому аккомпанирует шум в публике: тут было и шиканье, и смех, и громогласное «браво». Все это было для меня что-то неслыханное и невиданное и потрясло меня до основания. Я выбежал из кресел, бросился на сцену, вырвал у механика веревку и опустил занавес. И надо было видеть, с каким остервенением Дон Жуан начал терзать фурию за волосы… Тем и кончилось представление Дон Жуана». Побывав на репетициях и спектаклях, Щепкин увидел, что никакого особого отличия в игре здесь нет — та же традиционно-условно-театральная манера исполнения: напевная декламация, неестественные позы, усиленная жестикуляция. Репертуар вряд ли мог отвечать взыскательному вкусу. Шли те же веселенькие водевили, что и в Курске. Однообразие репертуара в определенной степени объяснялось тем, что Павел I в 1797 году запретил постановку новых пьес в провинциальных театрах, прежде чем они будут сыграны на столичной казенной сцене. Обращался театр и к серьезным, главным образом классическим пьесам, но при общем состоянии театрального дела говорить о глубине их сценического прочтения не приходится. Да и зрители потакали лишь развлекательным, увеселительным зрелищам, видя в театре потеху. Но выбора у Щепкина не было, он рад был снова окунуться в родную стихию. Его талант быстро оценили коллеги и зритель. Щепкин сразу вошел в репертуар театра, который включал тогда полный набор его форм — драму, комедию, трагедию, водевиль, оперу, балет, феерию. Роли играл разноплановые: от «благородных героев» в трагедиях до женских ролей в комедиях, являясь Еремеевной в «Недоросле» Фонвизина или Бабой-ягой с помелом в комической опере Стабингера «Баба-яга». Доводилось выступать и в… балете. На одном из балетных спектаклей произошел с ним курьезный случай. Михайло Щепкин (так его называли на Украине) участвовал в одной батальной сцене — неприятель наступал, стремясь захватить крепость, а ее защитники отражали его атаки. Михайло должен был надежно стоять на стене, отбиваясь от врага. На репетиции постановщик балета и исполнитель главной роли Штейн объяснял ему: «Вы не очень беспокойтесь, только стойте на стене и отбивайте удары осаждающих; я сам буду стоять на лестнице против вас, а вы отражайте мои удары вот так (и он показал ему фехтовальные приемы). А когда нужно будет взойти на стену, я тогда легко вышибу у вас оружие; вы, однако, старайтесь держать его крепко и не поддаваться: оно само выпадет». Этим и закончилась репетиция. Штейн был учителем фехтования и, разумеется, не сомневался в том, что все произойдет именно так, надеясь на совершенное владение оружием. На спектакле Щепкин, помня наказ постановщика, так лихо отбивал все натиски врага, что, когда подоспело время крепости пасть, Штейн никак не мог выбить у него оружия и взобраться на стену. Не помогали ни разящие удары атакующего, ни словесные вразумления, ни угрозы. Щепкин стоял насмерть. Исход боя решен был лишь тогда, когда нападающие пришли на подмогу предводителю и напали на разгоряченного защитника крепости с тыла. Публика была в восторге. Потом представился еще один случай отличиться Щепкину в балетном спектакле, публика его вызывала на «бис», а Штейн такой благосклонности не удостоился, поэтому, дабы не искушать свою судьбу, он отстранил Михаила Семеновича от участия в балетных спектаклях. Напрасно Щепкин опасался поначалу, что не сумеет на равных играть с харьковскими артистами. Не только смог, но скоро и сам имел все основания преподать урок многим, о чем свидетельствует отзыв о его игре известного украинского драматурга и общественного деятеля Григория Федоровича Квитка-Основьяненко. «В труппе Штейна, — писал он, — явился у нас в первый раз прибывший из Курска М. С. Щепкин… его никто не наставлял и не учил: таланта, подобного Щепкину, нельзя произвести, он сам родится, и часто бывает неизвестен своему хозяину до времени. Мы все, не видевшие далее провинциальных театров, в Щепкине начали понимать, что есть и каков должен быть актер… так нам ли было учить его?» Артисту сопутствовал успех, в каком бы амплуа он ни выступал, но больше всего он любил комедийные роли, здесь он чувствовал себя в самой родной, излюбленной стихии. Местные зрители отметили игру молодого актера и стали ходить «на Щепкина». «Публика, бывшая прежде равнодушною к подобным зрелищам, — вспоминала его сестра Александра Семеновна, — до того вдруг оживилась игрою Щепкина, и вообще представления сделались до того интересными, что почти везде начали толковать о театре и преимущественно об игре новоприбывшего артиста, и сборы театра значительно увеличились». А при том, что свое жалованье актеры получали в прямой зависимости от сборов за спектакли, уважение к таланту Щепкина росло и в труппе. Однако положение театра, его статус в обществе оставался незавидным. Публика по-прежнему воспринимала его как потешное средство, зрелище для увеселения. Добиться перелома в зрительском сознании было крайне сложно — не хватало содержательного драматургического материала, да и сам творческий потенциал театральной труппы был еще достаточно скуден. И театр шел на поводу у публики как в формировании репертуара, так и в манере игры. Да и положение актеров театра было недостойное, большинство их влачило жалкое существование. Грошевые заработки, бесправие, полная зависимость и от начальства, и от сильных мира сего. Щепкин не раз был свидетелем того, как любой из состоятельных людей мог незаслуженно обидеть их, унизить, оскорбить, посягнуть на их честь и достоинство, даже на их скудное имущество. Не раз в кругу своих друзей он рассказывал историю, которая впоследствии легла в основу повести В. А. Соллогуба «Собачка», автор только изменил слегка имена ее персонажей, но они были легко узнаваемы. Так, Штейн предстал в повести под фамилией Шрейна, Калиновский — Поченовского. Среди действующих лиц был выведен и Щепкин как молодой актер. История была такова. Как-то во время Успенской ярмарки в Харькове жена городничего Экка увидела очаровательную болонку, принадлежавшую премьерше театра А. И. Калиновской, и пожелала взять ее себе. Любящий супруг незамедлительно вызвал к себе мужа актрисы и потребовал у него собачку. Зависимое положение актеров от барских капризов приучило их к покорности. Но до какого-то предела. Супруги Калиновские играли первые роли в театре и такого унижения перенести не желали, к тому же премьер был поляком с горячей кровью. «Какая дерзость!» — возмутился он и отказался удовлетворить прихоть городничихи. Тогда Экк, сговорившись с архитектором города, распорядился опечатать «заветхостью» здание театра. Труппа попала в тяжелое положение. Никакие просьбы и жалобы не помогли, театр нес убытки и оказался на пороге разорения. Пришлось идти на поклон к городничему. Тот встал в позу обиженного и потребовал к тому же пятьсот рублей себе, триста архитектору, а жене своей в качестве компенсации за нанесение обиды и долгое ожидание вожделенной собачки — шаль стоимостью не менее трехсот рублей. Условия невероятные и грабительские, но выхода не было, пришлось соглашаться. Такой ценой театр получил право выступать на ярмарке. «Все было в действительности так, как описано, — отозвался о повести В. А. Соллогуба Щепкин, — и автором даже еще много смягчено». Обычно в период Крещенской (3—25 января) и Успенской (2—25 августа, по старому стилю) ярмарок труппа играла спектакли в Харькове, а остальное время вынуждена была гастролировать по южным и юго-западным городам России, чтобы обеспечить сносные сборы. Особенно часто и подолгу задерживались в Полтаве и Курске. Во время очередных гастролей театра в Полтаве его спектакли удостоил своим вниманием военный генерал-губернатор Малороссии князь Николай Григорьевич Репнин-Волконский, прославившийся в битве с французами под Аустерлицем, брат будущего декабриста Сергея Григорьевича Волконского. Посетил театр он не случайно. Поселившись в Полтаве, он решил сделать ее административным, политическим и культурным центром Украины, «украинскими Афинами». На театр Репнин смотрел как на одно из средств достижения своей цели и поэтому решил собрать в Полтаве свою постоянную труппу. Михаил Щепкин в числе первых получил приглашение властей города с обещаниями покровительства «г.г. артистам во всех нуждах». Предусматривалось также, что «все ярмарки будут находиться в полном распоряжении г.г. артистов, относительно зрелищ как в полтавском, так и харьковском театрах». Все актеры, кому князь предложил место в полтавском театре, охотно и с благодарностью дали свое согласие. Щепкин, не отказываясь, вынужден был признаться, что «от себя не зависит, потому что принадлежит, по несчастному стечению обстоятельств, к помещичьей власти». А когда князь выразил желание откупить его на волю, актер заявил, что он человек семейный и один не будет рад такой свободе. Ответ этот несколько озадачил Репнина, но он понимал, что рассчитывать на большой успех театра без его ведущего артиста — дело безнадежное, и, поразмыслив, сообщил, что «кажется, нетрудно будет собрать через пожертвования необходимую для выкупа сумму». История выкупа Щепкина из крепостной зависимости составляет особую главу в его биографии.История раскрепощения
Так уж повелось на Руси, что талантов она рождала в редком изобилии. Может, потому и не ценились они, мол, добра этого нам хватает, да еще и чинились всяческие препятствия для их благоприятного развития. Немногим удавалось пробиться через всевозможные ограничения, препоны, воздвигнутые и крепостной зависимостью, недоступностью образования, культурных ценностей. И все же частокол этот народные самородки умудрялись преодолевать, заявляя всему миру о своем ярком, выходящем за черту обыкновенности даровании и становясь великими художниками, музыкантами, поэтами, писателями, учеными, актерами… Сколько их, властелинов сцены, как Михаил Семенович Щепкин, вышло из самих «низов» общества! Крепостными были и выдающаяся русская актриса Прасковья Ивановна Жемчугова, дочь кузнеца, вступившая со славой на подмостки крепостного театра графа Шереметева, и Екатерина Семеновна Семенова, актриса петербургской драматической труппы, и Любовь Павловна Никулина-Косицкая, актриса Малого театра. О своем детстве она вспоминала: «Мы были дворовые крепостные люди одного господина, которого народ звал собакою. Мы, бывши детьми, боялись даже его имени, а сам он был воплощенный страх. Я родилась в доме этого барина, на земле, облитой кровью и слезами бедных крестьян. Помню страшные казни, помню стоны наказанных — они до сих пор еще звучат в моих ушах». К сожалению, подобные случаи обращения с крепостными не единичны. Щепкин не раз вспоминал трагическую судьбу крепостной актрисы, ставшей героиней повести А. И. Герцена «Сорока-воровка». Да и отец великого трагика Павла Степановича Мочалова, как известно, пребывал в крепостных. Мало кто знает, что предки Константина Сергеевича Станиславского также были зависимыми людьми. А сколько талантов осталось в забвении, сколько дарований загублено жестокими обстоятельствами, сколько рожденных для славы оказались «подстреленными» на лету, не достигнув зенита успеха… Ту же участь вполне мог разделить и Щепкин, не окажись судьба к нему более милостивой. Известно, что потерять свободу легко, несоизмеримо труднее обрести ее. Для того чтобы записать за собой попова сына, деда Щепкина Григория, графу Волькенштейну достаточно было подать прошение в уездный суд, а чтобы выйти из крепостной зависимости, роду Щепкиных пришлось потрудиться около ста лет. Дед Михаила Семеновича Щепкина, хотя и не был обделен здоровьем, но в долгожителях не ходил, а потому, стало быть, умер крепостным. Судя по всему, не хватило бы всей жизни для того, чтобы откупиться и его сыну Семену Григорьевичу, если бы не удачливость его младшего сына, ставшего актером. А пытался он это сделать не раз, за что поплатился господским расположением и испытал немало притеснений со стороны графа. Не желая дальше мириться со своим положением подданного и с тревогой думая о будущем своих детей, Михаил Семенович решился написать письмо в Москву, где жили его вольные родственники, с просьбой прислать свидетельство о том, что никто из рода Щепкиных до закрепощения Григория Ивановича никогда в крепостных не состоял. Томительными были дни ожидания. Наконец, получив такое свидетельство, подписанное его родственниками и подтверждающее духовное происхождение рода Щепкиных, своими корнями уходящего в глубь столетий, к временам царствования Алексея Михайловича, Семен Григорьевич, не скрывая более своих намерений, составил прошение об освобождении его и семьи от крепостной зависимости. С этими бумагами отправился он в 1806 году в Мещовский уездный суд, чтобы восстановить справедливость. Узнав об этом, граф поначалу пришел в ярость, но, поостыв, решил гнев свой попридержать и выведать, не появился ли у Щепкиных какой-то влиятельный покровитель, и еще заручиться поддержкой суда. Семену Григорьевичу он с нарочитой обидой выговорил, что зря он необдуманно затеял это дело, сразу не обратившись к своему благодетелю, который и сам подумывал об отпускной, да недосуг все. Не подозревая о неискренности графа и устыдившись своего поступка, Семен Григорьевич приостановил начатое судебное дело и стал ждать господской милости. Но как только граф выяснил «позиции» и заручился безусловной поддержкой судебных чиновников, быстро изменил тон. Не скрывая своего раздражения и не стесняясь в выражениях, он дал понять своему подданному, чтобы тот на благоприятный исход дела не рассчитывал. Вскоре отец лишился места управляющего. «За желание освободиться из крепостного состояния, — писал младший брат Михаила Щепкина, — отец испытал такие страшные гонения и преследования, что даже трудно поверить, как он мог перенести все эти невзгоды». Впрочем, Семен Григорьевич не смирился с поражением, снова написал в Москву двоюродному брату Степану Петровичу, служившему в Синодальной конторе, надеясь на его помощь, но тот, видимо, опасаясь за свое место в конторе, решил просто отмолчаться. Безуспешность хлопот сильно удручила Семена Григорьевича, подорвала здоровье. Потеряв надежду вырваться на волю, он совсем ушел в себя, замкнулся, сразу как-то постарел, стал прихварывать. Михаил Щепкин тяжело переживал неудачу отца, но, оставаясь по-прежнему подданным графа, вынужден был до поры до времени скрывать свои чувства, понимая, что графская немилость может в любой случай перейти и на него. А господам льстило, что их подданный выдвинулся в число первых актеров сначала курского, потом харьковского, а теперь и полтавского театров. Михаил «уже не сидел в барской передней, — писал один из исследователей творчества Щепкина Николай Эфрос, — не прикладывался каждый раз к ручке, не прислуживал лакеем на больших званых обедах у Волькенштейнов или их соседей, как случалось раньше». Но кто мог поручиться, что этого первого актера, любимца публики, не отправят вновь на кухню, в лакейскую или в деревню на землемерные работы (такая попытка будет предпринята в действительности)? Несвобода тягостна и унизительна для любого человека, а для того, кто вкусил радость свободного творчества, зрительский успех, она горька вдвойне. Щепкин-сын не мог более мириться с унаследованной неволей и при переходе в полтавский театр решил попытать счастья, сделать то, что не удалось отцу, благо что сам Репнин обещал поддержку. К тому же граф к этому времени отошел в мир иной. Семен Григорьевич, прознав о намерениях сына, сильно обеспокоился, стал отговаривать его от рискованной затеи, помня постоянно о своей незаживающей душевной ране, но, столкнувшись с непреклонностью сына, благословил его на святое дело. Слух о желании Михаила Щепкина освободиться со своим семейством от крепостной зависимости дошел до графского дома и вызвал неудовольствие… Первое, что сделала графиня, тотчас отозвала строптивца в свое имение. Михаил вынужден был подчиниться, но заручился письмом от князя Репнина, который, обращаясь к графине, писал: «Я, пользуясь сим случаем, считаю своим долгом свидетельствовать Вам о хороших свойствах его (Щепкина. — В. И.) и что он, отличаясь всегда чрезвычайным талантом в представлении назначаемых ему ролей, доставляет тем приятнейшее удовольствие всей полтавской публике…» В конце письма Репнин просил графиню отпустить Михаила обратно в Полтаву, чтобы за десять дней до Пасхи он мог приступить в театре к исполнению своих актерских обязанностей. Письмо князя серьезно осложнило задачу графини отлучить Щепкина от театра и пресечь все попытки к освобождению, но конфликтовать с князем был не резон, пришлось уступить. Однако графиня не удержалась от того, чтобы утвердить свои права на Щепкина, и в ответном послании Репнину предупреждала его: «Хотя сей человек, по своим познаниям в землемерной науке мне крайне нужен, но, желая вашему сиятельству, как мною почитаемой особе, услужить, увольняю его к вашему сиятельству с покорнейшею моей просьбою, что когда он, Щепкин, мне необходим будет, то тогда отпустить его ко мне». Понимая, что дальше медлить нельзя, Репнин по прибытии Щепкина пишет письмо брату графини — Петру Абрамовичу Анненкову в надежде на его сговорчивость и просит назначить сумму, за которую можно «освободить г-на Щепкина с семейством на волю». Ответ, однако, пришел на имя самого артиста. Граф стыдил его: «Миша Щепкин! Так как ты, видно, не расположен быть благодарным за все то, что твой отец приобрел, бывши у графа, за воспитание, данное тебе, то графиня желает всем вам дать вольную, т. е. вашей фамилии — отцу твоему со всем семейством за 8 тыс., ибо семейство ваше весьма значительно. Ежели ты хочешь оную получить, — приезжай поскорее, так ты получишь, не теряя времени». Письмецо с секретом — то ли граф решил поиздеваться над актером, заломив такую неслыханную сумму, чтобы разом отбить охоту у его покровителей настаивать на выкупе, то ли хотел пригрозить ему, унизительно называя при этом уже известного, на тридцатом году жизни артиста — «Миша Щепкин». Михаил не спешит предстать, «не теряя времени», перед господами лично. Делу был дан ход, и ему лишь оставалось наблюдать за дальнейшим развитием событий. Репнин между тем пишет новое письмо графине Волькенштейн, пытаясь убедить ее в том, что талант Щепкина «заслуживает одобрения: предоставления ему всех способов образовать и усовершенствовать оный, к чему совершенно преграждается возможность, если он не будет свободным». И далее пробует поторговаться о цене за актера — «… поскольку семейство его состоит из четырех мужского пола душ, в числе коих один старый отец, а другой — малолетний сын его, то я полагал бы достаточным четыре или пять тысяч рублей». Приведенные князем доводы вызвали в графине только гневную досаду, она уже из принципа упрямо стояла на своем, тяжба принимала бесперспективный, тупиковый характер. Надо было изыскивать искомую сумму. Сам Репнин раскошеливаться не собирался и согласился с предложением Котляревского дать спектакль в пользу Михаила и организовать подписку в «награду таланта актера Щепкина (так гласил подписной лист) для основания его участи». Общественность города с сочувствием отнеслась к судьбе своего любимца и с готовностью отозвалась на благородный призыв. Так, герой 1812 года Сергей Григорьевич Волконский внес в общую копилку пятьсот рублей, после чего взял подписной лист и при полном параде — в мундире, со звездой на груди и лентой бригадного генерала — сам обошел многие богатые дома. Конечно, никто не хотел выглядеть хуже соседа, и в подписном листе обозначились обнадеживающие цифры. Однако на деле все оказалось скромнее. Живых денег набралось лишь на сумму в четыре тысячи, половина требуемого. Сам князь Репнин пожертвовал двести рублей. Пока шел сбор средств для выкупа, графиня Волькенштейн скончалась и имение вместе с крепостными до совершеннолетия ее детей перешло в руки опекунов. Рассчитывая на их сговорчивость, Репнин послал в Курск на имя своего доверенного — генерала Ушакова — четыре тысячи рублей с просьбой помочь выкупить крепостного Щепкина с семейством. Но опекуны были не прочь увеличить сумму, благо появился нежданный покупатель, предложивший уже десять тысяч. То был орловский помещик С. М. Каменский, в театре которого Щепкин отказался играть в знак протеста против его бесчинств и жестокостей обращения с крепостными. В знак серьезности своих намерений помещик прислал десять тысяч наличными. Теперь над самим Щепкиным нависла угроза попасть в руки властолюбивого садиста. Анненков письменно, в приказной форме отзывает Щепкина в имение, предупреждая: «Так как покойная сестра моя осталась должна, то, удовлетворяя долги ее и покойного графа, мой долг же о малолетних стараться и для выгод их почтенных…» Понимая, что опасность серьезна, Репнин дает строгое указание директору театра: «На случай бы Анненков вздумает прислать в Полтаву за Щепкиным, не отпускать его ни под каким предлогом, ибо непростительно будет нам, начав благое дело, не докончить его». Поняв, что Щепкин не торопится предстать перед его очами, Анненков пишет Репнину, чтобы тот отпустил «Михайлу Щепкина, к которому и приказ послан, но он не внемлет ему». Репнин с ответом не замедлил: «Дирекция театра, желая в продолжение нынешней осени и зимнего времени собрать нужную на годовое содержание театра, предложила делать частные представления пьес, и важнейшие роли назначила Щепкину, отличающемуся всегда своим талантом; следовательно, нет никакой возможности отпустить его теперь к вам, ибо через то публика лишена будет удовольствия и сделается расстройка и убыток дирекции, которая, видя добрые свойства Щепкина, также способность и старание быть хорошим актером, решилась доставить ему свободу посредством выкупа, дабы тем дать способ образовать свой талант и усовершенствовать его». Одновременно Репнин просит Ушакова как можно скорее заплатить недостающие четыре тысячи рублей и «употребить все средства склонить Петра Абрамовича (Анненкова. — Ред.) на скорейшее свершение акта». Ушаков с этой задачей справился успешно. Уплатив недостающие четыре тысячи, он вынудил Анненкова тотчас послать запрос в сенат на продажу крепостного Щепкина князю Репнину, «дабы после отпускная могла быть дана от лица Вашего сиятельства», — сообщал он Репнину. Заканчивал свое письмо Ушаков торжествующе, с чувством исполненного долга, вовремя упредив злонамеренные действия графа Каменского — тот прислал в тот же день уже двенадцать тысяч рублей за Щепкина, но «дело уже было кончено». Да, страшно подумать, как сложилась бы судьба великого артиста, опоздай Ушаков хоть на день… Однако точку в этой драматической эпопее еще было ставить рано. Пришлось ждать почти два года (с октября 1818 года по август 1820 года), пока сенат даст разрешение на куплю-продажу, но до свободы желанной еще было далеко — Щепкин лишь поменял хозяина, теперь он был за Репниным. Михаилу-то казалось, что он уже вольный человек, а узнав от Котляревского, что «крепость прислана князю», был совершенно подавлен и растерян. «Эта весть так меня озадачила, — вспоминал артист, — что я не сразу собрался с духом спросить, какая крепость — ведь меня князь выкупал, а не покупал?.. И вот я вместо свободы опять крепостной, с тою только разницей, что прежде отец получал от управляющего делами, по назначению бывших господ, хлеб, крупу, дрова, сено и жил в своем доме, а теперь все это будет на моих руках: отец, мать, брат, четыре сестры, племянница, потом я с женой и тремя детьми, что составит несчастное число — тринадцать. Какой из этого будет выход — один бог разгадает… Хотя в Полтаве жизнь и не дорогая, но все этих денег (две тысячи рублей жалованья. — В. И.) недостанет на содержание семейства: одна квартира с дровами около 500 руб., потом работница, потом на тринадцать человек чайку, сахарцу, потом пища, обувь, одежда. Ну, думаю, у меня жена мастерица шить, сестры будут помогать, — бог даст, как-нибудь проживем, а в будущем, что бог даст… И пошла наша жизнь тянуться самым недостаточным образом». Жизнь семейства Щепкиных вместе с родственниками, которые тоже переходили теперь в собственность князя Репнина, потянулась действительно «самым недостаточным образом». Денег, вырученных отцом за продажу хозяйства, едва хватило на переезд в Полтаву да на первое время устройства на новом месте. А поскольку каких-либо сбережений за все годы бескорыстной службы у графа Семен Григорьевич не имел, то скоро семья стала испытывать настоящую нужду. Только за квартиру с отоплением приходилось выкладывать четверть жалованья в театре. Но ведь нужно было еще прокормить тринадцать домочадцев, через два года семейство увеличилось: в 1820 году родился сын Николай, а годом позже — Петр. В это трудное время особенно пригодилось умение жены Щепкина Елены Дмитриевны вести экономно хозяйство, шить, создавать уют в доме. Она обшивала не только семейство, но и умудрялась брать заказы. Искусство всегда помогало Михаилу Семеновичу переносить жизненные невзгоды, обиды, унижения. Вот и теперь, оказавшись в стесненных обстоятельствах, да еще на положении полукрепостного-полусвободного, он весь уходит в работу, «еще добросовестнее, — как сам утверждал, — начал заниматься моим делом и больше подумывать о том, что играешь». Он стал более обостренно воспринимать действительность. Лишь на исходе третьего года томительных ожиданий Репнин подписал отпускную Михаилу Щепкину, его жене и дочерям Фекле и Александре, а через полгода — отцу, матери и двум сестрам, остальных членов семьи оставил за собой под залог до тех пор, пока Щепкин не выплатит четырех тысяч рублей, внесенных им Анненкову. Денег таких у артиста не было, поэтому он предложил своему кредитору четыре векселя по тысяче рублей с обязательством оплатить их в течение четырех лет. Князь, считая, и не без оснований, Щепкина несостоятельным должником, рисковать не хотел и потребовал от него имущего поручителя. Против ожиданий князя такой поручитель скоро нашелся в лице известного украинского историка, автора «Словаря достопамятных людей Русской земли» Дмитрия Николаевича Бантыш-Каменского. Зная не хуже Репнина о некредитоспособности в то время Щепкина, он не убоялся поручиться за него, ибо речь шла о святом деле — полном освобождении рода Щепкиных из крепостного состояния. Дмитрий Николаевич был самого высокого мнения о даровании актера: «Каждую свою роль он доводит до совершенства, — писал молодой ученый, — от представления к представлению она становится лучше. Побольше бы нам таких артистов! Отечественный театр стал бы выше всех в мире». Каменский был деятельным патриотом, потому в критический момент он с готовностью поддержал Щепкина. В отличие от Репнина, который все же оставался крепостником и в первую очередь жил в кругу своих интересов и лишь потом являлся покровителем искусства. Характерна короткая запись, оставленная Феликсом Григорьевичем Толем, будущим петрашевцем: «Репнин однажды взял его (Щепкина. — В. И.) с собой на обед, даваемый Трощинским, и представил хозяину как даровитого провинциального актера; несмотря на то, его посадили за особый стол одного». Потом, правда, как признавался сам Щепкин, Репнин заметил хозяину дома о его «неделикатности» по отношению к приглашенному актеру, но тому так и пришлось сидеть за «особым» столом. Неизвестно, как бы разворачивались события, не окажись рядом с Михаилом Семеновичем бескорыстных, прогрессивно настроенных молодых людей, готовых прийти на помощь по идейным убеждениям, по душевному порыву, так же как и Щепкин, ненавидевших крепостничество. Именно поэтому Бантыш-Каменский не задумываясь поручился за него, а генерал Сергей Григорьевич Волконский взял на себя заботы по подписке в пользу актера. О духовной близости Щепкина передовой общественности, о его непримиримом отношении к крепостничеству свидетельствуют строки, опубликованные в герценовском «Колоколе». Речь шла о бывшем крепостном, тираноборце, авторе книги «Народ и государство», а также письма к Александру II — Петре Александровиче Мартьянове, осужденном после этих публикаций на пять лет каторги. Это о нем Герцен однажды сказал: «Мартьянов ненавидел крепостное право и крепостников, как Михаил Семенович Щепкин, как Шевченко». Большой поклонник театра, писатель Александр Александрович Стахович был знаком со Щепкиным и не раз слышал, как он читал запрещенные стихи: «Иногда сидит, задумавшись, Щепкин и тихо начнет произносить стихотворение Пушкина:Полтава
Обещание выкупа из крепостной зависимости, конечно, было важным, но не единственным мотивом перехода Щепкина из харьковского театра в полтавский. Здесь были более богатые возможности для творчества и профессионального роста. Значительно интереснее и содержательнее был репертуар полтавского театра. Естественно, здесь тоже было в достаточной степени развлекательных пьес-однодневок, но истинное лицо театра определяли не они, а пьесы прогрессивных русских, украинских и зарубежных драматургов — И. А. Крылова, Я. Б. Княжнина, Д. И. Фонвизина, В. А. Озерова, В. В. Капниста, И. П. Котляревского, А. Ф. Коцебу, П. О. Бомарше, Р. Б. Шеридана и других. Полтавский театр опережал другие коллективы тем, что он смог собрать яркую и талантливую труппу, в которой были актеры по своей манере игры, близкой к Щепкину, прежде всего это Павлов, Угаров. Их талант Михаил Семенович ставил высоко, не гнушался учиться у них, отмечал большую достоверность изображаемых ими лиц, естественность поведения на сцене, выражения чувств и страстей. Они вслед за Мещерским произвели «решительное влияние на его понятия о сценическом искусстве». Аксаков писал: «Замечательный актер Павлов, выехавший из Казани и странствовавший тогда по разным театрам… с необыкновенною для того времени истиною и простотою играл многие роли, особенно роль Неизвестного в комедии Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние». Актера Павлова мало понимали и мало ценили, но Щепкин понял, оценил его и воспользовался добрым примером, несмотря на противоположное значение своего амплуа». С Угаровым Михаил Семенович был одного амплуа, но не было ни в ком из них чувства зависти, ревнивого соперничества. Каждый ценил талант другого, между ними всегда были уважительные отношения. «Естественность, веселость, живость, при удивительных средствах, поражали нас, — писал об игре Уварова Щепкин, — и, к сожалению, все это направлено было бог знает как, все игралось на авось! Но если случайно ему удавалось попадать верно на какой-нибудь характер, то выше этого, как мне кажется, человек ничего себе создать не может». Михаил Семенович навсегда остался благодарен Павлову и Угарову за то, что они укрепили его в правильности избранного пути, помогли утвердить свою правду на сцене. Он верил в их талант и блестящее театральное будущее, но эти надежды не оправдались. Слишком сильны были старые заскорузлые традиции, привычные штампы на российской сцене. Спустя несколько лет Павлов, достигнув широкой известности на провинциальной сцене, сделал попытку вступить в труппу Московского Императорского театра. Но когда он «во время репетиции, по свидетельству брата Щепкина Авраама Семеновича, стал употреблять обыкновенный естественный разговор, которым он действительно вполне обладал в высшей степени, то г. директор заметил ему, что простой разговор на сцене неупотребителен: тут требуется непременно декламация. Г. Павлов тотчас оскорбился и, не умея скрыть волнения, тут же сказал: «Ваше превосходительство! Чтобы судить об искусстве, для этого недостаточно генеральского чина». Разумеется, дебют в театре не состоялся… Не стал исключением и Угаров. Его гордый, независимый нрав возмущал начальствующих театральных чиновников. Претерпев немало лишений, он вынужден был и вовсе покинуть сцену. Так русский театр потерял, по мнению Щепкина, больших артистов, равных которым он еще не видел. Полтавский театр возглавлял незаурядный, талантливый человек, автор пьес, вошедших в золотой фонд украинской драматургии, — Иван Петрович Котляревский. Заметим наперед, что исполнение Щепкиным ролей Выборного и Чупруна в популярных его пьесах «Наталка-Полтавка» и «Москаль-Чаривник» признано считать вершиной его сценического творчества на украинской сцене. Так что не только личные, но и художественные, творческие интересы привели Михаила Семеновича в полтавский вольный театр. Их совпадение самым благоприятным образом повлияло на развитие щепкинского таланта. Полтава — город славных дел Петра Великого и Богдана Хмельницкого, Григория Сковороды и Николая Гоголя, Тараса Шевченко и Ивана Котляревского, декабристов Сергея Волконского и братьев Матвея и Сергея Муравьевых-Апостолов. Древний город, уходящий своими корнями в глубь веков (по последним раскопкам ему отводят возраст старше XII века, как это было принято до сих пор), складывался столетиями, что наложило свой отпечаток на весь его облик. Полтава сочетала старину и современность, хранила память об исторической победе русского оружия в войне со шведами. На месте, где, по преданию, Петр отдыхал после победоносного сражения, стоит памятник. Спасская церковь, у стен которой русские воины поклялись стоять насмерть, и высокий земляной холм с деревянным крестом наверху, под которым покоится прах погибших героев, напоминают потомкам о славной истории. Город занимал выгодное стратегическое и географическое положение — здесь сходились дороги, ведущие из северных столиц в южные города России. Движение по ним было и тогда оживленным, поэтому внешнему облику Полтавы придавалось большое значение. Заметный след в его архитектуру внесли XVIII и особенно XIX века, когда центр перестраивался по образцу улиц и площадей Петербурга. Не всем по душе пришлась эта перестройка, изменявшая сложившийся облик города, но заметны были и благотворные перемены. «Там старые дома ломают, — замечает Котляревский, запечатлев эти события в «Наталке Полтавке», — да застраивают улицы новыми домами, да красят, да мостки для пешеходов делают, чтобы в грязь ходить можно было, — смотреть любо… город станет, словно мак зацветет! Если бы покойные шведы, что под Полтавой погибли, восстали, то не узнали бы Полтавы!» Здание театра тоже было новое, каменное, построенное в 1818 году предшественником Репнина генерал-губернатором Я. И. Лобановым-Ростовским, разумеется, на средства, собранные с горожан. В прошлые времена пожертвования народа на благие дела — закладка храма, памятника, культурного учреждения было явлением обычным. Часто такого рода стройки носили всенародный характер, объединяя людей во имя добра и красоты родных мест. В целом же Полтава, как и многие российские города, была городом контрастов, высокое соседствовало с низменным. К театру теснились кабаки, светская речь перебивалась истошными криками хозяек, поносивших подвыпивших мужей, свежевыбеленные стены домов выделялись нарядностью среди грязных луж и глухих купеческих заборов, все странным образом переплеталось, уживалось, составляя своеобразие города. Материальное положение и условия быта актеров полтавского театра были получше, чем в других городах. Многие актеры жили в казенных, достаточно удобных для житья квартирах. Благодаря успешной подписке на абонемент лож и кресел среди имущих горожан, введенной Котляревским, выручилась необходимая сумма денег, актерам было назначено постоянное жалованье, удалось нанять неплохой оркестр. Михаил Щепкин, как и другие ведущие актеры, получил жалованье тысяча пятьсот рублей в год. Скоро он смог выписать к себе жену и детей, а после того как вольную получили родители, братья и сестры, под полтавским кровом оказалось семейство из 16 домочадцев. Хотя к жалованью прибавилось еще пятьсот рублей, жить на эти средства было затруднительно, но все отступало перед страстным желанием работать, творить. Обретенная свобода только прибавляла силы, оптимизм, тяготы жизни отступали на задний план. В 1858 году в письме к Тарасу Григорьевичу Шевченко, вспоминая об этом времени, Щепкин признавался: «Я в Полтаве получал 2 тысячи ассигнациями, без бенефиса, а у меня было 16 человек семейства. Конечно, я ел только борщ да кашу; чай пил вприкуску, а, право, мне было хорошо». Хорошо — от полноты семейного счастья, от сознания независимости положения своего и домашних, от удовольствия, которое давали работа в театре, успех у зрителей, уважение коллег, общение с новыми, интересными людьми. У Котляревского, где часто бывал Щепкин, собиралось яркое созвездие личностей и среди них будущие декабристы, просветители — Сергей Григорьевич Волконский, братья Матвей и Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Николаевич Новиков. Обновление труппы театра, появление в ней любимца харьковчан Щепкина вызвали живой интерес у публики, прибавили авторитет театру. Получив роли почти во всех спектаклях, Щепкин покорил полтавчан. Его естественность, искренность, помноженная на блестящую игру, завораживали публику. Он «каждую роль, — вспоминала Александра Семеновна Щепкина, — одушевлял и оживлял игрой своей» и притом всегда был верен жизненной правде. Щепкин, Угаров, Павлов задавали тон игры, под который уже подстраивались другие актеры. Щепкин даже самой пустяшной роли придавал вес, укрупнял ее, дополняя типичными, характерными чертами, но индивидуальной своей окраски ни один персонаж не терял. «Кроме живости, естественности и верности представляемых лиц, — писал об игре Щепкина содиректор театра Алексей Осипович Имберг, — у него проявлялась какая-то особенная типичность, которая невольно давала нам чувствовать, что вы как будто видели в самом деле представляемое лицо». Откуда же бралась у Щепкина эта «особенная типичность»? Из жизни, вестимо. Михаил Семенович любил повторять, что знает русскую действительность «от дворца до лакейской». Обладавший редкой наблюдательностью художника и цепкой памятью, он хранил в своей «кладовой» бесценные знания жизни, подмеченные детали, подробности и, когда приходило время, вытаскивал их на свет божий и оснащал ими каждую свою роль, поражая всех тонким пониманием российского быта, обычаев, убедительностью изображаемых портретов, их узнаваемостью. Его герои вызывали сочувствие, зрительный зал сопереживал им, поддаваясь магнетизму щепкинского таланта. Играя в незатейливой комической опере К. А. Кавоса «Мнимый невидимка, или Суматоха в трактире» роль содержателя гостиницы Панкрата — невероятного ревнивца, — Щепкин так искренне показывал все его переживания и злоключения, что публика, умирая от хохота, столь же горячо сочувствовала герою. По сюжету оперы друзья убедили несчастного ревнивца, что есть магическое слово, благодаря которому он, становясь якобы невидимым, может проверить все свои подозрения. У зрителей особую жалость вызывал Панкрат — Щепкин в сцене, когда он забывает магическое слово, чтобы вновь стать «видимым». «Отчаяние его так живо представлено было, — вспоминала А. С. Щепкина, — что оно невольно казалось безнадежным». Зритель настолько заражался игрой актера, что все происходящее на сцене ему казалось реальностью. Подобный эффект достигался актером и в легкой комедии «Подложный клад, или Опасно подслушивать у дверей» (переделка с французского Н. И. Ильиным текста комической оперы Ф.-Б. Гофмана), в которой Щепкин играл роль скряги Подслухина. Наивысшего сочетания комического и трагического актер достигал в сцене, когда герой наконец находил шкатулку, где по всем его расчетам спрятаны драгоценности, открывал ее и… находил всего лишь записку с ехидным советом обходиться, как и прежде, без клада. Герой буквально «остолбенел от изумления… прерывающимся голосом» прочитал злополучную записку и «чуть не упал в обморок». Все нюансы состояния героя были так тщательно отыграны, оттенены, что зритель верил всему всецело и искренне сопереживал герою. Эта поразительная достоверность в игре привела однажды к курьезному случаю. Исполняя главную роль в спектакле «Жидовская корчма» П. Н. Семенова, любимец публики так точно скопировал полтавского городничего Абрама Моисеевича Зеленского, что все без труда узнали его. «Можно подумать, что сам Зеленский вошел на сцену, — с удивлением делился своими впечатлениями один из зрителей, — а бывшие в райке евреи формально кричали: «Ах, батюшки, это наш Зеленский!» Городничий тоже узнал себя и был вне себя от гнева. Как поступить? Запретить спектакль нельзя, все решат, что он публично признает свое сходство с персонажем. И Зеленский избрал другой путь, предложив ежегодно выплачивать труппе по две тысячи рублей при условии, что пьеса будет снята с репертуара и сделка останется в тайне. Но, как известно, ничто не становится так скоро достоянием всех, как тайна. Секрет сей стал известен дотошным горожанам. Дошла эта история и до князя Репнина, недолюбливавшего Зеленского, и потому он распорядился комедию играть еще чаще. Нашумевший спектакль давал огромные сборы, которые во много раз перекрывали обещания городничего… Попутно заметим, что имена Репнина и Зеленского всплывают рядом в другой истории. По словам одного из артистов полтавского театра, в случившийся на Украине неурожайный год жители Полтавы «очень обеднели, все припасы сильно вздорожали, и народ дошел до последней крайности». Репнин предложил купцам открыть несколько продовольственных лавок и торговать по более низкой цене, компенсируя убытки «увольнением этих людей от платежа гильдейских повинностей и всяких торговых свидетельств». Поскольку реализовывать эти добрые намерения предстояло при самом непосредственном участии городничего, то безсогласования с ним этого вопроса было не обойтись. Зеленский же неожиданно для князя воспротивился, охладив его добрый порыв следующим резоном: «Нельзя так поступать, ваше сиятельство, потому что всем прочим купцам обидно будет, когда узнают, что эти продавцы избавлены от платежа всех повинностей и уволены от торговых свидетельств. А кроме того, вместо бедных станут покупать люди зажиточные». Эти прагматичные рассуждения вывели князя из равновесия, и он собственноручно выставил городскую голову из своего дома. Но «кулачная расправа» не обошлась князю без последствий, поступок его был доведен до «высочайшего сведения» и вызвал неодобрение его величества. Дела в театре, в труппу которого вступил Щепкин, шли более или менее успешно. Зрители полюбили актера с первых его выступлений, среди коллег он тоже пользовался искренним благорасположением, его ценили за редкий художественный талант, за доброту и справедливость. Однажды после удачных выступлений на ярмарке и хороших сборов руководство театра решило «первенствующим актерам» сделать прибавку к жалованью. «Когда это было им объявлено, на другой день утром пришел ко мне Михаил Семенович, — вспоминал А. О. Имберг. — Я заметил, что он как-то пасмурен. Когда я поздравил его с прибавкою, он сказал мне: «Я имею, Алексей Осипович, к вам просьбу… Я хотя и сам небогатый человек, но как-нибудь могу еще существовать и без этой прибавки; но я прошу вас исходатайствовать у его сиятельства, чтобы мою прибавку 500 рублей назначили Угарову. Он с семейством крайне нуждается и имеет долги, а эти деньги очень скоро поправят его положение. Я как-нибудь извернусь до времени и эту милость Угарову приму для себя истинною наградою». Прибавку у Щепкина не отобрали, а Угарову «сделано было значительное пособие». Положение семейства Щепкиных еще более упрочилось, когда Семен Григорьевич, став вольным, получил место управляющего в богатом имении помещика Оболенского с ежегодным жалованьем в 1500 рублей и «достаточным количеством провизии». Современников поражали в Щепкине его творческая работоспособность, самоотдача, тщательность в работе, его способность быть самому себе режиссером. К каждой роли он готовился самым старательным образом, твердо выучивал текст, расставлял необходимые акценты, выстраивал мизансцены, а когда роль была готова, в день спектакля, задолго до его начала настраивал себя на ее исполнение. По существу это был метод работы актера над ролью, который спустя столетие Константин Сергеевич Станиславский назовет «вживанием в образ». «Он, так сказать, перерождался в представляемое им лицо до того, — отмечал Имберг, — что перед поднятием занавеса за полчаса… ходил по сцене совершенно отдельно от всех окружавших его, так что если бы кто приставил к груди его пистолет — он бы этого не заметил». Перевоплощался актер в создаваемый образ не только и не столько внешне, сколько внутренне схватывая самую суть образа, его типичные черты, свойства характера, не упуская притом его индивидуальность. Артисту приходилось много играть во французских комедиях, переделанных на русский лад, в пьесах Мольера. И даже при несоответствии физических данных актера какому-то своему герою (маленький рост, излишняя полнота, а позднее и одышка) критики и зрители всякий раз поражались его необычайной способности перерождаться совсем в иную личность, человека другой профессии, национальности. Он становился то типичным французом, то украинцем, то был «настоящий, как бы самой природой созданный еврей». Иван Петрович Котляревский, не раз с удовольствием слушавший рассказы Щепкина о Малороссии в лицах, специально для него написал роли украинцев — выборного Макагоненко в «Наталке-Полтавке» и Михайло Чупруна в «Москале-Чаривнике». Пьесы эти стали как бы ответом Котляревского на «анекдотическую» оперу-водевиль в одном действии «Казак-стихотворец» А. А. Шаховского, в которой образ малороссов, их быт, нравы представлены в искаженном, карикатурном виде. А. С. Пушкин критически отозвался об этой опере, решительно не разделяя высокомерия автора, унижающего достоинство народа, его культуру. Щепкину удалось создать яркие, правдивые, истинно национальные образы украинских героев Котляревского. Видя Щепкина в ролях то хитрого, изворотливого выборного Макагоненко, то дели код ушного, простоватого с виду, но смекалистого, с чувством собственного достоинства поселянина Чупруна, зрители не могли отделить актера от его сценического воплощения: по самой манере говорить, по совершенно особой пластике, способу общения это были самые настоящие малороссы, настолько органичным, естественным был на сцене актер. Увидев Щепкина в роли Чупруна, один из критиков отмечал — он «был совершенно в своей сфере. Одной этой ролью он мог бы прославить себя. Тут-то весь неподдельный, естественный комизм его без малейших фарсов высказался в высшей степени. Неуловимыми оттенками смешались в нем и робость, и леность, и наивность, и неповоротливость, и уморительное молодечество, и во всем блеске врожденный юмор малороссиянина. Михайло Чупрун, без всякого сомнения, принадлежит к числу лучших ролей Щепкина». Эту оценку в равной степени можно отнести и к образу Макагоненко. Впоследствии Михаил Семенович немало сделает для популяризации драматургии Котляревского в России, неизменно беря его пьесы для своих бенефисов, гастрольных выступлений, утверждая их в репертуаре многих театров, в числе которых оказались Москва и Петербург. Столичная публика с восторгом приняла «его» украинцев — и это при сложившемся устойчивом мнении, будто «малороссиянина непременно должно играть как обезьяну и коверкаться и гримасничать сколько возможно более». Щепкин вывел на сцену галерею замечательных украинских образов, вызывая к ним любовь, горячие симпатии и уважение. «В малороссийских ролях он был неподражаем и часто знакомил нас с Малороссией лучше, чем сама история, и даже поэзия», — отмечал М. П. Погодин — историк, профессор Московского университета, писатель. А Виссарион Григорьевич Белинский под впечатлением увиденных ролей напишет: «Щепкин принес на русскую сцену настоящую малороссийскую народность со всем ее юмором и комизмом. До него мы видели в театре только грубые фарсы, карикатуры на певучую поэзию». Самая строгая и требовательная петербургская публика тоже не стала исключением. Вот запись критика: «… Но когда, наконец, в последний раз поднялся занавес и начались сцены из «Наталки-Полтавки», восторг публики доходил до высочайшей степени… Каждый романс публика заставляла Щепкина повторить несколько раз. Когда же… Щепкин, тронутый и взволнованный, как бы поняв грустные чувства публики, задержал на мгновение минуту расставания и запел восхитительные по своей простоте и грации куплеты из пьесы «Москаль-Чаривник», которыми в течение своего пребывания в Петербурге постоянно приводил в восторг… Невозможно описать восторга благодарных зрителей. Едва только Щепкин окончил куплет, как громкие рукоплескания и восклицания «Браво! Фора! Бис!» загремели со всех сторон…» Ну а высшей похвалой артисту было признание украинскими зрителями «за своего». «Особенную бурю восторгов вызывал Щепкин изображением малороссов, которые в его исполнении выходили такими живыми, типичными, что сами малороссы узнавали в нем себя, со всеми своими привычками, особенностями и оригинальностями», — так говорили в Киеве после гастролей русского артиста. Роли Макагоненко и Чупруна в исполнении Михаила Семеновича — пример глубокого и тонкого понимания национальной культуры, уважительного отношения к ней. Щепкин принял и самое деятельное участие в посмертном издании пьес Котляревского, взяв на себя немалые хлопоты по его организации, чтобы выразить таким образом признательность драматургу за свою творческую судьбу и вклад его в развитие отечественного театра. Однако все это еще ждет Михаила Семеновича впереди, а пока он, с восторгом почитаемый публикой, выступает в полтавском театре и уже мечтает побывать в Москве и Петербурге, чтобы увидеть столичных артистов, их игру в императорских театрах. Такая возможность не заставила себя долго ждать. Князь Репнин собрался после ярмарки в Москву, и Щепкин уговорил взять его с собой… Вряд ли можно достоверно сказать, какие спектакли довелось посмотреть Михаилу Семеновичу, однако доподлинно известно, что в Полтаву он вернулся с изрядной дозой разочарования. Ничего нового и полезного для себя он там не почерпнул и вспоминал о своей поездке неохотно и крайне редко. Между тем положение полтавского театра пошатнулось, сборы стали падать, образовался «значительный перевес расхода над приходом». Репертуар театра, не пополняясь новыми, содержательными пьесами, выглядел скудно, художественный уровень постановок, готовившихся наспех, при минимальных материальных затратах, был невысок. На фоне общего неустройства жизни зритель стал терять интерес к театру. «Сборы от спектаклей так малы, — сообщал Котляревский Репнину, — что жалованья за сентябрь не всем актерам выдано. В один вечер в театр пришли только четыре зрителя, взносу сделали 14 рублей, и я принужденным нашелся отказать в спектакле. Теперь еще у нас и погода прекрасная, хотя с холодным ветром; что же будет с нашим театром, когда сделается ненастье?» Ведущие актеры — Угаров и Павлов, не найдя понимания у руководства, покинули театр. Щепкин тяжело переживал эту утрату. Позже он засвидетельствует об Угарове: «Добросовестно могу сказать, что выше его талантом я и теперь никого не вижу». Развязка театральной драмы произошла внезапно. Тяжелое материальное положение вынудило актеров обратиться к руководству театра с прошением о прибавке к жалованью. Котляревский, понимая нужду актеров и сочувствуя им, предложил поставить перед Репниным ультимативные требования, но расчет его не оправдался, князь не пожелал улучшить участь актеров. Тогда труппа отказалась выступать, было объявлено о последнем спектакле. Но и эта крайняя мера никого не озаботила, ни местные власти, ни меценаты, ни общественность каких-либо мер по спасению театра не приняли. Лишь зрители, проявив запоздалый интерес к театру, заполнили зал и по окончании спектакля устроили актерам бурные овации. В публике дружно скандировали: «Бенефис господина Щепкина, бенефис господина Щепкина!..» Так последней афишей театра стала та, что сообщала о спектакле «в награду таланта актера Щепкина для основания его участи», который состоялся 26 июля 1821 года. Сборы от этих последних спектаклей оказались полными, как в лучшие времена, они пошли на выплату жалованья актерам и обслуживающему персоналу. Но судьба театра уже была решена и актерам оставалось только разделить между собой немудреный реквизит и, подобно Счастливцеву и Несчастливцеву из «Леса» Островского, отправиться в путь «без денег… без табаку, без исправного костюма, искать счастье на новом месте». Правда, группе актеров вместе с Щепкиным удалось выступить в Киеве, где по заранее подписанному контракту сыграли свои последние спектакли. После этой ярмарки полтавская труппа распалась окончательно. Михаил Семенович уже в который раз убеждался, что мир театра многосложен, здесь все зыбко и противоречиво, великая радость и счастье творчества могут в одночасье обернуться горькой драмой и даже трагедией. Непредвиденные обстоятельства вынудили Щепкина вновь обратиться за помощью к Ивану Федоровичу Штейну, который перебрался к тому времени в Тулу, возглавил там местную труппу, и театр стал процветать. Штейн предложил зачислить Михаила Семеновича в труппу на лучших, чем в Полтаве, условиях, назначив ему пять тысяч рублей жалованья и бенефис.Театр крепостных
В марте 1822 года Щепкин выехал в Тулу, но по пути на несколько дней задержался в Орле. Владелец местного крепостного театра Каменский (это имя упоминалось в истории раскрепощения актера), прознав, что в городе проездом находится Щепкин, слава о котором докатилась и до Орловщины, предложил ему за хорошее вознаграждение выступить в нескольких спектаклях его театра, дать уроки сценического искусства, а если актер того пожелает, то поступить в саму труппу. Театр Каменского был одним из лучших крепостных театров с оперой и балетом. Денег на его содержание граф не жалел. Известно, например, что он отдал целую деревню в двести пятьдесят душ за то, чтобы заполучить в свой театр понравившихся ему актера с актрисой и их шестилетнюю дочь, «прелестно танцевавшую тампет». Щепкин решил выступить в нескольких спектаклях, но после двух выступлений внезапно заявил Каменскому, что играть дальше не желает, и заказал лошадей, чтобы направиться в Тулу. Причина тому — унизительное и бесправное положение крепостных актеров в театре, превращенном Каменским в место пыток и разврата. Закулисная жизнь актрис ничем не отличалась здесь от жизни рабынь, а тем, кто сопротивлялся установленным порядкам, граф мстил жестоко, как, например, Кузьминой — талантливой актрисе, мужественно отстаивавшей свою честь и достоинство. «Провинившихся» сажали в так называемую «сибирку», где они содержались в холоде и голоде. Там же актерам приходилось разучивать тексты своих ролей, а после спектаклей и шумных аплодисментов их вновь отправляли в место заточения, а иногда и на конюшню, где их ожидали розги. Мог ли Щепкин оставаться в доме Каменского, когда он узнал об этих садистских издевательствах?.. Его особенно потрясла история актрисы Кузьминой, о которой он часто рассказывал друзьям. Мы ранее говорили о том, что ее биография легла в основу повести Герцена «Сорока-воровка», посвященной Щепкину. В этой повести удивительным образом ощущается живая интонация Щепкина-рассказчика. Многие современники отмечали, что актер был превосходным рассказчиком, но повторить или сносно записать его речь было невозможно. Плещеев писал Достоевскому: «Он (Щепкин. — В. И.) рассказывал мне много интересных вещей, между прочим, говоря о русских актрисах, коснулся анекдота о сороке-воровке и рассказал мне его так, что, уверяю Вас, Искандерова повесть не производит и половины того впечатления, какое изустный рассказ Щепкина…» Да и Герцен сам во вступлении к повести отводит себе лишь скромную роль человека, пытающегося добросовестно записать за Щепкиным, добавляя, что «трудно во всей живости передать речь». Истинный ценитель устного творчества А. Н. Афанасьев также признавался: «В период моего знакомства с Михаилом Семеновичем я имел привычку записывать для себя некоторые из его рассказов, хотя (к сожалению) делал это кратко, нередко спустя несколько дней после того, как слышал из уст интересного старика, и должен признаться, что его мастерские рассказы много потеряли в моем изложении. Да и вообще следует заметить, что подобный труд был нелегок. Живое слово Щепкина сопровождалось выразительной мимикой, изменением звуков, голоса… что придавало необыкновенную живость его воспоминаниям, но чего передать на бумаге нет возможности». И все же Герцену удалось многое, в его повести как бы оживает великий актер, его переживания и волнения. Вот он наблюдает игру молодой актрисы: «…Вдруг меня поразил слабый женский голос; в нем выражалось такое страшное, глубокое страдание. Я устремился глазами на сцену… Я почти не слушал ее слов, а слушал голос. «Боже мой! — думал я. — Откуда взялись такие звуки в этой юной груди; они не выдумываются, не приобретаются из сольфеджей, а бывают выстраданы, приходят наградой за страшные опыты»… Я был изумлен, поражен; этого я не ожидал… Я рыдал, как ребенок… Не увидеть Анеты я не мог; идти к ней, сжать ей руку, молча, взглядом передать ей все, что может передать художник другому, поблагодарить ее за святые мгновения, за глубокое потрясение, очищающее душу от разного хлама, — мне это необходимо было, как воздух. Я бросился за кулисы… но услышал: «Без княжого позволения нельзя». А встретившись, наконец, с девушкой и услышав от нее самой о ее несчастной, загубленной судьбе, Щепкин-рассказчик произнес, обливаясь слезами: «Погибла великая русская актриса!» Щепкин-актер, Щепкин-гражданин невольно подводит слушателя к выводу — сколько же еще великих творцов осталось в безвестности, сколько их погибло, не достигнув вершины своего таланта, из-за произвола и жестокости тех, кто вершил их судьбы. Не миновать этой горькой участи и московской знаменитости Любови Павловне Никулиной-Косицкой, не доведись ей вырваться из крепостной зависимости и заручиться поддержкой истинных ценителей талантов. Сегодня многие интеллигенты-демократы, в том числе и люди актерского цеха, опьяненные перестроечной волей, огульно зачисляют всех российских дворян в цвет русской нации, но захотят ли они испытать судьбу тех талантливых актеров, художников, которые всецело зависели от власти дворян-крепостников?.. Николай Семенович Лесков, положив в свой рассказ «Тупейный художник» воспоминания Щепкина, не побоялся указать точное место действия и подлинное имя орловского помещика, владельца крепостного театра. В полной откровенности описал он и ужасы, чинимые им. «А мучительства у нас были такие, — свидетельствует героиня, — что лучше сто раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крячком скрячивали и заворачивали: все это было. Казенное наказание после этого уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены потайные погреба, где люди живые на цепях, как медведи, сидели. Бывало, если случится когда идти мимо, то порою слышно, как там цепи гремят и люди в оковах стонут. Верно, хотели, чтобы об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступаться. И долго тут ломали людей, а иных на всю жизнь». Неповторимость и невоспроизводимость устных рассказов Щепкина крылись в особом таланте актера, его глубоко личностном отношении, сопереживании всему тому, что он видел в жизни, в сострадании к несчастным. Слушая его, люди видели не только рассказчика, но и самих героев во всей их правдивости и индивидуальности, он умел «живо и пластично передавать виденное, с сохранением всех характеристических оттенков», — подчеркивал А. Н. Афанасьев. Другой его современник Алексей Дмитриевич Галахов видел особую привлекательность рассказов Щепкина в том, что «каждый рассказ Щепкина был собственно не рассказом, не повествованием, а живым представлением, воскресением былого. Он как бы играл пьесу — один за всех действующих в ней лиц. Что трудно, даже невозможно, передать на бумаге словами, он легко и живо давал о том знать интонацией голоса, мимикой, жестами, слезами — если сцена выходила трогательной, смехом — если сцена становилась забавной. И у нас, слушавших, вслед за ним то выступали слезы, то раздавался смех». Да, такое словами не опишешь…«Актер — чудо-юдо…»
Не в самом радостном настроении после всего увиденного, услышанного и пережитого в орловском крепостном театре приехал наконец Щепкин в Тулу и подписал с театром контракт на один год. Вызвал из Полтавы Елену Дмитриевну с двумя младшими сыновьями. Перевезти всю семью средств недоставало, да и не все еще его домашние были к тому времени освобождены от крепостной зависимости, чтобы самим распоряжаться своей судьбой. Щепкин относился к этим затруднениям как явлениям временного характера. Главное, что он снова в театре, при самом любимом деле. Освоить репертуар тульского театра для Щепкина затруднений не представляло: почти все спектакли, в которых предстояло играть, были ему хорошо известны. Среди них была одноактная пьеса «Опыт искусства» Н. Р. Судовщикова, в которой он просто блистал, исполняя сразу несколько ролей — Учителя, Немки, Подьячего, Свахи, Солдата, Охотника и Актера. В финале пьесы Актер спрашивает у содержателя театра:«ЗАВИДУЕМ МОСКВЕ»
Сравнить его ни с кем не могу: он как-то сам по себе.А. И. Шуберт
Немного истории
Год 1823-й ознаменовался двумя внешне мало приметными, но далеко не рядовыми событиями в жизни отечественного театра — вступлением на столичную сцену Щепкина и рождением великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Удивительно, но по редкому стечению обстоятельств Михаил Семенович, приехав в Москву, поселился в Замоскворечье, почти по соседству с двухэтажным домом дьякона Никифора Максимова, отданным внаем коллежскому секретарю Николаю Федоровичу Островскому. Кто бы мог тогда подумать, что объявившийся в столице тридцатипятилетний драматический актер через два с лишним десятилетия станет разучивать роли в пьесах драматурга, появления которого на свет еще только ожидали взволнованные и счастливые родители. Но все именно так и произойдет… Весенняя Москва встретила своих новых обитателей — Щепкина с женой и малолетними сыновьями Дмитрием и Николаем — колокольным звоном, сиянием на мартовском солнце золоченых куполов и первой оттепелью. Морозы еще ночью давали о себе знать, но весна уверенно стучала в окно. До начала работы в театре оставалось несколько дней и они целиком ушли на устройство в доме купца М. С. Аралова, что за Москвой-рекой рядом с церковью Николая Чудотворца, в «Якимской части по Кисельному переулку» (ныне этот дом находится на углу Первого и Второго Голутвинских переулков). Не центр, конечно, зато оплата божеская за довольно вместительное жилье. Привыкший к провинциальному укладу, здесь он в первые годы столичной жизни чувствовал себя уютнее и спокойнее. «В доме и в жизни семьи Михаила Семеновича, — писала позднее его невестка Александра Владимировна, по рождению Станкевич, — сохранился тот быт, к которому он привык исстари в провинции». Дом выбрал себе Михаил Семенович большой, в несколько просторных комнат. Вскоре здесь поселятся остальные члены многочисленного семейства, а пока же пустые комнаты обживали дети, радуясь раздолью для игр и веселых забав. В теплые солнечные дни невольно тянуло во двор — широкий, уютный, отгороженный от проезжей части высоким глухим забором с массивными деревянными воротами, за которыми открывалась величественная и живописная картина Московского Кремля. Приехали старшие дочери — Фекла и Александра, они быстро подружились со старшей дочерью хозяина дома и почти все дни проводили вместе, что сыграет важную роль впоследствии: хозяйство Аралова в скором времени придет в полный упадок и семье не на что будет существовать. Дом пойдет на уплату долгов. При переезде на новое место жительства Михаил Семенович возьмет с собой на воспитание Татьяну Аралову с благословения родителей, и девочка навсегда вошла в семью Щепкиных: училась вместе с его дочерями, помогала по хозяйству. Все в доме «любили ее, как родную», вспоминала Александра Владимировна, и она платила благодарностью за внимание к ней, «с замечательным терпением и добротой ухаживала за больными… Многие из членов семьи Михаила Семеновича жили и умерли на руках ее». Но все это только будет. А пока… Щепкины ждали прибавления, Елена Дмитриевна была на сносях. Родилась девочка, но едва ее успели крестить, как пришлось оплакивать так рано оборвавшуюся жизнь. Свои переживания Михаил Семенович перебивал работой. Ему надо было наилучшим образом приготовиться к скорым выступлениям. Тревожился, как-то он войдет в новую труппу. Догадывался, что не все ему будут рады. Театр есть театр. Некоторые из актеров, особенно одного с ним амплуа, почувствовали в нем соперника. А когда их роли одна за другой стали переходить к Щепкину, не мог не заметить их враждебного к себе отношения. Но он уже не был новичком, всякое перевидел и пережил. Не резон было теряться и в новых обстоятельствах. Спектакли должны были начаться сразу после Великого поста и Пасхи — 30 апреля, пока еще в том же помещении на Моховой. Но уже в доме купца Варгина, на Петровской площади, полным ходом шли работы по переоборудованию его под театр, который откроет занавес на своей сцене 14 октября 1824 года по старому стилю и получит название МАЛЫЙ и станет знаменитым на весь мир. Это историческое событие предваряло пространное объявление, помещенное в «Московских ведомостях»: «Дирекция ИМПЕРАТОРСКОГО Московского Театра через сие уведомляет, что в наступающем октябре месяце действия оного Театра перенесены будут на вновь устроенный малый Театр, в доме Варгина, на Петровской площади». В непродолжительном времени предстояло открыть и большой ИМПЕРАТОРСКИЙ Петровский театр. «Дирекция, беспрерывно заботясь о доставлении более удовольствия Публике, не могла и не может впредь сего исполнить без чрезвычайных усилий в расходах; почему нашлась в необходимости сделать некоторую прибавку, сообразно ценам С.-Петербургского Императорского Театра, на лучшие места в обоих Московских Театрах; — но с тем вместе по возможности старалась обеспечить платеж за верхние места большого Императорского Театра, дабы сим способом открыть средство к удовольствию людей недостаточных; — а равно и цены абонементов для любителей отечественных спектаклей уменьшены столько, сколько могла допустить соразмеренность, как сие можно видеть из нижеследующего регистра…» Далее следовал перечень цен на билеты в зрительном зале. Большой театр в это же время возводился заново по проекту архитектора Осипа Ивановича Бове, но уже не в дереве, а в камне. Правда, Большим ему еще предстояло стать лишь в следующем, 1825 году, то есть почти через двенадцать лет после того, как старое здание Петровского театра безвозвратно пострадало во время пожарищ 1812 года, когда Наполеон вторгся в Москву. Зрителей, впервые переступивших порог нового здания театра, поражали и восхищали внутреннее его убранство, просторные фойе, широкие красивые лестницы, многоярусные золоченые ложи, богатый занавес и, конечно, огромная и удобная сцена. К открытию театра композиторы А. Н. Верстовский, А. А. Алябьев в содружестве с поэтом М. А. Дмитриевым специально по этому случаю сочинили пролог-программу, которая была исполнена на новой сцене с особой торжественностью и значением:Из плена условностей и форм
Для того чтобы полнее раскрыть творческую биографию Щепкина в стенах Малого театра, нам вначале придется сделать экскурс в недалекую историю театральной жизни Москвы. Созданная в 1756 году при Московском университете первая в столице драматическая труппа уже в начале своего пути выступала за сохранение в театральном искусстве народных истоков, национального своеобразия, против засилья на сцене пустого и бездумного суррогата искусства, который щедро высевался на сцене заезжими и пригретыми при дворе зарубежными гастролерами. Эта демократическая традиция была подхвачена Московским драматическим театром, возникшим на основе студенческой труппы в 1780 году и названным Петровским. Уже в раннюю свою пору этот театр ставил перед собой высокие просветительские и художественные цели. На его сцене шли пьесы Дениса Ивановича Фонвизина, Александра Онисимовича Аблесимова, Якова Борисовича Княжнина, Ивана Андреевича Крылова, а также мастеров зарубежной драматургии — Мольера, Дидро, Вольтера, Бомарше, Лессинга, Гольдони. Даже став в 1806 году казенным Императорским театром, Петровский имел более свободное поле творческих действий, чем петербургские труппы, хотя и оказался под прессом цензурного и административного контроля. «В Москве развитие театра, — писал Белинский, — было гораздо свободнее, чем в Петербурге. Там классицизм не мог пустить глубоких корней: он царил на сцене потому только, что нечему было заменить его. Зато лишь только слово «романтизм» начало печататься русскими буквами, как классицизм сейчас же пал на московской сцене. Надо сказать, что певучая декламация и менуэтная выступка даже и во времена классицизма в Москве не были строго соблюдаемы… В этом отношении Москва далеко опередила Петербург. И немудрено: все, что касается строгости форм, условий приличий, перенимаемых от Европы, в Москве не могло иметь большой силы. Москва не гонится за формою и даже, гоняясь за нею, не умеет строго держаться ее… Сцена в Петербурге больше искусство, в Москве она — больше талант». Противостояние классицизма и реализма еще на долгие годы будет определять состояние театральной жизни и актерской игры в России. Хотя справедливости ради заметим, что русский классицизм в чистом виде никогда не существовал, что, очевидно, связано с русским менталитетом: рациональное начало в русском характере неразрывно с его чувственным мировосприятием. Не случайно еще А. П. Сумароков, представитель классицизма, в своих рекомендациях актерам, например, писал: «Старайся… чтоб я, забывшися, возмог тебе поверить, что будто не игра то действие твое, но самое тогда случившееся бытие». Та же мысль сквозит в его обращении к коллегам по перу: «Трудится тот вотще, кто разумом своим лишь разум заражает: не стихотворец тот еще, кто только мысль изображает, холодную имея кровь; но стихотворец тот, кто сердце заражает». Если говорить об этом противостоянии классицизма и реализма применительно к актерской игре, то самыми яркими лидерами здесь были Василий Андреевич Каратыгин, с одной стороны, и Павел Степанович Мочалов и Михаил Семенович Щепкин — с другой. Но еще задолго до них на театральной сцене скрещивались шпаги актерские в непримиримом поединке. Шушерин, Померанцев, Яковлев, Рязанцев, Сосницкий, а из провинции — Павлов, Угаров отличались естественностью в игре, по выражению Щепкина, несли традиции реализма. С. Т. Аксаков об игре Я. Е. Шушерина писал, что он позволял себе «сбросить все условные сценические кандалы и заговорил просто, по-человечески». А в популярном тогда «Пантеоне» отмечали игру В. П. Померанцева: «В драме у него оставалась одна голая природа, всякая искусственность исчезала». Не будем множить примеры, но сделаем одно важное примечание — хотя Каратыгин, Мочалов, Щепкин и не были первооткрывателями тех направлений в актерской игре, которые они представляли, но именно они были теми, кто довел свое искусство до совершенства. Все накопленное до этого обрело принципиально новое качество. Шекспир, Пушкин, Моцарт, Чайковский, Рафаэль или Суриков не рождаются на пустом месте, они появляются тогда, когда почва для них уже подготовлена. Без постепенного процесса накопления, без длинного списка имен гении не обретают свою плоть, актерского чуда не происходит. И это чудо утверждается, в борениях и преодолениях, в умении найти золотое зерно не только у своих предшественников-единомышленников, но и у своих супротивников, у актерской школы иного направления. Описывая яркую игру Каратыгина, известный критик, журналист, профессор Московского университета Николай Иванович Надеждин замечал: «Он владел мастерски наружною, лепной частию своего искусства, постиг тайну чаровать зрение, но еще не нашел ключа к сокровенному святилищу сердца… В выражениях сильных страстей он возвышается до криков, к коим, кажется, никогда не привыкнет ухо. И это возвышение очевидно производится намеренно, для эффекта… Дай образу жизнь, дай звуку мысль, дай слову душу… и заря бессмертия увенчает величественное чело художника…» Путь к реализму на московской сцене был долог и труден и сопряжен с жестким противодействием. Кокошкин и Шаховской, один — директор театра, другой — драматург, режиссер, были страстные приверженцы классицизма, взятого напрокат у французских декламаторов и ценителей изысканных поз, манер и нарядов, с усердием насаждали искусство эстетизма по всем его строгим канонам. Особенно трудно приходилось молодым актерам, которые обязаны были внимать каждому слову театральных учителей, копировать каждый их звук, интонацию. Подобная методика преподавания строилась на «насвистывании», как это делал Шаховской, актерам их ролей и с «голоса, как учат птиц» — по методике Кокошкина. Актерам оставалось лишь только, как можно точнее, копировать наставников, которые учили своей методике с неистовостью и творческим рвением, которое граничило с самопожертвованием, по словам М. Пыляева, автора книги «Старая Москва». Перед натиском ревнительных охранителей классицизма не всегда могли устоять даже большие актеры. Не прошло даром усердие Шаховского, Кокошкина и Гнедича «в образовании» такого таланта, какой имела Екатерина Семеновна Семенова — «единодержавная царица трагической сцены», как ее называл Пушкин, восхищенный ее искусством, «живое и верное чувство которой одушевляли «несовершенные творения несчастного Озерова» и стихи Катенина. Готовя Семенову к состязанию с известной французской актрисой Маргерит-Жозефиной Жорж, они постарались обучить ее всем премудростям классической школы, что не составляло для актрисы большого труда. О виртуозности Жорж писали, что «даже в патетических местах роли она не забывала поправить свое платье, расположить его в живописных складках… Трудно было искать смысла в этой блестящей виртуозной игре. Все внимание актрисы устремлялось на головоломные «пассажи», «фиоритуры» и «глиссанды», на смену пластических поз, на неожиданные и ловко сделанные переходы от крика к шепоту». Семенова с блеском овладела всей этой нехитрой техникой и, по всеобщему признанию, одержала полную победу над француженкой. Однако то было соревнование не двух разных школ или направлений, а двух актрис в рамках одной французской школы. Просто Семенова в силу своего яркого таланта довела французские приемы актерской игры до совершенства, супервиртуозности. Для отечественной сцены Семенова по воле ее настойчивых наставников оказалась потерянной. Шушерин это понял едва ли не первым. «Ну, дело кончено, — заявил он С. Т. Аксакову после восторженных оваций восторженных поклонников таланта актрисы, — Семенова погибла невозвратно, то есть она дальше не пойдет… — И добавил с видимым сожалением: — А что могло бы выйти из нее!» И это сказал актер, который после исполнения Семеновой ролей Софии и Наталии в пьесах Коцебу «Примерение двух братьев» и «Корсиканцы» воскликнул: «Стоя на коленях, надо смотреть ее в этих двух ролях!» Да, не так просто было пробивать себе дорогу русскому самобытному искусству, сколько талантов, самородков, оторванных от народных корней, национальной школы погибло в искусственных конструкциях западного классицизма, как долго и упорно насаждалось безоглядное преклонение перед чужестранным, часто сомнительных достоинств, уровня и вкуса. «Всегда ранее и с перерывами — уже целых два века в России иностранным выходцам или окраинным чужеродцам давался перевес и предпочтение в службе, в движении, в отличиях, в награде и признании таланта и заслуг, — писал в 1914 году русский писатель и философ Василий Васильевич Розанов. — Театральная публика, во многом взращенная на тех же приемах классицизма, подражательстве чужеземному, с трудом пробивалась к новому берегу и часто поощряла актеров за дешевую пафосность, аффектацию и вопеж…» Но были и художники, которые не боялись идти против течения, не потакали публике, а учили ее самостоятельно мыслить, отталкивались в своем творчестве от народных истоков, ломая устоявшиеся каноны, создавали свою школу и свою шкалу ценностей. Об Алексее Семеновиче Яковлеве писали, что он предавался в своей игре «сильным чувствам», перед неистовством актера вынуждены были отступить обязательные для классицизма формы и правила, в нем жила невероятной силы стихия — он мог гениально сыграть одну сцену и тут же провалить другую, у него «места были чудесные» и тут же слабые. Позднее так же отзывались современники о Мочалове. Но его талант был редкостный. Не зря же Белинский ставил гений актера Мочалова в роли Гамлета вровень с гением драматурга. Естественно, талант и в крайне невыгодных для себя условиях проявится, обратит на себя внимание, заявит о себе, но в полной мере он может раскрыться, засверкать всеми своими гранями только в благоприятных для него условиях, в русле близкой его сердцу, темпераменту, складу характера школы. К сожалению, таких идеальных условий история русского театра не знала. В сложных, противоречивых обстоятельствах приходилось отстаивать актерам право на творческий поиск. И не только наставлениям самозваных режиссеров и педагогов приходилось противостоять актерам, склонным к естественной манере игры. Не менее трудно было спорить и со вкусами публики, воспитанной в духе все той же эстетики, взятой напрокат у заезжих французских, немецких или итальянских гастролеров. Алексей Семенович Яковлев, рассказывая о начале своей работы в театре, однажды вспомнил в этой связи случай, происшедший с ним на спектакле «Росслав» Я. Б. Княжнина. Есть в этой пьесе слова: «Росслав и в лаврах я, и в узах я Росслав». На одном из спектаклей Яковлев решил произнести их без излишнего пафоса, жестикуляции, а «скромно, но с твердостью, как следовало». И публика, к удивлению актера, осталась холодна и безучастна, «словно как мертвая, ни хлопочка». Озадаченный такой реакцией зрителей, актер на следующем спектакле «как рявкнет» на этих словах, «аж самому стало совестно». И тут публика от восторга «с мест повскочила», аплодировала, одобрительно выкрикивая имя актера. Естественно, не каждый актер мог противостоять такой реакции зрителей и «просвещенных» наставников. Семнадцатилетний Мочалов пришел в труппу театра в год смерти А. С. Яковлева. Случайное совпадение или пророческая эстафета преемственности?.. Мочалов одним из первых нанес чувствительный удар по крепости классицизма. Он дал настоящий бой Каратыгину, его талантливому приверженцу, мастеру отточенности формы, красоты звуков, изысканности поз. Неповторимость Мочалова — в темпераменте, раскованности, ощущении подлинной жизни при небрежении законами классической школы. Именно эти черты его яркого таланта захватили Белинского, и он поставил его выше Каратыгина, кумира Александринки. Наставники-классицисты и этот талант хотели уложить в свое прокрустово ложе, но вскоре отказались от своего намерения, удостоверившись в полной тщете своих усилий. Но чтобы оправдать свое поражение, поспешили объявить, что, де, актер неспособен овладеть столь сложным классическим искусством игры. Публика, однако, приняла сторону Мочалова и восторженно приветствовала его талант. Он захватывал всех своей игрою, повелевал, властвовал и священнодействовал на сцене, всецело покоряя умы и сердца взволнованных зрителей. В Мочалове зрители видели властелина не только сцены, но и выразителя духа, общественного сознания, настроения передовых людей эпохи, еще не раскрытые в полную мощь, как писал Герцен, «сокровенные силы и возможности русской натуры, которые делают незыблемой нашу веру в будущность России». Причем этот мочаловский «первый всплеск бунтарского духа» свершился в тяжелый период растерянного и угнетенного состояния, в котором пребывало общество после трагических декабрьских событий 1825 года, поэтому находил столь живой отклик в сердцах зрителей. И они платили актеру любовью, восторгами, признанием. Мочалов сильно поколебал традиции старой, навязанной извне школы актерского искусства. Но это еще не была полная победа. Да и у самого актера были свои слабости. В его таланте царствовала стихия. Если он «в ударе», заряжен вдохновением, игра его представляла истинные взлеты актерского мастерства, но нет настроения — игра слаба и невыразительна. Белинский первым подметил эти его особенности, когда подлинные «откровения» сценического искусства Мочалова соседствовали с «оскорблением» его, и сделал вывод — без вдохновения, импровизации, творческого подхода к роли нет истинного искусства, но это только половина успеха, которая должна подкрепляться и дополняться трезвым и вдумчивым анализом, определенной продуманной формой, заключающей смысл. «…Только из соединения этих противоположностей образуется истинный художник, которого, например, русский театр имеет в лице Щепкина», — заключил критик. Интересны и, пожалуй, наиболее точны наблюдения и размышления Герцена над актерской игрой: «Мочалов был человек порыва, не приведенного в покорность и строй вдохновения; средства его не были ему послушны, скорее он им. Мочалов не работал, он знал, что его иногда посещает какой-то дух, превращавший его в Гамлета, Лира или Карла Мора, и поджидал его… а дух не приходил, и оставался актер, дурно знающий роли. Одаренный необыкновенной чуткостью и тонким пониманием всех оттенков роли, Щепкин, напротив, страшно работал и ничего не оставлял на произвол минутного вдохновения. Но роль его не была результатом одного изучения. Он также мало был похож на Каратыгина, этого лейб-гвардейского трагика, далеко не бесталанного, но у которого все было до того заучено, выштудировано и приведено в строй, что он по темпам закипал страстью, знал церемониальный марш отчаяния и, правильно убивши кого надобно, мастерски делал на погребение. Каратыгин удивительно шел николаевскому времени и военной столице его. Игра Щепкина вся от доски до доски была проникнута теплотой, наивностью, изучение роли не стесняло ни одного звука, ни одного движения, а давало им твердую опору и твердый грунт». Щепкин представлял собою счастливое и редкое в ту пору соединение, когда незаурядный талант активно и безоговорочно взаимодействовал с глубоким и ясным умом, позволяя создавать образы, наполненные эмоционально, живущие полнокровной жизнью. Он органично чувство ват партнера, потому что его герой виделся ему в сложной цепочке взаимоотношений со всеми персонажами спектакля, что позволяло наиболее полно выявлять авторскую идею. Словом, в творчестве Щепкина крайности Мочалова и Каратыгина как бы дружески объединились, пришли в гармонию, а в результате на русской сцене появился актер, положивший начало целому направлению в театральном искусстве, его магистральному пути — реализму. «Искусство Щепкина ни в ком не вызывает сомнений, — писал известный исследователь актерского творчества в России (и первый театральный наставник автора сей книги) Борис Владимирович Алперс. — Перед бесспорной его силой и внутренней чистотой молчат театральные завистники, смиряются закулисные остроумцы. На признании Щепкина сходятся такие разные по своим взглядам и общественным симпатиям люди, как Герцен и Аксаков, Грановский и Погодин, Белинский и Шевырев. Характерный для того времени спор о театральном первенстве между Петербургом и Москвой не затрагивает Щепкина. Сторонники Петербурга даже не пытаются выдвинуть на столичной сцене соперника в противовес признанному московскому актеру. Уже в первые свои приезды в северную столицу Щепкин завоевывает безоговорочно и безотказно даже Булгарина и Греча с их «Северной пчелой», очень ревниво относившихся к успехам москвичей. «Завидуем Москве!» — писала «Северная пчела» по поводу петербургских гастролей Щепкина. Газета дала анализ игры Щепкина в роли Арнольфа по пьесе Мольера «Школа жен», заметив при этом, что «мы видели эту комедию, разыгрываемую лучшими французскими актерами в Париже», но «ни один актер не постигнул и не выполнил этой роли лучше г. Щепкина». Приведем один фрагмент из этого номера: «Щепкин был неподражаем. Лицо его красноречивее выражало состояние ревнивого сердца, оскорбленное самолюбие, нежели лучшие стихи Молиера. В исступлении гнева г. Щепкин заставлял зрителей забываться… В переломе страстей, в быстрых переходах от гнева к спокойствию, от радости к отчаянию, от умиления к бешенству он превзошел все наши ожидания. Невозможно определить всех жестов и движений г. Щепкина, это сама натура, в пылу страстей. Взоры, усмешки, движения мускулов лица, все соответствовало игре и смыслу речи. Он читал стихи просто, натурально разговорным тоном, без всякой надутости… Необыкновенный талант…» Белинский, еще студент филологического факультета Московского университета, увидев Щепкина в его ролях, не удержался в письме к родителям написать: «…Лучший комический актер здесь — Щепкин: это не человек, а дьявол: вот лучшая и справедливейшая похвала его». Пушкин, видевший не раз игру и Каратыгина, и Мочалова, неоспоримое предпочтение отдавал Щепкину. В Каратыгине ему недоставало вдохновения, «души», в Мочалове — спокойствия, условия необходимого для постижения прекрасного, лишь в Щепкине поэт нашел то счастливое слияние порыва души и мудрого спокойствия, что создает гармонию. Таких высоких оценок своего творчества Щепкин заслужил не только за природой дарованный талант, но и за свою феноменальную работоспособность, замечательную наблюдательность; каждая подмеченная актером черточка по воле его становилась необходимым штрихом к портрету исполняемого героя. Разумное и эмоциональное он рассматривал в единстве и гармонии, когда каждая роль была продумана, соизмерена с общей идеей пьесы, с формой и содержанием спектакля. Но Щепкин был и блестящим мастером импровизации, он тонко улавливал настроение зрителей, дух настоящего времени, незримо играл на тех невидимых струнах, которые протягивались между сценой и залом. Многие любители театра, не раз приходившие на его спектакли, отмечали различия в исполнении им одних и тех же ролей. Даже в произнесении отдельных реплик, монологов и куплетов Щепкин почти никогда не повторялся. Полюбившуюся зрителям песню Чупруна в пьесе «Москаль-Чаривник» ему часто приходилось бисировать и всякий раз «ни одного своего жеста, ни одного движения» актер не дублировал, внося новые интонации и какой-то свой смысл в произносимый текст. Зрителей удивляли и восхищали эта неиссякаемая фантазия и творческая свобода артиста. Все эти достижения дались не в одночасье, приходилось не только оттачивать профессиональное мастерство, но и преодолевать бесчисленные рогатки, установленные приверженцами классицизма. Кокошкин и Шаховской с рьяным пылом принялись за «образование таланта» Щепкина, едва он вступил в труппу театра. Однако здесь их ожидало сокрушительное поражение. Нет-нет, Щепкин не вступал в открытый спор с наставниками. На репетициях он делал вид, что прислушивается к их рекомендациям, а, выходя на сцену, все делал по-своему, каждый раз рискуя навлечь на себя неодобрение начальства. Оно, конечно, не одобряло, но с каждым новым спектаклем вынуждено было признавать, что эти отступления актера от общепринятых правил лишь усиливали звучание спектакля. Это было необъяснимо! Не обладая броской актерской внешностью (Щепкин больше походил, по воспоминаниям его современников, на проповедника, чем на актера), он враз очаровывал всех своей игрой, обладая наивысшей степенью перевоплощения в создаваемый им образ. Известный театральный исследователь и критик П. А. Марков сделал вывод, что Щепкин «открыл закон органического творчества, при котором из существа образа рождаются правильные приемы и нужные черты», что источником его комизма и драматизма является сама душа актера, противящаяся всякой искусственности, внешним средствам выразительности. Иногда Щепкин шел на эксперимент: сначала играл так, как ему рекомендовал Шаховской или Кокошкин, а затем — по-своему, и всякий раз, по всеобщему признанию, это было несоизмеримо выше и сильнее. С. Т. Аксаков рассказывал, что, исполняя роль Заживина в длинной и скучной пьесе «Школа супругов» — переделка Ф. Ф. Кокошкиным комедии А. Мэрфи, — Щепкин заметил, что зрители равнодушны к представлению и стал со второго акта «играть с живостью и горячностью… Оживленные внезапно его игрой, актеры также подняли тон пиесы, публика выразила свое сочувствие, и комедия была выслушана с удовольствием и одобрением». После премьерного спектакля в оправдание свое Щепкин вынужден был признать: «Виноват, но я боялся, что зрители заснут от скуки, если досидят до конца пиесы». И в следующий раз, чтобы вторично не навлекать на себя неудовольствие автора пьесы и театрального начальства, сыграл роль так, как «требовала неподкупная истина и строгие правила искусства». И что же? «Именно то и случилось, — констатировал Аксаков, — оправдались опасения Щепкина, что зрители «заснут от скуки». Таким вот образом Щепкин отстаивал свое право играть так, как считал нужным и правильным. В узком кругу друзей он не раз потешался над теми штампами и приемами, что насаждали любители классицизма, и проделывал это с такой виртуозностью, едва уловимой иронией, что удержаться от смеха было невозможно. Слухи об этих «шалостях», конечно, просачивались до их героев, и пыл их усердия на ниве педагогики заметно поубавился. Справедливости ради надо сказать, что и Федор Федорович Кокошкин и Александр Александрович Шаховской, при всей их приверженности к классицизму, были людьми образованными, искренне стремились поднять уровень и престиж русской сцены и немало способствовали этому. Это главным образом их усилиями (наряду с Михаилом Николаевичем Загоскиным) в театральной жизни Москвы произошли заметные перемены, их внимание к воспитанию молодых актеров, к театральной школе дало мощный приток талантливой молодежи. Их стараниями пришли на сцену Павел Степанович Мочалов, Василий Игнатович Живокини, Мария Дмитриевна Львова-Синецкая. Их поиски талантов из провинции привели на столичные подмостки и самого Михаила Семеновича Щепкина, а позже — Сергея Васильевича Шуйского при его участии. И Шаховской, и Кокошкин были преданы театральному искусству и умели оценить талантливое выступление. После блестящего исполнения Мочаловым роли Гамлета князь Шаховской упал на колени перед артистом и сквозь слезы, едва выговаривая от волнения слова, воскликнул: «Тальма? Какой Тальма!.. Тальма в слуги тебе не годится: ты был сегодня бог!» Он же уловил и слабости актера, говоря о Мочалове: «Это гений по инстинкту, ему надо выучить роль и сыграть; попал, так выйдет чудо, а не попал, так выйдет дрянь». Хотя и с трудом, но талант пробивал себе дорогу к правде на сцене, отвоевывал право играть в присущей ему манере, доносить до зрителей истинные страсти, настоящие человеческие чувства. Щепкин отстаивал это право не только для себя и ради себя. Известен случай, когда во время репетиций Шаховской настойчиво и безуспешно требовал от молодой актрисы повторения своих интонаций голоса, движений, но все получалось неестественно, малоубедительно. Князь сам это чувствовал и все более сердился. Щепкин, который рекомендовал князю эту воспитанницу, оценив тупиковую ситуацию, вмешался и посоветовал: «Мне кажется, князь, вы и себя и ее напрасно затрудняете. Оставьте ее! Чтобы попасть в тон — не нужно науки; это делается само собою». Князь раскипятился: «Что, русский Тальма, что такое? — и обратясь к другим актерам, прибавил: — Г. Щепкин учит князя Шаховского, как должно понимать искусство! Когда прикажете явиться к вам брать уроки?» — и он насмешливо поклонился Щепкину. Это затронуло артиста. «Вам, князь, угодно было обидеться! — сказал он. — Но и я не молодой человек, я живу пятьдесят лет на свете, а до сих пор ни разу не слыхал, чтобы при разговоре кто не отвечал в тон. Отчего это делается — не знаю, но это так. А вот глухие так всегда отвечают не в тон!» Князь рассердился, но к чести его ненадолго. На другой же день, приехав на репетицию, он при всех подошел к Щепкину и громко сказал: «А ведь ты прав! Всё это декламация меня сбивает». Вот и такие уроки наглядно помогали распознавать, где лежит истина на пути развития театрального искусства.Едва открылся сезон 1823 года, Щепкин плотно вошел в репертуар театра, выступая, как и раньше, почти через день, а случалось и каждый день в новых ролях. Куда уж тут думать о тщательной проработке роли! Увы, таково было положение дел во всех театрах, а для новичка это оказывалось самым суровым испытанием. Щепкин испытал все эти трудности вдосталь. К тому же еще ему на ходу пришлось немало потрудиться над тем, чтобы исправить свой «южный выговор» и «перейти» на московский. Сохранилась запись одного из завсегдатаев театра, хорошо знавшего тогдашнюю закулисную жизнь: «Разучиваются и играются пьесы, иногда приготовленные положительно в несколько часов. Не имея ни времени, ни охоты заняться серьезным изучением «характера», современный актер заботится не о гармонии в целом, а лишь о том, чтобы подчеркнуть, т. е. выдвинуть напоказ, в ущерб ансамблю исполнения, эффектные места своей роли. Сорвал несколько дешевых аплодисментов, и дело в шляпе, а пьеса хоть провались, благо вырученные заманчивой бенефисной афишей деньги назад из кассы не возьмут… Роли учатся почти всегда в отдельности, по тетрадкам, а не по пьесе, отчего страдает взаимное понимание актеров, а стало быть, и общность исполнения. Многие актеры являются на репетиции только затем, чтобы научиться говорить свои роли по суфлеру, а затем в спектакле ловят только приблизительный смысл монологов, а уж о правильной передаче стихов нечего и думать». Выразительные и справедливые наблюдения! У Щепкина был совершенно иной подход к подготовке роли. Он и раньше не позволял себе выйти на сцену, твердо не зная роли, теперь же звание актера столичного театра обязывало ко многому. «Московская публика обрадовалась прекрасному таланту и приняла Щепкина с живейшим восторгом, — писал Аксаков, — но Щепкин не успокоился на скоро приобретенных лаврах, как делают это многие. Постоянно трудясь с первого дня поступления своего на сцену, постоянно изучая, обрабатывая свою игру, он удвоил свои труды, поступая на московскую сцену». Эту характеристику М. П. Погодин добавляет короткой записью: «Щепкин отделывает свои роли и всякий раз последняя лучше». Вспоминая первый приезд Михаила Семеновича в Петербург в 1825 году и его выступления на сцене Александрийского театра, артист и автор водевилей, брат известного трагика Петр Андреевич Каратыгин сразу обратил внимание на особое дарование Щепкина и большой труд, который стоял за каждой ролью. Сравнивая его игру с местной знаменитостью — комиком Елисеем Петровичем Бобровым — Каратыгин заметил: «Он был умнее Боброва, серьезнее относился к своему искусству и, тщательно обдумывая свои роли, все их детали до мелочной подробности передавал с безукоризненной тонкостью и искусством… Другие петербургские комики того времени, конечно, никак не могли идти в сравнение с московским знаменитым артистом». Обратим внимание на этот эпитет — знаменитый. Прошло ведь всего два года, как Москва узнала Щепкина, но этого оказалось достаточно, чтобы он стал любимцем публики, слава о нем перешагнула московские рубежи и распространилась в Петербург и другие города России. Он стал ведущим артистом Малого театра и нес на своих плечах почти весь его репертуар. Это позволило Щепкину при заключении нового контракта с дирекцией «поторговаться»: дирекция предложила четыре тысячи рублей жалованья и тысячу — на квартиру, Михаил Семенович настаивал на двух тысячах на квартиру и еще тысяче на гардероб, а в общей сложности на семи тысячах против пяти, выставленных дирекцией. «Меньше я одного рубля не возьму, а не то пущуся странствовать по России», — писал он в Петербург своему коллеге по искусству и другу Ивану Ивановичу Сосницкому. Затребованные им суммы вовсе не были от гордыни, расходы в Москве были несоизмеримо выше, чем когда-либо раньше. В Москве у Щепкиных родились сын Александр, а двумя годами позже дочь Вера. Отец Семен Григорьевич последнее время совсем занемог, а в 1829 году и вовсе отошел в мир иной, помощи со стороны ждать теперь было не от кого. Словом, жизнь в столице оказалась нелегкой. Семье не всегда удавалось сводить концы с концами, да и дирекция временами задерживала жалованье, что больно ударяло по скудному семейному бюджету. Решимость Щепкина добиться прибавки или отправиться «странствовать по России» возымела действие. Начальство пошло на уступку, записав при заключении нового контракта, что Щепкин принимается «на первое амплуа артиста драматической труппы с производством ему, не в пример другим, по уважению отличного таланта, высшего оклада… и бенефиса». «Высший оклад», конечно же, облегчил московское существование Щепкиных, но полного достатка так и не принес. По-прежнему артист вынужден был обращаться к друзьям с унизительными просьбами о денежном одолжении. Одно из писем от декабря 1830 года к Михаилу Петровичу Погодину Щепкин начинает такими словами: «Почтеннейший Михайло Петрович. Бедность дирекции так велика, что мы и за ноябрь не получили жалованья, и ближе первых чисел генваря никакой надежды нет на получение, — то не можете ли вы одолжить меня до жалованья тремястами рублями, чем бы весьма много одолжили вашего раз-все-препокорнейшего слугу». Бытовые сложности творческого вдохновения не прибавляли, но артист, как и прежде, старался не обращать на них внимания, с головой погружаясь в работу. Но если бы только быт! Необходимость «удвоить свои труды» коренилась в характере самих ролей, которые часто лишь едва были намечены драматургом, строились по избитым, надуманным схемам и не давали пищи для творческих раздумий, отсутствовала хоть какая-то разработка характеров, психологической мотивировки поступков персонажей. Но и из этого «ничто» Щепкин умудрялся лепить живые человеческие образы, целые типажи, добиваясь подлинно художественной убедительности. О щепкинских «секретах» мы уже говорили. Его стиль — это достоверность, правдивость, естественность. Он умел наделять своего героя такими характерными чертами, которые делали его узнаваемым, близким и понятным зрителю. И добивался этого самой тщательной проработкой роли, каждой ее детали, постоянно сверяя при этом линию поведения своего героя с жизненной достоверностью, с «природой», как тогда было принято говорить. Так, давая высокую оценку исполнения Щепкиным роли Арнольфа в «Школе женщин» Мольера, «Северная пчела» отмечала — «в ней ничего им не упущено. От монолога до отдельного полустишия, от жеста до взгляда, все обдумано, все приноровлено, и весьма счастливо, к характеру Арнольфа… выражено было г. Щепкиным с искусством, которого никакой строгий глаз, никакое верное ухо не отличили бы от природы». Многое в репертуаре Малого театра было уже знакомо Щепкину. Здесь, как и в провинциальных театрах, главным образом ставились переводные пьесы и комедии французского разлива, типа «Бот, или Английский купец» Эрнста и Сервье, «Два Фигаро» Мартелли, «Со всем прибором сатана, или Сумбурщица жена» Крезе де Лессе, «Король и пастух, или Сумасшедший в уме» Кювелье и другие. В этих комедиях Щепкин выступил уже в первый месяц на московской сцене. Перед тем как сыграть в зарубежной пьесе, особенно если ее автор был известный драматург, Михаил Семенович просил своих друзей и знакомцев, знавших языки, переводить ему все, что могло дополнить его знания о роли, об авторе, об эпохе, и делали они это с большой охотой, так как результаты этого в наилучшем виде представали на сцене. Приступая, к примеру, к роли Гарпогона в мольеровском «Скупом», ставшей одной из его лучших работ, Щепкин перечитал огромное количество переводной литературы, пересмотрел немало альбомов и создал в итоге удивительно достоверный образ, восхищавший публику и изощренных знатоков, ставший плодом, как писал А. Н. Афанасьев, «великого таланта и глубоко обдуманного изучения». Вторую половину театральной афиши на московской сцене в 20-е годы занимали пьесы современных авторов — Загоскина, Шаховского, Кокошкина, а также Крылова, Писарева, оперы-водевили Алябьева, Верстовского. И совсем скромное место занимала классика. Лишь в 1825 году в репертуаре театра появились пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве» и «Школа женщин», в 1829-м — Бомарше «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность», в 1830-м — Шиллера «Дон Карлос, инфант испанский», в 1835-м — Шекспира «Жизнь и смерть Ричарда III» и «Венецианский купец». Основное место по-прежнему занимали комедии и водевили. Случалось артистам играть и в реакционных, верноподданических пьесах, как «Богатонов в провинции, или Сюрприз самому себе» Загоскина (напомним, что в другой пьесе о Богатонове Щепкин дебютировал на московской сцене). Ее герой, богатый помещик, вдоволь вкусив столичной жизни, на склоне лет перебирается в свою деревню и, желая прослыть человеком передовых взглядов, начинает проводить различные реформы, в частности, самоуправление, поставив во главе депутатов, избранных крестьянами. Но хозяйство после нововведения приходит в упадок. Ирония автора пьесы по поводу общественного самоуправления достигает кульминации, когда в имении случается пожар и Богатонов, видя, что вся деятельность депутатов сводится к бесконечной дискуссии — подать пожарную трубу или послать баб с ведрами за водой, — не выдерживает и в ярости кричит: «Гони их всех дубиной из сборной избы!» А на замечание одного из персонажей, что это деспотизм, а не демократия, Богатонов отвечает: «Деспотизм, деспотизм! Эх, братец! Да что в самом деле? Ведь гумно-то горит не твое, а мое». Для Щепкина, испытавшего на себе гнет и произвол помещика, играть в пьесе, надсмехающейся над демократическими преобразованиями, что нож острый, но профессиональная гордость не позволяла играть скверно. Оставался один выход — подвергнуть роль собственному толкованию, придать ей иную окраску. Он показывал в герое барина-самодура, лишь играющего в демократию, способного покрасоваться, пустить пыль в глаза, но истинное нутро обнаруживается сразу, как только дело касается его корыстных интересов. Будь у актера право выбора, вряд ли эта пьеса нашла свое место в репертуаре, но не он определял театральную политику. Единственно, что оставалось, — это проявлять свою гражданскую позицию средствами своего мастерства, своей интерпретацией роли. Щепкину это удавалось. Ему нередко приходилось додумывать судьбу своего героя. Коль скоро Белинский, увидев Щепкина в роли гоголевского Городничего, назовет его «автором» этой роли, равным драматургу, то что говорить о многочисленных ролях из пьес-однодневок, переделок с французского, об одной из которых театральный критик А. Н. Баженов однажды заметил: «Нужно видеть и удивляться, до какой степени пустота терпима в сценических произведениях французов». Тут актер становится полноправным создателем сценических образов, в которых он, по словам Белинского, «является более творцом, ибо иногда может придать персонажу такие черты, о которых автор и не думал. И вот почему наш несравненный Щепкин часто бывает так превосходен в самых плохих ролях. Он пересоздает их, а для этого ему нужно, чтобы они были только что не бессмысленны. И это очень естественно, ибо здесь если автор не вдохновляет актера, то актер может вдохнуть душу живую в его мертвые создания…». В этой веренице ролей был и Любский из «Благородного театра» Загоскина. Этот «любитель искусств» ради моды заводит домашний театр, демонстрируя при этом полную неосведомленность, и посему попадает в смешные ситуации, растрачивает богатство, мучает окружающих своими прихотями, пребывая в бесплодной суете. Даже супруга, не выдержав, бросает ему в сердцах:
Две роли — и вся жизнь
«Играть Щепкину приходилось очень часто, почти ежедневно, — писала об этой поре невестка Михаила Семеновича А. В. Станкевич-Щепкина. — Он никогда не отказывался от предложенных ему ролей. Но маленькие и бессодержательные роли тяготили его. Зато как одушевлялся он каждою хорошею, характерною и богатою содержанием ролью. Такое одушевление легко передавалось и слушавшей его публике; его осмысленная, живая игра, казалось, электризовала ее…» Встреча большого актера с выдающимися драматургическими произведениями привела к рождению вершинных сценических творений. Фамусов и Городничий — это, бесспорно, знаковые роли в творчестве артиста и русском искусстве. Эти яркие сочные характеры, созданные великими комедиографами на материале исконно русской действительности, оказались столь близки таланту Щепкина, столь наполнены жизнью, что зритель уже не замечал сцены, театральности, перед ним была натуральная русская реальность. «Нужен ли вам русский человек со всеми оттенками национальности, со всеми чертами страны или века, в которых он действует, со всем выражением общества, в котором он живет, — писали «Литературные прибавления», — смотрите Щепкина, ступайте в «Горе от ума» — вот вам настоящий Фамусов; загляните в «Ревизора» — вот вам живой Дмухановский… Щепкин до такой степени умеет придать русский тип своим созданиям, что вам кажется, что это лицо действительно существует, что вы его встретили, видели, говорили с ним или по крайней мере, что оно не может быть в природе иначе, как на сцене в игре Щепкина». В работе над Фамусовым и Городничим актеру уже не требовалось как-то оживлять эти роли и придавать им художественную значимость. Впору было подняться до высот драматургии, осмыслить и донести до зрителей идеи, заключенные в пьесах, все то, что давали актеру писатели, и давали в избытке. Умный критик из «Литературных прибавлений» тонко подметил, что «чем труднее выполнение лица, тем Щепкин выше». А выполнить сложнейшие роли Фамусова и Городничего на уровне художественных открытий Грибоедова и Гоголя могло быть по силам только художнику равного им дарования.* * *
История театра знает бездну примеров того, как порою мучительно долго и трудно прокладывает себе пьеса путь на сцену. И тем не менее «Горе от ума» бьет в этом отношении все рекорды. Это грибоедовское творение, казалось, испытало все возможные злоключения — длительные запреты, цензурные сокращения и искажения, замалчивание. Некоторые любители театра пытались тайно организовывать спектакли, распространять пьесу хотя бы в рукописном варианте, пока через восемь лет после своего написания, уже после трагической смерти поэта, она получила доступ на сцену. Михаил Щепкин первым заявил комедию в свой бенефис, употребив все свои дипломатические способности, добился разрешения на исполнение сначала одной сцены, а потом и всего произведения. В письме от 8 января 1830 года Щепкин просит Сосницкого срочно прислать ему текст тех сцен комедии, которые были допущены к исполнению в Петербурге. «Только сделай одолжение, как можно скорее, — торопит он коллегу. — Заплати что хочешь, только бы поспело к моему бенефису, который будет 30 генваря… Уверен, что ты не поскучаешь сей комиссией и выполнишь…» Иван Иванович исправно выполнил просьбу Щепкина, и он незамедлительно приступил к репетициям. Чуть позже «Московские ведомости» (№ 9 за 1830 год) сообщили о том, что «в пятницу, 31 января представлена будет, в пользу актера г. Щепкина, в первый раз: «Скупой», комедия в 5 действиях, в прозе, из театра Мольера, переведенная с французского С. Т. Аксаковым. В оной комедии будут играть роли: Гарпагона — г. Щепкин, Клеанта — г. Мочалов… после оного будет в первый раз сцена из комедии «Горе от ума», в стихах, соч. А. С. Грибоедова, в коей будут играть роли: Чацкого — г. Сабуров, Фамусова — г. Щепкин…». Таким образом, дирекция Малого театра, заинтересованная в актере (а постановка пьесы совпала во времени с заключением нового контракта на работу Щепкина в театре), пошла навстречу его желанию сыграть Фамусова и тем самым открыла путь комедии Грибоедова на московскую сцену. С тех пор пьеса постоянно находилась в репертуаре театра, а роль Фамусова Щепкин с наслаждением исполнял до последних дней жизни, доставляя зрителям удовольствие и радость от каждой встречи с его сценическим образом. Критики же не сразу признали и оценили новую работу актера — слишком еще довлел прежний стереотип в изображении комедийного персонажа, да и популярность пьесы помешала: передавая из рук в руки, многократно переписывая и перепечатывая комедию, читающая публика знала ее наизусть, наиболее меткие ее словечки и афоризмы носились в воздухе. «Комедия стала народной в рукописи», у каждого сложилось свое представление о ее героях, и уже по одному этому мало кто ожидал успеха при ее сценическом воплощении. Завышенные ожидания всегда опасны: «… посмотрите, как хлопнется она в представлении», — заранее предрекали некоторые знатоки. Актеры, прекрасно зная об известности, которую обрела комедия, «с робостью выступали на сцену; может быть, даже излишняя старательность или осторожность их вредила им более, нежели они думают» — таков был один из первых отзывов о спектакле. Да, совсем непросто было в обстановке всеобщего интереса и споров вокруг грибоедовской комедии переводить литературный текст на язык театра, тем более что первый сценический вариант, допущенный к исполнению, значительно отличался от литературного оригинала. Цензура постаралась выхолостить всю ее остроту. «В этой пьесе осталось только одно горе, столь искажена она роковым ножом бенкендорфовской литературной управы», — записал в дневнике сам цензор А. В. Никитенко. Добавим, что в ту пору режиссура в современном ее понимании отсутствовала, а стало быть, ансамблевость исполнения, цельность всего представления, что было заложено в грибоедовской драматургии, обеспечить было некому. Неслучайно поэтому первые отзывы о спектакле и актерских работах были весьма критичны. Щепкин — Фамусов, Мочалов — Чацкий исключения не составили. «Актеры играли дурно и ни один из них, не исключая даже г. Щепкина, не понял своей роли», — сурово изрек И. В. Киреевский. Рецензенты вынесли свой приговор и драматургу, называя пьесу «писаною не для сцены», а лишь для чтения, утверждая, что в ней «очень мало драматического». Конечно, в этих оценках много субъективного и поверхностного, но они представляют несомненный интерес для современного исследователя, ибо дают возможность не только взглянуть на спектакль с более чем полуторавековой дистанции, но и понять эволюцию рождения щепкинского шедевра. Почти все летописцы творчества Щепкина отмечают, что он не удовлетворился своей первой пробой роли Фамусова на бенефисе и продолжал углубленно работать над ней, что, впрочем, характерно для всей его театральной карьеры. Он не знал пауз и остановок в трактовке любого своего героя или персонажа. С. Т. Аксаков замечал в этой связи, что его роли «никогда не лежали без движения, не сдавались в архив, а совершенствовались постепенно и постоянно». Вполне понятно, что после множества ролей-однодневок, которые приходилось играть Щепкину, роль Фамусова — неоднозначная, многоплановая, в которой «соединены самые главные, отличительные, основные приметы московского барина», явившегося в комедии Грибоедова «под тысячью различных обликов», потребовала от артиста еще и еще раз вчитываться в текст пьесы, осмысливать его, чтобы познать всю скрытую глубину этого неординарного образа. Артист выходил на сцену в облике Фамусова в течение почти тридцати лет. В последний раз он сыграл Фамусова, когда ему было семьдесят четыре года, то есть менее чем за год до смерти. И образ этот со временем менялся, обогащался новыми и новыми красками. Менялись даже интонации голоса Щепкина — Фамусова, его жесты, перестраивались мизансцены, даже паузы приобретали какой-то иной смысл, но главное в трактовке образа московского барина оставалось неизменным — его социальная заостренность. Для Фамусова — Щепкина ценность любого человека определяется лишь одним критерием — его положением в социальной иерархии общества, и только в четкой и прямой зависимости от этого его герой строит свои взаимоотношения с другими персонажами комедии. С Чацким, например, Фамусов разговаривает совсем не так, как с Молчалиным, а со Скалозубом заметно по-иному, чем с Загорецким. Весь этот сложный и замысловатый рисунок Щепкин блистательно раскрывал в третьем акте пьесы, сцене бала, где актер «тонко оттенял в своей надутой любезности хозяина разную категорию гостей». Так, с Чацким Фамусов сначала предупредителен, затем ироничен и, наконец, откровенно враждебен; перед Скалозубом он несколько заискивает, хотя знает о его ограниченности, но не исключает возможности в скором будущем породниться с ним («И золотой мешок, и метит в генералы»); с Молчалиным — снисходительно высокомерен, важен; с Загорецким — осторожен («Переносить горазд. И в карты не садись: продаст»); перед старухой Хлестовой склоняется в поклоне — и так по отношению к каждому из действующих лиц комедии. Ему не откажешь в уме, наблюдательности и знании психологии человеческой натуры, но он раб своей иерархической схемы. В финале спектакля, после разъезда гостей, Фамусов неожиданно застает Софью Павловну с Чацким наедине:* * *
Постановке «Ревизора» в Малом театре предшествовал провал комедии в Александрийском театре. И письмо Николая Васильевича, адресованное Щепкину, было связано с этим вконец расстроившим драматурга событием, равно как и со слабой надеждой при помощи Михаила Семеновича поправить дело в Москве: «Наконец пишу к вам, бесценный Михаил Семенович. Едва ли, сколько мне кажется, это не первый раз происходит. Явление, точно, очень замечательное: два первых ленивца в мире наконец решаются изумить друг друга письмом. Посылаю вам «Ревизора»… Может быть, до вас уже дошли слухи о нем… Делайте, что хотите с моей пиэсою, но я не стану хлопотать о ней… Действие, произведенное ею, было большое и шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях; полицейские против меня; купцы против меня; литераторы против меня… Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем». И далее: «…Вы должны непременно, из дружбы ко мне, взять на себя все дело постановки ее. Я не знаю никого из актеров ваших, какой и в чем каждый из них хорош, но вы это можете знать лучше, нежели кто другой. Сами вы, без сомнения, должны взять роль городничего: иначе она без вас пропадет. Есть еще труднейшая роль во всей пиэсе — роль Хлестакова. Я не знаю, выберете ли вы для нее артиста. Боже сохрани, если ее будут играть с обыкновенными фарсами, как играют хвастунов и повес театральных!.. Жаль, очень жаль, что я никак не мог быть у вас: многие из ролей могли быть совершенно понятны только тогда, когда бы я прочел их». В это же время Гоголь пишет Пушкину, горестно и безутешно: «Я такое получил отвращение к театру, что одна мысль о тех неприятностях, которые готовятся для меня еще на московском театре, в силе удержать поездку в Москву и попытку хлопотать о чем-либо… У меня недостает боле сил хлопотать и спорить. Я устал и душою, и телом. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Бог с ними со всеми! Мне опротивела моя пиэса. Я хотел бы убежать теперь бог знает куда!!» Прийти в отчаяние сочинителю «Ревизора» было отчего. Комедия не была понята ни исполнителями, ни зрителями. Петербургские актеры играли ее как обычный заурядный водевиль, как анекдот о ловко обманутом Городничем заезжим вертопрахом и картежником, всеми силами пытаясь при этом вызвать в зрительном зале смех, но не действительно смешными и горькими положениями и ситуациями комедии, а построенными на недоразумениях, внешних эффектах, нелепых ужимках. И хотя император Николай I лично удостоил вниманием этот спектакль и даже благодарил актеров, одобрительно отозвавшись об их игре, автор пиэсы, как ее называл Гоголь, ничего этого уже не видел и не слышал, он был унижен, раздавлен и, не выдержав до конца спектакля, покинул зрительный зал. А потом последовали злые и хамские нападки Булгарина в «Северной пчеле», Сенковского в «Библиотеке для чтения»… И Гоголь стал спешно готовиться к отъезду за границу. А тем временем Михаил Семенович прочитал «Ревизора» и не мог сдержать слез радости и от пьесы, и от сознания того, что наконец-то появилась возможность «выбиться из колеи французской комедии и образовать что-нибудь собственное», да еще какое! В своем ответном послании Николаю Васильевичу Щепкин не скрывал своей радости и высказал полнейшую готовность сделать все, чтобы эта пьеса была достойно представлена на московской сцене: «Благодарю вас от души за «Ревизора», не как за книгу, а как за комедию, которая, так сказать, осуществила все мои надежды, и я совершенно ожил. Давно уже я не чувствовал такой радости, ибо, к несчастью, мои все радости сосредоточены в одной сцене… Спасибо вам за подарок пьесы для бенефиса, верьте, что такое одолжение никогда не выйдет из моей старой головы, в которой теперь одно желание видеть вас, поцеловать. Чтобы это исполнить, я привел бы всю Москву в движение…» О том же пишет Михаил Погодин Гоголю: «Щепкин плачет. Ты сделал с ним чудо. При первом слухе о твоей комедии на сцене он оживился, расцвел, вновь сделался веселым, всюду ездил, рассказывал…» Однако радость была сильно омрачена известием, что руководство Малого театра запретило «Ревизора» к постановке. Сколько потребовалось хлопот, обращений к высоким особам, сколько мук и страданий пришлось пережить, прежде чем удалось снять это вето. Пьеса была допущена к постановке, но времени на ее сценическое воплощение было преступно мало. Всего десять дней было отпущено на репетиции, и, конечно, пьеса готовилась «небрежно и наспех». Будущее пьесы оказалось под угрозой. А. С. Пушкин, тревожась за ее судьбу, писал Наталье Николаевне в Петербург: «Пошли за Гоголем и прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву прочесть «Ревизора». Без него актерам не спеться. Он говорит, комедия будет карикатурна и грязна… С моей стороны, я то же ему советую: не надобно, чтоб «Ревизор» упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в Петербурге». Погодин тоже просит Гоголя об этом: «Ты должен непременно раз прочесть пьесу актерам, а там пусть делают что хотят. Итак, приезжай непременно и поскорее. Мы все просим тебя об этом». Однако Гоголь так и не отважился приехать в Москву, перепоручив все хлопоты Щепкину и Аксакову. А им деваться было некуда, пришлось весь груз тяжкий взвалить на свои плечи. Решалась судьба по сути дела не только произведения, а в какой-то степени и самого автора. Новая неудача могла бы навсегда отбить охоту писателя к драматургии. Поэтому все силы и умение были употреблены в оставшееся до премьеры время Аксаковым и Щепкиным для того, чтобы актеры правильно поняли свои роли, чтобы пьеса «не упала» теперь уже в Малом театре. И их усилия не пропали даром… История русского театра знает немало примеров того, как драматурги, испытав горькие разочарования, обиды, настоящие душевные травмы на своих премьерах в Александрийском театре, затем находили утешение в Москве — в Малом, а позднее в Художественном театрах. Через это нелегкое испытание в разное время довелось пройти Грибоедову, Гоголю, Чехову. Так и не дождавшись окончания первогоспектакля «Чайки», Чехов в полном расстройстве чувств покидает в 1896 году зрительный зал Александринки и с горечью и досадой сообщает близким ему людям: «Душа моя точно луженая, я не чувствую к своим пьесам ничего, кроме отвращения…» Почти по Гоголю! Получалась парадоксальная ситуация: Александринский театр, более приближенный ко двору, первым добивался постановки пьес, с трудом пробивавшихся на сцену. Но начиная их сценическую жизнь с провала, он вольно или невольно воздвигал незримую, но сильную преграду в их дальнейшей сценической судьбе. Таковы превратности театральной жизни, но как прекрасно, когда есть выбор, а значит — выход. В Москве премьера состоялась 25 мая того же 1836 года и прошла вопреки всем опасениям и недобрым предчувствиям вполне благосклонно. Затем спектакль был повторен на следующий день и, как писал один из рецензентов, «через два дни, в третий раз». Это уже был успех. Автор комедии пребывал в страшном волнении — как прошел спектакль. Томились в ожидании вестей из Москвы и актеры Александрийского театра. Но письмо Щепкина Сосницкому, исполнителю роли Городничего в Петербурге, разочаровало и озадачило. О спектакле Михаил Семенович ничего не написал. Взбешенный Сосницкий свое ответное послание начинал с таких слов: «Скажи, пожалуйста, ленивый кабан, разве можно так писать человеку, который интересуется знать об успехе пьесы? Я из твоего письма только и узнал, что «Ревизор» сыграли и чай выслан. Но как сыграли? Кто что играл? Какой успех сделала пьеса? Ничего не знаю. Стыдно, брат. Уж если ты так ленив, то хотя бы приказал кому-нибудь написать. Как путный пишешь к Н. В. Гоголю, что будешь писать завтра ко мне; тот приходит, чтобы узнать, что, как? А мне совестно и письмо показывать ему. Он спрашивает меня: «Ну что?» А я ему отвечаю: «Чай выслан, но без письма». Тот вытаращил глаза на меня, думал, не помешался ли я, но в убеждение, что точно выслан, я показал письмо и говорю: «Ничего, я к этому привык. Вам бы надобно написать ему об чае, то он бы написал ко мне об «Ревизоре». Николай Васильевич едет 6-го июня, и потому ты еще успеешь, поторопись напиши, или вели написать поподробнее». Конечно, это была уловка, маленькая хитрость актера заманить Гоголя на премьеру. Спектакль был еще в начале пути, и вряд ли Щепкин сам был готов дать ему полную оценку, он знал — время само все обозначит… Первые отзывы, как это бывает обычно, были неоднозначны и противоречивы: одни восприняли комедию с радостью и приятным удивлением, другие настороженно и даже враждебно. Причины тому лежали не в русле художественности, а в мировоззренческих, социальных рамках. Многие вообще не знали, как им реагировать и что вообще эта пьеса означает. Словом, провала «Ревизора» в Москве не случилось, но и успехом поначалу дело тоже не увенчалось. Причину такого сдержанного приема пьесы один из знакомых Щепкина выразил лаконично: «Помилуйте, как можно было ее лучше принять, когда половина публики берущей, а половина дающей». Безусловно сказались и спешка, и неотработанность спектакля, неспособность актерского состава ухватить всю глубину и необычность этой комедии, ее многослойность. Некоторые актеры так и норовили быть смешными, тогда как, по мнению критика Надеждина, они «должны быть жалки, страшны, и все это должно было проистекать от точного исполнения характеров, без всякого увеличения, усиления, прибауток, просто, верно, тихо, добродушно». Не случайно и сам Щепкин на первых порах критически оценивал как спектакль в целом, так и свою работу в нем. «Собою я большею частию недоволен, — пишет он вскоре после премьеры Сосницкому, — а особливо первым актом…» «Может быть, найдутся люди, которые были довольны, — сокрушался он в другом письме петербургскому коллеге, — но надо заглянуть ко мне в душу!» Щепкин продолжал свой творческий поиск, свое исследование тончайших оттенков в поведении героя. Артист виртуозно проигрывал эти переходы в состоянии Городничего: от самоуверенности, грубости, ощущения вседозволенности человека, привыкшего повелевать, управлять, поучать, — к растерянности, испугу, необходимости ловчить, изворачиваться, угодничать. Роль укрупнялась, обретала многообъемность. В ней были поразительны переходы от комедийного к драматическому звучанию роли. «Щепкин умел найти одну-две ноты, — писал критик, — почти трагические в своей роли. Так, слова: «Не погубите! Жена, дети…» произносились им со слезами в голосе, с самым несчастным выражением в лице и с дрожанием подбородка, так что, казалось, вот-вот он сейчас расплачется. И этот плут на минуту делался жалок. У Сосницкого он был скорее забавен, как попавшийся в западню тот хитрый зверь, на которого он был похож». Щепкин так убедительно и искренне передавал раскаяние своего Городничего, что заставлял зрителей на какой-то миг поверить ему. Одновременно его Сквозник-Дмухановский был деятелен, изворотлив, хитер и способен находить выход из самых затруднительных ситуаций. Обстоятельства, в которые он попадал по воле автора пьесы, вынуждали его постоянно выкручиваться, лезть из кожи вон, чтобы и на этот раз, как случалось прежде, выйти сухим из воды. И когда ему это удавалось, Городничий давал себе волю, раскрывался во всем естестве своем. «Посмотрите на него в пятом действии, в сцене с купцами, — восхищенно восклицал Аполлон Григорьев в журнале «Москвитянин». — Тут уж не прежний Городничий, мокрая курица перед воображаемым ревизором, а Прометей, настоящий Прометей! И тут, конечно, еще не совсем прошла лихорадка, только это — лихорадка радости превыше всех надежд. Как же, этому человеку, наслаждающемуся вполне радостию мщения и успокоившемуся на воображаемых лаврах, человеку, полному грубой и дикой энергии своего рода, — вдруг уничтожиться совершенно при чтении письма Хлестакова? Лихорадочное состояние возобновилось, и тут опять место комическому пафосу. Предстал, наконец, закон во всем своем грозном величии, и «прыткий воевода» сражен, как громом». Это произошло лишь тогда, когда в спектакле были расставлены точные акценты, когда Щепкин увидел в своем персонаже живого человека, наполнил роль собственным темпераментом, страстностью, «жаром», как писали критики, сжился с образом, тогда он уже заставлял публику «плакать от его игры в драме и смеяться добрым смехом кривой роже изображаемых им порочных людей». Оценки работы Щепкина становились восторженнее одна другой. «Он всегда играл городничего превосходно, — писал Белинский после просмотра очередного спектакля Малого театра, — но теперь становится хозяином в этой роли и играет ее с большею и большею свободою». Наблюдая за тем, как совершенствуется Щепкиным роль Городничего, Белинский и Григорьев в унисон заключали, что актер так глубоко понял своего героя, так «вошел в сокровеннейшие изгибы совести градоправителя, что иного Сквозник-Дмухановского почти нельзя себе вообразить», что «Щепкин такой же великий толкователь личности Сквозник-Дмухановского, каким был Мочалов для личности Ричарда III». «Теперь вы стали в несколько раз выше того Щепкина, которого я видел прежде, — писал артисту в декабре 1842 года сам драматург. — У вас теперь есть то высокое спокойствие, которого прежде не было. Вы теперь можете царствовать в вашей роли». Гоголь вполне соглашался с теми критиками, которые утверждали, что творение актера в этом спектакле вставало в один уровень с созданием драматурга, что «он не помощник автора, но соперник его в создании роли». Николай Васильевич сам засвидетельствовал это в репликах актеров в «Развязке «Ревизора»: «В таком совершенстве, в такой окончательности, так сознательно и в таком соображенье всего исполнить роль свою — нет, это что-то выше обыкновенной передачи. Это второе созданье, творчество!..» Успех «Ревизора» докатился и до Северной столицы, москвичи показали здесь свой спектакль, побудив честолюбивых александрийцев обновить и поднять на достойный уровень свою прежнюю постановку. Комедия Гоголя постепенно утверждалась в петербургском репертуаре. Щепкин этому способствовал активнейшим образом: специально к его приезду в Петербург там возобновляли «Ревизора», чтобы увидеть московскую знаменитость в его знаменитой роли Городничего вместе с петербургскими актерами. Щепкин внес не только решающий вклад в формирование русской реалистической школы, он, как никто другой, понимал, что новая отечественная драматургия должна прочно утвердиться на российской сцене, а для этого нужны умные, талантливые актеры и не менее умная, понимающая публика. Нужны двусторонние усилия! Без преодоления нет искусства! И Щепкин постоянно и постепенно образовывал театральную публику, по-своему воспитывал ее, поднимая планку ее возможностей. Ему это удавалось больше других, потому что по признанию самих театралов они часто заполняли залы театров «не столько для пьес, которые уже видели, сколько для того, чтобы посмотреть на него». В своих исканиях он был не одинок. Гоголь, озабоченный в то время мыслями об исправлении нравов общества и людей, писал: «Душу и душу нужно знать теперь, а без того не сделать ничего. А узнавать душу может один только тот, кто начал уже работать над собственной душой своей». Эти размышления и навели Гоголя на решение написать «Развязку «Ревизора». А вот тут-то между ними произошли спор и несогласие. В «Развязке» Гоголь попытался выразить свой взгляд на предмет искусства как средство обращения художника прежде всего к совести человека и произвести в ней ревизию, чтобы очистить наш «душевный город», который, по мнению писателя, «в несколько раз хуже всякого другого города», в котором бесчинствуют наши страсти. «Прежде чем приходить в смущение от окружающих беспорядков, — писал он, — недурно заглянуть всякому из нас в собственную душу. Загляните также и вы в свою. Бог весть, может быть, там увидите такой же беспорядок, за который браните других…» Известно признание Гоголя в том, что он старался изгонять из себя то Хлестакова, то Ноздрева, то Чичикова. Во многих его героях легко угадывается сам автор. «В Гоголе, — пишет исследователь его творчества И. П. Золотусский, — жил отчасти и обжора Петух из второго тома «Мертвых душ», и Тентетников, помышлявший о благоустройстве всего русского государства, и Пискарев, мечтавший о лучшей красавице Петербурга, и Шпонька, панически страшившийся женитьбы». Увлеченный поисками нравственного идеала, нравственного очищения души, Гоголь через несколько лет после первого исполнения «Ревизора» неожиданно для многих предложил господам актерам переменить манеру игры и свое отношение к персонажам, заменив в спектакле живые человеческие характеры символами, чтобы персонажи жили не той реальной, наполненной волнениями, страстями жизнью, а лишь демонстрировали «наши страсти», обличали пороки в нас живущие и требующие их исправления. Такой поворот событий вступал в противоречие со спецификой творчества актера, тем более актера реалистической школы, выражающего идеи, мысли не через аллегории и символы, а, как позднее напишет К. С. Станиславский, «жизнь человеческого духа». Через внутренние переживания, противоборство характеров, идей и позиций. Естественно, эти рекомендации Гоголя встретили сначала недоумение Щепкина, а затем и резкое несогласие. «…По выздоровлении, прочтя ваше окончание «Ревизора», — писал Михаил Семенович в ответном послании Гоголю, — я бесился на самого себя, на свой близорукий взгляд, потому что до сих пор я изучал всех героев в «Ревизоре», как живых людей; я так видел много знакомого, так родного, я так свыкся с Городничим, Добчинским, Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще — это было бы действие бессовестное. Чем вы их мне замените? Оставьте мне их, как они есть. Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарился. Видите ли, какое давнее знакомство? Вы из целого мира собрали несколько человек в одно сборное место, в одну группу; с этим в десять лет я совершенно сроднился, и вы хотите их отнять у меня. Нет, я их вам не дам! Не дам, пока существую. После меня переделайте хоть в козлов; а до тех пор я не уступлю вам Держиморды, потому что он мне дорог…» Для Щепкина была важна не демонстрация человеческих страстей как таковых, в их, так сказать, оголенном виде, а выражение этих страстей через живых людей, через их конкретные, вызванные вполне определенными ситуациями действия и поступки, которые и составляют характер человека, проявляют в нем личность. Только таким путем, считал актер, можно воздействовать на души зрителей, их нравственный облик. Эмоциональное восприятие драматургического материала, душевное волнение артиста по невидимым миру каналам передается зрителю, который начинает сопереживать тому, что происходит на сцене. «Где, как не на дне души артиста, можно отыскать тот живой ключ, который сообщает теплоту художественным формам и вливает в них жизнь? — писал профессор Московского университета П. Н. Кудрявцев, выделяя в творчестве Щепкина эту особенность его дарования — всякий раз отыскивать «живой ключ» к создаваемому им образу… — Прежде чем заставить вас смеяться над нравственным безобразием воображаемого лица, он должен представить в нем живого человека, не лишенного вовсе способности чувствовать и волноваться по-человечески. Какой интерес будут иметь для вас Фамусовы, городничие и подобные им лица, если прежде всего они не будут живые люди, в которых, как и в каждом из нас, звучат общечеловеческие струны? Что вам в них, если они говорят перед вами только заученные слова? Потому что ведь и самые моральные недостатки, как и высокие нравственные совершенства, зиждятся на общечеловеческой основе, и комик прежде всего изображает вам его, это общечеловеческое чувство, как бы оно ни называлось, — страх, надежда, самолюбие или иначе…» Именно поэтому Щепкин не мог заменить человека, реального действующего лица комедии символами, знаковыми его обозначениями. Поэтому столь решительно вступился за Городничего, Держиморду, равно как и за других персонажей, видя в них реальных, живых людей. (Хотя в принципе актеры и раньше и особенно теперь, в современном многосложном театре, где огромную, а иногда и первостепенную роль играют сценография, различные технические и световые эффекты, исполняли роли символов, аллегорий и т. п. Но для этого нужен совсем иной драматургический материал, иные средства выражения.) Отказ первого комического актера, так титуловал Михаила Семеновича Гоголь в «Развязке «Ревизора», увенчав его при этом лавровым венком, следовать наставлениям драматурга смутил и озадачил Николая Васильевича, заставив усомниться в резонности что-либо менять в сценическом решении спектакля. Да и сам Гоголь еще недавно утверждал, что образы на сцене не будут живыми, если каждый актер не почувствует, что они взяты «из того же тела, из которого и мы». Словом, поразмыслив, он предложил пьесу исполнять по-прежнему, а «Развязку» рассматривать лишь как дополнение к ней. «Теперь остались все при своем, — торопился успокоить он артиста. — И овцы целы, и волки сыты: аллегории аллегориями, а «Ревизор» «Ревизором». Однако Щепкин и этого не принял, но здесь причина была этического характера. Сергей Тимофеевич Аксаков наиболее точно изложил причину отказа Щепкина участвовать в этом действе в своем письме к автору «Развязки»: «…Не говорю о том, что тут нет никакой развязки, да и нет в ней никакой надобности; но подумали ли вы о том, каким образом Щепкин, давая себе в бенефис «Ревизора», увенчает сам себя каким-то венцом, поднесенным ему актерами? Вы позабыли всякую человеческую скромность. Вы позабыли, вы уже не знаете, как приняла бы все это русская образованная публика. Вы позабыли, что мы не французы, которые готовы бессмысленно восторгаться от всякой эффектной церемонии». Да, много разных ролей сыграл Михаил Семенович Щепкин, много образов создал на сцене. Но, поди ж ты, единственный раз, представившийся актеру сыграть самого себя, отверг, и самым решительным образом. И не было в этом никакой позы, никакой демонстрации, была личность с ее внутренним нравственным законом, который соблюдался строго и неукоснительно. Так, отстояв право играть комедию в ее неизменном виде, Михаил Семенович и исполнял роль Городничего до последних дней своих. Первый раз Сквозник-Дмухановского он сыграл 25 мая 1836 года, последний — в 1863-м, в Керчи, за месяц до кончины. А между ними, этими неполными тремя десятилетиями, сколько Городничих прошло перед самыми разными зрителями в исполнении великого артиста! И каждый новый спектакль его стараниями вносил какую-то новую краску в этот образ, который становился уже просто хрестоматийным и эталонным. «Ревизор» продлил театральную жизнь Щепкина, влил в нее молодые соки и живительную энергию. Щепкин до конца дней своих был благодарен за это Гоголю, преклонялся перед его великим талантом. «После «Ревизора», — вспоминал И. И. Панаев, — любовь к Гоголю превратилась в благоговейное чувство. Когда он говорил о нем или читал отрывки из его писем к нему, лицо его сияло и на глазах показывались слезы… Он передавал каждое самое простое и незамечательное слово Гоголя с несказанным умилением и, улыбаясь сквозь слезы, восклицал: «Каков! каков!» И в эти минуты голос и щеки его дрожали».Второе дыхание
После того как Щепкин блистательно сыграл Фамусова и Городничего, ожидание новых интересных ролей, достойных его таланта, снова затянулось и стало невыносимо томительным. Ему уже перевалило далеко за пятьдесят. Ощущение творческого застоя и упадка театра не покидало его, он вновь стал навязчиво думать о завершении театральной карьеры. И мучительно беспокоился о том, что идея покинуть театр будет одобрительно воспринята дирекцией. Эта горькая противоречивость состояния души изматывала Щепкина до предела. Казалось, чего беспокоиться Первому российскому актеру, верой и правдой отслужившему театру почти полстолетия и продолжавшему исправно и достойно исполнять свою высокую миссию? Ему ли беспокоиться за свою судьбу? Но всякий раз он испытывал огромное душевное волнение, когда подходил срок перезаключения контракта. «Он не знает еще, оставят ли его на службе, — с тревогой пишет Елена Дмитриевна в конце 1853 года младшему сыну Александру, увязывая возможность оказывать ему материальную помощь с делами отца в театре. — Послали уже бумагу к директору, и что-то будет — не знаем. Я бы очень желала, когда бы оставили его, ибо все лучше, чем куды в какой-то город ехать». Спустя некоторое время она с удовлетворением сообщает сыну, что «отца оставила дирекция еще, и надобно правду сказать, нельзя и не оставить, — покудова его не было и сборы были плохи, а теперь, когда играет он, почти театр полон». И все же чувство неуверенности, опасение потерять службу в театре преследовали артиста до конца дней. Внешне отношения артиста с театральным руководством складывались благополучно: он получал самый высокий в театре оклад, со всеми был в добрых отношениях, играл почти во всех пьесах М. Н. Загоскина, Ф. Ф. Кокошкина, в разное время бывших директорами Малого театра, охотно приглашался в дома знатных особ, получал возможность ездить в летнее время для лечения на юг. Это давало повод многим думать о чуть ли не идиллических его взаимоотношениях с дирекцией театра, а порой даже подозревать артиста в заискивании перед высоким начальством. На деле все обстояло иначе и далеко не гладко. Щепкин, конечно, мог бы при желании спокойно ладить с начальством и быть у него на самом лучшем счету. Но мешали его нравственные принципы и товарищеская солидарность. Щепкин, пользующийся огромным авторитетом в актерской среде, всегда выдвигался «парламентером» от актерского цеха, если возникали конфликты или трудовые споры с дирекцией. Как правило, дело касалось несвоевременной выплаты жалованья. Обычно Михаил Семенович одерживал победу. Но чего это ему стоило!.. Однажды дирекция московских театров сначала задержала, а затем и вовсе отказалась сделать выплаты за выступления актеров в спектаклях. Щепкин от их лица обратился с жалобой на произвол администрации в Петербург к дирекции императорских театров — Александру Михайловичу Гедеонову, но, не найдя понимания, заявил, что придется побеспокоить министра. «Хорошо, что вы сказали, — ответил тот, — я ему доложу о деле и вам будет отказ». «В таком случае я подам просьбу государю», — настаивал Щепкин. «Что вы это — с такими дрязгами соваться к его императорскому величеству! Я, как начальник, запрещаю вам это», — отрезал Гедеонов. «Ваше превосходительство, — сказал, откланиваясь Щепкин, — деньги эти принадлежат, в этом и вы согласны, бедным артистам, они мне поручили ходатайствовать об их получении; вы мне отказали и обещаете отказ министра. Я хочу просить государя, вы мне запрещаете, как начальник… Мне остается одно средство: я передам все дело в «Колокол»… «Вы с ума сошли, — закричал Гедеонов, — вы понимаете ли, что вы говорите, я вас велю арестовать. Послушайте, я вас извиняю только тем, что вы сгоряча это сказали. Из эдаких пустяков делать кутерьму, как вам не стыдно… Приходите завтра в контору, я посмотрю…» Много приходилось начальству выслушивать неприятного от Щепкина. Случалось ему наводить критику на бездушие чиновников и бюрократические порядки, царившие в конторе императорских театров, нелицеприятно высказываться по поводу репертуара, насаждавшегося влиятельными, заинтересованными лицами. Куда там до добрых отношений! «Оно (начальство. — В. И.) меня не любит за то, что я всегда говорю, что думаю и чувствую, да и говорю-то еще довольно громко», — признавался Щепкин. И гордился этим. При всей тогда зависимости актеров и их бесправности Михаил Семенович под разными предлогами отказывался играть в пьесах, чуждых ему по духу, а иногда восставал против некоторых мест в тексте пьес. Так, в водевиле Каратыгина «Авось, или Сцены в книжной лавке» Щепкин «вопреки воле дирекции» не стал исполнять куплеты, содержащие оскорбительные выпады против Белинского. Свое одобрение поступка актера С. Т. Аксаков отметил записью: «Обнимаю лишний раз Михаила Семеновича за то, что он не стал петь куплеты на Белинского». Конечно, подобные поступки вызывали не только одобрение. Как это часто случается, на творческий кризис накладываются и житейские невзгоды. Впрочем, они преследовали Щепкина всегда… Мечта о собственном доме для каждого понятна и объяснима. Для Щепкина с его многочисленным семейством частые переезды с квартиры на квартиру, оплата найма жилья были особенно обременительными. Поэтому нетрудно проникнуться радостью, какую испытал он при долгожданной покупке в 1830 году собственного дома в Большом Спасском переулке (позже — улица Ермоловой, 16), дома, порог которого скоро переступит Пушкин, где произойдет первая встреча артиста с Гоголем. Однако радость эта была не полной, а со временем и вовсе омрачена тем, что долги за покупку дома так и не удалось погасить. Через семнадцать лет дом пришлось продать, и Щепкин с горечью сообщал Гоголю: «Я продал дом, расплатился с долгами, и у меня остаются за уплатою и с наемом годовой квартиры 1500 р. — вот все мое состояние!» Сороковые и особенно пятидесятые годы стали для Щепкина черной жгучей полосой — утраты родных и близких преследовали его нескончаемо. Сначала пришлось оплакать дочерей Александру и Феклу, затем мать Марию Тимофеевну. Думал, не переживет смерть сына Дмитрия, но в том же году похоронил милую сестру свою Александру Семеновну, с которой он тогда шестилетним мальчиком отправился на учение. В большой тревоге пребывал по поводу здоровья супруги Елены Дмитриевны. В одном из писем Тарасу Григорьевичу Шевченко он пишет: «Жинка дуже було занедужила; теперь, слава богу, трохи поправилась. А то було тее… и до попа доходило дело. Все это на меня, старого, имеет большое влияние». Из Петербурга он пишет домой с беспокойством: «Здравствуй, мой старый добрый друг! Тебя, пишут, погода было немножко покачнула, но, бог даст, с наступающим летом все поправится, а главное, не упадай духом и помни, что и я после недолгий жилец». Но надеждам на лучший исход не суждено было сбыться, вскоре ему пришлось пережить самое тяжкое испытание. Смерть Елены Дмитриевны, казалось, отняла у него последние силы и без того угасающий интерес к жизни… Щепкину выпало похоронить и самых дорогих своих близких друзей, более молодых по возрасту. Скорбный список открыл Александр Сергеевич Пушкин, а далее… Павел Степанович Мочалов, Виссарион Григорьевич Белинский, Николай Васильевич Гоголь, Сергей Тимофеевич Аксаков, Тарас Григорьевич Шевченко. Какие люди!.. Каждый уносил с собой безвозвратно частицу его сердца, души, жизненной энергии. Трудно было жить, трудно было играть. К болезни горла прибавилась одышка, слабели слух, память. Но более всего тяготили далекие от благополучия дела в театре, оторвать себя от которого он, как ни пытался, был не властен. Обостряло внутренний разлад артиста печальное состояние сценического искусства. После классных ролей Фамусова, Городничего Щепкин предъявлял более строгие и высокие требования к самому себе, к театру, драматургии. А играть приходилось все ту же «дюсисовскую дрянь», как он выражался о репертуаре. В письме сыну от 26 августа 1848 года Щепкин не удерживается от горького признания: «… Грусть меня одолевает. Занятие по службе сделалось мне неясно, даже отвратительно, что из артиста делают поденщика; репертуар преотвратительный — не над чем отдохнуть душою, а вследствие этого память тупеет, воображение стынет, звуков недостает, язык не ворочается. Все это вместе разрушает меня, уничтожает меня, — и не видишь ни в чем отрады, не видишь ни одной роли, над чем можно было отдохнуть душе, что расшевелило бы мою старость. Да, я могу еще встрепенуться; но надо, чтобы это была роль и роль. Без этого я черствею до гадости, и мне совестно самого себя, совестно выходить перед публикой; а она, голубушка, так же милостива ко мне, не видит, что к ней на сцену выходит не артист уже, одаренный вдохновением, посвятивший всего себя своему искусству, но поденщик, неуклонно выполняющий и зарабатывающий свою задельную плату… Грустно… страшно грустно! Знаешь ли: мне бы легче было, если бы меня иногда ошикали, даже это меня бы порадовало за будущий русский театр…» «Я упадаю духом, — так начинает Михаил Семенович свое письмо, адресованное Николаю Васильевичу Гоголю. — Поприще мое и при новом управлении без действия, а душа требует деятельности, потому что репертуар нисколько не изменился, а все то же, мерзость и мерзость… из артистов сделались мы поденщиками. Нет, хуже: поденщик свободен выбирать себе работу, а артист играй, играй все, что повелит мудро начальство». «Вообще от нашего репертуара можно взбеситься, если не с ума сойти» — это уже из послания А. А. Краевскому. Это подавленное душевное состояние затянулось почти на два десятилетия. Два десятилетия!.. Целая творческая жизнь, оказавшаяся в простое. Великий талант не по собственной воле не востребован в полную меру своего богатства. Это сродни преступлению. А кого винить? Начальство? Время?.. Трудно пробивался золотой век русской культуры на театральные подмостки… Николай Васильевич Гоголь, как мог, сочувствовал Михаилу Семеновичу. Его так же удручало засилье в репертуаре пьес посредственных, далеких от истинных примет русской жизни, от подлинной художественности. «Но где развиться талантам, на чем развиться?» — сокрушался он. В отношении Щепкина не удержался от возмущения: «Вмешали в грязь, заставляют играть мелкие, ничтожные роли… Заставляют то делать мастера, что делают ученики. Это все равно, что архитектора, который возносит гениально соображенное здание, заставляют быть каменщиком и делать кирпичи». Таланту Щепкина не давало развиться еще и продолжавшееся по инерции консервативное деление актеров на узко понимаемое амплуа. На нем уже с самого начала его театральной карьеры, будто раз и навсегда, была прочно закреплена печать комического актера. Видимо, исходили только из внешности — маленький, кругленький, с короткими пухлыми руками, добрыми глазами, кротким взглядом, застенчивой улыбкой и совсем не сильным, «без металла» голосом. Прирожденный комик — и баста! Но наиболее проницательные критики уже тогда, не видя его ни в одной трагической роли, угадывали его почти безграничный творческий диапазон. После первых же гастролей Щепкина в Петербурге П. А. Каратыгин отметил в своих «Записках», что при огромном комическом таланте Щепкина «он был наделен с избытком драматическим элементом». А Белинский заявил еще более смело по тем временам: «…если бы Щепкин ранее познакомился с Шекспиром, он был бы в состоянии овладеть и ролью Лира, которая столько же не вне сферы его таланта, как и роль шута в этой пьесе». Мы уже затрагивали эту тему, но она столь актуальна для нашего повествования, что приходится возвращаться к ней вновь. И все-таки, хотя и на склоне лет, Щепкину все же удалось раздвинуть железные обручи амплуа и сыграть «чисто» трагическую роль, роль, исполненную, как о ней писали, «мрачного» трагизма — Барона в пушкинском «Скупом рыцаре». Написанная много лет назад пьеса получила доступ к сцене только в 1853 году усилиями актера. Добившись разрешения включить ее в свой бенефис, Михаил Семенович сам взялся за хлопоты по ее постановке. Эта работа стала своего рода продолжением его поисков более чем десятилетней давности — в связи с подготовкой и исполнением им мольеровского Гарпагона, а также Подслухина в переделке с французской комедии «Подложный клад, или Опасно подслушивать у дверей» Ф.-Б. Гофмана. И хотя образ Скупого был представлен Мольером, Гофманом и Пушкиным прямо в противоположных жанрах — в комедии (Мольер, Гофман) и трагедии (Пушкин), свое главное внимание Щепкин сосредоточил не на жанровой особенности, а на психологическом рисунке образов, обосновании поведения своих героев, их поступков, создании обобщенного образа, типа людей, за которыми навечно закрепится имя — скряга. Актер мастерски перевоплощался в своих героев, не оставляя никаких сомнений в их достоверности. «… Он переменил свой голос, свое лицо, свою походку, — писала «Северная пчела» о Щепкине в «Скупом» Мольера, — перешел телом и душою в Гарпагона; словом… сделался Скупым». «Это верх драматического в комизме, — почти вторили «Отечественные записки». — Отвратительная страсть перед вами в полном развитии. У вас волосы становятся дыбом, когда Гарпагон в исступлении указывает на вас и спрашивает — не вы ли украли его деньги. Вам хочется хохотать, но смех не вылетает из вашей груди, и холод пробегает по вашим жилам…» Подобными характеристиками наделяли критики и Подслухина в «Подложном кладе». И это, заметим, по отношению к комедийным ролям Щепкина. В пушкинской трагедии артист достигал невероятного накала страстей и внутренних переживаний… К репетициям спектакля Михаил Семенович приступил, когда в Петербурге уже была отыграна премьера «Скупого рыцаря». Там в роли Барона выступил любимец петербургской публики Василий Андреевич Каратыгин. По внешним данным Щепкин, конечно же, ни в какой степени не мог соперничать с признанным трагиком, природа обделила его ростом и голосом, но, как писал «Москвитянин», «в этой маленькой, почти кубической фигурке душа нежная, жаркая». Не актерской выправкой, не статностью фигуры и звучностью голоса привлекал он всеобщее внимание, а потрясающим перевоплощением, глубиной страданий и страстей. Скупой у Щепкина всю жизнь отказывал себе во всех радостях жизни, чтобы на склоне лет испытать единственное наслаждение — спуститься в подвал, открыть сундуки, наполненные сокровищами, перебирать их с нежной любовью, смотреть на них, говорить с ними, как с живыми существами, ибо каждый предмет здесь — это часть его жизни, его биографии, у каждого из них своя особая история, обагренная слезами и кровью. «… Сколько человеческих забот, обманов, слез, молений и проклятий!..» — восклицает Барон, рассматривая монету за монетой, чтобы в итоге сказать: «Я знаю мощь мою: с меня довольно сего сознания…» Но чем дольше живет Барон, чем больше скапливается в его заветных сундуках богатства, тем мучительнее сознавать, что смерть неминуемо отнимет у него эти сокровища — смысл и цель его жизни. Он уйдет, а их растратит, пустит по ветру беспутный сын. И все его труды бесславно рухнут. Вот где трагедия, которую так гениально передавал Щепкин. «А по какому праву?» — вопрошал старик со смертельной мукой в голосе и будто ножом полоснул сердце. У пушкинской трагедии была еще одна тонкая грань, которую не каждому удалось разгадать и передать: Барон, хоть и скупой, но он был Рыцарем. Особенным Рыцарем — рыцарем «капитала». Щепкин распечатал эту загадку мастерски и донес до зрительного зала… Эта первая по-настоящему трагическая роль, к которой Щепкин шел почти полвека, стала подлинным откровением и апофеозом его великого мастерства. В «эпоху, — по выражению П. В. Анненкова, — запутанных разнообразных требований от искусства» артист продемонстрировал такое богатство средств и форм выразительности драматической культуры, что всякие споры о правдивости и реалистичности театрального искусства становились излишни. «Скупой» Щепкина — это была очередная и убедительная победа утверждающейся русской реалистической школы. Щепкин прочитал Пушкина удивительно верно, он говорил со зрителями по-пушкински, донося до них его мысль, его живое слово. Конечно, к моменту постановки «Скупого» Щепкин был во всеоружии своего таланта и мастерства, отличающихся поразительной простотой, естественностью, лишенных всякой вычурности и позы. «Вы делали попытки упрощения сценического тона в вашей роли Скупого рыцаря, — писал Анненков, — попытки, которые будут памятны и в истории нашего искусства, и тем, которые были свидетелями их. Вы довели дикцию свою до возможной степени простоты…» Благодаря этому актеру удалось передать все ощущения, все переходы и оттенки души своего героя. «Монолог рыцаря в подвале, посреди его заветных сундуков, — писали «Московские ведомости» после бенефисного спектакля Щепкина, — исполненный всей силой этой темной страсти, монолог, стоящий целого драматического развития, исполнен нашим артистом мастерски, превосходно… Все ощущения, все переходы и оттенки в душе страшного скряги уловлены и переданы им художественно: мрачная поэзия образов в его устах производила эффект поразительный. Нельзя было без содрогания слышать, как сравнивает он чувство, испытываемое им, когда влагает ключ в замочную скважину своих сундуков, с тем, какое должны испытывать люди, закоренелые в злодействах, вонзая нож в свою жертву: «приятно и страшно вместе»… Честь и хвала нашему знаменитому артисту, который теперь, в эту позднюю пору своего поприща, сохранил в такой юности, свежести и гибкости свой прекрасный дар». Казалось, то, что показал премьерный спектакль, — это уже предел, само совершенство, но критики после нескольких сыгранных представлений единодушно утверждали — артист от спектакля к спектаклю «был все выше и выше». А «Пантеон» уверял, что в роли Барона артист «был выше, нежели во всех своих прежних ролях, выше всего, что только можно вообразить… Весь скупой рыцарь получил самое невероятное, самое полное, самое блистательное значение на сцене. Такие сценические торжества, — заключил рецензент, — нигде не повторяются часто». Щепкин своей ролью сделал еще одно важное открытие для просвещенной публики — он развеял миф о «несценичности» трагедии Пушкина и проложил дорогу в театр другим драматургическим произведениям поэта. Выступление Щепкина в роли Скупого стало этапным в самом театральном искусстве, произошел буквально переворот в сознании, разрушивший решительно стереотип о строгом делении актеров по амплуа. Александринский театр, ревностно придерживающийся классических канонов, увидев на своей сцене Щепкина — Скупого, был шокирован и сражен, покоренный драматической наполненностью роли. Белинский, всегда горячо поддерживавший творческие поиски артиста, объясняя петербургской публике то новое, что привнес в театральное искусство Щепкин, заключил свои рассуждения тем, что «истинный актер изображает характер, страсть, развиваемую автором, и чем вернее, полнее передаст ее, какова бы она ни была, возвышенная или низкая, тем более он истинный актер». Много лестного прочел о себе Михаил Семенович в рецензиях на «Скупого», но больше всего ему пришлась по душе услышанная им реплика за кулисами Александринки, которой обменялись капельдинер с «едва ли не с бутафором». «Видел ли он Щепкина?» — спросил один из служителей театра, другой ответил: «Видел. Эту роль играл В. А. Каратыгин, а ведь этот карапузик лучше». Как бы услышав этот разговор, «Москвитянин» заключал свой театральный обзор такими словами: «В прошлом году эту роль занимал В. А. Каратыгин. В игре Щепкина больше правды». Вот так рушились стереотипы — комик вступил в спор с признанным трагиком и выиграл его. И тем не менее многим казалось, что блестяще сыгранный Скупой — это «лебединая песня» Щепкина. Но никто не подозревал и не догадывался, что впереди у него еще Муромский в «Свадьбе Кречинского» Сухово-Кобылина и Кузовкин в «Нахлебнике» Тургенева, что эти работы принесут ему огромное творческое удовлетворение, а зрителям — радость новых встреч с любимым артистом. Михаил Семенович не любил делать предсказаний. Но, познакомившись с пьесой Александра Васильевича Сухово-Кобылина, не удержался от обещания пьесе большого будущего. В драматурге он увидел довольно заметные приметы творчества, близкие Гоголю — то же стремление соединить жизненную достоверность драматургического материала с обличительной заостренностью, намерение вызывать в зрительном зале большую палитру настроений: не только смех, но и раздумье, душевные волнения, сочувственные переживания, производить не только веселье, но и «содрогание». Роль Муромского была близка и интересна Щепкину возможностью показать живого человека со всеми его слабостями и достоинствами: простодушием и вместе с тем житейской осмотрительностью, наивностью и холодной расчетливостью, трезвостью взгляда, даже при неожиданных перипетиях событий и поворотах судьбы. Щепкинский герой за напускной строгостью, внешней демонстрацией твердости духа, характера упрямца скрывал человека мягкого, подвластного чужой воле, его легко обмануть, воспользоваться доверчивостью. Но пережитое испытание пробуждает в нем иные качества, его решительность. В финале спектакля, когда после разоблачения Кречинского царит общая растерянность, именно Муромский на роковой вопрос «Что же нам делать?» — твердо и уверенно отвечает: «Бежать, матушка, бежать! От срама бегут!» И эта заключительная фраза звучала так убедительно и сочно потому, что была органична в его устах, оправданна всем предыдущим существованием на сцене, всем его поведением. Артист показал невероятное богатство оттенков и полутонов в характере своего персонажа, сделав его настолько живым, близким, что он трогал всех своей достоверностью и вызывал искреннее сочувствие зрителей. Ну а действительно «лебединой песней» Щепкина, исполненной на высокой ноте творческого вдохновения и концентрации всех его жизненных сил, стала роль старого Кузовкина в пьесе Ивана Сергеевича Тургенева «Нахлебник». Ее по предложению писателя и собственному намерению Михаил Семенович должен был сыграть еще в 1848 году. Однако путь пьесы на сцену оказался слишком долгим и трудным. Посылая в октябре 1848 года из Франции первый акт «Нахлебника», Тургенев писал Щепкину: «Завтра отправляется в Россию наш соотечественник г-н Селиванов, любезный и почтенный Михайло Семенович; он вам доставит первый акт моей комедии «Нахлебник»; второй я не успел окончить переписыванием, но как только кончу, немедленно отправлю по почте, так что, может быть, вы получите его в одно время с первым. Прошу у вас извинения за долгое отлагательство; желаю, чтобы мой труд вам понравился. Если вы найдете достойным вашего таланта приняться за него — я другой награды не требую… Лишь бы мой «Нахлебник» вам понравился и вызвал бы вашу творческую деятельность! Боюсь я — не опоздал ли я немного…» Увы, последнее опасение оказалось более чем преждевременным. От первого сообщения Тургенева: «Работаю над комедией, предназначенной для одного московского актера», и до спектакля пройдет почти четырнадцать лет! Долгих лет цензурного запрета, борьбы за право поставить спектакль и опубликовать пьесу. Впрочем, в 1857 году «Современнику» удалось-таки издать пьесу в своем третьем номере под названием «Чужой хлеб». Свои надежды на сценическое воплощение писатель возлагал лишь на Щепкина: «Отдаю вам свое произведение в полное распоряжение: делайте из него что хотите…» (как тут не вспомнить Гоголя — «Посылаю вам «Ревизора»… Делайте что хотите с моею пиэсою..») На рукописи Иван Сергеевич написал: «Эта роль назначена Михайле Семеновичу, следовательно, мне прибавить нечего: он из нее сделает что захочет». И еще раз засвидетельствовал эту предназначенность в письме к А. А. Краевскому: «…Если вы напечатаете «Нахлебника», то велите поставить: «Посвящена Михайле Семеновичу Щепкину». В том же 1857 году, вслед за «Современником» артист пытается заявить пьесу в свой бенефис, но, как и прежде, терпит фиаско. Цензурный комитет нашел комедию «совершенно безнравственною и наполненною выходками против русских дворян, представляемых в презрительном виде, и потому положил: запретить оную…». В следующем 1858 году Щепкин вновь обращается за разрешением комедии для своего бенефиса. И в который уже раз получает лаконичный ответ: «отказать». Но актер не сдается и не бездействует. Он уже не раз читал пьесу в обществе друзей и даже взялся за устройство спектакля собственными силами с помощью любителей театра, главным образом членов семейств Щепкиных, Аксаковых и Станкевичей. «У Станкевичей готовится домашний спектакль, — писал в 1849 году А. Н. Афанасьев, — хотят сыграть непропущенную в печать комедию Тургенева «Нахлебник». Старик Щепкин взялся сыграть самого Нахлебника (Кузовкина), другие роли разошлись между многочисленными его родственниками. Раза два уже были репетиции, идет недурно. Щепкин всех учит, всем советует, и суетится, и сердится. А как хорош сам он в своей роли…» К сожалению, довести домашний спектакль до публичного исполнения так и не удалось… Ни за одну роль так не хлопотал еще Шепкин и не отстаивал столь упорно, как за Нахлебника. Дошел, казалось, досамых верхов, до приближенных царского двора. Лично прочитал комедию князю, генерал-фельдмаршалу, министру императорского двора Петру Михайловичу Волконскому и заручился его поддержкой. А когда и этого было недостаточно, готов был добиваться аудиенции у членов царской семьи. В одном из писем П. В. Анненкову, обращаясь за содействием в «прохождении» пьесы, Щепкин сообщает, что «если… Вы не известите меня о счастливом результате, то я приеду сам в Питер и буду искать случая прочесть ее великому князю Константину Николаевичу, а если можно найти случай, то и дальше; что будет, то и будет… — И далее — пропуск «Нахлебника» я сочту наградою мне, старику, за пятидесятилетнюю добросовестную службу моему искусству… Пусть они порадуют меня, старика, и дадут мне сыграть хорошую роль, и может быть, уже и последнюю…» Стариковские предчувствия нередко сбываются. Щепкину удалось сыграть на сцене Нахлебника, который действительно оказался его последней ролью… Спектакль удалось пробить на последнем году жизни великого артиста. Время тогда для него было трудное, он мучился нездоровьем, силы слабели с каждым днем. Но «лишь только он вошел на сцену, — как писал рецензент после памятного спектакля, — то почувствовал в себе новую силу; огонь, согревавший его душу, поборол и старость и недуги, и когда робкий голос угнетенного, униженного нахлебника раздался перед зрителями, сердца их дрогнули. Артист одушевлялся и вырастал с каждою минутою, овладевал все более и более публикою. Он вызывал… ее восторги и слезы и, наконец, громовые рукоплескания, раздавшиеся со всех сторон, потрясли душу старика». В тургеневских пьесах «Холостяк» и особенно «Нахлебник» Щепкин возвращается к главной теме своего творчества — теме маленького человека, униженного и оскорбленного, но с чувством собственного достоинства. Однако уровень литературного и художественного воплощения этого образа был неизмеримо и несопоставимо выше, а потому острее, глубже, обобщеннее. Щепкин поднимался до заоблачных высот мастерства, когда показывал, как постепенно, от сцены к сцене у этого маленького человека, привыкшего молча сносить обиды, вдруг зреет внутренний протест, неминуемо влекущий к кульминации, взрыву, как только образованные и состоятельные хамы начинают вытаптывать его человеческое достоинство, покушаться на тех, кто не может защитить и отстоять себя. Так, старый холостяк Мошкин, сам беззащитный перед жизнью, вступается за честь своей воспитанницы, пытается уберечь ее от позора, оградить от бездушия сильных и богатых. Кузовкин, дворянин по происхождению, вынужден из милости доживать свой век в богатом барском доме, безропотно сносить насмешки окружающих, оставаясь в глазах всех шутом-приживалом. Но сколько светлого и доброго таится в его чистой душе, как свято и дорого ему его собственное самоуважение. Он хочет оставаться человеком и иметь право на уважение. Он заслужил это своей жизнью и старостью. И когда господа грубо и беспардонно начинают пакостить в его душе, унижать до беспредела, он сначала задыхается от несправедливости: «За что вы меня топчете в грязь? Что я вам сделал? Помилуйте!.. За что?», — а потом восстает и с гневом бросает в лицо своему обидчику: «Эх, Павел Николаевич, стыдно, батюшка… А еще образованный человек, из Петербурга… Мало вам того, что я уезжаю; вы хотите, чтоб я замарался, вы хотите купить меня… Так нет, этого не будет!… Что это со мной делают, господи! — обращался он далее уже к публике, ища ее сочувствия и защиты. — Да этак лучше прямо в гроб живому лечь!.. Ведь со мной, как с собакой, говорили, ей-богу… Словно во мне и души нет!..» Благодаря Щепкину тургеневская пьеса обрела невероятную социальную остроту и мощное нравственное звучание. Шуму вокруг этого спектакля было предостаточно… И автор комедии, и ее главный исполнитель, и, конечно же, публика были вполне вознаграждены за долгое ожидание и нелегкие мытарства, которые пришлось испытать пьесе и ее защитникам, пока она не увидела света рампы. Щепкин ожил, он был счастлив, что его закатные дни озарились таким творческим вдохновением, он наслаждался этой радостью и уже близкий конец не казался таким безысходным и мрачным. Свою миссию на артистической стезе он выполнил с честью и до конца.«Еще одна почтенная черта…»
Актерскую жизнь иногда можно представить в виде полотна, только раскраска его и рисунок слишком замысловаты и своеобычны. Напрасно искать здесь какую-то определенность и закономерность. Все перепутано, смешано и… необъяснимо. То густо рассыпаны серые и мрачные черные тона, то морем разливается сверкающая голубизна, то вспыхивают красные мажорные цвета… У Щепкина театральная карьера, сложившаяся вполне благополучно уже на самом ее старте, казалось, переливалась одними розовыми и радужными тонами. Но это только внешне. Сколько он испытал превратностей судьбы, горьких разочарований, сколько невосполнимых лет пришлось затратить на мелкие, суетные роли, не доставлявшие радости ни уму, ни сердцу, сколько сил затратить, чтобы высечь из серого, маловыразительного драматургического материала какую-то свою божью искру, сколько бесценной творческой энергии положить на алтарь искусства, чтобы пробить на сцену стоящую роль и освятить ее своим талантом и мастерством!.. Много довелось ему испытать и пережить превратностей судьбы за пятьдесят с лишним лет служения театру, но все мелкое, все серые и черные полосы на его жизненном полотне искупались мгновениями истинного актерского счастья — во всей полноте познать благоговение и признательность растроганных зрителей, возможность взойти на вершину славы, пережить свой звездный час, принять самые высокие почести от самых великих его современников. Так случилось в его пятидесятилетний юбилей на театральной сцене, когда его друзья, поклонники таланта, ученики и просто любители театра устроили ему чествование, каких еще не бывало на российском театре. Правда, вначале ничего такого грандиозного и не предполагалось. Все произошло как-то стихийно, по внутреннему побуждению его искренних устроителей. Никто и не догадывался о том эффекте, какой вызовет это чествование среди общественности и всех мыслящих людей России. В то время юбилейные торжества еще не были в почете, театральные власти смотрели на предстоящее торжество с некоторым раздражением, чем, по словам А. Н. Афанасьева, «аттестовали себя свински». «Выдумал какие-то пятьдесят!» — выговаривал юбиляру с неудовольствием директор императорских театров А. М. Гедеонов: какой уж тут после этого праздник! Но друзей и поклонников театра это только подзадорило. Организаторы торжеств, а среди них были отец и сын Аксаковы, Погодин, Грановский, учитывая вечные материальные затруднения Щепкина и не надеясь на казенную пенсию для артиста, решили организовать взносы в пользу юбиляра. Только было начала разворачиваться эта деятельность, как непредвиденные события одно за другим парализовали ее. Сначала смерть венценосного Николая I отразилась тем, что были закрыты все театры и прекращены всякие увеселительные зрелища до снятия всенародного траура. Это вполне соответствовало логике его царствования, гонениям на литературу и искусство, на передовое и мыслящее. Уже само вступление монарха на престол ознаменовалось смертным приговором, а затем казнями декабристов. На эшафот были возведены петрашевцы, среди них с петлей на шее и мешком на голове стоял в ожидании царской воли Ф. М. Достоевский, ему приговор смягчен был каторгой. Тридцатилетнее правление Николая I, несмотря на все репрессии, казни и палочную систему, оставило Россию в тяжелом положении и привело к «краху всей его системы», что дало повод Ф. И. Тютчеву написать такие стихи:ЗАПОВЕДИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Одну из своих лучших ролей — Барона в пушкинском «Скупом рыцаре» — Щепкин играл, пребывая в том возрасте, когда уже не мог не думать о будущем искусства, о тех, кто придет ему на смену. Его волновало, с какими принципами и заповедями вступят молодые на театральную стезю. Поэтому слова героя: «Я царствую… но кто вослед за мной приимет власть?..» — обретали для артиста особенно глубокий и личный смысл. Он внимательно всматривался в лик новой смены и окружал ее настоящей отеческой заботой. Он с огромной заинтересованностью и самоотдачей вел курс сценического мастерства в театральной школе, а в дополнение к ней — и в любительском театре Московского университета, во время гастрольных поездок по провинциальным театрам отыскивал молодые таланты, оказывал им всяческое внимание и поощрение. В его доме, и без того переполненном домочадцами, часто находили кров эти молодые провинциалы, решившие связать свою судьбу со сценой. Любой, обратившийся к Михаилу Семеновичу за советом или поддержкой, находил в нем участливое внимание. Все это и позволило одной из его учениц — Александре Ивановне Шуберт сказать: «Говорят, актер, умирая, все уносит с собой, но с Щепкиным это не так. Он жив, жива душа его на московской сцене…» Да только ли на московской? Везде, где пребывал Щепкин, он оставлял о себе благодарную память, щедро рассевал семена своего великого таланта и профессионального мастерства, которые давали благодатные всходы на российской театральной сцене. За многочисленные выступления в Петербурге на протяжении сорока лет он изменил саму атмосферу в Александрийском театре, его представления об актерском искусстве. После одного из таких приездов Белинский напишет: «Щепкин своим пребыванием в Петербурге сделал решительный переворот на русской сцене. Посещение его будет долго памятно потому, что бросило семена, которые не могут не принести плодов… Щепкин произвел благодетельное влияние на публику Александрийского театра, приблизив ее к настоящему понятию о том, что такое драматическое искусство и что такое истинный актер… Щепкин заставил посещать Александринский театр тех, которые давно уже не посещали его… Театр во все спектакли, в которых участвовал Щепкин, был постоянно полон, несмотря на то, что иные роли Щепкин играл в пятый или шестой раз, а иные и в тринадцатый… Замечательнее же всего, что в Александринский театр теперь ездит публика всех слоев общества… Мы убеждены, если бы такой артист, как Щепкин, почаще являлся на сцену Александрийского театра, требования здешней публики скоро сделались бы совсем другими, а сообразно с ними произошла бы большая перемена со стороны здешних артистов в манере играть роли из порядочных пьес». А ведь так и случилось! Николай Алексеевич Некрасов свой отчет о наиболее значительных событиях в искусстве за 1844 год, выделяя выступления Щепкина в Александрийском театре, заканчивал словами: «…старожилы не запомнят, чтоб когда-нибудь был так принимаем у нас русский актер». А о влиянии артиста на периферийные театры и говорить не приходится, его следы остались там особенно заметны. Свою связь с театральной провинцией он не прерывал никогда и был до конца дней своих благодарен тому, что его артистический путь начинался с глубинки. Сколько дорог исколесил он, используя любую возможность, чтобы отправиться до Нижнего Новгорода или Ярославля, Одессы или Ялты, Казани или Харькова, и подсчитать невозможно. Ездил много и охотно, без устали и отказа, всякий раз с удовольствием погружаясь в знакомую с юности стихию провинциальной жизни театров. Щепкин всегда считал провинцию хорошей школой для любого артиста, особенно молодого, поэтому не только советовал молодежи бывать в самых отдаленных уголках России, но и часто брал с собой в поездки по провинциям молодых актеров. Отлично зная о бедственном положении провинциальных и особенно странствующих трупп артистов, он не упускал возможности оказать им содействие. В записи одного из любителей театра сообщалось, что Щепкин по пути из Киева в Одессу встретил артистов странствующего любительского театра и, видя крайнюю затруднительность их положения, согласился задержаться, чтобы лично поучаствовать в их спектакле. Публика, привлеченная известным именем, заполнила зрительный зал до отказа, так что «странствующая труппа приобрела в этот спектакль столько, как никогда, и конечно, не забудет доброты Михаила Семеновича, решившего с ними играть, чтобы доставить неожиданную помощь в их бедном положении». А вот другая запись еще одного любителя, связанная с выступлением артиста в ярославском театре. Щепкин специально задержался на два вечера, чтобы бесплатно сыграть в спектаклях в пользу местной труппы. Увидев, в каком жалком костюме вынужден выходить на сцену один из его партнеров, он распорядился «послать сукна на фрак первому любовнику, получавшему 16 руб. жалованья в месяц». Щепкин старался влиять и на репертуар провинциальных театров, добиваясь разрешения на постановку пьес, запрещенных цензурой. Так, в свой приезд в 1856 году в Ярославль он добился разрешения на исполнение «Горе от ума». Его усилиями была получена возможность поставить на сцене «Театральный разъезд после представления новой комедии», также запрещенный цензурой. Появление Щепкина в провинциальных городах круто меняло в них ритм и наполненность культурной жизни, встряхивало общественное сознание. «Смело можно сказать, — писали «Московские ведомости» после чтения Щепкиным в Ярославле «Театрального разъезда…», — что в этот день общественное уважение к искусству, литературе и заслугам Гоголя разом подвинулось в Ярославле на несколько лет вперед». А после исполнения им Городничего в тех же «Ведомостях» сообщалось: «Впечатление, произведенное «Ревизором», было так сильно, что после каждого действия стены дрожали от рукоплесканий, казалось, театр рушится. Воспаление публики продолжалось несколько дней, вновь и вновь подымались споры, толки. По всему Ярославлю, где только удалось нам быть в это время, было заметно сильное колебание мнений, и все это к добру, к пользе, к нравственному очищению». Вот каковы неотразимая сила таланта и воздействующее влияние личности актера! Но именно во имя этого очищения нравов, пробуждения общественного сознания жил и трудился Михаил Семенович Щепкин… Каждое выступление Щепкина на сцене, будь это в столицах либо в провинции, становилось настоящей школой, наглядным уроком для актеров, они начинали освобождаться от чрезмерной декламационности, напыщенности, сценической фальши, «начали говорить своими голосами», жить жизнью их героев. Эти уроки оказались «в тысячу раз полезнее, чем прочесть сотни немецких эстетик: тут слышим не теорию, часто сухую, отвлеченную, холодную, а психологию искусства… святилище души творческой», — признавался один из провинциальных театралов. Свои уроки Щепкин никогда и никому не навязывал, он не называл их мастер-классами и не смотрел на себя как на мэтра. Он не собирался писать учебники или пособия по мастерству, но твердо знал, что само мастерство, подлинный талант есть лучший просветитель и учитель. Конечно, как было бы прекрасно, если бы артист действительно сочинил хотя бы один небольшой учебник о своих представлениях о театральном искусстве и профессиональном мастерстве. Об этом мечтали и просвещенные современники, убежденно считая, что Щепкин, «по всей справедливости, есть основатель той методы игры, которую можно назвать в высшей степени натуральною… Какое новое право приобрел бы он на уважение, если бы описал свое учение, игру, жизнь, свои понятия об искусстве, — и таким образом положил основание теории сценического искусства». И тем не менее влияние его на уровень театрального российского искусства оказалось огромным и повсеместным. Он помог и столичным и провинциальным актерам сойти с «классических ходуль», ввести на сцену живого человека со всеми его страстями и волнениями, утвердить правдивость в актерской игре как главное в мастерстве, показать органичность существования актера в создаваемом образе. Именно эти заповеди он с огромным успехом демонстрировал на провинциальной сцене. С особым волнением Михаил Семенович возвращался в города, в театры, с которыми были связаны его воспоминания далекой молодости. Теперь, правда, и зрители и коллеги по сцене, «старинные его знакомые» встречали столичную знаменитость как крупного мастера, постигшего самые сокровенные тайны профессии. Ему рукоплескали и у него учились. Школа Щепкина, без каких-либо официальных подпорок, усилиями самих российских трупп становилась всеохватной, и влияние актера на отечественный театр потому не ограничилось лишь временем его «царствования» на сцене, а распространилось на десятилетия и века вперед. Вот уже и двухсотлетний юбилей Щепкина остался позади на излете восьмидесятых годов прошлого столетия, а жизненность, перспективность исповедуемого им сценического искусства по-прежнему неоспоримы, актуальны, важны и всегда современны. Впрочем, мы немного забежали вперед… Как человека долга и обостренной гражданской совести, Щепкина больше всего заботило, по какому пути пойдет дальнейшее развитие театра, какие принципы исполнительского искусства получат свое продолжение на русской сцене, что может появиться нового, жизнеспособного. Он свято верил в реалистическое направление, которое уже пробило свою дорогу на русскую сцену, но еще нуждалось в закреплении и более прочном обосновании на ней. И потому, не жалея сил, старался своим примером убедить опытных коллег, молодых актеров, начальство, публику, что именно на реалистической почве отечественный театр способен добиться выдающихся успехов, выйти на мировой уровень, осуществлять наилучшим способом свою главную, просвещенческую функцию. Эту воспитательную роль щепкинского бесценного примера очень точно выразил Гоголь в «Развязке «Ревизора», вложив в уста одного из актеров такие слова: «… Вы всех нас ревностней делали свое дело и сим одним внушали охоту не уставать на своем поприще, без чего вряд ли у нас достало бы сил. Какая посторонняя сила может так подтолкнуть, как подтолкнет товарищ своим примером?.. Вы не об одном себе думали, не о том хлопотали, чтобы только самому сыграть хорошо свою роль, но чтобы и всяк не оплошал также в своей роли, и никому не отказывали в совете, никем не пренебрегали… Так любили дело искусства, как никто из нас никогда не любил его…» Конечно, самое пристальное внимание Щепкин уделял, как мы уже говорили выше, молодым, видя в них продолжателей своего главного дела и носителей всего наследия отечественного театрального опыта. Ежедневно он давал молодым коллегам наглядные уроки мастерства, актерской этики, любви к театру — во время репетиций, на спектакле, в часы отдыха. Но не всякий опыт, особенно в таком сиюминутно совершаемом виде искусства, каким является театр, может быть достаточно полно воспринят, понят и усвоен. Это побуждало артиста во время занятий с молодежью в театре, в любительских и студенческих труппах, в театральной школе без устали повторять заповеди, к которым он пришел через многолетний труд, собственный опыт, изучение актерского искусства, рожденного в стране и за ее пределами. И хотя эти заповеди еще не укладывались в стройную теорию драматического искусства, нетрудно разглядеть в них основу профессионального обучения актера, обладавшую весьма важным качеством — побуждением к творчеству. Попробуем, хотя бы в некоторых штрихах, воспроизвести общий рисунок щепкинских заповедей. Одним из главных условий становления актера он считал сохранение его самобытности, творческой индивидуальности. Сам он «презирал», как писал один из критиков, ходить «пробитыми тропами» и своих учеников побуждал к этому, не допуская никакого насилия по отношению к актерской личности. Всячески избегал той муштры и зубрежки, что еще практиковались в театральных школах, устанавливая атмосферу доверия и открытости, «предоставляя всегда свободное развитие личности в своих учениках». Наставляя их, он старался предостеречь от копирования, подражательности. Напомним, что в то время еще крепко жила методика обучения актера «с голоса». Ученица Щепкина, о которой мы недавно говорили, Александра Ивановна Шуберт позднее вспоминала, как однажды после долгих и безуспешных попыток уловить интонацию голоса героини она в отчаянии обратилась к учителю, попросив его воспроизвести нужную интонацию и получила в ответ по всей строгости: «Этого нельзя. Я скажу, может быть, и хорошо, по-своему, а ты можешь сказать еще лучше, тоже по-своему: у всякого человека есть манера, присущая только ему». Михаил Семенович неукоснительно следил за тем, чтобы молодые не подстраивались под манеру именитых кумиров, видя в этом конец их творческого развития как самобытных актеров, и резко пресекал всякие попытки походить на кого-либо. Надо искать в самом себе «голос» своего персонажа и, проживая на сцене его жизнь, не допускать никакой фальши в его поведении, в чувствах, поступках. Этот внутренний камертон, который присущ таланту, есть самый лучший критерий актерской правды на сцене. Щепкин, познавший глубины и вершины профессионального мастерства, дошел до всего сам, но он понимал, что новому поколению уже требуется какая-то система знаний, вобравшая в себя лучший мировой и отечественный опыт, который к тому времени стал уже значительным. Однако, как известно, ни учебников, ни каких-либо систематических записей после себя не оставил, ибо не было у него к этому настроя или даже малой жажды и призвания. Единственное, что сохранилось, это несколько писем своим молодым коллегам, отдельные записи о некоторых секретах мастерства и о том, как он понимал искусство актера в современном ему театре. В его «Записках» есть тоже кое-что на эту тему, а больше всего, пожалуй, в воспоминаниях учеников, его коллег и современников. Все-таки «живая» сцена оставалась главной и незаменимой сутью его жизни, его учебником, его заповедями. Именно здесь родился его основоположный критерий, главное условие, по его мнению, успешной творческой деятельности — неразрывность связи искусства с жизнью. Еще во время скитаний по провинциальным театрам он приходит к выводу — «искусство настолько высоко, насколько близко к природе», что необходимо «учиться у жизни». Этому правилу он следовал всегда и везде. «Вся жизнь Щепкина, — отмечалось в приветственной юбилейной речи Аксакова, — и вне театра была для него постоянною школой искусства, везде находил он что-нибудь заметить, чему-нибудь научиться; естественность, верность выражения (чего бы то ни было), бесконечное разнообразие и особенности этого выражения, исключительно принадлежащие каждому отдельному лицу, действие на других таких особенностей — все замечалось, все переносилось в искусство, все обогащало духовные средства артиста». Эта правда, страстно исповедуемая Щепкиным, «капля по капле всасывалась молодежью того времени, — писал актер Малого театра Павел Яковлевич Рябов. — С помощью и советами… правда и жизнь на сцене стали завоевывать себе место… Своим могучим, энергичным словом он буквально овладевал каждым». И с той же настойчивостью и постоянством Щепкин убеждал молодых в другой истине — необходимости неустанного труда актера, непрерывной работы над собой, над каждой ролью, даже если она давно сложилась и имеет успех. Таково правило самосовершенствования художника. «Пользуйся случаем, трудись, разрабатывай данные богом способности по крайнему своему разумению, — советовал он своему ученику, молодому актеру С. В. Шуйскому, — не отвергай замечаний, а вникай в них глубже и для проверки себя и советов, всегда имей в виду натуру; влазь, так сказать, в кожу действующего лица, изучай хорошенько его общественный быт, его образование, его особенные идеи, если они есть, и даже не упускай из виду общество его прошедшей жизни. Когда все это будет изучено, тогда какие б положения ни были взяты из жизни — ты непременно выразишь верно: ты можешь сыграть иногда слабо, иногда сколько-нибудь удовлетворительно (это часто зависит от душевного расположения), но сыграешь верно. Помни, что совершенство не дано человеку; но, занимаясь добросовестно, ты будешь к нему приближаться настолько, насколько природа дала тебе средств… Старайся быть в обществе — сколько позволит время, изучай человека в массе… эта живая книга заменит тебе все теории, которых, к несчастью, в нашем искусстве до сих пор нет». Зная о том, какую опасность для молодых дарований таит в себе первый успех, Михаил Семенович, поощряя талант, умел при необходимости опускать на грешную землю вознесшихся на крыльях славы молодых актеров. Интересен в этом отношении его диалог с Гликерией Федотовой, начинающей актрисой. Когда отшумели аплодисменты и занавес закрылся, он подозвал к себе шестнадцатилетнюю ученицу и, от души порадовавшись ее успеху, повел такой разговор: — За что тебе хлопали, умница, знаешь? Ну я скажу. За то, что рожица у тебя смазливая и молодая. Ну, а если б я со своей старой рожей так сыграл, как ты сегодня? Что бы со мной сделали? — А что же? — Да со сцены помелом погнали бы. Ты это помни. Ну а теперь иди и слушай комплименты. А мы с тобой потом поговорим обо всем… А потом, когда комплименты поклонников юного дарования иссякли и первые волнения прошли, Михаил Семенович, помня о своем обещании, добавил: «Бог дал тебе способности, но ты еще ничего не умеешь. Не обращай внимания на этот успех, — все радуются на игру девочки, но если не пойдешь дальше, то этот успех скоро кончится. Данный тебе божий дар налагает на тебя большую ответственность. Помни это и работай всю жизнь!» Эти слова были поистине кредо всей творческой деятельности Щепкина, что позволило однажды Аксакову заметить, что «благородное стремление к возможному совершенству никогда его не оставляет». Он и учился всю жизнь, не стесняясь обращаться к опыту других, в том числе и зарубежных коллег. В то время по всей Европе гремело имя прославленной французской трагической актрисы Элизы Рашель. Это о ней ее великий соотечественник Стендаль писал: «Ее гений настолько меня поразил, что я всякий раз долго не могу оправиться от удивления, когда вижу ее на сцене; уже двести лет не было такого чуда во Франции». Щепкину страсть как хотелось увидеть французскую знаменитость, понять причины успеха и сопоставить различные школы актерского искусства. В свои шестьдесят лет он без знания языка решает совершить дальний вояж — во Францию. Вот когда он искренне пожалел, что в детстве был лишен возможности постигать иностранные языки. Правда, еще в 1828 году Сергей Тимофеевич Аксаков записал в своем дневнике, что Щепкин вознамерился изучить французский язык. Увы, эти попытки остались нереализованными. Отправиться в поездку удалось не сразу, помешали очередные финансовые затруднения. Всю жизнь над ним висели эти тяжелые финансовые гири, от бремени которых ему так и не удалось освободиться. В одном из писем Гоголю в 1847 году он сообщал, что хотя и продал дом, но вырученных денег все равно не хватит для осуществления давней своей мечты — съездить за границу, да и было бы это «бессовестно» по отношению к семейству. Но потребность познакомиться с зарубежным театром обуревала его все сильнее и серьезнее. «Мне нужно видеть заграничные театры, очень нужно, — признавался Щепкин Гоголю, — незнание языка меня не пугает, главное я пойму, и оно необходимо мне для моих «Записок», в конце которых хочу изложить свой взгляд на искусство драматическое вообще и в чем состоит особенность каждого театра в Европе в настоящее время. Это будет окончательным делом моей практической деятельности». Эти исключительно важные намерения артиста были связаны еще с тем, что к тому времени он глубоко задумывался над особой миссией русского театра в деле развития драматического искусства. «… Еще раз скажу, — писал он, — что русскому народу судьба предоставила довести это искусство до возможного совершенства». Лишь в мае 1853 года желанная поездка обрела реальные контуры. Зная о точной дате отъезда актера за границу, его друзья втайне от него решили устроить в доме Михаила Петровича Погодина прощальный обед, чтобы «выразить ему торжественные чувства общего уважения и благодарности». Просить на обед Михаила Семеновича были посланы поэт и критик, профессор словесности Московского университета Степан Петрович Шевырев, драматург Александр Николаевич Островский и актеры Сергей Васильевич Шуйский и Пров Михайлович Садовский. Щепкин был крайне смущен и польщен таким вниманием. На торжество собралось около семидесяти почитателей его таланта. Приветственную речь держал хозяин дома, но начало ее было неожиданно. «Милостивые государи! — сказал он с некоторой ноткой печали. — Несколько лет сряду в этом самом саду, в этот почти день и час, собирались мы обыкновенно к незабвенному нашему Гоголю праздновать его именины. Это был самый дорогой для него день, о котором он любил заранее хлопотать, советоваться, устраивать. В последний раз, вы помните, — это так недавно, — сидел он здесь на краю, облокотись на стол, задумчивый и молчаливый, — как будто предчувствовал близкий свой конец. И вот ныне его нет между нами!.. Не могу не вспомнить об нем при этом случае, по многим причинам… Он первый поспешил бы выразить наши чувства глубокого уважения и искренней признательности тому достойному артисту, которому собрались от души воздать мы честь, — и кто лучше Гоголя исполнил бы эту обязанность? Чье слово может иметь столько веса, как не автора городничего, Утешительного, Кочкарева, и Бурдюкова? Прибавлю еще вот что: Гоголь сам обязан многим Щепкину. Не говорю об их частых беседах, исключительно посвященных драматическому искусству и русской жизни, не говорю о веселых, живых и умных рассказах Щепкина, которые так часто встречаются в сочинениях Гоголя, — но тот смех, который Щепкин возбуждал в Гоголе, еще молодом человеке, выступавшем на поприще, не был ли задатком того смеха, каким после наделил нас Гоголь с таким избытком? Выводя на сценумногие действующие лица, Гоголь не имел ли в виду Щепкина?.. Могу подтвердить это примером: Щепкин имел такое влияние на Гоголя, какое в младшем поколении Садовский своею простотою, своею натурою и даже своею особою имеет на Островского. Вот еще два имени пришлись к слову. Но это не случайность. В истории, в развитии нашей комедии, комической игры они все четверо составляют органическое целое. Начинающий утешать нас блистательными своими дебютами Островский получил в наследство много указаний от Гоголя, а Садовский не меньше обязан примеру и началу Щепкина. Щепкин же — между ними старший». Поразительно и замечательно то, что «обед по случаю…» превращается в общезначимое событие в русской культуре. И это понятно, ибо в центре события — большой художник, который личностью своею объединил других художников, каждый из которых был учителем и учеником другого в их общем стремлении возвысить русский театр. Не случайно поэтому на замечание Шевырева, обратившего внимание всех на то, что ненастье, продолжавшееся неделю, сменилось к праздничному обеду ярким солнечным днем, что «природа нынче за искусство», Островский ответил словами, исполненными глубокого смысла: «Оттого, что искусство обращается ныне к природе». Шевырев в стихах продолжил эту тему, обращаясь к Щепкину:Все искусства имеют теорию,Кроме сценического!..Щепкин
ВЕЛИКОЕ СОЗВЕЗДИЕ
Все, что было лучшего в мыслящей России, не миновало общества и знакомства М. С. Щепкина.А. Урусов
Редкое окружение
Девятнадцатый век в России оказался удивительно густо замешан талантами. Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Шевченко, Тургенев, Достоевский, Толстой, Белинский, Глинка, Мусоргский, Чайковский, Римский-Корсаков, Даргомыжский, Бородин, Балакирев, Брюллов, Кипренский, Репин, Суриков, Мочалов, Щепкин… Сколько еще достойнейших имен можно включить в этот список. Несть им числа! «Даровита земля русская; почва ее не оскудевает талантами… — писал Белинский. — Лишь только ожесточенное тяжелыми утратами или оскорбленное несбывшимися надеждами сердце наше готово увлечься порывом отчаяния, — как вдруг новое явление привлекает ваше внимание, возбуждает в вас робкую и трепетную надежду…» Поселившись в Москве, Михаил Семенович Щепкин попал в желанную среду литераторов, художников, музыкантов, критиков, ученых и не затерялся среди именитых своих соотечественников, а очень скоро стал в ней своим человеком и душой общества. В Москве, как писал С. Т. Аксаков, Щепкин нашел «дружеский литературный круг, в который приняли его с радостью и где вполне оценили его талант, природный ум, любовь к искусству и жажду образования». Эта «жажда образования», которая не оставляла его до конца дней своих, сблизила его с университетской средой — В. В. Григорьевым, К. Д. Кавелиным, Н. В. Станкевичем, Д. М. Перевощиковым, Н. И. Крыловым, Н. И. Надеждиным, С. П. Шевыревым и, конечно, с Т. Н. Грановским. Помог случай. Один из московских родственников Михаила Семеновича — троюродный брат Павел Степанович Щепкин ко времени переезда артиста в Москву был уже уважаемым профессором университета. Встретив в его доме радушный прием, он органично вошел в круг самых образованных людей. Человек искусства, он не замыкался его рамками, всегда проявляя широкий спектр своих интересов. Поэтому с ним «находили удовольствие беседовать» великие писатели от Пушкина до Толстого, ученые-просветители, сановные чиновники и политические изгнанники, студенты, артисты столичных и провинциальных театров, знатные вельможи и бедные люди. Ему все были интересны и необходимы, если он чувствовал искренность в их поведении и отношениях. Щепкин был близко дружен с одним из ведущих профессоров университета Николаем Ивановичем Надеждиным. Ученый читал лекции по теории и истории изящных искусств, а Щепкин вел курс по драматическому искусству, и оба с удовольствием бывали друг у друга на занятиях. Надеждин увлекался драматическим искусством и даже пробовал свои силы на сцене, сыграв со Щепкиным эпизодическую роль в одной из пьес. Щепкин часто советовался с Николаем Ивановичем, специалистом по зарубежной литературе, по поводу пьес Шекспира, Мольера. При всей своей расположенности друг к другу друзья были строги в оценках работы каждого и никакой снисходительности не допускали. Еще более тесные дружеские узы связывали Щепкина с Грановским, не случайно Михаил Семенович завещал похоронить себя рядом с ним. Щепкин стоял вровень с образованным обществом своего времени и сам был горячим поборником просвещения, вкладывая в это дело свои знания, способности и умения. Он и других неназойливо подталкивал на эту подвижническую просветительскую стезю. Благодаря его усилиям Малый театр становится вторым университетом. Много лет спустя, на двухсотлетии артиста будет сказано, что среди молодежи конца девятнадцатого и начала двадцатого века в ходу была примечательная фраза: «Посещал университет, обучался в Малом театре», хотя и «не сидел на скамьях студентов». Щепкин исполнил завет Гоголя, мечтавшего поднять театр на уровень университетской «кафедры, с которой можно много сказать миру добра». А сам, благодаря «неотразимой привлекательности… таланта и глубокому знанию людей, как и неиссякаемой тяге к узнаванию нового и прирожденному такту, расположенности к собеседникам», занял «в обществе такое положение, которое актер никогда не занимал в России». Молодость его души, почти детская любознательность, тяга к новому и необыкновенная уважительность к людям всех рангов и слоев общества поражали современников. В любой круг он вносил, как о нем писали, «просвещение и очищение», необыкновенную ауру сердечности и взаимопонимания. В 1863 году Герцен напишет в посмертном слове об артисте: «Его появление вносило покой, его добродушный упрек останавливал злые споры, его кроткая улыбка любящего старика заставляла улыбаться, его безграничная способность извинять другого, находить облегчающие причины — была школой гуманности». Никто не удивился его появлению в Английском клубе, оно было таким же естественным, как и закономерным. «Клуб этот, — писал бывший московский губернатор, автор ряда работ по истории Москвы Владимир Михайлович Голицын, — не был, подобно другим, местом, где можно было только поиграть в карты и приятно пообедать или поужинать, а это был своего рода социальный орган, игравший роль пульса, которого биение указывало то или иное общественное настроение». Конечно, Михаил Семенович не отказывал себе в удовольствии и отобедать и посидеть за карточным столом, хотя «выигрывать случалось ему реже, нежели проигрывать». Но не за этим он шел в клуб, он жаждал пообщаться с интересными людьми, потолковать и обсудить то, что особенно волновало общество. Больше всего его занимали судьбы реформы, связанной с раскрепощением крестьян, и когда этот исторический акт свершился, он радовался бесконечно и устроил даже обед в эту честь, собрав на него «пропасть» народу. «Главное слово сказано…» — приговаривал он, хотя и не знал еще, что шаг этот окажется половинчатым, не радикальным. Не за себя радовался, за народ, получивший право быть свободным. Человеческое обаяние, бескорыстие в дружбе притягивали к нему всех, с кем сводила судьба. Всегда болезненно воспринимая расхождения во взглядах и просто размолвки меж друзьями, спешил примирить их, если дело не касалось принципиальных вопросов. И вечно в хлопотах по поводу чего-то или кого-то. «Чудный человек! — делился Белинский с Аксаковым, находясь под впечатлением встречи со Щепкиным. — С четверть часа поговорил я с ним о том и о сем и еще более полюбил его. Как понимает он искусство, как горяча душа его — истинный художник, и художник нашего времени…» Оказавшись в редкостном по художественному и интеллектуальному уровню окружении передовых людей эпохи, он умел находить общий язык и с западниками и славянофилами, но никогда не лавировал между ними. Как Пушкин и Гоголь, он стоял на высоте отношений, исключающих групповые пристрастия, интересы. Здесь уже были иные измерения, иные критерии. Любовь к народу своему, жизненная правда, высшие образцы искусства, художественные открытия, безграничная доброта и открытость всем — вот те принципы, те измерения, которыми руководствовался Щепкин в жизни, в искусстве, в отношениях между людьми, вот что и притягивало к нему, вот что объединяло за его столом Аксакова и Белинского, Погодина и Грановского, Шевырева и Кетчера, Хомякова и Корша, братьев Киреевских и Герцена. Обладая острым взглядом, пытливым умом и феноменальной памятью, артист был хранителем множества жизненных фактов, бытовых зарисовок, человеческих историй, но не склонный к писательству, с радостью делился этими сокровищами с друзьями-литераторами и всякий раз был счастлив, если что-то из рассказанного им обретало художественную жизнь в чьих-то романах, повестях, рассказах. Устные рассказы Щепкина, в которых, по меткому замечанию Герцена, «запеклась кровь событий», были столь выразительны и доподлинно правдивы, что редкий сочинитель не воспользовался ими. Мы уже упоминали в этой связи имена Герцена, Лескова, Соллогуба. Назовем еще несколько примеров. У того же Соллогуба есть еще повесть «Воспитанница», также написанная по «устному рассказу Щепкина», о драматической судьбе бедной девушки, получившей хорошее образование в доме богатой графини. Пройдя через тяжелые испытания, бедность, унижения провинциальной актрисы, не видя никакого выхода в этой жизни, она решается наложить на себя руки. Эта история, как и многие другие, не выдумана, а взята Щепкиным из реальной жизни. Когда Александр Васильевич Сухово-Кобылин писал пьесу «Дело», он включил в монолог героя — Ивана Сидорова историю, однажды услышанную от Михаила Семеновича. В напечатанном экземпляре пьесы автор отчеркнул этот монолог, пометив на полях: «Рассказ, переданный мне М. С. Щепкиным». Опубликованный в 1849 году в «Современнике» рассказ Николая Алексеевича Некрасова «Психологическая задача. Давняя быль» также заканчивается признанием писателя: «Происшествие, рассказанное здесь, не выдумано. Вы услышите его в Малороссии от любого старожила. Оно рассказано автору известным актером московской сцены М. С. Щепкиным». В двух своих произведениях «Неистовство» и «Петрусь» Михаил Петрович Погодин, особенно часто общавшийся со Щепкиным, пересказал забавные истории, услышанные от артиста. А сколько замечательных историй, метких выражений, реплик и афоризмов Щепкина перекочевало в сочинения Гоголя! Помните про «одичалую кошку» в «Старосветских помещиках», которую Пульхерия Ивановна восприняла как предзнаменование приближения смерти? Это — щепкинское. По воспоминанию А. Н. Афанасьева, артист, прочитав повесть, «при встрече с автором, сказал шутя: «А кошка-то моя!» — «Зато коты мои!» — отвечал Гоголь, и в самом деле коты принадлежали его вымыслу». Крылатый афоризм из «Мертвых душ» — «полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит!..» — это тоже щепкинское. Генерал Бетрищев, Петр Петрович Петух, протоколист Котельников, о котором Герцен писал, что его имя «не должно изгладиться из истории бюрократии», тоже пришли в «Мертвые души» из устных щепкинских рассказов. Не без участия Михаила Семеновича появились на свет и некоторые действующие лица гоголевской «Женитьбы». Еще в начале своей работы над пьесой Николай Васильевич зачитывал ему сцены из комедии, и более сведущий в театральных делах «Михаил Семенович советовал автору кое-что изменить и передал ему еще многое о купеческих обычаях при свадьбах». И, наконец, читая в первый раз «Ревизора», а затем разучивая в нем роль Сквозник-Дмухановского, Щепкин не без удовольствия пересказывал, как когда-то самому автору комедии, историю об учителе истории, который из любви к науке не только стулья, жизнь свою готов был не пощадить. Гоголь и Щепкин — это особая страница в истории русской культуры и об их взаимоотношениях и разговор должен быть особый, хотя мы в той или иной степени по ходу щепкинской биографии уже касались этих страниц.Николай Васильевич Гоголь
Встреча этих титанов отечественной культуры была неизбежна, она продиктована самим временем. Первые драматические замыслы Гоголя совпали с общим подъемом театрального искусства в России, чему немало способствовал яркий талант Щепкина. А знакомство их состоялось теплым летним днем 1832 года в первый приезд Гоголя в Москву, когда слава Щепкина гремела на московских подмостках уже почти десять лет. Молодой писатель появился в доме актера в самый разгар застолья. Это событие сын Михаила Семеновича Петр Михайлович зафиксировал следующей записью: «… Как-то на обед к отцу собралось человек двадцать пять — у нас всегда много собиралось; стол, по обыкновению, накрыт был в зале; дверь в переднюю, для удобства прислуги, отворена настежь. В середине обеда вошел в переднюю новый гость, совершенно нам незнакомый. Пока он медленно раздевался, все мы, в том числе и отец, оставались в недоумении. Гость остановился на пороге в залу и, окинув всех быстрым взглядом, проговорил слова всем известной малороссийской песни:Иван Сергеевич Тургенев
Сближение Щепкина с Тургеневым может показаться поначалу странным и неожиданным. Уж больно велика разница в годах — Михаилу Семеновичу недалеко до шестидесяти, а Ивану Сергеевичу нет и тридцати. Да и происхождение больно разное: один — бывший крепостной, зависимый человек, другой — потомственный дворянин, помещик. Но все эти обстоятельства не стали преградой на пути их друг к другу. Молодому Тургеневу пришлось испытать на себе все тяготы поднадзорной жизни. По повелению Николая I его взяли на месяц под стражу с последующим выселением в Спасское-Лутовиново под полицейское бдительное око. Очевидно, дело было не только в «Письме из Петербурга», его автору припомнили «Записки охотника» явно антикрепостнической направленности. Иван Сергеевич догадывался об этом, что видно из его письма к Полине Виардо: «… На меня уже давно смотрят косо и потому привязались к первому представившемуся случаю… Хотели заглушить все, что говорилось по поводу смерти Гоголя, — и кстати обрадовались случаю подвергнуть вместе с тем запрещению и мою литературную деятельность». Итак, Спасское-Лутовиново… Поначалу уединение если не радовало, то и не тяготило писателя. Он принялся с рвением за работу: написал повести «Постоялый двор», «Два приятеля», приступил к роману «Два поколения», но не завершил его. С увлечением много читал, главным образом по истории России. Книги «Сказания русского народа» И. Сахарова, «Быт русского народа», «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» А. Терещенко, по признанию Тургенева, сблизили его с «такими сторонами русского быта, которые, при обыкновенном ходе вещей, вероятно, ускользнули бы» от него. И все же скоро он все мучительнее и острее начинает ощущать свою изоляцию и оторванность от общественной и культурной российской жизни. «Хорошо уединение, спору нет, — признавался он друзьям в своих письмах, — но… надобно, однако, чтобы оно хоть изредка оживлялось беседой и столкновением с умным человеком, которого любишь и которому веришь… Ни музыки, ни друзей; да что? Нет даже соседей, чтобы скучать вместе». Томительно тянулись дни, недели, месяцы. Вот уже и осень совсем увяла, короткое «бабье» лето сменилось затяжными холодными дождями. Подступили декабрьские, а затем и нещадные январские морозы, сковавшие вокруг, казалось, все живое, завьюжил февраль, а желанных гостей зови — не дозовешься… Уже и к Павлу Васильевичу Анненкову полетело послание с робким напоминанием о своем вынужденном заточении, и к Ивану Сергеевичу Аксакову — с жалобой на одиночество. Но что делать — триста верст по тем временам — путь неблизкий. А тут еще вот-вот наступит распутица. Видно, пора свыкнуться с одиночеством и искать утешения только в работе. Как вдруг… В один из ярких весенних дней Ивану Сергеевичу показалось, будто звону мартовской капели вторит мелодичный колокольчик почтовых. Вот он все звончее, ближе и веселее. Иван Сергеевич в нетерпении выглянул в окно и, к удивлению своему и необыкновенной радости, рассмотрел, как из лихо подкатившего тарантаса, обложенного изнутри подушками и огромных размеров овчинным тулупом, с трудом выбирается тучная фигура явно немолодых лет, и узнал в ней Михаила Семеновича Щепкина. Хозяин тотчас бросился навстречу гостю. А тот, растирая онемевшие от долгой езды ноги, довольно улыбаясь, сразу же спросил у него: «А вареники будут?» — «Будут, будут», — поспешил заверить Иван Сергеевич, обнимая и целуя желанного гостя. «Чтоб сто тридцать штук было, меньше не ем», — не унимался тот. И, рассмеявшись, они вновь расцеловались, радуясь друг другу. Михаил Семенович воспользовался паузой, когда по случаю Великого поста и Пасхи замирала жизнь в театрах, и выбрал свободную неделю, чтоб совершить это необычное путешествие и навестить опального писателя. Как актер Императорского театра он, конечно, мог навлечь на себя неудовольствие властей, но это его не остановило в желании поддержать своего молодого друга и разделить с ним хотя бы несколько дней постылого одиночества. Щепкин был первым человеком из столицы за долгие месяцы пребывания Тургенева в Спасском-Лутовинове, поэтому расспросам не было конца. Ивана Сергеевича интересовало все: литературные и театральные новинки, отзывы о них в критике, житье-бытье общих знакомых, друзей, судьба «Современника», споры вокруг Достоевского и так далее. И еще автор «Записок охотника» убеждал Михаила Семеновича, что «Записки актера Щепкина», начатые с легкой руки Пушкина и доведенные до печати Белинским, непременно необходимо продолжить. Теперь почти каждый день можно было видеть, как после завтрака и обеда по аллеям усадьбы прогуливалась парочка: Тургенев — высокий, стройный, щеголевато одетый, несмотря на отдаленность от света, в черном модном пальто и шляпе, клетчатых панталонах и кожаных перчатках, с неизменной изящной тростью в руке и ровной походкой; и Щепкин — маленький, грузный, страдающий одышкой, одной рукой держит под руку собеседника, другой опирается, отнюдь не из-за щегольства, на тяжелую палку. По вечерам, после легкого ужина и обильного чаепития, усевшись поудобнее в кресло, Иван Сергеевич читал гостю главы из нового романа, а Михаил Семенович знакомил его с новой комедией А. Н. Островского «Не в свои сани не садись», специально привезенной для Тургенева. «Каков милый старик! — отписывал Иван Сергеевич Анненкову после встречи со Щепкиным, восхищаясь чтецом и пьесой. — Прочел ее отлично, и впечатление она произвела большое». Этот приезд был лишь эпизодом в уже давних дружеских отношениях писателя и артиста, начавшихся с середины сороковых годов. Они значительно укрепились после исполнения Щепкиным ролей, специально для него написанных Тургеневым в пьесах «Нахлебник», «Холостяк», «Провинциалка». С ролью Кузовкина в «Нахлебнике» мы уже имели возможность познакомиться. Что же касается роли мелкого чиновника Мошкина в пьесе «Холостяк», то ее Щепкин сыграл раньше Кузовкина, хотя она была написана позже, так как над «Нахлебником», как мы помним, долго висел дамоклов меч цензурного запрета. Тургенев, как бы заранее предупреждая всех сомневающихся о своей лояльности, писал о «Холостяке»: «В этом произведении цензуре не только нечего вычеркивать, но, напротив, она должна меня наградить за мою примерную нравственность». Мошкин в «Холостяке» занял свое особое место в творческой биографии артиста. В ней он продолжает развивать свою тему «маленького человека», только в отличие от других произведений в пьесе приглушен социальный аспект, перенесенный в психологическую сферу. Герой пьесы Мошкин любит свою воспитанницу по-отечески самозабвенно, бескорыстно и, когда узнает о предстоящей свадьбе, искренно радуется ее счастью. Но свадьба расстраивается, и Мошкин, опять-таки не из корысти ради, а из сочувствия и готовности защитить бедную Машу, оградить ее от унижения и позора, сам ведет ее под венец. В своей ремарке к роли Мошкина Тургенев пометил: «Живой, хлопотливый, добродушный старик», что еще раз указывало на то, для кого она предназначалась. Как и многие другие пьесы, комедия Тургенева «Холостяк» начала свою сценическую жизнь с бенефиса Михаила Семеновича. Актера эта роль заинтересовала своей человечностью, простотой, обыкновенностью и, как бы тогда сказали, своей «натуральностью». Таким он и предстал перед публикой, вызвав в ней своей искренностью, уязвимостью, открытостью и вместе с тем внутренней духовной силой и чистотой полное сочувствие и симпатию. Таких ролей, как писала критика, «давно уже не замечали в русской комедии». И сама пьеса, и игра главного исполнителя были высоко оценены современниками. А сам автор с радостью сообщал Полине Виардо: «Третьего дня я… присутствовал на представлении моей комедии. Публика приняла ее очень горячо; особенно третий акт имел чрезвычайно большой успех. Сознаюсь, это приятно, Щепкин был великолепен, полон правды, вдохновения и чуткости… Опыт этот показал мне, что у меня есть призвание к театру и что со временем я смогу писать хорошие вещи…» Щепкин всячески побуждал Тургенева к драматургическому сочинительству, помогая в продвижении пьес на сцену столичных театров, вдохновляя его своей игрой и своими советами. Он брал себе в сообщники друзей, чтобы и они своим авторитетом стимулировали интерес писателя к театральному творчеству. «… И. С. Тургеневу, когда увидите, передайте поклон и скажите, что у меня ничего нет к бенефису, а это ему стыдно, — писал он В. Ф. Коршу. — Кто знает, может быть, это будет толчком к деятельности». Эти «толчки к деятельности» оказались взаимными: актер делал все для того, чтобы Тургенев и впредь дерзал на театральном поприще, а Тургенев этими своими пьесами продлил актерский век Щепкина, одарил его ролями, в которых засверкали новые грани его таланта уже в зрелые годы, и дал возможность насладиться на закате лет прекрасной драматургией. А ведь уже минуло время пятидесятилетия его сценической деятельности, где он был назван «даровитейшим истолкователем двух великих русских драматических писателей — Грибоедова и Гоголя». Теперь к их именам добавилось по праву и славное имя Тургенева. Но сколько еще деятелей русской культуры не обошел своим талантом Щепкин, скольких ободрил, поощрил, скольким протянул дружескую руку помощи и сочувствия!..Александр Иванович Герцен
Не один Тургенев, находясь в опале, был согрет дружеским участием Щепкина. Подобные вояжи артист совершил и к Герцену, и к Шевченко, но в биографической литературе эти факты либо обходятся молчанием, либо упоминаются вскользь, а то и искажаются. Если цель поездки к Тарасу Григорьевичу Шевченко в Нижний Новгород была схожа с тургеневской — ободрить, утешить, придать бодрости в их вынужденном уединении, то его вояж к берегам туманного Альбиона имел иное назначение. Конечно, не ради увеселительной прогулки отправился этот уже совсем немолодой и далеко не идеального здоровья человек в такое рискованное путешествие, подвергая себя не только немалым физическим нагрузкам, но и испытаниям на благонадежность, которые могли быть куда серьезнее, чем последствия от визитов к ссыльным Тургеневу и Шевченко. Отправиться к политическому изгнаннику с его «Колоколом», призывавшему соотечественников бороться с самодержавием, было равносильно открытому вызову властям. А дело было так. Щепкину предстояла поездка во Францию. Николай Христофорович Кетчер и Александр Николаевич Афанасьев, считая эмиграцию Герцена из России малодушием, не могли смириться с потерей «такого голоса в русской литературе» и в запальчивости склонны были обвинить его в «бегстве от друзей», в нежелании разделить с народом все тяготы борьбы с самодержавием. «Да, оставаться и работать, хотя под ножом!» — бросал упрек старшему товарищу пребывавший тогда в юношеском максимализме Афанасьев. «А что будет с Россией, если все начнут оставлять се?!» — возмущались другие. Вот и созрело решение: учитывая добрые дружеские отношения Щепкина и Герцена, авторитет артиста и способность убеждать собеседников, просить Михаила Семеновича совместить его французскую поездку с посещением Герцена, чтобы лично передать ему мнение московских друзей и уговорить вернуться на родину. Убеждать в чем-либо Щепкина не пришлось, он и сам горел желанием повидать Герцена и был солидарен с теми, кто желал его возвращения в Россию. Для Герцена встреча со Щепкиным, который, по его словам, держался с ним «на короткой дружеской ноге родного дяди или старшего брата», и вовсе была радостью несказанной, самый дорогой подарок в самые тяжелые дни его зарубежного бытия. Получив известие о скором приезде Михаила Семеновича, записывает Герцен в «Былом и думах», «я испугался от радости… В образе светлого старика выходила молодая жизнь из-за гробов: весь московский период… и в какое время… Я был совершенно одинок в толпе чужих и полузнакомых лиц… Русские в это время всего меньше ездили за границу и всего больше боялись меня… И первый русский, ехавший в Лондон, не побоявшийся по-старому протянуть мне руку, был Михаил Семенович». Память, сменяя одну картину за другой, тут же подала из прошлого счастливые, казавшиеся теперь уже далекими лица друзей, живописные уголки неповторимой российской природы, гостиные домов, где «некогда царил А. С. Пушкин; где… декабристы задавали тон; где смеялся Грибоедов; где… А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять; где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал; где Грановский являлся с своей тихой, но твердой речью; где… наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда, наконец, иногда падал, как Конгрива ракета, Белинский, выжигая все, что попадало»… Александр Иванович, уведомленный о приезде Щепкина, пошел заранее на пристань встречать старого друга. Он с беспокойством и нетерпением всматривался в пассажиров, заполнивших палубу, в надежде отыскать приметную фигуру дорогого человека. И едва на пристань были сброшены сходни, оттолкнув вставшего было на пути полицейского, «сбежал на палубу и бросился на шею старику. Он был тот же, — записал потом в «Былом и думах» Герцен, — как я его оставил: с тем же добродушным видом, жилет и лацканы на пальто так же в пятнах, точно будто сейчас шел из Троицкого трактира к Сергею Тимофеевичу Аксакову». Михаил Семенович привез Герцену письма московских друзей, нелегальную литературу, чему лондонский издатель «Колокола» был особо рад, но больше всего утешился тем, что на родине его не забыли и «не переставали любить». Читая письма, Александр Иванович был так растроган, что не мог скрыть набежавшую слезу. Однако, успокоившись, обнаружил, что не все его заказы выполнены, кое-какой нужной корреспонденции не обнаружилось. Например, он не получил запрещенных стихов Пушкина и Лермонтова, которые по предварительной договоренности ему должны были передать москвичи. Ведь должны знать, что «при выезде… ничего не осматривается». «…В чем была опасность прислать Пушкина и Лермонтова стихи? Будто один Грановский знал об отъезде Михаила Семеновича, а Кетчер, а другие?..» — с горечью возмущался писатель. К досаде на друзей, не выполнивших просьбы Герцена, примешивалась обида на тех, кто был прежде ближе всего в дружбе, но теперь не подал и короткой весточки о себе. Щепкин, как мог, утешал друга, высыпав кучу московских новостей, тут же читал ему отрывки из второго тома «Мертвых душ», привезенных с собой, рассказывал о России, общих знакомых во всех подробностях и деталях, «без которых лица перестают быть живыми». И вот уже впавший в грусть российский лондонец улыбается, смеется, хохочет. «Он рассказывал вздор, — вспоминал позднее об этой встрече Герцен, — мы хохотали со слезами в голосе». Известно, что Михаил Семенович и раньше, когда Герцен был под надзором в Нижнем Новгороде, был своего рода связным между ссыльным и его друзьями, пользуясь возможностями гастролей. Он привозил ему корреспонденцию из Москвы и Петербурга и увозил в обратный путь письменные и устные послания. О многом переговорили Щепкин и Герцен в тот лондонский визит. Конечно, надежда Михаила Семеновича и друзей на то, что Герцен внемлет всем доводам и сможет продолжить свою революционную деятельность на родине, оказалась наивной. Как, впрочем, не менее был наивен герценовский призыв к крепостникам добровольно освободить крестьян от зависимости и наделить их по справедливости землей. «Ты знаешь Россию, все ее политическое устройство, — спорил с ним Щепкин, — и вдруг взываешь к тому классу… который не хочет этого и не может, потому что это связано с его жизненными интересами… то есть ты взываешь к тем, которые не хотят и не могут уничтожить крепостного состояния…» Наивна была и либеральная апелляция Герцена к «верхам». Спустя время Герцен и сам убедился в тщетности своих ожиданий: «Старое крепостное право заменено новым. Вообще крепостное право не отменено. Народ… обманут». Но если быть логичным, приходится признать, что и Щепкин впадал в утопию, когда полагал, что решение вопроса социального переустройства общества кроется в исправлении нравов. «Что же касается до равенства, — убеждал он собеседника, — то на это может тебе служить ответом вся природа: в ней нет ни в чем равенства, а между тем все в полной гармонии. Оставьте мир расти по своим естественным законам и помогайте его росту развитием в человеке нравственного чувства, сейте мысль, но не поливайте кровью… Не хватит сил для всего человечества, — будем полезны тем, на сколько нас хватит, возрастим в них ту же мысль, братскую любовь ко всему человечеству…» Заметим однако при сем, что эти щепкинские мысли сторонника эволюционизма, выражаясь современным языком, не остались втуне, а проросли, дали свои всходы и в двадцатом и двадцать первом веках… Само время сделало их актуальными. Жизнь противоречива, и то, что было наивно тогда, ибо не сопрягалось с реальной действительностью, спустя много десятилетий, при изменении условий и обстановки, вдруг обретает иной смысл и силу. Лондонские «посиделки» отмечены горячими спорами, попытками найти истину или хотя бы какой-то удобоваримый компромисс. Чтобы понять сущность спора, документально воспроизведем диалог между Щепкиным и Герценом. — Какая может быть польза от вашего печатания, — возмущался Щепкин. — Одним или двумя листами, которые проскользнут, вы ничего не сделаете, а III отделение будет все читать да помечать, вы сгубите бездну народа, сгубите ваших друзей… — Однако ж, Михаил Семенович, до сих пор бог миловал, и из-за меня никто не попался. — А знаете ли вы, что после ваших похвал Белинскому об нем запрещено говорить в печати? — Как обо всем остальном. Впрочем, я и тут сомневаюсь в моем участии. Вы знаете, какую роль играло знаменитое письмо Белинского к Гоголю в деле Петрашевского. Смерть спасла Белинского, — мертвых я и не боялся компрометировать. — А Кавелин-то, кажется, не мертвый? — Что с ним было? — Да то, что после выхода вашей книги, где говорится об его статье о родовом начале и о споре с Самариным, его призвали к Ростовцеву. — Ну! — Да что же вы хотите? Ну, ему и сказал Ростовцев, чтоб он впредь был осторожнее. — Михаил Семенович, неужели вы уже и это считаете мученичеством — пострадать при четверовластнике Иакове советом быть осторожнее? Герцен, конечно, не мог согласиться с суждениями Щепкина, парировал его доводы решительно и укреплялся в мнении о своей правоте. Отголоском этого разговора стали и слова Герцена, брошенные им позднее: «Непривычка к свободной речи — увеличивает в их глазах опасность», «…надобно же, хоть чтоб кто-нибудь не покидал оружия». Впрочем, Михаил Семенович и сам получил возможность убедиться в силе герценовского слова в упомянутом нами эпизоде, когда он ходил по инстанциям, добиваясь выплаты актерам причитавшегося им жалованья. То, чего не мог добиться Щепкин, апеллируя к министру и даже государю, сделала одна-единственная угроза искать помощи в герценовском «Колоколе». Лондонский изгнанник действительно будил общественное сознание в России, питал развитие ее свободолюбивой мысли. Отправлялся Щепкин в обратный путь из английского вояжа не в самом лучшем расположении духа. Надежды, которые он светло возлагал на поездку, не оправдались, цель не была достигнута. Друзья, несмотря на самое доброе отношение друг к другу, ни о чем не договорились. Каждый остался при своих убеждениях, обнаруживая все больше и больше разногласия в них. «Да, мы если не расходимся, — признавался Герцен своим московским друзьям, — то разводимся обстоятельствами все дальше и дальше». «Дело в том, — как бы вторил ему Щепкин, — что мы стали говорить на разных наречиях». Резоны Михаила Семеновича не показались Герцену достаточно убедительными, но и Александр Иванович тоже не нашел тех слов, которые заставили бы его собеседника переменить мнение на предмет спора. Щепкин остерегался разящей логики Герцена, его острого ума, знал, что на этом поле ему выиграть трудно, это видно из его последнего письма в Лондон: «Прощай!.. Ответа не нужно. Я знаю, у тебя много логики, и поэтому ты знаешь, что это будет неравный бой, и потому это будет нечестно; в любви к человеку я бы поборолся с тобой, и тогда бог знает, чья бы взяла. Без ответа у меня остается надежда, что ты примиришься сам с собой… Обнимаю тебя, может быть, в последний раз, а ты обними за меня детей своих и вместе с ними вспоминай иногда о старике». Это прощальное письмо как бы подводило итог их продолжительной, начавшейся еще в 1839 году дружбы. Правда, виделись они не так уж часто, да и письмами редко баловали друг друга, но дружбу хранили ревностно, пронеся ее через долгие разлуки и идейные споры. В гом же письме к Герцену Михаил Семенович признавался: «Надо, чтобы душа моя сильно страдала, чтобы я решился так много наболтать… Может быть, тут нет логического порядка мыслей, зато нет строки, которая не была облита горькими слезами. Конечно, это тоже слабость; но что же делать, я не могу сухо любить человека, невзирая на разность убеждений, я не перестаю любить». Из Лондона в Москву Щепкин уехал не с пустыми руками, кроме устных наказов он прихватывает заранее приготовленные Герценом письма, нелегальную литературу, в том числе его книгу «О развитии революционных идей в России», с которой ознакомился самым тщательным образом. Бдительный генерал-губернатор Закревский докладывал в Третье отделение: «Актер Щепкин на одном из своих вечеров подал мысль, чтобы авторы писали пьесы, заимствуя сюжеты из сочинений Герцена». И все же последнее слово осталось за Герценом. Спустя десять лет после памятной лондонской встречи докатилась до него тяжелая весть о смерти Щепкина. Александр Иванович отозвался на нее самым искренним образом и самыми высокими словами: «…он был великий артист. Артист по призванию и труду. Он создал правду на русской сцене, он первый стал не театрален на театре, его воспроизведения были без малейшей фразы, без аффектации, без шаржа… Щепкин и Мочалов, без сомнения, два лучших артиста изо всех виденных мною в продолжении тридцати пяти лет и на протяжении всей Европы. Оба принадлежат к тем намекам на сокровенные силы и возможности русской натуры, которые делают незыблемой нашу веру в будущность России».Тарас Григорьевич Шевченко
Дружба Тараса Григорьевича Шевченко и Михаила Семеновича Щепкина, казалось, зародилась задолго до их встречи, прямо со дня их рождения, несмотря на разницу в возрасте. Михаил Семенович любил Украину, до тонкости знал душу ее народа, восхищался его музыкальным языком, сочным юмором. При всякой возможности стремился наведаться в знакомые и незнакомые места: приезжал с гастролями, выступал с различными украинскими труппами, охотно сопровождал друзей в поездках по Украине. Его украинские роли стали украшением провинциальных и столичных театров. Поэта и артиста связывала общность родственных народов и личных судеб. Увидев еще в пору своего ученичества в Академии художеств в Петербурге московскую знаменитость на подмостках Александринки, молодой Шевченко пережил одно из самых глубоких душевных потрясений. А играл-то Щепкин в «Наталке-Полтавке» И. П. Котляревского! Еще более глубокий след оставила игра актера в комедиях Гоголя. Именно тогда поэт загорелся мечтой лично познакомиться с Михаилом Семеновичем, хотя это казалось ему делом совсем немыслимым. Встречное желание артиста познакомиться с поэтом появилось в 1840 году, сразу после того, как он с волнением прочитал неказистую на вид книжечку стихов Тараса Шевченко «Кобзарь». Стихи покорили внутренней энергией слова и трогательной, задушевной своей интонацией, которая так свойственна народной песне. Поэтический сборник был написан Шевченко всего спустя год-два после того, как он стал свободным и не мог быть «не услышанным» своим духовным братом. Стихи так сильно запали в душу артиста, что он по несколько раз перечитывал книжечку и при каждом подходящем случае читал ее строки друзьям. Особенно любил «Думы мои, думы…». Как он понимал поэта!.. Ведь они оба были когда-то рождены подневольными, подданными инородцев — один графа Волькенштейна, другой — Энгельгардта. Оба были освобождены усилиями патриотов России: Тарас Григорьевич выкуплен на волю в 24 года на пожертвования (значительные суммы внесли прославленные деятели культуры Карл Павлович Брюллов и Василий Андреевич Жуковский). Оба прошли суровую школу жизни, начиная с ученичества у дьячка и достигнув высот образования и культуры просвещенного девятнадцатого века. Хотя Шевченко вышел из крепостной зависимости на добрый десяток лет от рождения раньше Щепкина, жизненный срок его оказался совсем коротким — сорок семь лет! Слишком много выпало на его долю тяжких испытаний — крепостничество, солдатчина, каторга, ссылка. Знакомство состоялось в 1843 году, но они уже были так настроены на одну волну, что при этой нечаянной встрече обнялись, как давние родственные знакомцы. Тарас Григорьевич сразу назвал Михаила Семеновича «батько». Произошло это на пятьдесят шестом году жизни артиста. Поэту не было и тридцати. Дружба их крепла, оба постоянно чувствовали себя необходимыми друг другу и искренне переживали, если судьба надолго разводила их. Тарас Григорьевич уже обращался к Михаилу Семеновичу со словами: «Друже мой давний, друже мой единственный!» Ими он начинал свое послание из очередной ссылки: «Из далекой киргизской пустыни, из тяжкой неволи посылал я тебе, мой голубе сизый, искренние сердечные поклоны. Не знаю только, доходили ли они до тебя, до твоего искреннего великого сердца? Да что с того, если и доходили! Увидеться бы нам, хоть поглядеть друг на друга, хоть часок поговорить с тобою, друже мой единый! Я ожил бы, я напоил бы свое сердце твоими тихими речами, как живой водой! Сейчас я в Нижнем Новгороде, на воле — на такой воле, как собака на привязи…» Это был один из особенно тяжелых периодов в жизни Шевченко.Сергей Тимофеевич Аксаков
Говорят, Щепкин обладал особым талантом дружбы. Но если таковой имеется на свете, то у Михаила Семеновича он шел от сердца, от его необыкновенного обаяния и человеческой притягательности, желания понять своего собеседника, от его искренности и открытости. Может быть, поэтому Аксаков и Щепкин, впервые познакомившись друг с другом, встретились, как «давнишние приятели, и даже, — каквспоминал позднее Сергей Тимофеевич, — обрадовались друг другу». Произошло это в начале нового театрального сезона 1826/27 года, когда приехавший из далекой оренбургской деревни в Москву Аксаков посетил Большой Петровский театр. В тот день репетировали комедию Шаховского «Аристофан, или Представление комедии Всадники», в которой Щепкин играл Сизия. Артист знал Аксакова по его интересным и глубоким рецензиям, театральным обзорам, знал, что Аксаков поддерживает реалистическое направление в развитии отечественного театра, выступает за повышение роли театра в общественной жизни России. Сергей Тимофеевич, в свою очередь, был наслышан о выдающемся мастерстве актера, приехавшего в Москву из провинциального театра, искусство его вызывает огромный интерес у зрителей, о нем спорят и размышляют все видные театральные критики. Их взаимно влекло друг к другу, и знакомство обещало перерасти в дружбу. Так и произошло. Роль Сизия, в которой Аксаков впервые увидел Щепкина, оказалась пустячной, всего несколько реплик. «Немного странно играть такую ничтожную роль такому славному актеру», — не преминул заметить руководству театра критик, но тут же добавил, что и в этой «ничтожной» роли актер сверкнул своим талантом, с таким смыслом умел произнести свой текст, что зрители «громким смехом и рукоплесканием выразили свое удовольствие». Это была первая устная оценка Аксаковым игры актера. С тех пор он внимательно следил за развитием его таланта, не оставив без внимания ни одной его работы, поощрял его плодотворные творческие поиски, критиковал, когда, по его мнению, актер отступал от высоких образцов искусства, бескомпромиссно спорил с теми, кто неверно истолковывал те или иные роли из репертуара Щепкина. Он решительно не согласился со статьями в «Северной пчеле» об исполнении Щепкиным ролей Эзопа в комедии-водевиле «Притчи, или Эзоп у Ксанфа» и Транжирина в пьесе «Чванство Транжирина, или Следствие полубарских затей». «Северная пчела» ставила, например, «искусство чтения басен» (в «Притчах…») выше той душевной теплоты, которой актер согревал холодный и бесцветный характер главного героя, что явно противоречило самой природе формирования русской школы актерского искусства. Сам критик после окончания Казанского университета и переезда в Петербург серьезно занимался актерским искусством. Его наставником в этом деле был известный русский актер Яков Емельянович Шушерин, заметно выделявшийся среди других актеров Александринки естественностью игры, простотой тона, неприятием «проклятой декламации», как он сам выражался. Вместе с ним Аксаков прорабатывал роль Эзопа, много размышлял над нею. Игра Щепкина значительно углубила характеристику драматургической роли, по-новому высветила фигуру героя, чего не заметили критики «Северной пчелы», упустив и еще один важный, по мнению Аксакова, момент — тему протеста человека против унижения, ущемления его достоинства. Именовав себя скромно «любителем русского театра», Сергей Тимофеевич в статье «Нечто об игре г-на Щепкина по поводу замечаний «Северной пчелы» писал также и о том, что «талант и искусство г. Щепкина, несмотря на славу, которою он пользуется, совсем не оценены», что видеть в нем лишь исполнителя ролей благородных отцов — значит лишать его возможности развивать свой богатейший художественный потенциал и что восхищаться в его исполнении лишь «смешными местами и сильным огнем» — значит вовсе не знать театрального искусства, не понимать его назначения и роли в общественной жизни. Разбирая творчество Щепкина, Аксаков обращал внимание на то, что в любой исполняемой роли он непременно является «творцом характеров» и что «цельность их всегда предпочитает пустому блеску». Аксаков умел смотреть вперед и видеть те тенденции в актерском творчестве, которые постепенно завоевывают сцену, поднимая и возвышая роль театра. Он восхищался способностью Щепкина проживать каждую свою роль от начала до конца, продолжая жить переживаниями героя даже в минуты молчания. «Когда он молчит, — писал критик, — тогда-то с большим искусством играет свое лицо». Все это было сказано в то время, когда невзыскательной публикой ценилось иное — с каким эффектом проведет актер ту или иную сцену, как произнесет монолог или какие-то отдельные фразы, пропоет куплет или удивит всех умопомрачительным «па». Способность Щепкина самосовершенствоваться ценилась Аксаковым особенно высоко. «Может быть, публика этого и не замечала, — читаем мы в воспоминаниях Сергея Тимофеевича, — но мы, страстные любители театра и внимательные наблюдатели, видели, что с каждым представлением даже старых пьес Щепкин становился лучше и лучше!» Он радовался, как от спектакля к спектаклю укрупнялись и становились масштабнее роли Фамусова, Городничего, Гарпагона в «Скупом» Мольера. «Скупого» Аксаков перевел с французского специально для Щепкина. Он не мог согласиться с расточительством, когда столь редкостное дарование актера, неизмеримо более широкое по своему диапазону, используется столь узкоутилитарно и однопланово, главным образом лишь в ролях обманутых мужей, благородных отцов, чудаковатых персонажей. Аксаков угадывал в Щепкине большой и нераскрытый доселе трагедийный талант и ролью Гарпагона давал ему стартовую площадку для такой возможности. И не ошибся. Исполнение Щепкиным этой роли критики назвали «верхом драматического в комизме». Михаил Семенович любил эту роль и не расставался с ней до последних дней, постоянно добавляя в нее все новые и новые краски. С годами она обрела сильное социальное звучание. Как свидетельствуют современники, Щепкин буквально «перерисовал всю картину» этой роли. Спектакль стал заметным художественным и общественным явлением в театральной жизни Москвы и в творческой биографии артиста. Михаил Семенович и Сергей Тимофеевич все больше сближались и становились неразлучными. М. П. Погодин записывает в дневнике: «Обедал у Аксакова… Слушал с удовольствием актера Щепкина». За этим дружеским столом собирались многие «представители русской образованности и просвещения». Здесь бывали Пушкин и Мицкевич, Верстовский и Веневитинов, Гоголь и Тургенев, Некрасов и Белинский, Соловьев и Кольцов, Анненков и Афанасьев и многие, многие другие. С легкой руки Щепкина в этот дом вошел и Шевченко. С покупкой Аксаковым в 1843 году имения в «премилой деревеньке», как любил он называть Абрамцево, место это стало настоящим родником, питающим культурную жизнь России. Сюда по Ярославской дороге немногим более пятидесяти верст от Москвы потянулись кареты и дрожки с именитыми путниками. Путь в Абрамцево лежал по живописным местам Подмосковья и заканчивался, как говорил Аксаков, «раем земным»: березовой рощей и липовыми аллеями, яркими цветниками и узкими тропами, уходящими к утопающей в тени деревьев и кустарников речушке Воре, и полузаросшим зеленым прудом, прилегающими к парку полями и обступавшим их зеленым полукругом лесом, изобилующим грибами и разной живностью. Потом, когда спустя годы, Абрамцево будет куплено Саввой Морозовым и превратится в настоящую мастерскую художников, все это природное великолепие перейдет на полотна Поленова, Серова, Васнецова, Нестерова и других. Среди окружающей природы увенчанный красной крышей красовался главный (так его именовали) усадебный дом. Довольный своей покупкой, Аксаков сочинил четверостишие:Виссарион Григорьевич Белинский
Знакомство Щепкина с Белинским произошло при обстоятельствах не совсем обычных. Будущий критик, а пока студент начальных курсов Московского университета, искал себя на разных поприщах. Пришел и в студенческий театр, но не проявив себя на артистической стезе, попробовал свои силы в драматургии, написав антикрепостническую пьесу «Дмитрий Калинин». Драма эта, однако, принесла автору большие неприятности: за содержащиеся в ней свободолюбивые мысли и непочтение к высшим по положению и званию лицам Белинскому было предложено до срока покинуть университет. Впервые артист Императорского театра и в недалеком будущем известный критик встретились… в суфлерской яме университетского театра, откуда «неистовый Виссарион» скромно подавал реплики выступающим на сцене. Щепкин, как мы помним, частенько наведывался в университет, чтобы преподать актерам-любителям азы театрального искусства. По мере возможности он помогал им получить костюмы и другие театральные аксессуары из запасов императорских театров. Со студентами он всегда встречался с охотой. Даже в дни, когда все зрелищные заведения были закрыты из-за свирепствующей в Москве чумы, артист шел к своим юным коллегам, невзирая на опасность, и проводил с ними немалое время, «объясняя студентам характер каждой роли и показывая все сценические приемы в игре, дикцию и жестировку». «Недоучившийся студент», как именовали Белинского его недоброжелатели, весьма скоро заставил заговорить о себе в литературных и театральных кругах. Удрученный первым горьким опытом драматурга, он решает, однако, продолжить штурм и выносит на суд новую драму «Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь», пьесу разрешили к исполнению. Чтобы поддержать молодого автора, Щепкин заявит ее в свой бенефис, взяв на себя роль влюбленного старика Горского. Ее постановка не принесла удовлетворения ни автору, ни исполнителю главной роли. При всем том, что рецензенты отмечали отдельные удачно выписанные характеры некоторых действующих лиц и самоотверженность актеров, делавших все от них зависящее, а также виртуозно сыгранные Щепкиным «места роли», в которых он «изумил публику своею игрою», драма оказалась сырой, затянутой, «многоречивой», перенасыщенной словами, будто взятыми «напрокат из «Московского наблюдателя». Сколь-нибудь значительного сценического действа не получилось. Даже великое мастерство актера не спасло положения дел. И как оно могло спасти, если роль героя была соткана из противоречий и необъяснимых поступков, постоянно ставящих актера в затруднительное положение. Даже самые серьезные порывы Горского при тех обстоятельствах, в которые его поставил автор, иначе как с иронической снисходительностью нельзя было воспринимать. А сочинитель-то намеревался показать именно драму. «Влюбленный старик, как бы он ни был высок в душе, — замечал автор заметок в «Театральной хронике» за 1839 год, — всегда комическое лицо». Словом, жанровое несоответствие, драматургическое несовершенство привели к суровому приговору: «…пьеса ни с какой стороны не относится к сфере искусства как творчества». Не снискал лавров и актер главной роли. «Конечно, были места превосходные, — писал тот же рецензент, — но целой роли не было». Не драматургическое творчество Белинского снискало ему славу и не оно сдружило его со Щепкиным, а полемический талант критика, его принципиальность и острота. Их сближали общий взгляд на пути развития отечественной культуры, общая боль за состояние театра. И когда Каратыгин в своей пьесе «Авось, или Сцены в книжной лавке» сочинил пошлые куплеты против Белинского, в которых его критика — это то, что «сам черт не мог бы разобрать» и что его критические обзоры всем надоели, Щепкин не мог поступить иначе, как решительно отказаться от их исполнения. Михаил Семенович своими ролями, своим пониманием драматического искусства, отношением к театру помогал вызревать критическому таланту Белинского, предоставлял ему богатый материал для размышлений. Напомним, что наиболее сильные театральные впечатления критика были связаны с именами артистов Малого театра — Мочалова и Щепкина. Именно эти мастера помогли ему определиться в понимании общественной значимости театрального искусства, путей развития русской сценической школы, в оценке того новаторского вклада, который они внесли в драматургическое искусство. Белинский писал о Щепкине, что он разрушил стереотип в делении актеров на «трагических» и «комических». Это было существенно и важно, потому что позволяло судить об актере не по принадлежности к определенному амплуа, а по жизненной правде, выражаемой им на сцене, по глубине художественного постижения образов, полноте воспроизведения авторского замысла. После исполнения Щепкиным роли Городничего Белинский заключил: «Актер понял поэта: оба они не хотят делать ни карикатуры, ни сатиры, ни даже эпиграммы; но хотят показать явление действительной жизни, явление характеристическое, типическое». Белинский был вторым человеком после Пушкина, сыгравшим решающую роль в том, что «Записки актера Щепкина» увидели свет. Понимая, что напоминаниями и увещеваниями дела с места не сдвинешь, а записывать за Щепкиным-рассказчиком дело безнадежно невозможное, он усадил его за стол, когда актер совсем остыл от этой затеи. Готовя первый выпуск «Современника», Виссарион Григорьевич предупредил Щепкина, что зарезервировал за ним место в альманахе под первую главу «Записок», не оставив ему путей к отступлению. А чтобы приподнять дух актера в этом праведном деле, напомнил ему, что исполняется десять лет после смерти Пушкина и лучшей памятью ему будет публикация его воспоминаний. Когда Михаил Семенович наконец возобновил работу над «Записками», Виссарион Григорьевич поспешил поделиться радостью с Герценом: «Целоваться не с женщинами в наш просвещенный XIX век гадко и пошло, — так стукни побольнее Мих. Семеновича за меня во изъявление моих к нему горячих чувств… Отрывок из записок М. С. — вещь драгоценная, я вспрыгнул, как прочел, что он хочет дать. Это будет один из перлов альманаха». Журнал «Современник», любимое детище Пушкина, пришедший в упадок после его гибели, стал теперь возрождаться. Н. А. Некрасов и Н. А. Панаев, энергично взявшиеся за руководство журналом, решили продолжить дело поэта, Белинский помогал им самым деятельным образом. Публикация «Записок» была в числе замыслов, которые Пушкин не успел реализовать. Однако время шло, а Михаил Семенович молчал. Обеспокоенный Белинский вновь пишет Герцену из Петербурга в Москву: «…Когда М. С. думает выслать отрывок из записок? Этот гостинец словно с неба свалился мне, — и мне страшно от одной мысли, чтоб он как-нибудь не увернулся от меня, и я до сих пор не смею считать его своим, пока не уцеплюсь за него руками и зубами…» Радость безмерная — «гостинец» из Москвы пожаловал! «Отрывок М. С. — прелесть, — сообщал Белинский Герцену. — Читая его, я будто слушал автора, столько же милого, сколько и толстого». Так, в начале 1847 года в первом номере обновленного «Современника» рядом с тургеневскими стихами и рассказом «Хорь и Калиныч» из «Записок охотника», «Романом в девяти письмах» Достоевского, статьями Белинского, стихами Некрасова и Огарева, «Письмом из Парижа» Анненкова читатели увидели и главу «Из записок артиста». Поставить под ней свое имя Михаил Семенович не решился, ограничившись обозначением «Щ-ъ», но авторство Щепкина у сведущих читателей не вызывало сомнений. Старания Белинского были вознаграждены самым наилучшим образом. Первый литературный опыт артиста не потерялся среди именитых авторов, вызвав неожиданный для Щепкина интерес читателей, что он воспринял как высшую награду за труды свои, спрессованные за короткие промежутки между репетициями, спектаклями, домашними делами. Теперь артисту, принимавшему поздравления с удачным литературным дебютом, ничего другого не оставалось, как только продолжить начатое дело. Все ждали новых глав и они появились, но уже после смерти Белинского, в альманахе «Комета», который издавал сын Щепкина Николай Михайлович. А «Современник» опубликовал на своих страницах весьма одобрительную рецензию на новые главы, побуждая автора к дальнейшей работе: «С истинным наслаждением прочли мы два отрывка из записок артиста М. С. Щепкина и искренно пожалели, зачем так невелики они. Всякий прочитавший их согласится с нами, что если б М. С. Щепкин издал свои записки, то русская литература имела бы одну из любопытнейших книг, тем более, что не только сам автор в высокой степени замечательное лицо, но в них еще предстала бы живая история русского драматического искусства, рассказанная с необыкновенной живостью и мастерством». Не обошел вниманием публикацию щепкинских «Записок» и Гоголь. Он писал артисту: «Очень рад, что вы занялись ревностно писанием ваших записок. Начать в ваши годы писать записки — это значит жить вновь. Вы непременно помолодеете и силами и духом, а через то приведете себя в возможность прожить лишний десяток лет». Конечно же, не обещание «лишнего десятка лет» побудило Михаила Семеновича продолжить начатое дело, а столь заинтересованное внимание и горячее напутствие друзей, читателей, издателей вдохновляло артиста. Они не давали возможности остыть авторскому порыву и общими усилиями подвигали «первого ленивца» на писательство, убеждая, что именно на нем «лежит долг написать историю своего театрального поприща, чем он окажет великую услугу не только театральному искусству, его служителям и почитателям, но и всякому мыслящему человеку, для которого дороги проявления, усилия и торжество духа человеческого над всеми препятствиями и случайностями жизни». К сожалению, Михаилу Семеновичу довелось увидеть опубликованным не более половины из написанного. Последние шесть глав вышли в свет уже после кончины автора. Не узнал он и об отзыве Федора Михайловича Достоевского на свой труд. «Записки Актера Щепкина, — писал он брату в 1864 году, — книга, вышедшая в этом году, конечно, тебе известна. Если не читал — возьми немедленно и прочти; любопытно. Но вот в чем дело (говорю на случай). Ради бога, не поручай эту книгу разбирать кому-нибудь. Беда. Для разбора такие книги нам драгоценность. Щепкин чуть не до 30 лет был крепостным человеком. А между тем почти с детства соединился с цивилизованным обществом, не переставая быть народом. Мы пишем о соединении с почвой. Поэтому на Щепкина, как на живой пример, надо с этой точки обратить внимание». Заметим, что Щепкин обратил внимание на еще молодого Достоевского, он был первым, кто публично прочитал отрывок из романа Достоевского «Бедные люди». Произошло это в год выхода романа на концерте в доме Самариных, «собравшем множество гостей». В тот вечер Щепкин читал также «Старосветских помещиков» Гоголя и стихи Некрасова, поставив рядом с этими признанными писателями нового литератора, угадав в нем будущую знаменитость. Еще меньше, чем сам Щепкин, успел прочитать из опубликованных «Записок» их радетель Виссарион Григорьевич Белинский, но он мог судить о них со слов Михаила Семеновича во время их последней поездки на юг. Известно, что критик страдал чахоткой, а сырой климат Петербурга только ухудшал его здоровье. По совету друзей, организовавших сбор средств для его лечения за границей, Белинский решился отправиться в Силезию, но российские власти разрешения на выезд не дали, и Щепкин уговорил его поехать с ним в поездку по Украине, к Черному морю, намереваясь и здоровье поправить, и заключить контракт на выступления с одной из местных трупп. Белинский с радостью согласился с этим предложением и предвкушал новые впечатления. «Тарантас, стоящий на дворе Михаила Семеновича, видится мне и днем и ночью, — писал он уже в нетерпении… — Святители! Сделать верст тысячи четыре, на юг, дорогою спать, есть, пить, глазеть по сторонам, ни о чем не заботиться, не писать, даже не читать русских книг для библиографии — да это для меня лучше Магометова рая…» Михаил Семенович таких путешествий за свою артистическую жизнь совершил великое множество. По пути следования останавливался на несколько дней в городах, где существовали театры, по договоренности с администрацией играл один, два, три спектакля. Эти поездки давали массу полезных для творческой работы наблюдений, обновляли душу и в какой-то степени поправляли материальное положение артиста, которое оставалось не самым благополучным до конца его дней. Кроме затрат на содержание дома и многочисленных его обитателей, Михаил Семенович находил возможность помогать своим сыновьям, сначала в годы их обучения, затем для поддержания молодых семей, укрепления здоровья детей. «Денег лежалых у меня нет, — писал он в Самару своему младшему сыну Александру в связи с необходимостью брать отпуск на три месяца без содержания для поездки к нему, а затем в Питер к больному — Дмитрию, — а в три месяца на содержание семейства нужно с квартирой, дровами и прочим 600 р. серебром, да на три месяца самому на проезды, квартиры и прочие непредвидимые расходы тоже по крайней мере 600 р. серебром, следовательно, без 1200 р. серебром нельзя будет и двинуться с места». Все было у артиста — известность, слава, почет, а достатка как не было, так и не стало!.. Вот и будущее путешествие сулило надежды как-то восполнить неубавляющиеся материальные затраты, чтобы обеспечить семье мало-мальски сносное существование. О большем и не помышлял. В одном из писем к Шевченко Михаил Семенович писал со свойственными ему лаконизмом и откровенностью: «Богатые находят удовольствие в исполнении всех своих желаний, а я, напротив, нахожу величайшее наслаждение, если откажу себе в удовольствии, которое мне не по средствам». Однако день отъезда долго не определялся. Пролетел февраль, отстучал капелью март, уже апрельское солнце растопило снег, отогревая землю, а добрая затея не осуществлялась. Белинский, устав от ожиданий, пишет Герцену: «Признаюсь, я начал было беспокоиться, думая, что и на мою поездку на юг (о которой даже во сне брежу) черт наложит свой хвост. Что ты мне толкуешь о важности и пользе для меня этой поездки: я сам слишком хорошо понимаю это и еду не только за здоровьем, но и за жизнью. Дорога, воздух, климат, лень, законная праздность, беззаботность, новые предметы, и все это с таким спутником, как Михаил Семенович, — да я от одной мысли об этом чувствую себя здоровее». Бесы не помешали. За несколько дней до отъезда Виссарион Григорьевич приезжает в Москву и сразу направляется в знакомый дом в Большом Спасском переулке, где не раз останавливался у Щепкиных, находя ночлег и радушный прием. Он однажды даже признался: «В Петербурге нет обычая останавливаться у родни, своей или жениной; там это не в тоне, да никто и не пригласит и не пустит; для этого есть трактиры… Но не так водится в Москве… Если я захочу соблюсти экономию, я остановлюсь или у своих родственников, или у Щепкиных, которых считаю истинными своими родными в духе». К слову сказать, одно время Белинский помышлял породниться с этой семьей, увлекшись Александрой, дочерью артиста. Но не судьба! Александра ответного чувства не испытала, и при всем уважении к критику отношения дальше дружеских не пошли. День отъезда был назначен на 16 мая 1846 года, провожать друзей на юг пришли Герцен, Грановский, Кетчер, Панаев, Корш. Они собрали по своей возможности денег на эту поездку. Некрасов, получив к тому времени неплохой гонорар за книгу стихов, не раздумывая, передал всю сумму Белинскому. Так что путешествие получило доброе материальное обеспечение. Долгого застолья не устраивали, ограничившись легким завтраком. Компания отправилась до первой станции, чтобы там отобедать и попрощаться. «День был ясный и теплый, — вспоминал Иван Иванович Панаев. — Поездка наша была необыкновенно приятна. Всегда неистощимый остроумием Герцен в этот день был еще блестящее обыкновенного. Мы не входили на станцию, а расположились близ какой-то избы на открытом пригорке… Развязали наши припасы, достали вино и расставили все это на землю. «За здоровье отъезжающих!» — завопил Кетчер, налив всем в стаканы шампанского и подняв свой бокал. И при этом захохотал неизвестно почему. Сигнал был подан… Герцен уже лежал вверх животом и через него кто-то прыгал. Белинского, который не пил ничего и не любил пьяных, все это начинало утомлять. Он терял свое веселое расположение духа и обнаруживал нетерпение… «Пора, пора, Михаил Семенович», — повторял он. Наконец тарантас подан. Все переобнялись и перецеловались с отъезжающими… «Дай тебе бог вернуться здоровому!» — кричали со всех сторон Белинскому. Он улыбнулся… — Прощайте! Прощайте! — сказал он нетерпеливо, махнув рукой. Тарантас двинулся, колокольчик задребезжал. Мы все провожали его глазами… Белинский выглянул из тарантаса в последний раз, кивнул нам головой… и через несколько минут осталось на дороге только облако пыли…» Пройдет немногим более полугода, друзья соберутся вновь — теперь уже для того, чтобы проводить Герцена с его семейством навсегда за границу. Ну а пока Белинскому и Щепкину предстояла долгая и нелегкая дорога. Погода еще не совсем повернула на лето. Дожди, холодные ночи, задержки на полустанках, скверные дороги наводили уныние на путников, укутавшихся в теплые пальто, «с окоченевшими руками и ногами, с покрасневшим носом». Особенно досаждали печально знаменитые русские дороги, не раз «воспетые» в литературе, — разбитые, с колдобинами и рытвинами, ухабами и невероятной тряской. Зимой они завьюжены пургой и снегом, летом размыты дождями, отчего колеса увязают в грязи как в болотной трясине. Как тут не вспомнить расползающиеся во все стороны, «как пойменные реки», дороги, по которым странствовал гоголевский Чичиков. И вот уже Белинский, описывая путешествие, замечает с долей иронии и удивления: «В Воронеж приплыли в субботу… Выехали во вторник… Солнце пекло нас, но к вечеру потянул ветер с Питера, ночью полил дождь, и мы до Курска опять не ехали, а плыли… имели удовольствие засесть в грязи, а наш экипаж, вместе с нами (потому что выйти не было никакой возможности) вытаскивали мужики… В тот же день поплыли в знаменитую Коренную ярмарку (за 28 верст до Курска). И уж подлинно поплыли, потому что жидкая грязь по колено и лужи выше брюха лошадям были беспрестанно. Ехали на 5-ти сильных конях с лишком 4 часа и наконец увидели ярмарку… В Курске переменили лошадей, закусили и пустились плыть на Харьков…» И все же радость перемен, надежды на исцеление и постоянное дружеское участие и забота Михаила Семеновича настраивали его молодого друга на оптимистический лад. Щепкин старался сделать дорогу для Белинского менее утомительной и беспрестанно придумывал предлоги для остановок — то они званы на ужин к губернатору Калуги, где критик знакомится с известной в обществе и литературных кругах Александрой Осиповной Смирновой-Россет, бывшей фрейлиной императрицы, а теперь супругой губернатора, ей когда-то Пушкин и Лермонтов посвящали свои стихи; то по просьбе содержателей местных театров Михаил Семенович соглашается сыграть пару спектаклей, то уговаривает путника завернуть на ярмарку… И Белинский, привыкший к подвижному образу жизни, едва поспевал за грузным, но резвым не по годам актером, довольствуясь положением «хвоста толстой кометы», как он именовал его в своих письмах к жене Марии Васильевне, не забывая добавить: «Михаил Семенович смотрит за мной, словно дядька за недорослем. Что за человек, если б ты знала!» Дорога еще больше сблизила их, привязала друг к другу. Наконец добрались до желанной Одессы. Бескрайняя голубизна моря, обилие сочной, густой зелени и яркое южное солнце поначалу буквально ослепили Белинского и изумили буйством красок. Это изобильное великолепие южной природы сразу поглотило все неурядицы и неудобства вчерашних дорог. Они отогрелись и уже вскоре… мучились от тридцатипятиградусной жары. Особенно страдал Щепкин. «Михаил Семенович весь так и плывет, — сочувствовал Белинский. — … Страдает от одесских жаров и своего чрева, насилу носит его… Меня этим еще нельзя пронять, но бывает и мне тяжело». А Щепкин добровольно взвалил на себя дополнительную нагрузку, заключив контракт с одним из содержателей местной труппы на сорок с лишним спектаклей, с выездом в Симферополь, Севастополь, Херсон, Николаев. Труппа, с которой предстояло совершить это солидное турне, оказалась совсем слабой, нетребовательной ни к себе, ни к репертуару. Роли знали плохо, с текста сбивались, путая Щепкина. Он нервничал, возмущался, а назавтра все повторялось на тот же лад. «В Николаеве такая труппа, какой подобной нет нигде под луной, — возмущался критик в письме сыну Щепкина Николаю Михайловичу, — а если есть, так, может быть, на луне, где, как известно, вовсе нет людей и, стало быть, никто не знает грамоты. Эти чучела никогда не знают ролей и этим сбивают Михаила Семеновича с толку, путают, перевирая свои фразы и говоря его фразы. Это его бесит, мучит, терзает. Ко всему этому, он не совсем здоров». А через несколько дней в письме к жене добавляет: «Михаил Семенович страдает теперь на сцене пакостнейшего театра, играя с бестолковейшими и пошлейшими в мире актерами… Спектакли идут плоховато. Актеры ничем не лучше твоих чухонских кухарок. Ужас!» Естественно, зрители платили той же монетой, оставляя зал наполовину пустым. Артист, видевший полное падение искусства, страдал безмерно. Он никогда не делал исключений в игре ни для столичных, ни для провинциальных театров. Один из рецензентов написал о его гастрольных выступлениях, что Щепкин «не принадлежит к числу актеров, которые, приезжая в провинцию, думают бросить пыль в глаза бедным провинциалам, он понимает, что и в провинции могут ценить высокое, и уважает тех, для кого играет». Да, те, кому довелось видеть артиста на сцене даже «пакостнейшего» театра, были вознаграждены настоящими откровениями театрального искусства, он и на такой сцене играл с полной самоотдачей. Во время этих гастролей в Симферополе Щепкина впервые видит двадцатишестилетний Александр Серов, будущий известный композитор и критик, в ролях Симона в «Матросе», Чупруна в пьесе «Москаль-Чаривник», Подслухина в «Подложном кладе», Макагоненко в «Наталке-Полтавке», Городничего в «Ревизоре». Артист восхитил его и многому научил. На время гастролей он был назначен куратором театра, постоянно общался с приезжими московскими знаменитостями. После их отъезда он вспоминал: «Щепкин чрезвычайно интересен в обществе, если его затронуть со стороны искусства — он говорит неутомимо и притом дельно и умно. Замечания его о разных разностях для меня были просто драгоценны. По всему видно артиста мыслящего. Он целую жизнь наблюдает и учится над всем и от всех… И боготворит Гоголя». Видимо, и такие театры полезно было увидеть Белинскому, чтобы полнее представить себе состояние театрального дела в целом, а не только на столичных сценах. Под южным небом он ожил душой, настроился на работу. Бывая на репетициях и спектаклях, наблюдая за работой актеров, прислушиваясь к комментариям Щепкина, критик постигал жизнь провинциального театра изнутри, что, несомненно, обогатило его. «В голове планов бездна, — торопился поделиться он со своими друзьями. — Словом: я оживаю и вижу, что могу писать лучше прежнего, могу начать новое литературное поприще». И не откладывая дело, сразу приступает к наброскам будущих статей о сценическом искусстве в России, обещая, что «все будет ново и сильно». Форма — свободная, «путевые впечатления», навеянные поездкой по южным провинциям, рассуждения о театре перемежает «толками о скверной погоде и еще скверных дорогах». Замыслу этому не суждено было сбыться, интереснейшая поездка здоровья критику не прибавила. Да тут еще в Симферополе, на обратном пути, в нетерпении смыть с себя дорожную пыль, путники попали в холодную баню и простудились. Щепкин с хворью справился довольно быстро, а Белинский занемог серьезно, пролежав в жару несколько дней. Болезнь обострилась, отнимая последние силы. Вернувшись в Москву, он на глазах у всех начал угасать. Друзья Белинского не могли смириться с надвигающимся роковым исходом и вновь предпринимают попытки отправить его на лечение за границу. Сам Виссарион Григорьевич не очень верит в эту возможность, нет средств, а тут еще тяжелая болезнь дочери и вслед за этим внезапная смерть малолетнего сына, казалось, повергли его в полное отчаяние. Однако общие усилия не пропали даром: средства были собраны, разрешение получено. Сопровождать Виссариона Григорьевича в зарубежной поездке вызвались П. В. Анненков и И. С. Тургенев. Увы, время работало уже в другую сторону. Целебные воды Силезии и Пасси не принесли желаемого улучшения. Не помогли перемена климата и красоты Швейцарии, неповторимая архитектура Германии и Франции, замечательные театры и музеи Европы. Покорно следуя «за своими вожатыми», Белинский так и не смог выйти из состояния предрешенности близкого конца. Единственное, что он успел сделать, возвратись из дальних странствий, это откликнуться некрологом на смерть одного из самых любимых своих актеров — Павла Степановича Мочалова. Этот некролог, подобно моцартовскому «Реквиему», оказался предзнаменованием близкого конца великого критика, философа, публициста и гражданина. Умер Белинский, как и жил, в нищете, оставшись должником на сумму около шести тысяч рублей. Потрясенный его смертью, Грановский писал жене: «Белинский умер… Он не оставил по себе ни гроша буквально. Горько и страшно подумать об этой участи. Мы дали денег на погребение. Скажи московским друзьям, чтобы готовили деньги. Вдове и детям Белинского нельзя же просить подаяния». Щепкин сам деятельно помогал в сборе средств для осиротевшей семьи и горько сокрушался: «Жена и дочь без куска хлеба и им собрали кое-что на первое время, а что будет дальше бог знает…» Щепкин и впредь не оставлял без внимания семью Белинских, заботился о ней и помогал, чем мог.Александр Николаевич Островский
Во взаимоотношениях талантливого драматурга и прославленного артиста много прекрасных страниц, но есть и заметные противоречия, какие-то спорные моменты, о чем свидетельствуют их современники. Несомненна близость их художественных и гражданских устремлений. И главное еще в том, что для обоих Малый театр на всю жизнь стал родным домом и тем храмом искусств, где наиболее полно развернулось их творческое дарование. Факты говорят и об ином — о расхождениях и несовпадениях во взглядах на некоторые явления жизни и искусства. Ничего необычного здесь нет, если мы вспомним о большой разнице в их возрасте. Это уже были люди разных эпох, отличавшихся своим духовным, нравственным и социальным складом жизни. Островский вырос во времена, когда в России сложилось такое новое социальное явление, как купечество, глашатаем и выразителем которого стал молодой драматург. Щепкин, конечно, знал жизнь этого сословия, но оно не было ему таким близким и понятным, как Островскому. Далеко не все принимал он из нравственного мира купечества. Щепкин именно по нравственному критерию осуждал героиню «Грозы», оставив в стороне ее социальный протест против существующего уклада и унижения личности. Он возражал против присуждения драматургу премии Академии наук за «произведение, на представление которого нельзя идти порядочному семейству. Народная драма, — утверждал Щепкин, — должна соответствовать народным воззрениям, и потому странно, что Островский выставляет как идеал женщину, решившуюся всенародно объявить себя распутной». В письме А. Д. Галахову он развивает эту мысль: «Не менее других уважая г. автора, мне было обидно читать выисканные достоинства этой пьесы, тогда как на лучшие места не обратили внимания… Как вы не указали на эту юродивую барыню с двумя лакеями, которая произносит свой суд над черным народом? Все это напоминает древний хор, а это уже именно принадлежит автору, потому что в действительности этого нет, и, наконец, как упустили из виду два действия, которые происходят за кустами? Уже самой новостию они заслуживали быть замеченными. А что, если бы это было на сцене, вот бы эффект был небывалый!» Щепкин увидел в пьесе несоответствие с жизненной достоверностью. «Да и Дикий, — говорил он, — неправдоподобен и карикатурен. Нельзя выставлять в условиях современности самодура действующим беспрепятственно в такое время, когда никто его самодурству уже не покорится». В этих взглядах Щепкин не был одинок. Впрочем, он, как всегда, не навязывал своих взглядов, а лишь просил позволения остаться при своем «невежестве и смотреть на искусство своими старыми глазами». Конечно, ныне эти суждения старого актера покажутся консервативными и наивными, надвигалось новое время со своими новыми представлениями, ломкой нравственных ценностей. Щепкин был из другой эпохи, и он защищал, как мог, вековечные народные взгляды на мораль. При всем признании Щепкиным таланта молодого драматурга их личному сближению мешала некоторая амбициозность Островского. Старого артиста коробила его столь ранняя претензия поставить себя в один ряд с первыми российскими писателями, самолично записать себя в их преемники. На пятидесятилетии Щепкина драматург обратился к нему с самыми восторженными словами, но обрамил их весьма своеобразным образом — «Пушкин умер», «Гоголь тоже умер», поэтому «оба они не могли присутствовать на юбилее… вследствие того он сам, г. Островский, принял на себя труд учинить Михаилу Семеновичу поздравление с его торжеством от имени вышереченных Пушкина и Гоголя». Вряд ли это могло понравиться строгому в вопросах этики юбиляру. «Не правда ли, это очень скромно?» — довольно язвительно заметил присутствующий при том и записавший эти строки Александр Николаевич Афанасьев. Щедрость таланта взывает его обладателя, как правило, и к щедрости души, к умению отличать истинные дарования от подделок. Несмотря на то, что трактовка некоторых образов в пьесах Островского вызывала несогласие с автором, Щепкин не мог не признать большой талант драматического писателя, с интересом знакомился с каждой новой пьесой Островского, с удовольствием читал их в кругу друзей (вспомним, как он читал одну из его пьес ссыльному Тургеневу), а если доводилось — с успехом играл на сцене в его пьесах. Правда, таких ролей у артиста можно насчитать не так уж много, что дало повод некоторым исследователям утверждать, что Щепкин нарочито избегал их, но факты говорят о другом. Именитый актер старался поддержать еще первые творческие шаги молодого драматурга, радовался каждой его удаче, помогал в публикации его сочинений. Одна из ранних пьес Островского «Неожиданный случай» при содействии Щепкина впервые была напечатана в альманахе «Комета», издаваемом, как мы знаем, сыном актера. Большое удовлетворение испытал он, разучивая роли Коршунова, а затем Любима Торцова и Большова в пьесах «Бедность не порок», «Свои люди — сочтемся». Щепкин не избегал, а искал встречи с героями Островского. Роль Торцова в спектакле Малого театра долгое время и с успехом играл Пров Садовский. Щепкин несколько по-другому трактовал ее, но вступать в соперничество с молодым коллегой и тем самым обнаруживать «его слабую сторону в этой роли» не желал, это было не в его этических правилах. «Мое поприще уже оканчивается, — писал он, — а он не получает и полного оклада жалования». Но когда подвернулся случай сыграть эту роль в другом театре — сначала в Нижнем Новгороде, затем в Ярославле, — не преминул имвоспользоваться. «Недовольный игрою Садовского в этой роли, — писал Афанасьев, — который (по мнению покойного артиста) прекрасно выражая комическую сторону характера, мало выдавал его внутреннюю борьбу с самим собою, Щепкин… в лице Любима Торцова угадывал… человека хотя падшего, но в котором еще теплится святая искра человеческого достоинства и который поэтому способен подняться и выйти на прямой путь». Между актером и Иваном Дмитриевичем Якушкиным произошел на эту тему спор. Якушкин высказывал сомнения по поводу достоинств пьесы и роли в ней беспробудного пьяницы, из которой трудно выудить что-то достойное. Михаил Семенович возражал, доказывал свое и убедил исполнением этой роли на сцене, что она «стоит того, чтобы над ней потрудиться», что «роль прекрасная, но ее трудно выполнить, надо показать, что под этой грязной оболочкой скрывается такое благородство и доброта, какие редко встречаются». Щепкин видел в своем герое не просто горького пропойцу, а прежде всего человека, наделенного тонкой, страдающей душой, не утратившего чувства достоинства, более того, «прекрасного, доброго, благородного». Этот образ стоял перед его глазами, потому что он видел его «живьем», в лице человека, которого знал еще в пору своей провинциальной службы, а сейчас он доживал свои последние годы в доме актера — театральный парикмахер Пантелей Иванович. Замечательный мастер и душевный человек, он имел одну губительную страсть: «…по временам запивал, и тогда не было никакой возможности остановить его… пропивал все». Щепкин, приютив мастера в своем доме, втайне надеялся, что он избавится от тяжелого недуга. Но, испробовав все средства, убедился в их тщетности. После очередного черного срыва артист решился на крайнюю меру — отказал ему в приюте и праве оставаться личным парикмахером до его исправления. Пантелей Иванович тяжело переживал случившееся, плакал, а потом как-то враз бросил пить, потихоньку отдавал долги, на которые уже никто и не рассчитывал. Михаил Семенович знал об этих переменах, но выждал срок и однажды попросил его причесать парик. Старик был счастлив и с усердием принялся за дело. А когда Щепкин предложил ему вернуться к нему в дом, упал к его ногам и «зарыдал, как ребенок». «После этого, — вспоминал Михаил Семенович, — он жил у меня несколько лет, до самой смерти, и не только никогда не был пьян, но даже никогда не пил вина. Когда я прочел в первый раз «Бедность не порок», мне тотчас представился Пантелей Иванович, и, может быть, оттого, что я его так коротко знал, мне было легко понять мою роль». Обычно актер редко удовлетворялся исполнением своих ролей, подвергая их строгому анализу, но на этот раз был доволен и не скрывал своей радости оттого, что смог затронуть в ней «доселе не троганные струны, и они зазвучали сильно и подействовали на душу зрителей». Так он доказал несправедливость упреков, что из этой роли «нельзя ничего сделать». С неменьшей убежденностью он спорил с теми, кто считал, что актер сам придал этой роли «такой смысл, которого в ней вовсе нет». Вновь и вновь возвращаясь к комедии, он искал и находил в ней места, подтверждающие правоту его взгляда на эту роль, отстаивал свою версию о том, что он изображал вовсе не придуманный им характер, а лишь стремился «верно выполнить мысль самого автора, и мысль прекрасную». «На эту тему продолжался у нас несколько времени спор, — заключал оппонент, — но Михаил Семенович, кажется, не убедился моими доводами, потому что горячо отстаивал комедию против всех моих нападений». Полнее, многомернее предстал в исполнении Щепкина и Самсон Силыч Большов из пьесы Островского «Свои люди — сочтемся». Как и во многих других своих работах, он искал в этом страшном, звероподобном существе за всеми его пороками, за всем мерзким и пакостным что-то человеческое, душевное, справедливо полагая, что только так он может вызвать в зрителях какое-то ответное чувство, а не одно физическое отвращение. Страшный зверь вызывает лишь физический страх, а душевное волнение, и тем более потрясение, возможно в столкновении со звериным в человеческом обличье. Именно — в человеческом! Актер все время искал в своем герое человека, заглядывая на самое дно его упрятавшейся души, пытался обнаружить мотивы его поведения. И зрители видели, что Большов не просто самодур, зверь, а его поступками движут и вполне понятное оскорбленное отцовское чувство, и досада «обманувшегося в своих расчетах торгаша», что ему знакомы и чувства страха, и обиды, и уязвленного самолюбия. Они видели перед собой живого человека, испытывая к нему сложные, неоднозначные чувства и отношения. И все же множество персонажей, населявших пьесы Островского, главным образом из сословия купечества, прошли мимо Щепкина, остались вне сценического их прочтения артистом, а другие и вовсе еще не были выписаны. Михаил Семенович умер, когда еще не увидели свет его лучшие драматургические произведения: «Горячее сердце» и «На всякого мудреца довольно простоты», «Лес» и «Бесприданница», «Таланты и поклонники» и «Без вины виноватые»… Времена менялись, заканчивалась щепкинская эпоха. Наступал час других пьес, других артистов и других зрителей.Павел Степанович Мочалов
Взаимоотношения первых российских актеров не только девятнадцатого века, но и всего отечественного театра, Павла Степановича Мочалова и Михаила Семеновича Щепкина тоже не назовешь простыми. Хотя делить им, кроме актерской славы, было, судя по всему, нечего. Да и в актерской славе они не были соперниками — слишком велика была разница в возрасте, и по амплуа они не могли претендовать на одни роли. Щепкин ко времени вступления в труппу Московского Императорского театра уже больше половины жизни отдал провинциальной сцене, познал, казалось, все радости и горести участи странствующего актера, успех и неудачи, усвоил тонкости актерской профессии, накопил жизненный опыт, которого хватило бы не на одну актерскую судьбу. Как человек от рождения зависимый, пробивавший дорогу собственным трудом, усердием, а случалось, и угождением, внешне совсем не похожий на лицедея, знал истинную цену свободе, славе, благополучию. Мочалов же пришел в театр из актерской семьи, успев послушать лекции профессоров Московского университета, и сразу — в столичный Императорский. Отец его Степан Федорович к тому времени заканчивал свою актерскую карьеру, уступая сыну не только место в труппе театра, но и делясь с ним своими знаниями, опытом, напутствуя и подстраховывая сына в начале его творческого пути. Имея великолепные актерские данные: рост, осанку, красивое лицо, выразительные глаза, высокий лоб и самое главное — мощный взрывной темперамент, «бездну огня и чувства», как о нем писал Аксаков, молодой Мочалов сразу обратил на себя внимание публики, критики и театрального начальства. Очень скоро он вошел в репертуар театра и получал жалованье уже наравне, а то и больше актеров значительно старше его по возрасту. Критики в самых восторженных тонах отмечали почти каждую его работу в театре, не говоря уже о таких его ролях, как Гамлет, Чацкий, Отелло, Фердинанд («Коварство и любовь»). Естественно, все эти различия не могли не определять разности и в поведении артистов, в отношении их к профессии, коллегам, руководству театра. Кому все легко дается, нередко не ценит и результатов успеха, не дорожит Богом отпущенным талантом, не стремится постигать тайны профессии, доверяясь лишь интуиции, темпераменту. Потому, наверное, Мочалов в одном и том же спектакле мог быть скучен, вял, неинтересен и уже в следующее мгновение подняться до высот поистине трагедийного звучания роли, мог бездарно провалить спектакль и ошеломить публику таким накалом страстей, от которого содрогался зрительный зал, а критики расписывались в беспомощности воспроизвести хотя бы частицу испытанного в театре потрясения. Неумение распределять силы, быть хозяином своего темперамента — это на сцене, а в быту — слабоволие, неустроенность в личной жизни во многом стали причиной все более частых и продолжительных запоев артиста. Разумеется, это не могло не сказаться как на творчестве, так и взаимоотношениях с коллегами, на положении в театре. На увещевания старших, среди коих более других неуемным характером и настойчивыми наставлениями выделялся Михаил Семенович, молодой артист реагировал болезненно, порою как избалованный ребенок. Раздражало Мочалова в старшем коллеге по сцене и его стремление со всеми ладить, привычка угождать. По этому поводу он отпускал иногда в его адрес довольно едкие замечания, которые, конечно же, доходили до Щепкина, незаслуженно обижая его в совершенно искреннем желании добра молодому актеру. Естественно, все это не способствовало личному сближению великих артистов, что давало повод некоторым современникам, а с их слов и более поздним биографам говорить даже о внутренней неприязни коллег по сцене. Однако осталось немало свидетельств и иных отношений великих артистов, во всяком случае со стороны Щепкина. Достаточно вспомнить хотя бы один только спор Михаила Семеновича с Павлом Воиновичем Нащокиным (другом Пушкина, у которого чаще всего останавливался поэт, наведываясь в Москву) вокруг московских гастролей петербургской знаменитости Василия Андреевича Каратыгина и его игры в сравнении с Мочаловым. С какой горячностью, убежденностью вступался он за своего младшего коллегу, искренне желая видеть его триумф на сцене. «Разгорячившийся артист, — вспоминает один из свидетелей того спора, — продолжая ораторствовать, вскакивал с места, бегал по кабинету, наконец, торжественно, как неопровержимую истину, сказал: — У Мочалова — теплота, жар, искра божия! Понимаете: искра божия! Нащокин, полушутя, заметил: — Насчет искры — не спорю, согласен… Но согласитесь и вы, почтенный Михаил Семенович: ведь бывало и то, что когда у Мочалова искра эта или потухает, или скрывается под пеплом, тогда он играет пренесносно ту самую роль, в которой прежде был прекрасен! А Василий Андреевич всегда одинаков: как изучил роль, как исполнил ее в первое представление, так не отступает ни на шаг от выработанного типа. — Вот и выходит, что ваш Каратыгин — мундирный С.-Петербург: затянутый, застегнутый на все пуговицы и выступающий на сцену, как на парад, непременно с левой ноги: левой, правой, левой, правой… а ни за что не посмеет шагнуть правой, левой! Хи! хи! хи! — захихикал довольный таким сравнением расходившийся артист, обнимая Нащокина и самодовольно уверяя: — Так-то, голубчик Павел Воинович, не спорьте с нашим братом. Я ведь не отнимаю таланта у Каратыгина, в Мочалове — гений, а гения никаким трудом, никаким ученьем не добудешь. Это — дар божий!.. Вы, вероятно, случайно видели Мочалова в какой-нибудь неважной роли и не видели его в лучших ролях, когда он, как говорится у нас, был в ударе! Вот что я вам скажу, чтобы покончить спор: кто раз в жизни увидит истинно гениальную игру нашего трагика, тот уж никогда ее не забудет и простит ему все!» Но Щепкин не только спорил с теми, кто недооценивал талант Мочалова, а и немало делал для того, чтобы помочь ему полнее реализовать его «дар божий» и тем самым доказать преимущества утверждавшейся в русском театре школы «переживания». Особенно это важно было сделать в очном споре Мочалова и Каратыгина в спектакле «Мария Стюарт» по пьесе Ф. Шиллера, в котором они вместе должны были «явиться на сцену» — самые яркие выразители противоположных направлений в актерском искусстве. Поэтому со свойственными Щепкину энергией и жаром взялся он за подготовку московской знаменитости к этому спектаклю. «Какие старания прилагали мы, — вспоминал позднее М. П. Погодин, — чтоб подготовить, «наэлектризовать» Мочалова, толкуя и объясняя ему роль, возбуждая его самолюбие, охраняя от соблазнов, стараясь доказать, какое влияние может иметь на всю его службу игра его в этой пьесе вместе с Каратыгиным… Он все слушал, соглашался, обещал постараться. Щепкин в последние дни, кажется, и не оставлял его, ходя за ним, как нянька…» Однако все старания помочь Мочалову в его творческом споре с Каратыгиным не имели успеха, надежды на победу в том споре развеялись тотчас же, как только оба трагика оказались лицом к лицу. Каратыгин в роли Лейчестера, как всегда, покорял публику своей величественностью, строгой выверенностью каждого шага, жеста, звучания голоса. «Но вот должен выйти Монтимер, — продолжает Погодин, — сердце бьется у нас… Он выходит и начинает… Господи Боже мой, что мы услышали, что мы увидели! Какого-то автомата и чревовещателя: отвратительные звуки, отвратительные движения, замогильные завывания! Мы остолбенели в своей ложе… Дальше и дальше. — Хуже и хуже. Никогда не был Мочалов, кажется, так дурен и отвратителен». «Конечно, никто не ожидал, — сокрушался другой свидетель провала Мочалова в этом спектакле, — чтоб он мог так дурно сыграть Монтимера: роль, созданную для него; роль исступленного фанатика любви и веры. Жалко было смотреть на г. Мочалова! Напрасно призывал он, искал, силился возбудить свое одушевление… душа не откликалась на безвременный зов, и не будучи вовсе художником, он был ниже всякой жалкой посредственности». Щепкин понимал, каким талантом от природы одарен Мочалов, но в то же время видел, сколь неумело, нерасчетливо он им пользовался, не мог управлять собой, своими чувствами, эмоциями, губил себя и это, как неравнодушного человека, его волновало, беспокоило, побуждало к настойчивым наставлениям, предостережениям, что вызывало только раздражение его младшего коллеги, нежелание общаться. Остались свидетельства того, что вне стен театра он даже избегал встреч со Щепкиным. Да, не все в поступках Мочалова мог одобрять Щепкин, как, впрочем, и Мочалов в нем, но кто еще мог так оценить талант товарища по сцене! Кто мог так переживать его неудачи и радоваться успеху и, наконец, скорбеть, когда пришло роковое известие о его безвременной кончине и настало время провожать в последний путь великого артиста. «Когда гроб вынесли из церкви, — отчитывался «Пантеон» о церемонии похорон П. С. Мочалова, — его не дали поставить на дроги, а понесли на плечах до самой могилы. И страшно, и горько, и вместе отрадно было видеть это зрелище. Все рвались к гробу: его нес и тот, кто знал Мочалова лично, как человека, и друг его, и актер товарищ, и студент, и военный, и писатель, и чиновник, и купец, и мещанин, словом, вся Москва. Полотенца, на которых несли гроб, вырывали друг у друга, так велико было чувство признательности к великому таланту! Когда несли его мимо Университета, множество студентов вышли к нему навстречу. Трогательно было видеть это желание юных служителей науки отдать последнюю дань уважения отошедшему служителю искусства… Там приняли его на руки студенты и несли до самой могилы…» «Всех менее поражено его семейство, которое при отпевании его стояло, как совершенно постороннее — сообщал директору императорских театров А. М. Гедеонову инспектор репертуара театра известный композитор А. Н. Верстовский. — За все за то семейство надрывался слезьми Щепкин».Михаил Юрьевич Лермонтов — Александр Сергеевич Пушкин
Михаил Юрьевич Лермонтов и Михаил Семенович Щепкин подружиться не успели, хотя начало их личным взаимоотношениям было положено. Во всяком случае, из сохранившихся и скупых сведений мы знаем как минимум о двух встречах артиста и поэта. Одна из них состоялась в 1829 году, во время короткого пребывания Лермонтова в Москве, где он бывал всегда с большой охотой и куда стремился всем сердцем. Посетив спектакли Малого театра, а это были постановки по пьесам Дюканжа и Дино «Тридцать лет, или Жизнь игрока» и Шиллера «Разбойники», в которых блистали своим искусством Мочалов и Щепкин, Михаил Юрьевич после представления прошел за кулисы, чтобы выразить артистам свою признательность за полученное от их игры удовольствие. К сожалению, характер этих разговоров нигде не зафиксирован. Но то, что Лермонтов высоко оценил эти спектакли и актерские работы, видно по свидетельству — в одном из писем тетушке А. М. Шан-Гирей он писал: «Помните ли, милая тетенька, вы говорили, что наши актеры (московские) хуже петербургских. Как жалко, что вы не видели здесь Игрока, трагедию: Разбойники. Вы бы иначе думали». Это замечание поэта о московских спектаклях и актерах, хотя и лаконичное, но достаточно выразительное, тем более ценно, что это одно из немногих дошедших до нас его суждений о драматическом искусстве. Между первой зафиксированной современниками встречей Щепкина и Лермонтова и второй, также оставшейся в письменных свидетельствах, более десяти лет. Нечастые и кратковременные приезды Михаила Юрьевича в Москву, а затем и ранняя гибель поэта стали главным препятствием тому, что они не успели удовлетворить своих желаний в общении. И хотя А. И. Урусов в своих воспоминаниях говорит о сближении этих великих современников перед гибелью Лермонтова, других подтверждений этому не сохранилось. Есть две записи, связанные с одним событием — чествованием в доме М. П. Погодина Николая Васильевича Гоголя по случаю его именин и отъезда за границу. Брат декабриста Н. И. Тургенева Александр Иванович Тургенев, хранитель письменных памятников древности, записал в своем дневнике: «Там уже молодая Россия стекалась… Стол накрыт в саду: Лермонтов, кн. Вяземский, Баратынский, Свербеевы Хомяков, Самарин, актер Щепкин… Приехал и Чаадаев». Эту информацию дополняет и С. Т. Аксаков в своем рассказе о знакомстве с Гоголем: «Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из своей новой поэмы «Мцыри» и читал… прекрасно». Известно, что на этом вечере отрывки из произведений Гоголя читал и Щепкин. Эти скупые сведения не раскрывают нам характер отношений поэта и артиста, но так или иначе их жизненные орбиты пересекались и их связывал единый круг общения, союз единомышленников.Не многим более сохранилось свидетельств личных встреч Щепкина и Пушкина. Существует предположение исследователей об их возможном свидании в феврале 1821 года на Украине. Возвращаясь из Молдавии, Пушкин остановился в Киеве и провел там несколько дней. Как раз в это же самое время там проходили гастроли полтавского театра. Имя Щепкина и популярность самого театра не могли не привлечь внимания поэта, знатока и любителя драматического искусства. Некоторое время назад он начал писать статью «Мои замечания о русском театре», работу над которой прервала молдавская ссылка поэта. Известно также, что незадолго до предполагаемой встречи со Щепкиным Александр Сергеевич присутствовал на спектакле гастролировавшей в Кишиневе немецкой труппы и остался холоден к их искусству, ибо оно не трогало сердец зрителей. Пушкину был ближе театр, вызывающий сопереживание, основанный, как он писал, на «правдоподобии чувствований». Поэта глубоко волновала судьба отечественного драматического искусства, он был в числе тех, кто видел в театре светоч просветительства, демократизма. И все-таки не количество встреч определило отношения поэта и артиста, а их духовная близость, общность этических и эстетических позиций. Наибольшее сближение Щепкина и Пушкина произошло после возвращения поэта из Михайловской ссылки. Александр Сергеевич «заболел» театром. Уже была написана первая русская «реалистическая историческая трагедия» — «Борис Годунов» и совсем недолго оставалось ждать появления одной за другой «Маленьких трагедий»: «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы». Не оставляли его и мысли о теории драматического искусства, поэтому он с особым интересом присматривается к творчеству Щепкина, исповедовавшего принципы реалистического, психологического искусства, доступного народу. Пушкинский призыв: «Дух века требует важных перемен и на сцене драматической» был всецело созвучен душе артиста, отвечал его потребностям, выстраданным многими годами работы в театре, поисками новых путей его развития. Оба они были одержимы идеей правды на сцене и в литературе, приближения их к реальной правде жизни, оба отвергали искусственную напыщенность, вычурность в театральных представлениях. Вспомним иронические замечания поэта в его «Евгении Онегине», обращенные к протяжно воющей Мельпомене, «где машет мантией мишурной она над хладною толпой». Высоким взглядом на искусство, его назначение, общими интересами было вызвано сближение Пушкина, Гоголя, Щепкина. Этим была продиктована забота Александра Сергеевича о том, чтобы «Ревизор» не упал» в Москве, и та настойчивость, с какой он понуждал артиста взяться за перо и написать свои «Записки». О том, насколько высоко ценил Пушкин талант Щепкина, осознавал его значение для отечественного театра и культуры в целом, красноречиво свидетельствует тот факт, что он ставил его одним из первых в списке великих людей России, о которых должны знать потомки. Потому так и ратовал за жизнеописания, желательно составленные ими самими. «Замечательные люди исчезают у нас, — писал он с чувством сожаления и досады, — не оставив после себя следов». Он позаботился о том, чтобы Щепкин такие следы оставил, выведя своей рукой первые строки будущих его «Записок». Было это в мае 1836 года, всего за несколько месяцев до трагической гибели поэта. А произошло это памятное событие во время пребывания Щепкина на даче в Апухтине, где Михаил Семенович «нанимал» дом. Пушкин часто бывал в то время по соседству на даче в Соколове у своего давнего и верного друга Павла Воиновича Нащокина. Туда же частенько наведывался неизменно в своей широкополой шляпе, в сапогах, в свободной даже для его комплекции рубахе и с тяжелой палкой в руке Михаил Семенович. Случались их встречи и в Москве, как у Нащокина, где Александр Сергеевич обычно останавливался и где Щепкин «редкий день не бывал», так и у самого актера. По свидетельству его невестки Александры Владимировны, Пушкин «посетил несколько раз… дом Щепкина, чтобы видеться у него с Белинским, которого приглашали тогда принять работу для журнала, в издании которого участвовал Пушкин в Москве… В. Г. Белинский был очень близок с домом Щепкиных и часто бывал у них на даче. В таком окружении М. С., конечно, оживал и вносил и сам оживление в этот кружок своими рассказами…» Артиста и поэта сближала щедрость таланта. Известно, что чем богаче талант, тем охотнее он одаривает им других и тем больше заботится о поддержке талантов. Будто предчувствуя, что не так много времени ему отпущено судьбой, Пушкин торопился многое успеть сделать, сказать, написать. Горячо болея за будущее отечественной литературы и искусства, он не уставал искать единомышленников, всячески направлял и поддерживал продолжателей великих дел. Он обращается к Михаилу Семеновичу с просьбой о посредничестве в его переговорах с Белинским о сотрудничестве в «Современнике». Виссарион Григорьевич привлек внимание Пушкина уже первыми своими выступлениями в печати с критическими статьями и обзорами о современном состоянии литературы и театра. Он сразу угадал в «недоучившемся студенте» незаурядный талант, редкую проницательность суждений и уже вполне сформировавшиеся, зрелые эстетические взгляды, принципиальные позиции, которые он отстаивал со всей бескомпромиссностью, страстностью и прямотой. Несомненно, толчком к личному знакомству поэта и критика послужил отзыв Виссариона Григорьевича в «Молве» (1836, № 7). Белинский был польщен предложением Пушкина о литературном сотрудничестве в журнале, как и дошедшем до него «из верных источников» мнении о нем поэта. Позднее он напишет Гоголю: «Меня радуют доселе и всегда будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным»… Но почему переговоры с Белинским Александр Сергеевич доверил своим друзьям — Нащокину, Щепкину, Чаадаеву, а не вел сам лично? Своими острыми и смелыми публикациями критик уже давно вызывал раздражение у власть предержащих. Ну а после публикаций по настоянию Белинского «Философского письма» П. Я. Чаадаева в «Телескопе», когда журнал был запрещен, друзья критика всерьез опасались его ареста и «даже готовили ему спешный отъезд за границу». В этих условиях уже само по себе приглашение Пушкиным Белинского в свой журнал могло быть расценено как прямой вызов властям, и изданию вполне грозила тогда участь «Телескопа». Важно было вообще сохранить эти переговоры в тайне. Нащокин информировал Пушкина: «Теперь коли хочешь, он к твоим услугам — я его не видел — но его друзья, в том числе и Щепкин, говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать…» Правда, есть и другое свидетельство: Афанасьев в своих воспоминаниях пишет, что критик, поставленный перед необходимостью «подчинять свои воззрения в статьях тем мнениям, какие скажет ему сам Пушкин… Белинский, как ни худы были его финансовые средства в то время, не согласился на такое предложение». Ранняя гибель поэта не позволила оформиться возможностям творческого сотрудничества Пушкина и Белинского… Страшное известие совершенно потрясло Щепкина. Он никак не мог смириться с этой трагедией и в какой уже раз задавал с недоумением одни и те же вопросы: «Где же были лицейские друзья? Жуковский? Как допустили?» Пуля Дантеса оборвала блистательный творческий полет великого поэта и мыслителя, лишив мир, может быть, самых его гениальных произведений, которые он еще бы мог написать! Но она не могла положить конец его начинаниям. Белинский примет на себя бремя забот о пушкинском «Современнике», Гоголь вслед за «Ревизором», подсказанным Пушкиным, напишет «Мертвые души». Щепкин продолжит свои литературные опыты, будет и дальше читать Пушкина со сцены и в кругу друзей. Скоро он сыграет одну из своих лучших ролей — Барона в «Скупом рыцаре» и будет настойчиво и талантливо проводить в жизнь взгляды Пушкина на драматическое искусство, его эстетические принципы. Пушкинская формула — «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах» — была и кредо самого артиста на протяжении всей его биографии. Он утверждал ее каждый день и всю свою жизнь. Пушкин всегда будет жить в Щепкине, он будет продолжать сверять свои эстетические воззрения, свои театральные открытия с его заповедями и взглядами, ведь они в сущности творили одно общее дело. Историк А. Д. Галахов впоследствии напишет: «Значение Щепкина в истории нашего театра — несомненное и капитальное. В сценическом искусстве он совершил такую же реформу, какой наша поэзия одолжена Пушкину». Поразительно, но всего одного актерского щепкинского века хватило на то, чтобы создать свою русскую школу драматического искусства, отучив театр, весь актерский цех от младенчества и подражательности в манере игры, ориентированной на западные каноны. За это время возникла великая отечественная драматургия, связанная с именами Грибоедова, Пушкина, Тургенева, Гоголя, родилась своя критика в лице Белинского, Аксакова, Герцена, Погодина и своя, основанная на реалистических и демократических принципах, актерская школа. В первом ее ряду стоят — Яковлев, Сосницкий, Семенова, Мочалов, Щепкин. Вместе с ними пришли на сцену новые герои, каких там никогда не было доселе, на театральных подмостках разыгрывались спектакли на сюжеты из реальной российской жизни, близкие и понятные каждому зрителю, с узнаваемыми персонажами, переживания и заботы которых затрагивали самые тонкие струны человеческой души. Никогда прежде отношение к «маленькому» человеку, к его страданиям и волнениям на театре не удостаивались такого внимания, как в исполнении Щепкина, и тема чести, достоинства униженного обстоятельствами жизни простого человека не звучала столь страстно и проникновенно, столь искренно и убежденно. Театр на глазах одного поколения сменил свое амплуа, из незатейливой забавы для увеселения публики, демонстрации нарядов, когда в зрительном зале люди могли сновать туда и сюда, обмениваться новостями и сплетнями, он превратился в искусство, пробуждающее сознание, гражданские чувства, стал выполнять важную просветительскую миссию. Театр обрел новое лицо в общественной жизни, поэтому престиж и авторитет театра поднялись на качественно новую ступень. Изменилось положение актера, отношение общества к нему. Именно во времена Щепкина началось формирование того высокого взгляда на актерскую профессию, который стал особенно свойствен двадцатому веку. Актер становится кумиром, звездой, ему рукоплещут, подражают, ему можно доверить президентскую должность, назначить министром, избрать депутатом любого парламента. Вот она, великая сила настоящего искусства!..
В последний, самый дальний…
Почти с рождения, с самой что ни есть колыбели, лежала перед Щепкиным дорога, она влекла к себе юного путника, манила своей загадочностью и бесконечностью и каждый раз, когда он ступал на нее, вела все дальше и дальше и так до самого последнего часа… Короткая передышка — и снова в путь по просторам российских городов и сел. Начались эти странствия в Курской губернии, в селе Красном, «что на речке Пенке», а дальше Белгородчина и Харьков, Полтава и Киев, Орел и Тула и, наконец, Москва и Петербург. А оттуда путь вновь лежал в самые глубины Отечества, куда только мог долететь монотонный звон дорожного колокольчика. Как они были близки в этом обостренном чувстве дороги — Пушкин, Щепкин, Гоголь!.. «Мне бы дорога теперь да дорога, в дождь, слякоть, через леса, через степи, на край света!» — восклицал Николай Васильевич. Эта жажда дороги была желанна и поэту, и артисту. Но как быстро оборвалась она для двоих — слишком рано, стремительно, на недосягаемой высоте подъема! А вот и переживший их на десятилетия странник отправился, сам того не ведая, в свое заключительное путешествие: от 3-го Мещанского переулка, последнего своего московского пристанища, через Нижний Новгород, Казань, Царицын, Саратов, Ростов, Таганрог, где останавливался на один-два дня передохнуть с дороги, выступить в спектаклях местных театров, до курортной Ялты, чтобы там… остановиться навечно… С дороги Щепкин посылал своим близким и друзьям поклоны, жаловался, что «тяжело играть стало» и переносить дорожные неудобства, а тут еще холод, несмотря на подоспевшее лето, частые дожди, физическое недомогание. По записям eго слуги и друга Александра Григорьевича Алмазова, Михаил Семенович вначале «болезни никакой не ощущал», но «потерял аппетит с самого Ростова» и мучила тошнота. А больше всего тяготило щемящее чувство оторванности от близких. Свое последнее послание с дороги он закончил словами: «… грустно и грустно». Состояние дел в театральной провинции настроения не поднимало. В Ростове, где он много раз выступал раньше и знал самый радушный прием, впервые получил горькую пощечину. Зритель потерял к своему театру интерес и не пришел на «Горе от ума», даже не прельстившись звонким именем столичного гостя. Обиженный актер вместо спектакля отправился в дорогу. В Керчи, правда, все было иначе. Узнав о приезде Щепкина, актеры уговорили его сыграть в трех спектаклях, хотя сам он не собирался здесь выступать. Сыграл лишь в двух спектаклях — здоровье настолько ухудшилось, что Михаил Семенович боялся не доехать до Алешки. Там он надеялся поправить здоровье и с помощью графа Алексея Константиновича Толстого попасть на аудиенцию императрицы Марии Александровны, отдыхавшей в Ливадии, чтобы рассказать ей о трудностях театральной школы, о злоупотреблениях дирекции и нелегкой судьбе воспитанников, которых сначала «приучают к роскоши, а потом выпускают с ничтожным жалованием на все четыре стороны, прямо на погибель». Мысли старого артиста также были заняты неблагополучным тогда состоянием первого русского профессионального театра в Ярославле, созданного Ф. Г. Волковым и нуждающегося во внимании и заботе властей. Однако императрица не торопилась принять артиста. «Разумеется, все осталось в мечтах, — писала Александра Ивановна Шуберт, — до Ливадии его не допустили, так ему, голубчику, и не удалась его благородная миссия, и он одиноко скончался в Ялте на руках своего лакея». Это были, пожалуй, последние заботы великого артиста, которые он, не по своей вине, не смог реализовать. И все же успел он сделать все на этом свете. Михаилу Семеновичу, как писал уже его внук Михаил Александрович, «не осталось больше ничего совершать: он исполнил все, что мог, он не унес в могилу ни одной крупицы своего таланта, он отдал сцене все, чем наделила его природа и что прибавили упорный честный труд и горячая любовь к искусству». Михаил Семенович предчувствовал свой конец за много дней, и в последнее время эти мысли стали для него привычными. Александра Владимировна Щепкина запечатлела в своих записях один примечательный разговор. В один из теплых майских дней Михаил Семенович вместе с «милой старой трагедией» Марией Степановной Мочаловой-Франциевой, подкармливая на террасе в саду воробьев, вдруг неожиданно и как-то совсем просто обратился к ней со словами: «Помни, трагедия! Ты видишь эти развернувшиеся листья? Прежде чем они упадут на землю, меня уже не будет!» И в самом деле, листва того года опадет уже на его могилу. В свой предсмертный час, в половине двенадцатого ночи с 11 на 12 августа 1863 года, по свидетельству А. Г. Алмазова, мысли Щепкина были обращены к Гоголю, с кем он ближе всего ощущал свое духовное родство и к кому более других имел дружеское расположение. «За три дня до смерти сознание М. С. потеряно не было, — читаем мы в последней записи Алмазова. — Несколько времени могли отвечать на вопросы, а иногда и не могли… В это время М. С. вдруг подзывают меня и спрашивают: «Александр, а куда Гоголь ушел?» Я им говорю: «Какой Гоголь?» — «Николай Васильевич». — «Он давно уже помер». — «Как помер? Давно ли?» — «Давно». — «Ничего, ничего не помню». Это были его последние слова». Никто не предполагал, что эта поездка в Крым за здоровьем так печально оборвется. Артист умирал далеко от дома, родных и близких людей среди веселящейся, отдыхающей публики. В этом тоже был какой-то театр, театр абсурда. Некому было решить вопрос об отправке тела покойного в Москву, и оно было предано земле там же, в Ялте. Когда же слух о кончине великого артиста дошел до столицы, театральная общественность, родные, близкие, друзья настояли на том, чтобы прах был перевезен в Москву. И снова дорога — нескончаемая, неспешная возвратная дорога — к вечному покою. Горестная весть обгоняла траурную повозку. С непокрытыми, склоненными головами выходили навстречу ей люди, чтобы проводить любимого актера в последний путь. Среди них были и актеры, которые играли с ним на сцене, зрители, горячо аплодировавшие его мастерству. И так было на протяжении всего пути до самой Москвы. У Серпуховской заставы его встречали почти вся труппа Малого театра и многие почитатели таланта артиста. Отслужив панихиду 22 сентября 1863 года в церкви Филиппа Митрополита, гроб опустили в могилу на Пятницком кладбище рядом с захоронением Т. Н. Грановского. Едва до Лондона долетела скорбная весть, А. И. Герцен уже в октябрьском номере «Колокола» публикует свою статью, которая так и называется — «Михаил Семенович Щепкин». Она открывалась словами: «Пустеет Москва… и патриархальное лицо Щепкина исчезло… а оно было крепко вплетено во все воспоминания нашего московского круга…». Да только ли московского? На российском театральном небосклоне погасла самая яркая и неповторимая звезда, но свет ее идет до наших дней и освещает рождение все новых и новых звезд. По удивительному совпадению год смерти великого артиста стал годом рождения Константина Сергеевича Алексеева, а по мирской славе — Станиславского. Вот уж поистине даровита, неоскудевающа талантами земля русская! Смерть Щепкина будто призвала новый талант к жизни, чтобы развить и умножить его начинания и заповеди, чтобы дать новое дыхание отечественному театру. Но будем точны — не смерть, а жизнь Щепкина, вся его актерская, просветительская деятельность, весь опыт, открытия, работа на будущее театра — все это будет воспринято новым театральным поколением и поднято на новую высоту, наступит новая эпоха в жизни театра, где в свои истинные права вступит режиссер. Сам Станиславский считал Малый театр «тем рычагом, который управлял духовной и интеллектуальной стороной нашей жизни». Он развивает это положение: «Я могу смело сказать, что получил свое воспитание не в гимназии, а в Малом театре. Малый театр — мой университет… Не только дорогие воспоминания связывают нас с Малым театром, нас тесно сближают еще и общие основы нашего искусства, унаследованные от Щепкина и его великих союзников… Мы дух от духа и плоть от плоти Малого театра и гордимся этим». Малый театр проложил дорогу Московскому общедоступному Художественному театру. Прямым выражением этой преемственности, обретающей характер символа, может служить история экземпляра пьесы «Ревизор», подаренного автором артисту с посвящением: «Моему доброму и бесценному Михаилу Семеновичу Щепкину от Гоголя». После того как Щепкина не стало, этот редкий экземпляр пьесы перейдет сначала в руки последнего и самого молодого его ученика — Лентовского, а спустя несколько лет, а точнее, за два года до открытия Московского общедоступного Художественного театра он из рук в руки будет передан К. С. Станиславскому и дополнен еще одной лаконичной надписью: «Передаю достойнейшему». Вот она, живая связь времен, непрерывающаяся эстафета, которую несут великие мастера! И она никогда не прервется, если есть школа, ученики, которые воспринимают опыт учителей, обогащают его своими открытиями и достижениями и передают новообретенное своим ученикам. И так — по цепочке времени… Эта преемственность продолжается и находит порой самые неожиданные формы. Вот как однажды трактовал свое понимание преемственности актер Малого театра Александр Иванович Сумбатов-Южин. В начале прошлого века шел спектакль по пьесе В. Гюго, после его окончания к нему подошел писатель П. Д. Боборыкин со словами: — Прекрасно, но отчего вы боитесь большей свободы в декламации, большей игры в жесте? — Вы правы, да, боюсь, — отвечал Южин. — Чего же? Цензуры? — Нет, боюсь старика… — Какого старика? — А вот того, что висит у нас в фойе: всегда не спит и за всеми смотрит. Как бы он не замахнулся на меня своей палкой, если я отдамся без удержу французской напевности и жестам. Южин имел в виду, вспоминал свидетель этого диалога, портрет М. С. Щепкина работы И. Е. Репина, который и поныне не только украшает фойе Малого театра, но и напоминает новым поколениям артистов о заветах великого основателя реалистической школы актерского искусства в России.ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. С. ЩЕПКИНА
1788, 6 ноября — в Курской губернии Обоянского уезда в селе Красном, «что на речке Пенке», в семье крепостных Семена Григорьевича и Марии Тимофеевны Щепкиных родился сын Михаил. 1794 — едва минуло Мише Щепкину семь лет, как он выучил «всю премудрость», какой располагал его первый учитель: азбуку, часослов, псалтырь, научился бегло читать. 1795 — обучается у местного священника, поет в церковном хоре, едет в Белгород для продолжения учения. По пути в барском доме впервые видит театрализованное представление-оперу «Новое семейство» С. К. Вязмитинова, музыка Фрейлиха. 1795–1799 — обучается в Белгороде «у очень умного священника». 1799 — поступает во второй класс уездного Сунженского училища. 1800, февраль — первая роль Миши Щепкина — слуга Розмарин в комедии А. П. Сумарокова «Вздорщица», исполненной учащимися училища. 1801, март — поступает в третий класс Курского губернского училища. 1802 — знакомится с писателем И. Ф. Богдановичем, пользуется его библиотекой. В домашнем театре графа Волькенштейна участвует в спектаклях. Исполняет обязанности официанта в доме графа. 1803 — работает помощником землемера. 1804 — совмещает обязанности слуги в господском доме в Курске и суфлера в местном театре. 1805, ноябрь — первая роль в профессиональном театре — почтаря Андрея в пьесе Мерсье «Зоа», решившая его судьбу; поступает в труппу братьев Барсовых. 1806 — отец Щепкина Семен Григорьевич предпринимает первую безуспешную попытку выйти из крепостной зависимости. 1810, июль — впервые видит игру П. В. Мещерского, славящегося своим исполнением ролей. 1810, лето — знакомится со своей будущей женой Еленой Дмитриевной Дмитриевой. 1812, февраль — обручение молодых. 1814 — рождение дочери Феклы (Фанни). 1816, весна и начало лета — Курский театр закрыт, Щепкин «совершенно уничтожен: переехал в деревню, где с горя прочитал историю Ролланда в переводе Тредьяковского от доски до доски». 1816, июль — приглашение вступить в труппу содержателя харьковского театра И. Ф. Штейна. 1816, август — знакомство с труппой харьковского театра, начало работы. 1816 — родилась дочь Александра. 1817 — переход в полтавский театр. 1818, март — начало истории, связанной с освобождением Щепкина от крепостной зависимости. 1819 — И. П. Котляревский пишет специально для Щепкина оперы «Наталка-Полтавка» и «Москаль-Чаривник». 1820 — родился сын Дмитрий. 1821, ноябрь — князь Н. Г. Репнин подписывает отпускную Щепкину, Елене Дмитриевне и дочерям Фекле и Александре. 1821, декабрь — закрытие полтавского театра. 1822, февраль — последнее выступление в Киеве распавшейся полтавской труппы. 1822, март — по пути в Тулу играет в крепостном театре С. М. Каменского, знакомится с актрисой Кузьминой, потрясен жестоким обращением с крепостными артистами. 1822, март — заключает контракт с содержателем тульского театра И. Ф. Штейном. 1822, июль — труппа Штейна гастролирует в Ромнах на Ильинской ярмарке, где Щепкина видит чиновник из Конторы московских театров В. И. Головин. 1822, сентябрь — успешный дебют на московской сцене и зачисление в московскую труппу. 1822, декабрь — князь Н. Г. Репнин дает отпускную другим членам семейства Щепкиных. 1823, весна — переезд в Москву и начало работы в Московском Императорском театре. 1824, октябрь — открытие Малого театра. 1825, январь — открытие Большого театра. 1826, сентябрь — знакомство с С. Т. Аксаковым. 1828, январь — знакомство с М. П. Погодиным. 1828, март — рождение сына Александра. 1829, март — запись М. П. Погодина о знакомстве Щепкина с Пушкиным. 1829, октябрь — первый отзыв В. Г. Белинского о Щепкине: «Лучший комический актер здесь — Щепкин: это не человек, а дьявол: вот лучшая и справедливейшая похвала его». 1829, декабрь — умер отец Семен Григорьевич. 1830, январь — первое исполнение Щепкиным роли Фамусова всцене из первого действия комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 1830, июнь — «призанял денег» и купил себе дом «в Спасском переулке, на Садовой, недалеко от Цветного бульвара». 1830, декабрь — родилась дочь Вера. 1831, ноябрь — на сцене Малого театра впервые ставится «Горе от ума» в полном виде. 1832, октябрь — встреча и начало дружбы с Н. В. Гоголем. 1836, май — впервые в Малом театре идет «Ревизор». Щепкин в роли Сквозник-Дмухановского. 1839, декабрь — знакомство с А. И. Герценом. 1840, май — посещение М. Ю. Лермонтовым Малого театра. Встречи с Щепкиным, Мочаловым. 1841, декабрь — смерть дочери Александры. 1846, май — отъезд Щепкина и Белинского на юг «за здоровьем». 1848, март — умер П. С. Мочалов. 1848, июль — умер В. Г. Белинский. 1851, октябрь — Щепкин знакомит Н. В. Гоголя с И. С. Тургеневым. 1852, 15 января — умерла дочь Фекла. 1852, 21 февраля — умер Н. В. Гоголь. 1853, март — приезд в Спасское-Луговиново к ссыльному И. С. Тургеневу. 1853, август — поездка во Францию. 1853, август — встреча в Лондоне с А. И. Герценом. 1854, 20 января — умерла мать Щепкина Мария Тимофеевна. 1855, ноябрь — юбилей Щепкина: пятидесятилетие сценической деятельности. 1855, 28 ноября — первое исполнение роли Муромского в пьесе А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского». 1857, 12 декабря — умер сын Дмитрий. 1857, 24 декабря — приезд Щепкина в Нижний Новгород к опальному Т. Г. Шевченко. 1862, 30 января — первое исполнение роли Кузовкина в пьесе И. С. Тургенева «Нахлебник». 1863, 1 июня — последняя поездка в Крым. 1863, 11 августа — в 12 часов дня в Ялте скончался М. С. Щепкин. 1863, 23 сентября — похороны в Москве на Пятницком кладбище.КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Щепкин Михаил Семенович. Жизнь и творчество: В 2 т. — М., 1984. Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. — М., 1955–1956. Алперс Б. В. Актерское искусство в России. — М.; Д., 1945. Алперс Б. В. Театр Мочалова и Щепкина. — М., 1979. Бать Л. Г. Великое призвание. Повесть о русском актере М. С. Щепкине. — М., 1963. Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. — СПб., 1888–1910. Т. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12. Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. — М., 1954–1962. Т. 2, 8, 11, 15, 17, 22, 23, 26. Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. — М., 1937–1952. Гритц Т. С. М. С. Щепкин: Летопись жизни и творчества. — М., 1966. Дерман А. Московского Малого театра актер Щепкин. — М., 1951. Дурылин С. Н. Михаил Семенович Щепкин. — М., 1943. Земенков Б. С. М. С. Щепкин в Москве. — М., 1966. Ивашнев В. И. «Артист по призванию». — М., 1988. Ивашнев В. И. «Все, что было лучшего в мыслящей России…» — М., 1990. Кузьмин А. И. У истоков русского театра: Книга для учащихся. — М., 1984. Осынков Б. И. «Я родился в селе Красном…» — Воронеж, 1981. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 14 т. — М., 1937–1959. Т. 16. Тальников Д. Система Щепкина. — М.; Л., 1939. Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 28 т. — М.; Л., 1960–1963. Т. 1, 2, 3, 4. Федорова В. Ф. Русский театр XIX века. — М., 1983. Филиппов Вл. М. Щепкин и его роль в истории русского театра. — М., 1938. Шевченко Т. Г. Собр. соч.: В 5 т. — М., 1956.Иллюстрации
 М. Щепкин
М. Щепкин
 Курск. В этом городе начался творческий путь М. С. Щепкина. Гравюра первой половины XIX века.
Курск. В этом городе начался творческий путь М. С. Щепкина. Гравюра первой половины XIX века.
 Вид Полтавы в начале XIX века.
Вид Полтавы в начале XIX века.
 М. С. Щепкин. Портрет работы В. А. Тропинина Масло. 1820-е годы.
М. С. Щепкин. Портрет работы В. А. Тропинина Масло. 1820-е годы.
 Елена Дмитриевна Щепкина, жена М. С. Щепкина. Портрет работы В. А. Тропинина.
Елена Дмитриевна Щепкина, жена М. С. Щепкина. Портрет работы В. А. Тропинина.
 Н. Г. Репнин. Художник Д. Доу.
Н. Г. Репнин. Художник Д. Доу.
 А. А. Шаховской.
А. А. Шаховской.
 М. С. Щепкин в роли повара Суфле. Пьеса С крива и Мельвиля «Секретарь и повар».
М. С. Щепкин в роли повара Суфле. Пьеса С крива и Мельвиля «Секретарь и повар».
 М. С. Щепкин в роли Чупруна. Пьеса И. П. Котляревского «Москаль-Чаривник».
М. С. Щепкин в роли Чупруна. Пьеса И. П. Котляревского «Москаль-Чаривник».
 В той же роли. Рисунок В. А. Агина. 1840-е годы.
В той же роли. Рисунок В. А. Агина. 1840-е годы.
 Малый театр. Литография XIX века.
Малый театр. Литография XIX века.
 М. С. Щепкин. Акварель А. Добровольского 1839.
М. С. Щепкин. Акварель А. Добровольского 1839.
 А. С. Пушкин. Художник П. Ф. Соколов.
А. С. Пушкин. Художник П. Ф. Соколов.
 Н. В. Гоголь. Рисунок Э. А. Дмитриева-Мамонова. 1845.
Н. В. Гоголь. Рисунок Э. А. Дмитриева-Мамонова. 1845.
 А. И. Герцен. Рисунок В. И. Филипповича. 1842.
А. И. Герцен. Рисунок В. И. Филипповича. 1842.
 В. Г. Белинский. Гравюра Ф. Н. Иордана с рисунка К. Горбунова.
В. Г. Белинский. Гравюра Ф. Н. Иордана с рисунка К. Горбунова.
 Театральная площадь в Москве. Акварель. 1840-е годы.
Театральная площадь в Москве. Акварель. 1840-е годы.
 М. С. Щепкин с дочерью А. М. Щепкиной в пьесе «Матрос». Рисунок К. А. Даниенберга. 1838.
М. С. Щепкин с дочерью А. М. Щепкиной в пьесе «Матрос». Рисунок К. А. Даниенберга. 1838.
 Е. С. Семенова. Художник К. П. Брюллов.
Е. С. Семенова. Художник К. П. Брюллов.
 И. И. Сосницкий. 1820-е годы.
И. И. Сосницкий. 1820-е годы.
 «Воспоминания прекрасного дня». Гравюра из первого издания пьесы М. Н. Загоскина «Репетиция на станции, или Доброму служить — сердце лежит».
«Воспоминания прекрасного дня». Гравюра из первого издания пьесы М. Н. Загоскина «Репетиция на станции, или Доброму служить — сердце лежит».
 Дом М. С. Щепкина в Б. Спасском переулке. Москва.
Дом М. С. Щепкина в Б. Спасском переулке. Москва.
 М. С. Щепкин в роли Репейкина. Пьеса Д. И. Писарева «Хвастун». Литография Н. В. Баранова. 1826.
М. С. Щепкин в роли Репейкина. Пьеса Д. И. Писарева «Хвастун». Литография Н. В. Баранова. 1826.
 Т. Н. Грановский читает лекцию в Московском университете. Рисунок Н. М. Тихомирова. 1845.
Т. Н. Грановский читает лекцию в Московском университете. Рисунок Н. М. Тихомирова. 1845.
 Московский университет.
Московский университет.
 М. С. Щепкин. Автопортрет.
М. С. Щепкин. Автопортрет.
 В. А. Каратыгин в роли Гамлета.
В. А. Каратыгин в роли Гамлета.
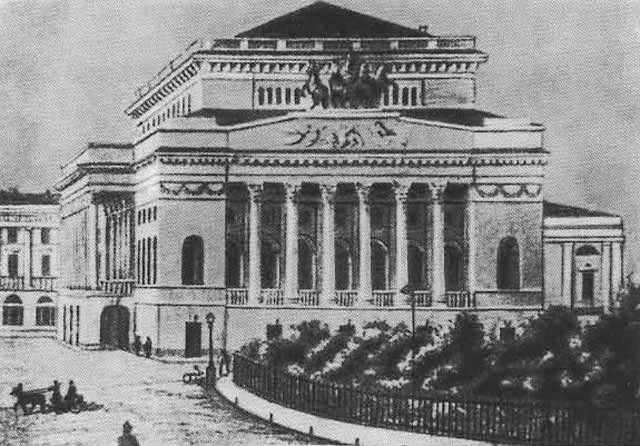 Александринский театр в Петербурге.
Александринский театр в Петербурге.
 «М. С. Щепкин везет на себе Малый театр». Карикатура неизвестного художника.
«М. С. Щепкин везет на себе Малый театр». Карикатура неизвестного художника.
 П. С. Мочалов в роли Мейнау. Пьеса А. Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние».
П. С. Мочалов в роли Мейнау. Пьеса А. Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние».
 Французская актриса Э. Рашель.
Французская актриса Э. Рашель.
 М. С. Щепкин. Художник Н. В. Неврев. 1862.
М. С. Щепкин. Художник Н. В. Неврев. 1862.
 М. С. Щепкин. Художник Т. Г. Шевченко.
М. С. Щепкин. Художник Т. Г. Шевченко.
 Театральная площадь в Москве. Литография 1820-х годов.
Театральная площадь в Москве. Литография 1820-х годов.
 Программа несостоявшегося в Большом театре 24 мая 1836 года спектакля «Ревизор».
Программа несостоявшегося в Большом театре 24 мая 1836 года спектакля «Ревизор».
 Немая сцена из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». Городничий — М. С. Щепкин.
Немая сцена из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». Городничий — М. С. Щепкин.
 Репетиция в Александринском теагре. Акварель П. А Каратыгина.
Репетиция в Александринском теагре. Акварель П. А Каратыгина.
 М. С. Щепкин. Рисунок неизвестного художника. 1850-е годы.
М. С. Щепкин. Рисунок неизвестного художника. 1850-е годы.
 Программа первого представления комедий Н. В. Гоголя «Женитьба» и «Игроки» в Москве.
Программа первого представления комедий Н. В. Гоголя «Женитьба» и «Игроки» в Москве.
 Шарж на скрипача К. И. Липинского, М. С. Щепкина и неизвестное лицо. Акварель Н. А. Степанова. 1838.
Шарж на скрипача К. И. Липинского, М. С. Щепкина и неизвестное лицо. Акварель Н. А. Степанова. 1838.
 М. С. Щепкин, И. В. Самарин и Г. С. Ольгин в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Фотография Панова. 1850-е годы.
М. С. Щепкин, И. В. Самарин и Г. С. Ольгин в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Фотография Панова. 1850-е годы.
 М. Д. Львова-Синецкая. Литография 1850 года.
М. Д. Львова-Синецкая. Литография 1850 года.
 Г. Н. Федотова. Фотография.
Г. Н. Федотова. Фотография.
 П. М. Садовский в роли Любима Торцова в пьесе А. Н. Островского «Бедность — не порок».
П. М. Садовский в роли Любима Торцова в пьесе А. Н. Островского «Бедность — не порок».
 Т. Г. Шевченко. Автопортрет.
Т. Г. Шевченко. Автопортрет.
 И. С. Тургенев.
И. С. Тургенев.
 «Флигель изгнанника» в Спасском-Лутовинове.
«Флигель изгнанника» в Спасском-Лутовинове.
 Ф. М. Достоевский.
Ф. М. Достоевский.
 А. Н. Островский.
А. Н. Островский.
 М. С. Щепкин у могилы Гоголя в Даниловском монастыре. Художник Голованов 1852.
М. С. Щепкин у могилы Гоголя в Даниловском монастыре. Художник Голованов 1852.
 Дом С. Т. Аксакова в Абрамцеве.
Дом С. Т. Аксакова в Абрамцеве.
 С. Т. Аксаков. 1856.
С. Т. Аксаков. 1856.
 Гоголевская аллея в Абрамцеве.
Гоголевская аллея в Абрамцеве.
 Дом С. Т. Аксакова в Левшинском переулке, где часто бывал М. С. Щепкин. Рисунок В. С. Аксакова. 1856.
Дом С. Т. Аксакова в Левшинском переулке, где часто бывал М. С. Щепкин. Рисунок В. С. Аксакова. 1856.
 М. С. Щепкин в роли Муромского. Пьеса А. В. Сухово-Кобылииа «Свадьба Кречинского».
М. С. Щепкин в роли Муромского. Пьеса А. В. Сухово-Кобылииа «Свадьба Кречинского».
 П. М. Садовский. Литография Вильгельма. 1850.
П. М. Садовский. Литография Вильгельма. 1850.
 М. С. Щепкин. Фотография. I860.
М. С. Щепкин. Фотография. I860.
 М. С. Щепкин. По моделям Н. А. Степанова.
М. С. Щепкин. По моделям Н. А. Степанова.
 Москва середины XIX века.
Москва середины XIX века.
 Памятник М. С. Щепкину во дворе Московского театрального училища его имени.
Памятник М. С. Щепкину во дворе Московского театрального училища его имени.
 Памятник М. С. Щепкину и Белгороде у Смоленского собора. Работа В. Клыкова, А. Шишкова, архитектор С. Михалев. 1986.
Памятник М. С. Щепкину и Белгороде у Смоленского собора. Работа В. Клыкова, А. Шишкова, архитектор С. Михалев. 1986.
 Памятник на могиле М. С. Щепкина на Пятницком кладбище в Москве.
Памятник на могиле М. С. Щепкина на Пятницком кладбище в Москве.
Последние комментарии
6 часов 47 минут назад
6 часов 50 минут назад
2 дней 13 часов назад
2 дней 17 часов назад
2 дней 19 часов назад
2 дней 20 часов назад