Избранное [Николай Петрович Майоров] (fb2) читать онлайн
- Избранное 8.51 Мб, 64с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Николай Петрович Майоров
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

Николай Майоров Избранное
Мы никогда не прочтём того, что Коля написал бы о войне, о нашей победе. Но он сказал своё честное и точное слово о том, что думали и чувствовали люди его поколения за день, за год до войны. О буре истории, ревевшей за окнами наших студенческих общежитий. И о том, как …были высоки, русоволосы те, кто шагнул навстречу буре. Победа начинается с решимости её добиться, с уверенности в правоте нашего дела. Об этой решимости, об этой правоте — всё, что написал Майоров.Борис Слуцкий
Его считало своим сверстником поколение 40-х годов. Сегодня он — наш товарищ. А потом будет ровесником наших детей… Ему на долю выпала молодость, которая бесконечна. Мальчишки и девчонки будут вновь и вновь читать его стихи, удивительно мускулистые и молодые, и будут учиться любить этот мир глубоко и беспредельно, ловить сердцем все его боли и радости — как это умел поэт. Николай Майоров будет учить молодых не только стихами, но и своей жизнью — короткой, но ёмкой, удивительно устремлённой к самому святому подвигу на земле — который называется коротко: пал, защищая Родину…Геннадий Серебряков
Николай Голубев «Когда б не бой…»
Что главное в этой биографии: поэтический дар или смерть за Родину? Первое можно оценивать, второе — однозначно. Николай Петрович Майоров ушёл на фронт осенью 1941 года, когда большинство его сокурсников по истфаку МГУ уезжало на археологические раскопки в спокойный Ашхабад. Чемодан со своими стихами Майоров оставил кому-то из московских товарищей — не сохранили. На передовую он прибыл в самом начале 1942-го, а 8 февраля рядовой пулемётной роты, двадцатидвухлетний поэт Николай Майоров был убит у деревни Баранцево Гжатского (Гагаринского) района Смоленской области. Свидетельств о том бое не осталось. Сражение шло за маленькую деревушку, где из жителей оставалась одна старуха. О стихах Николая Майорова после войны вспомнили не сразу. При жизни поэт почти не печатался, были лишь публикации в университетской многотиражке, да известность в кругу талантливых сверстников. Сергей Наровчатов позже вспоминал: «Мне запомнилось, как он читал стихи на встрече двух литкружков — университетского и гослитиздатовского. Николай представлял МГУ и был как бы центрфорвардом своего коллектива (употребляя футбольную терминологию). Мы — П. Коган, А. Яшин, М. Кульчицкий, Б. Слуцкий и я — знали о Майорове понаслышке, отдельные строки были нам знакомы, но общего впечатления ещё не было. И мы с ревнивой насторожённостью встретили его появление: мол, бахвалятся МГУвцы или впрямь заполучили хорошего поэта? И вот на середину комнаты вышел угловатый паренёк, обвёл нас деловито-сумрачным взглядом и, как гвоздями, вколотил в тишину три слова: „Что — значит — любить“. А затем на нас обрушился такой безостановочный императив — и грамматический, и душевный, — что мы, вполне привыкшие и к своим собственным императивам, чуть не растерялись». Описываемое знакомство состоялось, вероятно, до осени 1938 года — когда Майоров, не оставляя учёбы на истфаке, поступил в Литературный институт. До войны было написано и самое известное стихотворение поэта «о людях, что ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы». В рукописи было сравнение «и костыли, как знамя, пронесли». При издании первого посмертного сборника в 1962 году костыли пришлось заменить на мужество — тогда Майорова позиционировали прежде всего как «поэта-комсомольца», «поэта-воина», «поэта-фронтовика». Книга вышла стараниями П. Г. Антокольского, В. Н. Болховитинова, В. С. Жукова, И. В. Пташниковой. Молодой Майоров вольготно перебирал в стихах темы и образы — чего только у него не найдёшь: быт, история, биография, природа, любовь. Читатель может разглядеть, например, десятки женских типажей: институток и уличных кармен, дородных баб и недотрог-горожанок; особняком стоит условный образ возлюбленной поэта — своевольной, влекущей, не понимающей его. Это многообразие не от познания — от трудолюбия: Майоров с детства относился к творчеству как к серьёзному делу (сохранилось его письмо в Госиздат, написанное в тринадцать лет, с просьбой «дать несколько хороших тем»). Словно художник, набивающий руку, он делает десятки эскизов — с разных ракурсов, с разным освещением, на разной натуре и без неё. Жизненного опыта и впечатлений начинающему поэту, конечно, не хватало. Что видел Майоров? В детстве — деревню Павликово, где жил до десяти лет (Гусь-Хрустальный район Владимирской области). Отец-плотник, мама, четверо братьев. Когда один из них поступил в Ивановский текстильный институт — вся семья перебралась в город, где «прямо в небо свои рога метят фабричные трубы». Переезжали со своей избой. Иваново 1930-х, как и стихи Николая Майорова, было разномастным, растущим — контуры будущих зданий-великанов только начинали проглядывать, деревенские улочки лучами расходились от центра. Потому вполне соответствуют действительности юношеские стихи Майорова, где сюжет разворачивается от трамвайной остановки до калитки деревянного дома. У молодого поэта нет противопоставления индустриального и крестьянского — мир один, он весь «произрастает / Из первозданной матери — воды». В будущем не появляется контраста между столицей и провинцией; а промежуточный (ставший постоянным в творчестве) образ железнодорожного вокзала символизирует не начало новой жизни, а горестное расставание, мучительный сердечный выбор. …Сохранился снимок, на котором Майоров вместе со своими ближайшими школьными друзьями Николаем Шеберстовым и Константином Титовым. Первый впоследствии — успешный московский художник; второй, окончив Щукинское училище, стал ведущим актёром русского театра в Риге. Он и прислал сейчас эту фотокарточку. Николай Майоров (в центре) с друзьями Н. Шеберстовым и К. Титовым
Николай Майоров (в центре) с друзьями Н. Шеберстовым и К. Титовым
Предвоенное поколение — первое по-настоящему советское, рождённое в новой стране; оно многое обещало, искренне верило в себя. Поэт говорит в стихах от имени своих ровесников — студентов предвоенной Москвы. При этом у Майорова нет нарочитого пафоса, героизации. Его «мы» — это изначально он и она. Уже потом — лирическое единение близких друзей — романтиков, которые и «пиво пьют за мраморным столом», и «все уставы знают наизусть», и «даже смерти выше». В 1940-м появляется противопоставление «мы» / «они» — но у молодого поэта это опять же получается не плакатно, а скорее с удивлением, с непониманием: как европейцы могли так просто отдать фашистам свои столицы? …Сегодня исследователям доступны единичные майоровские рукописи, о двух поэмах известно лишь по коротким фрагментам. Многое потерялось во время войны, что-то неожиданно находилось и бесследно растворялось в последующие десятилетия — оставаясь лишь в перепечатках. Рукописи, как известно, живут своей жизнью. Эта книга объединяет стихотворения из трёх посмертных сборников, материалы из личных и государственных архивов, строки, которые в послевоенные десятилетия по памяти воспроизводили друзья поэта. Представлены и ранние, ещё школьные, ивановские, стихотворения. Поэтический почерк в них часто неровный, но, тем не менее, эти безусые строчки имеют не только мемориальную ценность — в них запечатлён калейдоскоп литературных увлечений Майорова (не типичный для поколения): Северянин, Блок, Бунин, Есенин, Хлебников, Пастернак. Кроме стихов, публикуются армейские письма Николая Майорова к сокурснице Ирине Пташниковой и её воспоминания о поэте (точные и объективные, при этом деликатно нежные). Долгое время оставалось неизвестным место захоронения Николая Майорова. Его удалось определить уже в 2010-е. Огромный мемориал в селе Карманово на Смоленщине объединяет десятки братских могил, тысячи имён. Над ними высится скульптура воина в развевающейся плащ-палатке, к губам прижата полковая труба. Поражающая иллюстрация к майоровским строкам:
Нам не дано спокойно сгнить в могиле —
лежим навытяжку и, приоткрыв гробы,
мы слышим гром предутренней пальбы,
призыв охрипшей полковой трубы
с больших дорог, которыми ходили.
<…>
…И пусть
не думают, что мёртвые не слышат,
когда о них потомки говорят.
 Л. Юдин. В деревне
Л. Юдин. В деревне
Стихотворения
«Мы любили жизнь, но больше жизни любили вас…»Надпись на братской могиле в селе Карманово, где похоронен Н. Майоров
«Я не знаю, у какой заставы…»
Я не знаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,
Не коснувшись опоздавшей славы,
Для которой песни я пою.
Ширь России, дали Украины,
Умирая, вспомню… и опять —
Женщину, которую у тына
Так и не посмел поцеловать.
Тебе
Тебе, конечно, вспомнится несмелый
и мешковатый юноша,
когда
ты надорвёшь конверт армейский белый
с «осьмушкой» похоронного листа…
Он был хороший парень и товарищ,
такой наивный, с родинкой у рта.
Но в нём тебе не нравилась
одна лишь
для женщины обидная черта:
он был поэт, хотя и малой силы,
но был,
любил
и за строкой спешил.
И как бы ты ни жгла
и ни любила, —
так, как стихи, тебя он не любил.
И в самый крайний миг перед атакой,
самим собою жертвуя, любя,
он за четыре строчки Пастернака
в полубреду, но мог отдать тебя!
Земля не обернётся мавзолеем…
Прости ему: бывают чудаки,
которые умрут, не пожалея,
за правоту прихлынувшей строки.
Творчество
Есть жажда творчества,
Уменье созидать,
На камень камень класть,
Вести леса строений.
Не спать ночей, по суткам голодать,
Вставать до звёзд и падать на колени.
Остаться нищим и глухим навек,
Идти с собой, с своей эпохой вровень
И воду пить из тех целебных рек,
К которым прикоснулся сам Бетховен.
Брать в руки гипс, склоняться на подрамник,
Весь мир вместить в дыхание одно,
Одним мазком весь этот лес и камни
Живыми положить на полотно.
Не дописав,
Оставить кисти сыну,
Так передать цвета своей земли,
Чтоб век спустя всё так же мяли глину
И лучшего придумать не смогли.[1]
На реке
Плыву вслепую. Многое не вижу,
А где-то есть конец всему и дно.
Плыву один. Всё ощутимей, ближе
Земля и небо, слитые в одно.
И только слышно, там, за поворотом
Торчащих свай, за криками людей,
Склонясь к воде с мостков дощатых, кто-то
Сухой ладонью гладит по воде.
И от запруд повадкой лебединой
Пройдёт волна, и слышно, как тогда
Обрушится серебряной лавиной
На камни пожелтевшая вода.
И хорошо, что берег так далёко.
Когда взгляну в ту сторону, едва
Его я вижу. Осторожно, боком
Туда проходит стаями плотва.
А зыбь воды приятна и легка мне…
Плотва проходит рукавом реки
И, обойдя сухой камыш и камни,
Идёт за мост, где курят рыбаки.
Я оглянусь, увижу только тело
Таким, как есть, прозрачным, наяву, —
То самое, которое хотело
Касаться женщин, падать на траву,
Тонуть в воде, лежать в песке у мола…
Но знаю я — настанет день, когда
Мне в первый раз покажется тяжёлой
Доныне невесомая вода.[2]
Детство
Я был влюблённым в лес и в воду,
В простую радость, в игры на дворе.
Курил табак. Крал тайно из комода
Отцовский карабин, хранимый в кобуре.
Друзья мои, — владельцы птичьих клеток,
Невинных снов, диковинных гвоздей, —
В часы нужды курили листья с веток,
Дрались у игрищ, крали голубей.
На всё был спрос, к любой покупке повод.
Превыше всех коллекций старины
Ценились карабин и книжка «Овод»,
Для них, казалось, не было цены.
Мир был предельно прост и ясен.
И за пригоршню пятаков
Мы покупали мыслимое счастье,
Закованное в тяжести подков.[3]
 Д. Цуп. Иваново после дождя
Д. Цуп. Иваново после дождя
Апрель
Ту улицу Московской называли.
Она была, пожалуй, не пряма,
Но как-то по-особому стояли
Её простые, крепкие дома,
И был там дом с узорчатым карнизом.
Купалась в стёклах окон бирюза.
Он был насквозь распахнут и пронизан
Лучами солнца, бьющими в глаза.
По вечерам — тягуче, неумело
Из-под шершавой выгнутой руки
Шарманка что-то жалостное пела —
И женщины бросали пятаки.
Так детство шло.
А рядом, на базаре,
Народ кричал. И фокусник слепой
Проглатывал ножи за раз по паре.
Вокруг — зеваки грудились толпой.
Весна плыла по вздыбившимся лужам.
Последний снег — темнее всяких саж —
Вдруг показался лишним и ненужным
И портившим весь уличный пейзаж.
Его сгребли. И дворники, в холстовых
Передниках, его свезли туда,
Где третий день неистово, со стоном
Ломала льдины полая вода.[4]
На родине
Там не ждут меня сегодня и не помнят.
Пьют чаи. Стареют. Свято чтут
Тесноту пропахших пылью комнат,
Где мои ровесники растут,
Где, почти плечом дверей касаясь,
Рослые заходят мужики
И на стол клеёнчатый бросают
Красные, в прожилках, кулаки.
В дымных, словно баня, плошках
Мать им щи с наваром подаёт.
Мухи бьют с налёта об окошко.
Кочет песни ранние поёт.
Только в полдень отлетевшим залпом,
Клочьями оборванного сна,
Будто снег на голову, внезапно
Падает на окна тишина.
Пахнут руки лёгкою ромашкой.
Спишь в траве и слышишь: от руки
Выползают стайкой на рубашку
С крохотными лапками жуки.
Мир встаёт такой неторопливый,
Весь в цветах, глубокий, как вода.
Даже слышно вечером, как в нивы
Первая срывается звезда.
Людям не приснится душный город,
Крик базара, ржанье лошадей,
Ровное теченье разговора…
Люди спят. Распахнут резко ворот.
Мерное дыхание грудей.
Спят они, раскинув руки-плети,
Как колосья без зерна, легки.
Густо лиловеют на рассвете
Вскинутые кверху кадыки.
Видят сны до самого рассвета
И по снам гадают —
Так верней —
Много ль предстоящим летом
Благодатных выпадет дождей?
Я запомнил жёлтый подоконник,
Рад тому, что видеть привелось,
Как старик, изверившись в иконе,
Полщепотки соли на ладони
Медленно и бережно пронёс.
Будет дождь: роняют птицы перья
Из пустой, далёкой синевы.
Он войдёт в косые ваши двери
Запахом немолкнущей травы,
Полноводьем, отдыхом в работе,
С каждым часом громче и свежей.
Вы его узнаете в полёте
Небо отвергающих стрижей,
В бликах молний и в гуденье стёкол,
В цвете неба, в сухости ракит,
Даже в том, как торопливо сокол
Мимо ваших окон пролетит.
Солнце
Ходят, стонут половицы.
И опять от косяка
Тянет мне испить водицы
Чья-то белая рука.
Я стучал в окно, не чая,
Что оттуда,
полоня,
В белом теле отсвечая,
Хлынет солнце на меня.
Август
Ты для меня и музыка, и сон,
Последний снег, осенняя прохлада,
И всплеск последний града,
И ночь, что подступает под балкон
Великолепьем августовским сада.
Я весь в тебе. Давай поговорим,
Пока мы здесь вдвоём, неотделимы.
Как дышим мы дыханием одним
И не живём, а медленно горим
И даже уловляем запах дыма.
Так навсегда меж нами повелось:
Считать обидой лёгкое участье,
Над чувствами не ставить выше власти,
С ума сходить от бронзовых волос
И шёпотом рассказывать о счастье.
Будь для меня постылою простудой,
Будь горною тропою до небес.
Я не спрошу, — зачем ты и откуда?
Будь для меня одним великим чудом
Из тех семи прославленных чудес!
Будь для меня и небом и землёй,
Пошли на смерть, корми тяжёлым хлебом!
Я всем плачу тебе: собой,
Словами лучшими и славой ветровой,
За эти руки, пахнущие небом![5]
«Я был её. Она ещё всё помнит…»
Я был её. Она ещё всё помнит
И скрип двери, и поворот ключа,
Как на руках носил её вдоль комнат,
Стихи про что-то злое бормоча.
Как ни хитри,
Она ещё не смела
Забыть тот шёпот,
Неземную блажь,
И как бы зло она ни поглядела,
Ты за неё не раз ещё отдашь
И сон, и музыку,
И книги с полок,
И даже верность будущей жены.
Она твоя, пока ещё ты молод
И нет в твоём уюте тишины.
«Ты мне о том не говори…»
Ты мне о том не говори —
Я это слышал, слышал, слышал…
Ты лучше встань да отвори
Окно,
Ты слышишь, как по крышам
Ползут лавинами дожди…
Зов жизни
Был долог бабий блуд на сеновале.
Пока чернело небо без стрижей, —
ворочались, потели, целовали
в тупые переносицы мужей.
А мужики лежали как пласты, —
дневная ноша плечи им растёрла.
Тяжёлые нательные кресты,
как тараканы, выбились на горло.
Сквозь крышу шёл густой полынный запах,
и прежде чем отдаться вдоволь сну,
не торопясь, кузнец в тяжёлых лапах
сжимал и тешил глупую жену.
Так мнёт горшечник розовую глину,
склонясь над ней, как древний ворожей.
Так парни тащат за полночь к овину
бесстыжих хуторянок от мужей.
…Дорога шла вразвалку от села
за рожь, в кусты, в душистые осины.
Там девка парня статного вела,
в глаза глядела, за виски брала
и рассказать о звёздах не просила.
А ночь кружила их заросшей сечей,
глухим оврагом, спутанной травой —
в такую ночь нельзя было не лечь им
вблизи берёзы старой и кривой.
А что услышишь в тишь такую:
то ли влага бьёт в суку?
То ль тетерева токуют
в ночь такую на току?..[6]
Рембрандт
В таверне дым, в кармане ни флорина.
Рембрандт ногтями стукает о стол,
Любуясь переливами графина,
Косым лучом, упавшим на подол
Красотки местной. Пиво на исходе.
Матросы просят рома, ну, а ром
Теперь у бургомистров только в моде,
А моряки привыкли пить ведром.
Они сидят, нахохлившись, сутулясь,
В своём углу и вспоминают вслух
Вакханок с амстердамских улиц,
Пустых жеманниц, безыскусных шлюх.
А старый штурман, отойдя к окошку,
Едва держась, как будто невзначай,
Красотке, несшей на подносе чай,
Жмёт с вожделеньем пухленькую ножку.
Глухой маньяк, желающий не меньше,
Чем этот штурман, в давке, на лету
За полфлорина амстердамских женщин
Ловить, как птиц, порхающих в порту,
Глядит, трезвея, зло на моряка…
Меж тем Рембрандт, взобравшись на подмостки,
Двумя-тремя штрихами с маньяка
Сухим огрызком делает наброски.
Потом идёт. Теперь проспаться где бы?
Уснув, как грузчик, видит на заре
Матросами заплёванное небо
И слышит грусть шарманки во дворе.
 Д. Цуп. Интерьер
Д. Цуп. Интерьер
«Всё к лучшему. Когда прошла гроза…»
Всё к лучшему. Когда прошла гроза,
Когда я в сотый раз тебе покаюсь,
Мне не страшны ни плечи, ни глаза,
Я даже губ твоих не опасаюсь.
Начнёшь злословить? Пригрозишь отравой?
Про нашу быль расскажешь людям ложь?
Иль пронесёшь за мной худую славу
И подлецом последним назовёшь?
Мне кажется, что не пройдёт и года,
Как в сумерки придёшь ко мне опять
Зачем-то долго медлить у комода
И пепельницей в зеркало бросать.
Почто даётся буйство милым людям?
Когда пройдёт оно и, наконец,
Мы всё поймём и больше бить не будем
Ни пепельниц, ни стёкол, ни сердец?
Как я любил
Как я любил, о том расскажут после.
Но ведь искусство жить совсем не в том,
Чтоб ловко, мать, уметь казаться взрослым
И женщину любить с красивым ртом.
Всё это было и давно минуло.
Любовь коверкала, ломала, жгла
И — кончилось. И наша Мариула
С бродячими цыганами ушла.
Нам песни петь, а ей сквозь снег и слякоть
Водить медведя на цепи, навзрыд
Кричать в лицо прохожим, но не плакать,
Мир и от слёз не вздрогнет, устоит.
Монолог старого актёра
Я представлял Отелло в провинциальном театре,
И местные жители, которым было всё в диковинку,
Вплоть до жёлтой рампы, сходили с ума
от моей игры.
Возможно, это было искренно.
Но мне больше нравился
Бюст той женщины, которая
от имени местных театралов
Принесла мне на сцену цветы.
Я уже тогда знал, что умею нравиться
полным женщинам,
И вёл себя вызывающе, а женщины любят грубость.
Жизнь всегда опасна, и особенно
для людей с темпераментом.
В лучшие годы моей славы, когда меня
Уже приглашали в одну столичную труппу,
Я влюбился в актрису, которая играла Эмилию,
Верную служанку Дездемоны.
Из-за неё я отказался от приглашения
в столичную труппу,
И шёл, кажется, сотый спектакль,
Когда проклятый мавр, оставив Дездемону,
Погнался за Эмилией,
и пальцы его крепкой руки
Легли на горло неверной жены Яго.
Здесь зрители вмешались в пьесу
И унесли Эмилию мою… Она жива ещё,
Лишь горло чуть помято да
Голос хриплый выдаёт её.
После этого я не видел больше сцены,
И моими новыми зрителями,
Правда, не всегда внимательными,
Стали мои сотоварищи
по больнице душевнобольных.
Да простит мне старик Шекспир,
Что я нарушил действие великой
Правдивейшей трагедии земли!
 Б. Лукин. Улица
Б. Лукин. Улица
Отелло
Пусть люди думают, что я трамвая жду,
В конце концов, кому какое дело,
Что девушка сидит в шестом ряду
И равнодушно слушает «Отелло».
От жёлтой рампы люди сатанеют.
Кто может девушке напомнить там,
Что целый год ищу её, за нею,
Как этот мавр, гоняясь по пятам.
Когда актёры позабыли роли
И — нет игры, осталась лишь душа,
Партер затих, закрыл глаза от боли
И оставался дальше, не дыша.
Как передать то содроганье зала,
Когда не вскрикнуть было бы нельзя.
Одна она с достоинством зевала,
Глазами вверх на занавес скользя.
Ей не понять Шекспира и меня!
Вот крылья смерть над сценой распростёрла.
И, Кассио с дороги устраня,
Кровавый мавр берёт жену за горло.
Сейчас в железы закуют его,
Простится он со славой генерала,
А девушка глядела на него
И ничего в игре не понимала.
Когда ж конец трагедии? Я снова
К дверям театра ждать её иду.
И там стою до полчаса второго.
А люди думают, что я трамвая жду.
«Я лирикой пропах, как табаком…»
Я лирикой пропах, как табаком,
и знаю — до последнего дыханья
просить её я буду под окном,
как нищий просит подаянья.
Мне надо б только: сумрак капал,
и у рассвета на краю
ночь, словно зверь большой,
на лапы
бросала голову свою…
Эпитафия
Прохожий,
У ног твоих могила неизвестного поэта,
К концу жизни он был в долгах,
Как в веснушках.
Его сосед — неутомимый весельчак,
Был почти что единственным читателем
его прекрасных стихов.
В них было много девушек и женщин, и от них,
страдающих подагрой,
Шёл винный запах.
Многие усмотрели в этом
Пример безнравственности и давно всем надоевшей
богемы.
Какой-то местный журналист, уважающий
Из поэтов одного лишь Клопштока,
Написал о них негодную статейку.
Отсюда всё пошло:
Поэта осмеяли, и нередко,
Когда он проходил у светлых окон,
Ему на голову падали помои и безобидная
Цыплячья кожа апельсинов.
Но он продолжал жить...
Он знал женщин,
Увидев которых,
Мужчины в волнении роняли из рук трости.
На женщин ушла вся сила, молодость и деньги.
Умер он, подымаясь по лестнице на свой
четвёртый этаж, —
Любил высоту старина и никогда не пользовался лифтом,
Хотел, чтоб смерть его застала у высот.
Что значит любить
Идти сквозь вьюгу напролом.
Ползти ползком. Бежать вслепую.
Идти и падать. Бить челом.
И всё ж любить её — такую!
Забыть про дом и сон,
Про то, что
Твоим обидам нет числа,
Что мимо утренняя почта
Чужое счастье пронесла.
Забыть последние потери,
Вокзальный свет,
Её «прости»
И кое-как до старой двери,
Почти не помня, добрести,
Войти, как новых драм зачатье.
Нащупать стены, холод плит…
Швырнуть пальто на выключатель,
Забыв, где вешалка висит.
И свет включить. И сдвинуть полог
Крамольной тьмы. Потом опять
Достать конверты с дальних полок,
По строчкам письма разбирать.
Искать слова, сверяя числа,
Не помнить снов. Хотя б крича,
Любой ценой дойти до смысла.
Понять и сызнова начать.
Не спать ночей, гнать тишину из комнат,
Сдвигать столы, последний взять редут,
И женщин тех, которые не помнят,
Обратно звать и знать, что не придут.
Не спать ночей, не досчитаться писем,
Не чтить посулов, доводов, похвал
И видеть те неснившиеся выси,
Которых прежде глаз не достигал, —
Найти вещей извечные основы,
Вдруг вспомнить жизнь.
В лицо узнать её.
Прийти к тебе и, не сказав ни слова,
Уйти, забыть и возвратиться снова.
Моя любовь — могущество моё!
На востоке
Здесь всё пропахло выцветшим и древним,
Нагоняло смертную тоску…
Тощие монгольские деревни
Тесно жались
к красному песку.
Взгляд в древность
Там — гул и мрак, обломки мифа,
Но ветер сказку окрылил:
Кровавыми руками скифа
Хватали зори край земли.
Скакали взмыленные кони,
Ордой сменялася орда —
И в этой бешеной погоне
Боялись отставать года.
И чудилось — в палящем зное
Коней и тел под солнцем медь
Не уставали под землёю
В века событьями греметь.
Менялось всё: язык, эпоха,
Колчан, кольчуга и копьё,
И степь травой-чертополохом
Позарастала до краёв.
…Остались тухлые курганы,
В которых спят богатыри,
Да дней седые караваны
В холодных отблесках зари.
Ветра шумят в высоких травах,
И низко клонится ковыль,
Когда про удаль Святослава
Ручей журчит степную быль.
Выходят витязи в шеломах,
Скликая воинов в набег…
И долго в княжеских хоромах
С дружиной празднует Олег.
А в полночь скифские курганы
Вздымают в тень седую грудь,
Им снится, будто караваны
С востока держат дальний путь.
Им снятся смелые набеги,
Стенанья, смерть, победный рёв,
Что где-то рядом печенеги
Справляют тризны у костров.
…Там гул и мрак, обломки мифа,
Простор бескрайний, ковыли…
Глухой и мёртвой хваткой скифа
Хватали зори край земли.[7]
«Как жил, кого любил, кому руки не подал…»
Как жил, кого любил, кому руки не подал,
С кем дружбу вёл и должен был кому —
Узнают всё,
Раскроют все комоды,
Разложат дни твои по одному.
 М. Соколов. Ландыши
М. Соколов. Ландыши
Весеннее
Я шёл, весёлый и нескладный,
Почти влюблённый, и никто
Мне не сказал в дверях парадных,
Что не застёгнуто пальто.
Несло весной и чем-то тёплым,
А от слободки, по низам,
Шёл первый дождь,
Он бился в стёкла,
Гремел в ушах,
Слепил глаза,
Летел,
Был слеп наполовину,
Почти прямой. И вместе с ним
Вступала боль сквозная в спину
Недомоганием сплошным.
В тот день ещё цветов не знали,
И лишь потом на всех углах
Вразбивку бабы торговали,
Сбывая радость второпях.
Ту радость трогали и мяли,
Просили взять,
Вдыхали в нос,
На грудь прикалывали,
Брали
Поштучно,
Оптом
И вразнос.
Её вносили к нам в квартиру,
Как лампу, ставили на стол,
Лишь я один, должно быть, в мире
Спокойно рядом с ней прошёл.
Я был высок, как это небо,
Меня не трогали цветы.
Я думал о бульварах, где бы
Мне встретилась случайно ты,
С которой я лишь понаслышке,
По первой памяти знаком —
Дорогой, тронутой снежком,
Носил твои из школы книжки.
Откликнись, что ли!
Только ветер
Да дождь, идущий по прямой…
А надо вспомнить —
Мы лишь дети,
Которых снова ждут домой,
Где чай остыл,
Черствеет булка…
Так снова жизнь приходит к нам
Последней партой,
Переулком,
Где мы стояли по часам…
Так я иду, прямой, просторный,
А где-то сзади, невпопад,
Проходит детство, и валторны
Словами песни говорят.
Мир только в детстве первозданен,
Когда, себя не видя в нём,
Мы бредим морем, поездами,
Раскрытым настежь в сад окном,
Чужою радостью, досадой,
Зелёным льдом балтийских скал
И чьим-то слишком белым садом,
Где ливень яблоки сбивал.
Пусть неуютно в нём, неладно,
Нам снова хочется домой,
В тот мир простой, как лист тетрадный,
Где я прошёл, большой, нескладный
И удивительно прямой.
 Д. Цуп. Городская улица
Д. Цуп. Городская улица
Стремление
Мы расходились и опять встречались,
писали письма, слали адреса.
Над нами звёзды робкие качались
и месяц рыжий с неба нависал.
Гремели поезда на перегонах,
ключи разлук глубоко затая,
и, не сойдясь, мы в крашеных вагонах
вновь разъезжались в разные края.
И всё ж, метаясь, злобствуя, кочуя
по гулким незнакомым городам,
в конце концов, стремлюсь я
и хочу я
причалить к тем же сбитым берегам.
Пусть в этом городе мне всё знакомо,
но разве не приятно мне опять
за каждым поворотом, каждым домом
знакомый мир, как в детстве, узнавать…
«Я сегодня пою по-иному…»
<…>
Я живу в небольшом городишке —
В нём проспектов нигде не найдёшь.
Часто мне — озорному мальчишке
Снится спелая нежная рожь.
А ещё стала чаще сниться
Мне под утро болотная гать, —
Город яркого, нежного ситца
Мог бы я на неё променять.[8]
Утро
Я иду. Берёзы мимо
Вдоль по берегу бегут,
В облаках седого дыма
Чуть заглядывая в пруд.
За прудом упало прясло,
Ветер пьёт из трав росу,
И рябина в кофте красной
Улыбается овсу.
Август
Я полюбил весомые слова,
Просторный август, бабочку на раме
И сон в саду, где падает трава
К моим ногам неровными рядами.
Лежать в траве, желтеющей у вишен,
У низких яблонь, — где-то у воды,
Смотреть в листву прозрачную
И слышать,
Как рядом глухо падают плоды.
Не потому ль, что тени не хватало,
Казалась мне вселенная мала?
Движения замедленны и вялы,
Во рту иссохло. Губы как зола.
Куда девать сгорающее тело?
Ближайший омут светел и глубок —
Пока трава на солнце не сгорела,
Войти в него всем телом до предела
И ощутить подошвами песок!
И в первый раз почувствовать так близко
Прохладное спасительное дно —
Вот так, храня стремление одно,
Вползают в землю щупальцами корни,
Питая щедро алчные плоды
(А жизнь идёт!), — всё глубже и упорней
Стремление пробиться до воды,
До тех границ соседнего оврага,
Где в изобилье, с запахами вин,
Как древний сок, живительная влага
Ключами бьёт из почвенных глубин.
Полдневный зной под яблонями тает
На сизых листьях тёплой лебеды.
И слышу я, как мир произрастает
Из первозданной матери — воды.
«Ты пишешь мне в письме, дружище…»
Ты пишешь мне в письме, дружище,
что сад стал гол и нелюдим,
что ветры северные рыщут
и громко буйствуют над ним.
И туча дымом нависает,
дожди свой сказ к концу ведут.
Берёзка под окном косая
сгибает голову к пруду.
И ей бы вместе с листопадом
хотелось к косогору лечь.
А ночью встретиться за садом
и клён обнять у самых плеч.
Но нет: ветра упрямо клонят
её к холодному пруду,
а так не хочется в прогоне
стоять у всех ей на виду!
И скоро инеем затянет
у берегов блестящий лёд.
Ей станет холодно. Устанет —
и на колени упадёт.
В августе
Берег цвёл репейником и илом.
За репей цеплялась лебеда,
И как будто намертво застыла
В чёрно-синей заводи вода.
Бочаги пугали глубиною,
Синей топью угрожала зыбь.
Бурлаками с звонкой бечевою
Шли отлогим берегом вязы.
А навстречу — выжженные дали
В неумолчном грохоте войны…
Серебром рассыпанным упали
Бубенцы серебряной луны.
Дымом потянуло из ложбины,
Ветер дол тревожил горячо.
Кисти окровавленной рябины
Тяжело свисали на плечо.[10]
 Д. Цуп. Интерьер. У окна
Д. Цуп. Интерьер. У окна
«Никто не спросит, не скостит…»
Никто не спросит, не скостит,
Не упрекнёт обидным словом,
Что стол мой пятнами изрыт,
Как щёки мальчика рябого.
Я спал на нём. Кому-то верил.
И писем ждал. Знать, потому,
Захлопнув поплотнее двери,
Я стал завидовать ему.
Живу с опаской. Снов не знаю.
Считаю даты. Жду весны.
А в окна, будто явь сквозная,
Летят, не задевая, сны.
Проходят дни, и всё короче,
Всё явственней и глуше мне
Поёт мой стол, и чертят ночи
Рисунок странный на стекле.
И в тонких линиях ваянья,
Что ночь выводит по стеклу,
Так много слёз и обаянья,
Пристрастья вечного к теплу, —
Что я теряюсь и немею.
Я нем почти. Почти в снегу.
Сказать хочу — и не умею,
Хочу запеть — и не могу.
Комната
Вот она. Возьми её в ладони
и согрей. Потом — одушеви.
Путано. Тревожно. Как в вагоне,
до ногтей прокуренном, — живи.
Так живи,
чтоб каждый день твой выжил
из дремотной комнатной пыльцы,
чтобы где-то этажом лишь ниже
про тебя злословили жильцы:
тёти в кофтах. Пожилые дяди.
Так живи, чтоб плакать привелось
ради дружбы с песнею и ради
чьей-то пряди спутанных волос.
Ночь пройдёт. Она заденет краем
абажур. А ты останься нем.
Тени гибнут. Горбятся. Играют.
Тени умирают на стене.
Мой отъезд
Мы рано вышли на вокзал. Хотелось плакать.
Я уезжал всего с единым свёртком
В вагоне, от которого несло кочевьем,
Чужою жизнью, спальней и ещё
Таким, чего не мог бы я понять,
Когда б не заспанные лица пассажиров,
Которые глядели из окна.
Шёл снег. Он был так ласков и пушист.
Так мягко падал к девушке на веки,
Что даже слёзы были ни к чему.
Я посмотрел в глаза её. Ну что же,
Ещё остались письма, от которых
Мог покраснеть бы даже почтальон,
Привыкший, заслепя глаза, на память
Импровизировать несложный лепет писем,
В которых мы (нам это показалось)
О счастье некрасиво говорили.
Вот и звонок. Весёлый проводник
Вздохнёт — ему ведь так хотелось
Хотя бы раз сойтиза пассажира.
Ну, вот и всё. Её глаза просили
Остаться и уйти с вокзала в вечер,
В те дальние немые переулки,
Где люди не могли заметить слёз,
Дрожанья рук и сбивчивых ответов,
Которыми я выразил любовь.
И что сказать? Я вспомнил жизнь, в которой
Так мало было настоящих дней.
Пойми меня, — с тобой я понял счастье,
Не то, что в книгах вычитали мы
И о котором в детстве нам твердили.
Я понял жизнь.
Она всегда жестока,
Как пытка непомерная, страшна,
Но это — жизнь. Войду в вагон и людям
О счастье быть влюблённым расскажу.
 Д. Цуп. На железнодорожных путях
Д. Цуп. На железнодорожных путях
«На третьей полке сны запрещены…»
На третьей полке сны запрещены.
Худой, небритый, дюже злой от хмеля,
Спал Емельян вблизи чужой жены
В сырую ночь под первое апреля.
Ему приснилась девка у столба,
В веснушках нос, густые бабьи косы.
Вагон дрожал, как старая изба,
Поставленная кем-то на колёса.[11]
Рассказы, которые могут быть приняты за стихи
1
У него, как у глобуса, одна нога,
И женщины, которые встречают его,
Напоминают ему об этом глазами, —
Ни одна из них не хочет принадлежать ему,
Спать с ним в одной постели
И греть ему единственную ногу.
Это получается так потому,
Что рядом ходят
Весёлые штабные мальчики,
У них томные глаза,
А усы напоминают
Вскинутые в небо оглобли
Брошенной каким-то незадачливым беженцем телеги.
У них руки и ноги на месте,
А что ещё необходимо женщинам,
Которые третий год не видели мужей,
Забыли цвет их глаз
И не помнят их больше, как живых?
Он теперь на всё озлоблен,
Он видит, как страдают солдатки,
От которых деревянным костылём
Он отгоняет по вечерам назойливых штабных.
И как плохо, что он помнит себя молодым, —
Девушки с завистью смотрели вслед ему,
Когда он не спеша,
Докуривая отцовскую трубку,
Шёл за село, на мельницу,
Где светловолосая, невозможная русалка
Называла его:
«Ты — мой».
Он знает: теперь не будет больше этого.
Вот почему он очень рано сегодня
Отправился на свой сеновал, —
Эта ночь, как и завтра, и послезавтра, не для него,
И как обидно, что костыль вечно будет стучать
в сухую землю.
2
Я выхожу на улицу,
И первый попавшийся мне на глаза круглый фонарь
Напоминает розовую плешь нашего управдома,
С которым я поругался сегодня
Из-за несчастного лифта,
Позволяющего себе двигаться только в одном,
Да и то ненужном направлении — к земле.
Я часто думаю, что было бы с нами,
Если бы мы не изобрели паровоза, радио,
Аэроплана, сложнейших машин
И прочих весьма интересных вещей,
Которые позволяют нам думать,
Что мы всё-таки умные.
Вчера один знакомый счетовод
Уверял меня, что мир до сих пор
Блуждал бы в хаосе цифр,
Если бы кто-то случайно не придумал деньги.
А я сказал ему, что это не так.
Тогда он ушёл в свою каморку,
Обозвав меня предварительно шёпотом.
Затем я услышал неприятное щёлканье —
Он снова работал на счётах.
Когда я об этом рассказал одной женщине,
Она долго хохотала, не подозревая,
Что в эту ночь ей приснится
Мой клетчатый шарф.
3
Он считал, что единственная профессия,
Которую позволительно иметь всякой женщине,
Это — стенография. Он был убеждён,
Что все великие пианисты, каких мы знаем,
Начинали со стенографии. Он в это верил,
И с ним нельзя было спорить,
Потому что, если б он узнал, что это — не так,
Он бросил бы свою жену,
Женщину положительную и, кажется, умную,
Владеющую в совершенстве искусством стенографии.
В вагоне
Пространство рвали тормоза.
И ночь пока была весома,
Все пассажиры были за
То, чтобы им спалось, как дома.
Лишь мне не снилось, не спалось.
Шла ночь в бреду кровавых марев
Сквозь сон, сквозь вымысел и сквозь
Гнетущий привкус дымной гари.
Всё было даром, без цены,
Всё было так, как не хотелось, —
Не шёл рассвет, не снились сны,
Не жглось, не думалось, не пелось.
А я привык жить в этом чреве:
Здесь всё не так, здесь сон не в сон.
И вся-то жизнь моя — кочевье,
Насквозь прокуренный вагон.
Здесь теснота до пота сжата
Ребром изломанной стены,
Здесь люди, словно медвежата,
Вповалку спят и видят сны.
Их где-то ждут. Для них готовят
Чаи, постели и тепло.
Смотрю в окно: ночь вздохи ловит
Сквозь запотевшее стекло.
Лишь мне осталося грустить.
И, перепутав адрес твой,
В конце пути придумать стих
Такой тревожный, бредовой…
Чтоб вы, ступая на перрон,
Познали делом, не словами,
Как пахнет женщиной вагон,
Когда та женщина не с вами.[12]
 Б. Пророков. Лист из альбома
Б. Пророков. Лист из альбома
«Я с поезда. Непроспанный, глухой…»
Я с поезда. Непроспанный, глухой.
В кашне измятом, заткнутом за пояс.
По голове погладь меня рукой,
Примись ругать. Обратно шли на поезд.
Грозись бедой, невыгодой, концом.
Где б ни была — в толпе или в вагоне, —
Я всё равно найду,
Уткнусь лицом
В твои, как небо, светлые
Ладони.
Вокзал
1
Зимою он неподражаем.
Но почему-то мы всегда
Гораздо чаще провожаем,
Чем вновь встречаем поезда.
Знать, так положено навеки:
Иным — притворствовать,
А мне —
Тереть платком сухие веки
И слёзно думать о родне.
Смотреть в навес вокзальной крыши
И, позабывшись, не расслышать
Глухую просьбу: напиши…
Здесь всё кончается прощаньем:
Фраз недосказанных оскал,
Составов змейных содроганье
И пассажирская тоска.
Здесь постороннему —
лишь скука,
Звонки да глаз чужих ожог.
Здесь слово старое — «разлука»
Звучит до странности свежо.
Здесь каждый взгляд предельно ясен
И всё ж по-своему глубок.
Здесь на последнем самом часе
Целуют юношей в висок.
А пожилых целуют в проседь
(Гласит мораль житейских уз),
Поцеловать
здесь значит: сбросить
Воспоминаний тяжких груз.
2
А я, нагрузив чемоданы,
Как будто сердце опростав,
Вдруг узнаю,
Что прибыл рано
И что не подан мой состав,
И вот
Ходи вдоль длинных скосов
Вокзальных лестниц
и сумей
Забыть, что нет русоволосой
Последней девушки твоей.
И пусть она по телефону
С тобой простилась утром.
Пусть.
Ты ходишь долго по перрону,
В словах нащупывая грусть.
На слух, по памяти слагаешь
Прощальный стих… И вот опять
Ты с болью губы отрываешь
От губ,
Которых не видать…
Но лучше —
В сутолоке, в гоне
С мотива сбившихся колёс
Забыть, закутавшись, в вагоне
Весенний цвет её волос.
Ловить мелодию на память
И, перепутав имена,
Смотреть заснувшими глазами
В расщеп вагонного окна.
3
Когда прощаются, заметьте,
Отводят в сторону глаза.
Вот так и с нами было.
Ветер
Врывался в вечер, как гроза.
Он нас заметил у калитки
И, обомлев на миг, повис,
Когда, как будто по ошибке,
Мы с ней, столкнувшись, обнялись.
«Мне только б жить и видеть росчерк грубый…»
Мне только б жить и видеть росчерк грубый
Твоих бровей. И пережить тот суд,
Когда глаза солгут твои, а губы
Чужое имя вслух произнесут.
Уйди. Но так, чтоб я тебя не слышал,
Не видел… Чтобы, близким не грубя,
Я дальше жил и подымался выше,
Как будто вовсе не было тебя.
 М. Соколов. Женский портрет
М. Соколов. Женский портрет
«Я знал одно…»
Я знал одно —
Куда милей кочевье.
Спать на полу,
Читать чужие книги,
Под голову совать кулак иль камень,
И песни петь —
Тревожные, хмельные,
Ходить землёй,
Горячею от ливня,
И славить жизнь…
Ярославль
Я слышал — город есть такой,
Там небо достают рукой,
И, поднеся поближе к глазу,
С ладони выпивают разом.
Мне возразят, что это миф,
А мифу место лишь Эллада,
Но разве, город полюбив,
О нём выдумывать не надо?
Кто раз в мои стихи заглянет,
Того в тот город жить потянет, —
Как ни упрямьтесь, я заставлю
Вас всех бродить по Ярославлю.
Одесская лестница
Есть дивные пейзажи и моря,
Цветут каштаны, выросли лимоны.
А между нами, впрочем, говоря,
Я не глотал ещё воды солёной.
Не видел пляжа в Сочи, не лежал
На пёстрой гальке в летнюю погоду,
Ещё ни разу я не провожал
В далёкий рейс морского парохода,
Не слышал песен грузчиков в порту.
Не подышал я воздухом нездешним,
Не посмотрел ни разу, как цветут
И зноем наливаются черешни.
Не восходил к вершине с ледорубом,
Не знал повадок горного орла.
Ещё мои мальчишеские губы
Пустыня древним зноем не сожгла.
Ташкента не узнал, не проезжал Кавказа,
Не шёл гулять с ребятами на мол.
Ещё одесской лестницей ни разу
Я к морю с чемоданом не сошёл.
Мне двадцать лет. А Родина такая,
Что в целых сто её не обойти.
Иди землёй, прохожих окликая,
Встречай босых рыбачек на пути,
Штурмуй ледник, броди в цветах по горло,
Ночуй в степи, не думай ни о чём,
Пока верёвкой грубой не растёрло
Твоё на славу сшитое плечо.
После ливня
Когда подумать бы могли вы,
Что, выйдя к лесу за столбы,
В траву и пни ударит ливень,
А через час пойдут грибы?
И стало б видно вам отселе,
Лишь только ветви отвести,
Когда пойдёт слепая зелень
Как в лихорадке лес трясти.
Такая будет благодать
Для всякой твари! Даже птицам
Вдруг не захочется летать,
Когда кругом трава дымится,
И каждый штрих непостоянен,
И лишь позднее — тишина…
Так ливень шёл, смещая грани,
Меняя краски и тона.
Размыты камни. Словно бивни,
Торчат они, их мучит зуд;
А по земле, размытой ливнем,
Жуки глазастые ползут.
А детвора в косоворотках
Бежит по лужам звонким, где,
Кружась, плывёт в бумажных лодках
Пристрастье детское к воде.
Горит земля, и пахнет чаща
Дымящим пухом голубей,
И в окна входит мир, кипящий
Зелёным зельем тополей.
Вот так и хочется забыться,
Оставить книги, выйти в день
И, заложив углом страницу,
Пройтись босому по воде.
А после — дома, за столом,
Сверкая золотом оправы
Очков, рассказывать о том,
Как ливни ходят напролом,
Не разбирая, где канавы.
 Д. Цуп. Утреннее солнце. Уславцево
Д. Цуп. Утреннее солнце. Уславцево
«По какой тропинке…»
По какой тропинке —
не припомню,
только шёл я, как идут ко дну.
Словно к плахе,
было нелегко мне
подходить к забытому окну.
Вот и дом. Цветов встаёт засада.
Белая сыпучая сирень
протянула руки с палисада —
уцепились ветви за плетень.
И не дрогнет за дорогой тополь,
не стряхнёт
холодный пот росы…
И легли в траве высокой тропы,
как плетенья девичьей косы.
«Заснуть. Застыть…»
Заснуть. Застыть.
И в этой стыни
смотреть сквозь сонные скачки
в твои холодные, пустые,
кошачьи серые зрачки.
В бреду, в наплыве идиотства,
глядя в привычный профиль твой,
искать желаемого сходства
с той. Позабытой. Озорной.
И знать, что мы с тобою врозь
прошли полжизни
тьмой и светом
сквозь сон ночей, весны —
и сквозь
неодолимый запах лета.
И всё ж любить тебя,
как любят
глухие приступы тоски, —
как потерявший чувство красок
любил безумный,
страшный Врубель
свои нелепые мазки.
Осень
Кончался август. Ветер в груши
бросал предутреннюю дрожь.
И спелый колос грустно слушал,
как серп жевал сухую рожь.
Рябины красными кистями
свисали ниже над землёй.
Качались ивы над домами,
заплакав ржавою слезой.
Но с каждым днём всё холодало.
Темней и глуше день от дня.
И осень рыжим одеялом
покрыла тощие поля…
 Д. Цуп. В мастерской художника
Д. Цуп. В мастерской художника
Художник
Ник. Шеберстову
Одно художник в сердце носит:
на глаз проверенным мазком
пейзаж плашмя на землю
бросить
и так оставить. А потом
всё взвесить, высчитать,
измерить,
насытиться ошибкой всласть,
почти узнав, почти поверив,
к концу опять в безверье впасть.
И так все дни.
И с риском равным
быть узнанным, взглянуть в окно.
Весь мир
принять вдруг за подрамник,
в котором люди — полотно.
И дать такую волю кисти,
так передать следы земли,
чтоб в полотне живые листья
шумели, падали, цвели.
Волк
Когда раздался выстрел, он
ещё глядел в навес сарая,
в тот гиблый миг не понимая,
что смерть идёт со всех сторон.
Он падал медленно под креном
косого резкого угла.
Ещё медлительней по венам
кровь отворённая текла.
Сбежались люди, тишь нарушив
плевком холодного ствола.
А под его тяжёлой тушей
уже проталина цвела.
И рядом пыж валялся ватный
у чьих-то в мех обутых ног,
и потеплел — в багровых пятнах —
под тёплой лапою ледок…
Уже светало. Пахло хлебом,
овчиной, близким очагом.
А рядом волк лежал и в небо
смотрел тоскующим зрачком.
Он видел всё: рассвет и звёзды,
людей, бегущих не спеша,
и даже этот близкий воздух,
которым больше не дышать.
Голодной крови тёплый запах
тревожил утреннюю рань,
и нервно сокращалась в лапах
рывками мускульная ткань.
Бежали судороги в теле,
в снег ртутью падала слеза,
а в небо синее смотрели
большие серые глаза…
«Я знал тебя, должно быть, не затем…»
Я знал тебя, должно быть, не затем,
Чтоб год спустя, всему кладя начало,
Всем забытьём, всей тяжестью поэм,
Как слёз полон, ты к горлу подступала,
Чтоб, как вина, ты после долго жгла
И что ни ночь — тобою б только мнилось,
Чтоб лишь к концу, не выдержав, могла
Оставить блажь и сдаться мне на милость,
Чтоб я не помнил этой тишины,
Забыл про сон, про небо и про жалость,
Чтоб ни угла, ни окон, ни жены
Мне на твоей земле не оставалось.
Но всё не так. Ты даже знать не можешь,
Где началась, где кончилась гроза.
Не так солжёшь, не так ладонь положишь,
Совсем по-детски поглядишь в глаза.
А я устал. За мною столько лестниц.
Я перешёл ту верную межу,
Когда все мысли сходятся на песне,
Какой, должно быть, вовсе не сложу.
В Михайловском
Смотреть в камин. Следить, как уголь
Стал незаметно потухать.
И слушать, как свирепо вьюга
Стучится в ставни.
И опять
Перебирать слова, как память,
И ставить слово на ребро
И негритянскими губами
Трепать гусиное перо.
Закрыть глаза, чтоб злей и резче
Вставали в памяти твоей
Стихи, пирушки, мир и вещи,
Портреты женщин и друзей,
Цветных обоев резкий скос,
Опустошённые бутылки,
И прядь ласкаемых волос
Забытой женщины, и ссылки,
И всё, чем жизнь её пестра,
Как жизнь восточного гарема.
…И досидеться до утра
Над недописанной поэмой.
Гоголь
…А ночью он присел к камину
и, пододвинув табурет,
следил, как тень ложилась клином
на мелкий шашечный паркет.
Она росла и, тьмой набухнув,
от жёлтых сплющенных икон
шла коридором, ведшим в кухню,
и где-то там терялась. Он
перелистал страницы снова
и бредить стал. И чем помочь,
когда, как чёрт иль вий безбровый,
к окну снаружи липнет ночь,
когда кругом — тоска безлюдья,
когда — такие холода,
что даже мёрзнет в звонком блюде
вечор забытая вода?
И скучно, скучно так ему
сидеть, в тепло укрыв колени,
пока в отчаянном дыму,
дрожа и корчась в исступленьи,
кипят последние поленья.
Он запахнул колени пледом,
рукой скользнул на табурет,
когда, очнувшися от бреда,
нащупал глазом слабый свет
в камине. Сердце было радо
той тишине.
Светает — в пять.
Не постучавшись, без доклада
ворвётся в двери день опять.
Вбегут докучливые люди,
откроют шторы, и тогда
всё в том же позабытом блюде
чуть вздрогнет кольцами вода.
И с новым шорохом единым
растает на паркете тень,
и в оперенье лебедином
у ног её забьётся день…
Нет, нет, — ему не надо света!
Следить, как падают дрова,
когда по кромке табурета
рука скользит едва-едва…
В утробе пламя жажду носит
заметить тот порыв один,
когда сухой рукой он бросит
глухую рукопись в камин.
…Теперь он стар. Он всё прощает
и, прослезясь, глядит туда,
где пламя жадно поглощает
листы последнего труда.
Его герои
Здесь подлецы и казнокрады,
свиные рыла и подлог.
Чинуши, ждущие награды,
царя владетельный сапог.
Здесь городничих легионы
суды негласные вершат.
Здесь мелких тварей миллионы
вприпрыжку в ведомства спешат.
Секут детей. Считают деньги.
Сбивают цены. Спорят. Лгут,
бород заржавленные веники
уткнув в свой приторный уют.
Здесь держиморды с их замашкой.
Здесь даже вор бывает прав.
Здесь сам Ноздрёв играет в шашки
и шашки пичкает в рукав…
…И сколько их,
пустых святош,
среди отъявленных уродов,
один с другим, как капля, схож![13]
История
Она пропахла пылью вековою,
ветрами лет. И ныне на меня
глядит бумагой древней гербовою,
случайно уцелевшей от огня.
А было всё:
и зябких листьев вздохи,
и сабель свист, и шёпот конопли.
Как складки лба, изрытые отроги
легли в надбровья сплюснутой земли.
Прошли века. Но ночью вдруг я внемлю:
вновь душу рвёт нам азиатский гик…
И тишина… И падают на землю
мои густые, твёрдые шаги.
В солдатчине
Ему заткнули рот приказом:
не петь. Не думать. Не писать.
И мутным, словно лужа, глазом
за ним стал ротный наблюдать.
Здесь по ночам стонали глухо
солдаты, бредили. А днём
учили их махать ружьём
и били их наотмашь в ухо,
так, чтобы скулу вбок свело,
чтоб харкать кровью суток пять,
чтоб, срок отбыв, придя в село,
солдату было что сказать.
Но иногда роились слухи,
как вши в рубахе. Каждый мог,
напившись огневой сивухи,
сказать, что он — солдат и бог.
Их шомполами люто били.
Они божились и клялись.
С глазами, словно дно бутыли,
садились пить.
И вдруг — дрались.
Но вопреки царям и датам,
страданьем родины горя,
под гимнастёркою солдата
скрывалось сердце кобзаря.
Отцам
Я жил в углу. Я видел только впалость
Отцовских щёк. Должно быть, мало знал.
Но с детства мне уже казалось,
Что этот мир неизмеримо мал.
В нём не было ни Монте-Кристо,
Ни писем тайных с жёлтым сургучом.
Топили печь, и рядом с нею пристав
Перину вспарывал штыком.
Был стол в далёкий угол отодвинут.
Жандарм из печки выгребал золу.
Солдат худые, сгорбленные спины
Свет заслонили разом. На полу —
Ничком отец. На выцветшей иконе
Какой-то бог нахмурил важно бровь.
Отец привстал, держась за подоконник,
И выплюнул багровый зуб в ладони,
И в тех ладонях застеклилась кровь.
Так начиналось детство…
Падая, рыдая,
Как птица, билась мать.
И, наконец,
Запомнилось, как тают, пропадают
В дверях жандарм, солдаты и отец…
А дальше — путь сплошным туманом застлан.
Запомнил: только плыли облака,
И пахло деревянным маслом
От жёлтого, как лето, косяка.
Ужасно жгло. Пробило всё навылет
Жарой и ливнем. Щедро падал свет.
Потом войну кому-то объявили,
А вот кому — запамятовал дед.
Мне стал понятен смысл отцовских вех.
Отцы мои! Я следовал за вами
С раскрытым сердцем, с лучшими словами,
Глаза мои не обожгло слезами.
Глаза мои обращены на всех.
Дед
Он делал стулья и столы
и, умирать уже готовясь,
купил свечу, постлал полы,
гроб сколотил себе на совесть.
Свечу поставив на киот,
он лёг поблизости с корытом
и отошёл. А чёрный рот
так и остался незакрытым.
И два громадных кулака
легли на грудь. И тесно было
в избёнке низенькой, пока
его прямое тело стыло.[14]
Тут Горький жил
(На просмотре фильма «Детство Горького»)Тот дом, что смотрит исподлобья
В сплетенье жёлтых косяков,
Где люди верят лишь в снадобья,
В костлявых ведьм да колдунов,
Где, уставая от наитий,
Когда дом в дрёму погружён,
День начинают с чаепитий,
Кончают дракой и ножом;
Где дети старятся до срока,
Где только ноют да скорбят,
Где старики сидят у окон
И долго смотрят на закат,
Где всё вне времени и места,
Где лишь кулак имеет вес,
Где перезревшие невесты
Давно уж вышли из невест.
Где всё на правду не похоже
И что ни делают — всё злость!
Где с первобытным рвеньем гложут
Нужды заплёванную кость,
Где ближний ближнего обмерит,
Где счастлив тот лишь, кто в гробу,
И где уже никто не верит
Ни в ложь,
ни в правду,
ни в судьбу,
Где возведён в закон обычай
Ничтожной горсточкой задир,
Где каждый прав и пальцем тычет,
Что он плюёт на здешний мир,
Где нищету сдавили стены,
Где люди треплют языком,
Что им и море по колено,
Когда карман набит битком,
И где лабазник пьёт, не тужит,
Вещает миру он всему,
Что он дотоле с богом дружит,
Пока тот милостив к нему,
Где, как в игрушку, в жизнь играют,
Обставив скаредный уют,
Где детям петь не позволяют
И небо видеть не дают,
Где людям не во что одеться,
Где за душой — одни портки,
Где старики впадают в детство,
А дети метят в старики, —
Пусть я хотел, хотел до боли
Пересказать всё чередом,
Я не сказал и сотой доли
Того, чем славен этот дом.
Его я видел на экране,
Он в сквозняке, он весь продрог.
Тот дом один стоит на грани,
На перекрёстке двух эпох.
Что я видел в детстве
Косых полатей смрад и вонь.
Икона в грязной серой раме.
И средь игрушек детский конь
С распоротыми боками.
Гвоздей ворованных полсвязки.
Перила скользкие. В углу
Оглохший дед. За полночь — сказки.
И кот, уснувший на полу.
Крыльцо, запачканное охрой.
И морды чалых лошадей.
Зашитый бредень. Берег мокрый.
С травой сцепившийся репей.
На частоколе чёрный ворон,
И грядка в сорной лебеде.
Река за хатою у бора,
Лопух, распластанный в воде.
Купанье — и попытка спеться.
На берегу сухая дрожь.
Девчонка, от которой ждёшь
Улыбки, сказанной от сердца.
…Всё это шло, теснилось в память,
Врывалось в жизнь мою, пока
Я не поймал в оконной раме
В тенётах крепких паука.
О, мне давно дошло до слуха:
В углу, прокисшем и глухом,
В единоборстве билась муха
С большим мохнатым пауком.
И понял я, что век от века,
Не вняв глухому зову мук,
Сосал, впиваясь в человека,
Огромный холеный паук.
И я тогда, давясь от злобы,
Забыв, что ветер гнал весну,
Клялся, упёршись в стенку гроба,
В котором отчим мой уснул.
Клялся полатями косыми,
Страданьем лет его глухих,
Отмщеньем, предками босыми,
Судьбой обиженного сына,
Уродством родичей своих, —
Что за судьбу, за ветошь бедствий
Спрошу я много у врага!
Так шло, врывалось в память детство,
Оборванное донага.[15]
«Моя земля — одна моя планета…»
Моя земля — одна моя планета,
Она живёт среди ночей и звёзд.
Мне говорят, что путь бойца-поэта
В её ночах не очень будет прост.
Но я иду.
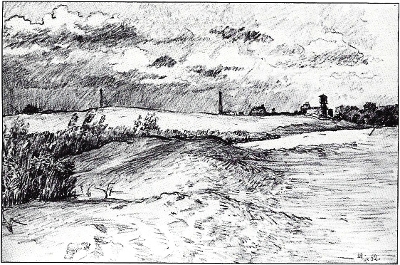 Д. Цуп. Поле осенью
Д. Цуп. Поле осенью
«Не надо слов. Их много здесь говорено…»
Не надо слов. Их много здесь говорено —
Всё перебрали, оценили здесь.
Ведь жизнь останется навеки
неповторенной,
Короткой,
как оборванная песнь.
Баллада о Чкалове
Всего неделю лишь назад
Он делал в клинике доклад.
Он сел за стол напротив нас,
Потом спросил: «Который час?»
Заговорив, шёл напролом,
И стало тесно за столом.
И каждый понял, почему
Так тесно в воздухе ему.
И то ли сон, горячка то ль,
Но мы забыли вдруг про боль.
Понять нельзя и одолеть,
Как можно в этот день болеть.
Врачи забыли про больных,
И сёстры зря искали их.
Иод засох и на столе
Лежал как память о земле,
Где людям, вышедшим на смерть,
Хоть раз в году дано болеть.
Докладчик кончил. И потом
Он раны нам схватил бинтом,
Он проводил нас до палат.
Ушёл. И вот — пришёл назад.
И врач склонился над столом,
Над ним — с поломанным крылом.
И было ясно, что ему
Теперь лекарства ни к чему.
И было тихо. Он лежал
И никому не возражал.
Был день, как он, и тих, и прост,
И жаль, что нету в небе звёзд.
И в первый раз спокойный врач
Не мог сказать сестре: «Не плачь».
Смерть революционера
В шершавом, вкривь надписанном конверте
Ему доставлен приговор, и он
Искал слова, вещавшие о смерти,
К которой был приговорён.
Пришли исполнить тот приказ,
А он ещё читал,
И еле-еле
Скупые строчки мимо глаз,
Как журавли, цепочками летели.
Он не дошёл ещё до запятой,
А почему-то взоры соскользали
Со строчки той, до крайности крутой,
В которой смерть его определяли.
Как можно мыслью вдаль не унестись,
Когда глаза, цепляяся за жизнь,
Встречают только вскинутое дуло.
Но он решил, что это пустяки,
И, будто позабыв уже о смерти,
Не дочитав томительной строки,
Полюбовался краской на конверте
И, встав во весь огромный рост,
Прошёл, где сосны тихо дремлют.
В ту ночь он не увидел звёзд:
Они не проникали в землю.
Звезда
Каждому — радость и страх.
Каждому — солнце и воздух.
В чьих-то воздушных руках
прыгали в небе звёзды.
Только с рассветом одна
в чёрную землю упала, —
и над деревней заря
встала до крови ала.
Вышла надежда из дум —
долго в небе морозном
искал я свою звезду
в неуловимых звёздах.[16]
 Ф. Кулагин. Мужской портрет
Ф. Кулагин. Мужской портрет
В госпитале
Он попросил иссохшим ртом воды.
Уж третий день не поднимались веки.
Но жизнь ещё оставила следы
В наполовину мёртвом человеке.
Под гимнастёркой тяжело и грубо
Стучало сердце, и хотелось пить.
И пульс немного вздрагивал, а губы
Ещё пытались что-то говорить.
Врачи ему при жизни отказали.
Он понял всё: лекарства ни к чему.
В последний раз он попросил глазами —
И пить тогда не подали ему.
Хотелось выйти в улицы, на воздух.
Локтями дверь нечаянно задеть.
А ночь была такая, что при звёздах
Ему не жалко было умереть.
Утрата
В тот день холодным было небо.
Прохожий торопил свой шаг.
Ещё с карнизов спущен не был
С каймою траурною флаг.
Мороз щипал до боли лица.
И на окраине, у рвов,
Закоченевшие синицы
Валились наземь с проводов.
И не спалось. И было жёстко,
Кровать как ком сухой земли.
И три морщины вперекрёстку
На лбу товарища легли.
Он повернулся — в каплях пота —
И скрылся зябко в полумглу.
Метнулась тенью самолёта
От лампы тень его в углу.
А утром — радио, газеты,
Печаль моей большой страны,
И всем знакомые портреты
В бордовый шёлк окаймлены.
В мавзолее Ленина
Иди познай людское дело
И в мавзолей войди, как в жизнь, —
Рукой дрожащей и не смелой
Его бессмертия коснись.
Здесь всех основ лежат начала.
Мы знаем, что и он любил.
Он тоже был живым сначала
И этой площадью ходил.
По тем же стёршимся ступеням…
Но как ни мудрствуй, ни пиши,
Ты не вместишь в названье ЛЕНИН
Вселенский взмах его души.
Пройди весь мир насквозь и снова
Вернись к нему, и у Кремля
Тебя согреет этим словом
Его родившая земля.
Им каждый подвиг наш пронизан,
И он во всём, чем мы живём,
Он нам необходим и близок —
Мы в нём бессмертье узнаём.
Памятник
Им не воздвигли мраморной плиты.
На бугорке, где гроб землёй накрыли,
Как ощущенье вечной высоты,
Пропеллер неисправный положили.
И надписи отгранивать им рано —
Ведь каждый, небо видевший, читал,
Когда слова высокого чекана
Пропеллер их на небе высекал.
И хоть рекорд достигнут ими не был,
Хотя мотор и сдал на полпути —
Остановись, взгляни прямее в небо
И надпись ту, как мужество, прочти.
О, если б все с такою жаждой жили!
Чтоб на могилу им взамен плиты
Как память ими взятой высоты
Их инструмент разбитый положили
И лишь потом поставили цветы.
«Ты каждый день уходишь в небо…»
Брату Алексею
Ты каждый день уходишь в небо,
А здесь — дома, дороги, рвы,
Галдёж, истошный запах хлеба
Да посвист праздничной травы.
И как ни рвусь я в поднебесье,
Вдоль стен по комнате кружа,
Мне не подняться выше лестниц
И крыш восьмого этажа.
Земля, она всё это помнит,
И хоть заплачь, сойди с ума,
Она не пустит дальше комнат,
Как мать, ревнива и пряма.
Я за тобой закрою двери,
Взгляну на книги на столе,
Как женщине, останусь верен
Моей злопамятной земле.
И через тьму сплошных догадок
Дойду до истины с трудом,
Что мы должны сначала падать,
А высота придёт потом.
Нам ремесло далось не сразу —
Из тьмы неверья, немоты
Мы пробивались, как проказа,
К подножью нашей высоты.
Шли напролом, как входят в воду:
Жизнь не давалась, но её,
Коль не впрямую, так обходом
Мы всё же брали, как своё.
Куда ни глянь — сплошные травы,
Любая боль была горька.
Для нас, нескладных и упрямых,
Жизнь не имела потолка.[17]
 М. Соколов. Пейзаж с деревом
М. Соколов. Пейзаж с деревом
Торжество жизни
Рассвет сочился будто в сите,
Когда в звенящем серебре
Рванулся резко истребитель
Косым движением к земле.
Пилот, в бесстрашье шансы взвесив,
Хватался в спешке за рули,
Но все дороги с поднебесья
К суровой гибели вели.
И с жаждой верной не разбиться,
Спасая в виражах мотор,
Хотел он взмыть, но силу птицы
Презрели небо и простор.
Она всё тело распластала,
Скользя в пространстве на крыле,
И вспышкой взрыва и металла
Жизнь догорела на земле.
…А сила ветра так же крепла.
Восходом солнца цвёл восток,
И на земле сквозь дымку пепла
Пробился утренний цветок.
Уже истлели тело, крылья,
Но жизнь, войдя с людьми в родство,
Презрев пред гибелью бессилье,
Своё справляла торжество.
Как прежде, люди в небо рвались
В упорной жажде высоты.
А в небе гасли, рассыпались
Звёзд изумрудные цветы.
И пахли юностью побеги
Ветвей. Прорезав тишину,
Другой пилот в крутом разбеге
Взмыл в голубую вышину.
Мир был по-прежнему огромен,
Прекрасен, радужен, цветист;
И с человечьим сердцем вровень
На ветке бился первый лист.
И, не смущаясь пепла, тлена,
Крушенья дерзостной мечты,
Вновь ликовала кровь по венам
В упорной жажде высоты!
Изба
Косая. Лапами в забор
Стоит. И сруб сосновый воет,
Когда ветра в нутро глухое
Заглянут, злобствуя, в упор.
Зимой всё в инее и стуже,
Ослабив стёкла звонких рам,
Живот подтягивая туже,
Глядит на северный буран.
Кругом безлюдье. Хоть кричи!
Стоит, как на дороге нищий.
И тараканы стаей рыщут
В пустой отдушине печи.
Метели подползают ближе.
И вдруг рванут из-под плетня,
Холодным языком оближут
В хлеву хозяйского коня.
А сам хозяин, бледнолицый,
Окутан кем-то в белый холст,
Лежит в гробу на половицах,
В окамененье прям и прост.
В окошко свет скупой бросая,
Глядит луна в его судьбу,
И ветры жутко потрясают
Его сосновую избу.
Здесь, по соседству с белым гробом,
В ногах застывших мертвеца,
За полночь я родился, чтобы
Прославить мёртвого отца.
Чуть брезжил свет в разбитых окнах.
Вставал, заношенный до дыр,
Как сруб, глухой и душный мир,
Который был отцами проклят,
А нами перевёрнут был.
Песня
Её сложил маляр, а впрочем,
Она, быть может, потому
Портовым нравилась рабочим,
Что за неё вели в тюрьму.
Ломали пальцы, было мало —
Крошили зуб, грозили сжечь.
Но и в огне не умирала
Живая песенная речь.
Матросы взяли песню эту
И из своей родной земли,
Бродя волной морской по свету,
В чужую землю завезли.
А тот маляр потом был сослан.
Бежал. На озере одном
Он пойман был, привязан к вёслам
И вместе с лодкой шёл на дно.
И, умирая, вспомнил, видно,
Свой край, и песню, и жену.
Такую песню петь не стыдно,
Коль за неё идут ко дну.
Быль военная
Ночь склонилася над рожью,
Колос слепо ловит тьму.
Ветер тронул мелкой дрожью
Трав зелёную кошму.
Тишина котёнком бродит
От реки до дальних троп.
У соседки в огороде
Дремлет ласковый укроп.
Мой товарищ курит трубку,
Говорит не торопясь.
О боях, о жаркой рубке
Начинается рассказ.
Только вот глаза прикрою,
Память снова говорит.
Под днепровскою волною
Не один товарищ спит.
И пройди по всем курганам —
Бой кровавый не забыт,
И курганы носят раны
От снарядов и копыт.
Мы не раз за трубкой вспомним
Быль военную годов,
Как в упор в каменоломню
К нам тянулось семь штыков.
Как прорвались мы гранатой —
Всё снесли в огонь и дым.
Даже мост спиной горбатой
Встал в испуге на дыбы.
На плоту
Тихо.
Скучно.
Как в скиту.
Машет сумрак чёрным пледом.
И за мною на плоту
кто-то тенью ходит следом.
Связь мочальная на брёвнах
в слизь размокнет, и тогда
станет слышно,
как неровно
бьёт в прибрежный мол вода.
Я плыву…
Тяжёлым илом
обрастает утлый плот.
Слышно, будто по стропилам
кто-то ходит взад-вперёд.
Оглянусь —
и лишь увижу:
где маячат фонари, —
горизонт на пальцы нижет
кольца красные зари.
На рассвете
Не думал я, что на рассвете
В глухом пугающем саду,
Где лишь шуршит листвою ветер,
Тебя измученной найду.
И, опустившись на колени,
Как пред иконою своей,
Скажу — возьми моё цветенье,
Цветенье выцветших кудрей.
И если надо, пусть исчезнут
Рассвет и дня неяркий луч,
В веков открывшуюся бездну
Ворвавшись вдруг с надземных круч.
Но ты молчишь, и где-то рядом
Шумит рыжеющий костёр —
То сад осенним листопадом
Сиянье рук к земле простёр.
И ты уходишь в грязных пятнах
В обитель дальнюю, за сад.
И никогда уже обратно
Ты не воротишься назад.
Мне больно осенью такою
Вдруг осознать в глухой борьбе,
Что, отдавшись чужому бою,
Я жизнь не выпросил тебе.[19]
«…Он для тебя украсит стены…»
…Он для тебя украсит стены
И скажет: «Славой ослеплю!»
А я опять останусь с теми,
Которых вовсе не люблю.
И в смене встреч и длинных будней
Тебя я вспомню, изумлюсь!
Всё тяжелей и безрассудней,
Всё непонятней становлюсь.
Я не пойму, моя отрада,
Как можно в этакой стране
Всю жизнь пройти с тобою рядом
И всё ж остаться в стороне.[20]
 Ф. Кулагин. Женский портрет
Ф. Кулагин. Женский портрет
«Забудем то, что полюбилось людям…»
Забудем то, что полюбилось людям.
Уйдём туда, где ветер да столбы,
где лес пророс до берега. Забудем
весь этот мир отчаянной гульбы.
Извечных просьб, сплошных недомоганий,
мир мелких выгод, духоты квартир.
Забудем скуку у подъездов зданий,
где мы встречались часто. Новый мир
иных высот и помыслов распахнут, —
возьми его и ощути на вес.
Уж радостью звериной пахнет
к горе на плечи прикорнувший лес.
И мы пройдём зелёным косогором.
Там поезда идут. Гремят им вспять мосты.
И девушка уехала… А скоро
вот так же, не сказав, уедешь ты.
Тогда опять — тоска несчётных буден.
Придёт сосед и выпьет за меня…
Давай уйдём. Уйдём давай. Забудем
пустую прозу завтрашнего дня.
«Мы пиво пьём за мраморным столом…»
Мы пиво пьём за мраморным столом, —
Последние актёры, подлецы, бродяги.
За жёлтым в палец толщиной стеклом
Кружится с ног сбивающая влага.
Она мутит и ходит ходуном.
В нас блажь вошла
И каждый снова хочет
В такие ночи спаивать вином
Весёлых управдомововских дочек.
Уже оркестр ушёл,
И мы допели песню,
И наш сосед уж захмелел слегка,
А мы сидим, уйдя по плечи в кресла
И тянем злую мудрость табака.
Теперь мы оплешивели, как осень,
И баки не по моде — до виска,
Мы галстуки ещё на шее носим,
Чтоб нас швейцар за столик допускал.
У нас сейчас желание простое:
О мирозданьи рассуждать в тепле, —
Судьба проста. Табак раздумья стоит,
Пока пивные кружки на столе.
Мы будем пить. Пока ещё не поздно.
Пока ещё мы трезвы все. Пока
На счёт не ляжет искупленьем грозным
Официанта грязная рука.
Тогда мы встанем, отряхнём с коленей
Остатки раков, пепел и лузгу.
А что нам — ночь?
Она ничто в сравненьи
С изъяном рваным в холостом мозгу.[21]
<1937>
 Б. Пророков. Лист из альбома
Б. Пророков. Лист из альбома
Предчувствие
Неужто мы разучимся любить
и в праздники, раскинувши диваны,
начнём встречать гостей и церемонно пить
холодные кавказские нарзаны?
Отяжелеем. Станет слух наш слаб.
Мычать мы будем вяло и по-бычьи.
И будем принимать за женщину мы шкап
и обнимать его в бесполом безразличьи.
Цепляясь за разваленный уют,
мы в пот впадём, в безудержное мленье.
Кастратами потомки назовут
стареющее наше поколенье.
Без жалости нас время истребит.
Забудут нас. И до обиды грубо
над нами будет кем-то вбит
кондовый крест из тела дуба.
За то, что мы росли и чахли
в архивах, в мгле библиотек,
лекарством руки наши пахли
и были бледны кромки век.
За то, что нами был утрачен
сан человечий; что, скопцы,
мы понимали мир иначе,
чем завещали нам отцы.
Нам это долго не простится,
и не один минует век,
пока опять не народится
забытый нами Человек.
Обрыв
Страсти крут обрыв, Отойдите, — будьте добры.В. Маяковский
Чрез заросли полыни и крапивы
Мы шли вдвоём.
Дыханье пало с губ.
Шуршал песок, и где-то под обрывом
Кончалась ночь, которая в мозгу
Ещё живёт, ещё пестрит и рушит
Те доводы и ссылки на ничто,
Которых нет понятнее и суше.
Я рядом шёл. Она в моём пальто
Казалась лучше. Ей оно пришлось,
Как сну — фантазия и как слепому — посох.
А ветер в ночь, разбросанно и косо,
Сносил зелёный дым её волос.
Мы шли вдвоём.
Шуршал и падал гравий.
А где-то там, за мельницей, внизу
Пал водопад, и в пенистой оправе
Обрушил в ночь блестящую слезу.
А мы всё шли. И нам казалось мало.
Обрыв был близок.
Вот он.
И в пролёт
Глядит скула старинного обвала.
И что-то тянет вниз.
Аукает.
Зовёт.
И грусть была, какой я сроду не пил.
Немело горло в спазмах немоты.
А сердце горько таяло, как пепел
Нахлынувшей внезапно темноты.
…Бывает так: стоишь, себя не помня,
Забыв годам и письмам женским счёт,
Когда всё краше, ярче и огромней
Мир прожитого в памяти встаёт.
Дождь прошел
Врёшь, сестра, —
Мне жить с тобой не вместе!
Не стыди ты парня,
Что с утра
Потянуло к розовой невесте,
Как к вратам апостола Петра.
Снится мне она в подушках белых,
В жёлтых лентах,
В бусах из стекла,
И идёт от царственного тела
Запах еле слышного тепла.
Вот она!
Её не жалят змеи,
К ней в ладони падают орлы,
Я б взглянул,
Да — глаз поднять не смею,
Что-то веки дюже тяжелы.
Крылья рук её порозовели.
Чтоб скучать царевне не пришлось,
Там садовник
Гармонист Савелий
Ходит с лейкой
Промеж двух берёз.
Грядок нет,
А есть трава густая,
Так густа,
Что только, охнув, лечь…
Слушай — ты!
Садовника оставим,
Не о нём завёл я эту речь.
На меня повеяло ветрами.
Золотой,
Нездешней стороны.
…Дождь пошёл,
И бьются стёкла в раме.
На Неве мосты разведены.
 М. Соколов. Дама
М. Соколов. Дама
Ревность
Что вспомнил я?.. Самцов тупую похоть,
чужую нежность, ревности петлю
иль руку, обнажённую по локоть,
той женщины, с которой я не сплю?
Но что б ни вспомнил —
я тебя не видел.
Простое любопытство истребя,
я даже пальцем, жестом не обидел, —
лишь взгляд отвёл в восторге от тебя.
Я вздрогнул лишь. И вновь, как полумёртвый,
я в третий раз пытался подойти
к твоим рукам и вздохам, и в четвёртый
почти что подошёл. Почти.
Я знал тебя. Ты здесь. Ты где-то рядом.
Я знал, что расстоянье — как и смерть —
между прикосновением и взглядом
не каждому дано преодолеть.
И я прошёл. Не задевая. Мимо.
Забыв дышать. Шагами мертвеца.
Так с папирос — почти неразличимы —
косые струйки розового дыма
проходят мимо твоего лица.
Я знать хочу — я вовсе не ревную, —
придёт ли тот герой, кому, смеясь,
ты разрешишь любить тебя вплотную,
касаний грубых пальцев не боясь?
Всё просто так:
чужие видеть губы,
хотеть касаться их и, не любя,
одной рукой,
одним движеньем грубым,
одним лишь жестом
взять суметь тебя.
«Дыша табачным перегаром…»
Дыша табачным перегаром,
смежив усталые глаза,
я жду последнего удара
твоих ресниц, моя гроза.
Он близок, тот удар. Он близок.
Я жду, от счастья онемев,
когда ты бросишь этот вызов,
вполоборота посмотрев.
И будет он неотразим,
великолепен, неминуем, —
пощёчиной иль поцелуем
он мне уж слышится вблизи.
Как ты, упрям и привередлив,
я жду…
Молчанье. Вздохи лишь.
Ударь, ударь: опасно медлить,
когда над пропастью висишь…
Окно и осень. Стены в пакле.
Ширяет ветер — лют и храбр…
Тобою дни мои пропахли,
как стеарином — канделябр.
Закат
Где-то в небе
за Дунаем,
у склонившихся Карпат,
перья жёлтые роняя,
таял розовый закат.
Ветры спали солнца ради,
тени с гор в равнины шли.
Кто-то долго нежно гладил
грудь истерзанной земли.
И она вздыхала томно
в ослепительный опал:
в небе плыл закат огромный,
Перья жёлтые ронял.
«Здесь всё не так…»
Здесь всё не так.
Здесь даже день короткий.
У моря тоже свой диапазон.
И мнится мне — моя уходит лодка,
Впиваясь острым краем в горизонт.
Я буду плыть. Забуду дом и берег,
Чужие письма, встречи, адреса,
Забуду землю, где цветут поверья.
Где травы меркнут раньше, чем леса.
Мне только б плыть,
Мне надо очень мало:
Простор и море, искорку огня
Да имя то, которым называла
Ты у шального берега меня.
Вот и сейчас мне мнится —
На закате
Уходит лодка. Верный взмах весла.
И тот же голос слышится, и платье
То самое, в котором ты была.
Придёт гроза,
И встанет ночь в прибое.
Последний довод к жизни истребя,
Доколе плыть я буду за тобою,
За светлым небом, блузкой голубою?
Иль, может, вовсе не было тебя?
Ветер
Сквозной, он шёл наперерез
жаре. И вопреки июльской лени
он взмыл в сухое небо. Лес
упал, взмолившись, на колени.
И с неба солнце пало в заводь:
неподалёку — так светла —
с полузакрытыми глазами
на пляже женщина спала.
Был след руки, как ложе мола,
и пели путанно пески,
как ныла в этом сгибе голом
боль тяжелеющей тоски.
Тоски по лету, по воде,
по дрожи стёсанных уключин,
по крику детскому. Но где
тот ветер счастью был научен?
 Б. Пророков. Лист из альбома
Б. Пророков. Лист из альбома
В грозу
Он с моря шёл, тот резкий ветер,
Полз по камням и бил в глаза.
За поворотом свай я встретил
Тебя. А с моря шла гроза.
Кричали грузчики у мола,
И было ясно: полчаса
Едва пройдёт, как сон тяжёлый,
И вздрогнет неба полоса.
И гром ударит по лебёдкам.
Мне станет страшно самому.
Тогда, смотри, не выйди к лодкам:
В грозу и лодки ни к чему.
А ты пришла. Со мной осталась.
И я смотрел, запрятав страх,
Как небо, падая, ломалось
В твоих заплаканных глазах.
Смешалось всё: вода и щебень,
Разбитый ящик, пыль, цветы.
И, как сквозные раны в небе,
Разверзлись молнии. И ты
Всё поняла…
Рождение искусства
Приду к тебе и в памяти оставлю
Застой вещей, идущих на износ,
Спокойный сон ночного Ярославля
И древний запах бронзовых волос.
Всё это так на правду непохоже
И вместе с тем понятно и светло,
Как будто я упрямее и строже
Взглянул на этот мир через стекло.
И мир встаёт — столетье за столетьем,
И тот художник гениален был,
Кто совершенство форм его заметил
И первый трепет жизни ощутил.
И был тот час, когда, от стужи хмурый,
И грубый корм свой поднося к губе,
И кутаясь в тепло звериной шкуры,
Он первый раз подумал о тебе.
Он слышал голос ветра многоустый
И видел своды первозданных скал.
Влюбляясь в жизнь, он выдумал искусство
И образ твой в пещере изваял.
Пусть истукан массивен был и груб
И походил скорей на чью-то тушу.
Но человеку был тот идол люб:
Он в каменную складку губ
Всё мастерство вложил своё и душу.
Так, впроголодь живя, кореньями питаясь,
Он различил однажды неба цвет.
Тогда в него навек вселилась зависть
К той гамме красок. Он открыл секрет
Бессмертья их. И где б теперь он ни был,
Куда б ни шёл, он всюду их искал.
Так, раз вступив в соперничество с небом,
Он навсегда к нему возревновал.
Он гальку взял и так раскрасил камень,
Такое людям бросил торжество,
Что ты сдалась, когда, припав губами
К его руке, поверила в него.
Вот потому ты много больше значишь,
Чем эта ночь в исходе сентября,
Что даже хорошо, когда ты плачешь,
Сквозь слёзы о прекрасном говоря.
«Тогда была весна. И рядом…»
Тогда была весна. И рядом
С помойной ямой на дворе,
В простом строю равняясь на дом,
Мальчишки строились в каре
И бились честно. Полагалось
Бить в спину, в грудь, ещё — в бока.
Но на лицо не поднималась
Сухая детская рука.
А за рекою было поле.
Там, сбившись в кучу у траншей,
Солдаты били и кололи
Таких же, как они, людей.
И мы росли, не понимая,
Зачем туда сошлись полки:
Неужли взрослые играют,
Как мы, сходясь на кулаки?
Война прошла. Но нам осталась
Простая истина в удел,
Что у детей имелась жалость,
Которой взрослый не имел.
А ныне вновь война и порох
Вошли в большие города,
И стала нужной кровь, которой
Мы так боялись в те года.
Юбилейное (на 16 лет)
Вся-то жизнь — сбитые пороги.
Из венков прославленных свита:
Тут и радость, тут же и вздроги,
А над всем — могильная плита.
Жизнь — минут человеческих проба,
И она, как капля, проста…
Эй, кто там?! Не делайте гроба,
Не готовьте кривого креста!
Но страшусь одного я немного,
Что сказала мне впалая грудь:
«Пятьдесят четвёртого порога
Не удастся нам перешагнуть!»
Не удастся… Ну так и что же —
Плач навеки в груди уснул…
Словно ветер весною, тоже
Мне по горлу в злобе полоснул.
Так пускай пролетело шестнадцать,
Бейте пальцы по струнам прямым!
Я, как прежде, буду смеяться
И горланить стихи громовым.[22]
 М. Соколов. Дама с птицей
М. Соколов. Дама с птицей
«Мне нравится твой светлый подбородок…»
Мне нравится твой светлый подбородок
И как ты пудру на него кладёшь.
Мальчишку с девятнадцатого года
Ты театральным жестом обоймёшь.
А что ему твоё великолепье
И то, что мы зовём — сердечный пыл?
Дня не прошло, как вгорячах на кепи
Мальчишка шлем простреленный сменил.
Ты извини его — ведь он с дороги.
В ладони въелась дымная пыльца.
Не жди, пока последние ожоги
Сойдут с его скуластого лица.
Стихи про стекольщика
Что надо стекольщику, кроме пустых рам?
Со стульев вскакивают рыжие управдомы,
Когда старик проносит по дворам
Ящик, набитый стеклянным громом.
А мир почти ослеп от стекла.
И люди не знают о том, — вестимо!
Что мать Серафимом его нарекла
И с ящиком по свету шляться пустила.
На нём полосатые злые порты.
В кармане краюшка вчерашнего хлеба.
Мальчишки так разевают рты,
Что можно подумать — проглотят небо.
Они сбегаются с дач к нему.
Им ящик — забава. Но что с мальчишек?
Прослышал старик, что в каком-то Крыму
Люди заводят стеклянные крыши.
Он флигель оставил. Свистя на ходу,
Побрёл ноздреватой тропой краснотала…
Стекольщик не думал, что в этом году
В лондонских рамах стекла не хватало.
Как воруют небо
Случайно звезды не украл дабы
Какой-нибудь праздный гуляка,
Старик никому не давал трубы,
Её стерегла собака.
Был важен в службе хозяйский пёс,
Под ним из войлока тёплый настил.
Какое дело кобелю до звёзд
И до прочих небесных светил?
А небом старик занимался сам —
Ночью, когда холодеет воздух,
Он подносил его ближе к глазам
И рылся в ещё не остывших звёздах.
Мальчишки понять не могли, засыпая:
Что ищет в небе старик-ворожей?
Должно быть, ворота небесного рая,
А может быть, просто пропавших стрижей?
Он знал его лучше, чем тот квартал,
В котором живёт, занимая флигель.
Он звёзды, как годы, по пальцам считал —
О них он напишет умные книги.
А парень, на небо взглянув некстати,
Клялся, теребя у любимой ручонки,
Что завтра сошьёт он из неба платье
И подарит его глупой девчонке.
А девушке — что?
Ей приятна лесть.
Дышит парень табачным дымом.
Она готова ни пить, ни есть,
Только б на звёзды глядеть с любимым.
Старик не думал, что месяц спустя
В сыром убежище, где-то в подвале,
Куда его силой соседи прогнали,
Услышит, как глухо бомбы свистят.
…Рядом труба лежит без охраны:
Собаку убило осколком снаряда.
Тот парень погиб, говорят, под Седаном,
И девушке платья теперь не надо.
А небо — в плену у стальных ястребят,
Трамваи ищут, укрыться где бы…
О горе, старик, когда у тебя
Украли целую четверть неба!
«Когда умру, ты отошли…»
Когда умру, ты отошли
Письмо моей последней тётке,
Зипун залатанный, обмотки
И горсть той северной земли,
В которой я усну навеки,
Метаясь, жертвуя, любя
Всё то, что в каждом человеке
Напоминало мне тебя.
Ну, а пока мы не в уроне
И оба молоды пока,
Ты протяни мне на ладони
Горсть самосада-табака.
Париж весной 1940 года
В такую ночь пройдохам снится хлеб,
Они встают, уходят в скверы раньше,
А жуликам мерещится всё, где б
Пристроиться к весёлой кастелянше.
Что им война, когда они забыли
Гостиницы, где сгнили этажи,
Где, если хочешь, с женщиной лежи,
А хочешь — человеку закажи
Подать вина, что родиной из Чили.
Что им теперь подзвёздные миры,
Тяжба пространств, кометы-величины,
Коль нет у них ни женщины, ни чина,
А есть лишь положенье вне игры.
В ушах — всё ливень, сутолока, гул,
И невдомёк им, запропавшим пешим,
Что дождь давно в ту сторону свернул,
Где люди под зонтами прячут плеши.
Есть тёплый шарф, цветные макинтоши,
Но не для тех, кто на бульваре наг,
Тем всё равно: французы или боши.
Что победителю с таких бродяг?
У них отнимут отдых,
а на кой
Им эта дрёма и чужой покой?
Их выгонят на улицы под плети,
Они простудятся и будут спать во рву.
Но разве можно у таких, как эти,
Отнять родное небо и траву?
Не надо им отечества и короля,
Они в глаза не видели газеты,
Живут подачками, как будто для
Одних пройдох вращается земля
И где-то гибнут смежные планеты!
 Б. Пророков. Лист из альбома
Б. Пророков. Лист из альбома
Мы
Это время трудновато для пера.В. Маяковский
Есть в голосе моём звучание металла.
Я в жизнь вошёл тяжёлым и прямым.
Не всё умрёт. Не всё войдёт в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.
Мы жгли костры и вспять пускали реки.
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
Железом обозначены следы —
Так в нас запали прошлого приметы.
А как любили мы — спросите жён!
Пройдут века, и вам солгут портреты,
Где нашей жизни ход изображён.
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.
Но время шло. Меняли реки русла.
И жили мы, не тратя лишних слов,
Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
Да в серой прозе наших дневников.
Мы брали пламя голыми руками.
Грудь раскрывали ветру. Из ковша
Тянули воду полными глотками
И в женщину влюблялись не спеша.
И шли вперёд, и падали, и, еле
В обмотках грубых ноги волоча,
Мы видели, как женщины глядели
На нашего шального трубача.
А тот трубил, мир ни во что не ставя
(Ремень сползал с покатого плеча),
Он тоже дома женщину оставил,
Не оглянувшись даже сгоряча.
Был камень твёрд, уступы каменисты,
Почти со всех сторон окружены,
Глядели вверх — и небо было чисто,
Как светлый лоб оставленной жены.
Так я пишу. Пусть неточны слова,
И слог тяжёл, и выраженья грубы!
О нас прошла всесветная молва.
Нам жажда зноем выпрямила губы.
Мир, как окно, для воздуха распахнут,
Он нами пройден, пройден до конца,
И хорошо, что руки наши пахнут
Угрюмой песней верного свинца.
И как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово «Человек»!
«Ни наших лиц, ни наших комнат…»
Ни наших лиц, ни наших комнат…
Но пусть одно они запомнят:
вокруг московского Кремля
вращалась в эти дни Земля.
«Пусть помнят те, которых мы не знаем…»
Пусть помнят те, которых мы не знаем:
нам страх и подлость
были не к лицу.
Мы пили жизнь до дна
и умирали
за эту жизнь,
не кланяясь свинцу.[23]
«Когда к ногам подходит стужа пыткой…»
Когда к ногам подходит стужа
пыткой —
в глазах блеснёт
морозное стекло,
как будто
вместе с посланной открыткой
ты отослал последнее тепло.
А между тем всё жизненно
и просто,
и в память входит славой на века
тяжёлых танков
каменная поступь
и острый блеск холодного штыка.[24]
 А. Софронова. Два деревца
А. Софронова. Два деревца
«О нашем времени расскажут…»
О нашем времени расскажут.
Когда пройдём, на нас укажут
и скажут сыну: — Будь прямей!
Возьми шинель —
покроешь плечи,
когда мороз невмоготу.
А тем — прости: им было нечем
прикрыть бессмертья наготу.
«Нам не дано спокойно сгнить в могиле…»
Нам не дано спокойно сгнить в могиле —
лежим навытяжку и, приоткрыв гробы,
мы слышим гром предутренней пальбы,
призыв охрипшей полковой трубы
с больших дорог, которыми ходили.
Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
и ждём приказа нового. И пусть
не думают, что мёртвые не слышат,
когда о них потомки говорят.[25]
 В. Серов. Демобилизация
В. Серов. Демобилизация
Письма Николая Майорова к Ирине Пташниковой
Письмо от 25 июля 1940 г.
Милая Ярынка, здравствуй! Пишу одно письмо вслед другому. Прости, что я так долго заставил тебя ждать моих писем, но раз я уже начал — значит, жди длительной и планомерной бомбардировки вашего почтового ящика. Ну, живу тихо. Особенного буйства не проявляю. И не только потому, что абсолютно отсутствует «целебный» напиток, а просто, видно, годы отошли. Становлюсь мудрым и молчаливым, как Будда. Часто бывает страшно скучно. Но, как отвечал у Пушкина Мефистофель скучающему Фаусту:Что делать, Фауст?
Таков вам положён предел,
Его ж никто не преступает.
Вся тварь разумная[26] скучает:
Иной от лени, тот от дел;
Кто верит, кто утратил веру;
Тот насладиться не успел,
Тот насладился через меру,
И всяк зевает да живёт —
И всех вас гроб, зевая, ждёт.
Зевай и ты.
«В те дни, когда не было водки
И женщины оставили нас.
Колька».
Мне мало надо:
ковригу хлеба,
да каплю молока,
да это небо,
да эти облака.
Письмо от 14 сентября 1941 г.
Ирина, здравствуй! Недавно мне Н. Шеберстов передал твою открытку — спасибо, что ты ещё помнишь обо мне. Когда я находился на спецзадании, я почему-то не отчаивался получить от тебя письмо. Но представь себе, всем писали, я же почти все 2 м[еся]ца не имел ни от кого ни одного письма. А ты не можешь понять, как страшно хотелось иметь хоть бы одно письмо. И ты не догадалась. Адрес же наш всему истфаку был известен. Ну, да ладно — не сетую! Чем это я заслужил от тебя письмо? Конечно, ничем. А всё-таки ждал. В Москву прибыли 9 сент[ября]. Я страшно загорел, окреп. Работать было очень трудно, — но об этом когда-нибудь после подробнее расскажу, если удастся свидеться. А видеть тебя я хочу. Не знаю, почему, но я жалею, что у нас всё так плохо получилось, я сейчас скучаю по тебе — я не вру, ты верить-то можешь? Я не буду распространяться о своём раскаянии, ибо страх как не люблю объяснительных писем! В конце концов, я не гимназист и вовсе не намерен просить, чтобы ты меня выдрала за уши. Я убедился только в одном: в тебе я, кроме женщины, нашёл было хорошего товарища, в других же девчонках я находил только женщину — эгоистичную, капризную, которой нет никакого дела до меня как до человека. Что сейчас делаю? Что можно делать в Москве с Шеберстовым, Титовым, Мольковым? Ты догадываешься — пить. Коську и Витьку на днях встречали со спецзадания (они позднее приехали). Редкий день проходит трезвым, я почти никогда не ночую на Ульяновской. В 418[-й] школе на одной двери нашёл случайно твою фамилию: ты там жила. Как был бы я рад, если б там жила ты и сейчас! Но я бью себя за излишнее проявление лирического восторга. В райвоенкомате прошёл медкомиссию. Ждём, когда возьмут в армию. А когда, неизвестно: может, сегодня вечером, а может — через месяц. Я получил назначение на работу в Можайск, но это — простая формальность. Я не безногий, чтоб ехать на работу. Из Москвы выезд райвоенкоматом запрещён. Если после войны буду жив, буду проситься работать в Сред[нюю] Азию, — мне надо найти тебя. Когда это будет и будет ли? Почти все ребята успели сдать госэкзамены и получить дипломы. А я — прогулял. Возможно, сдам числа 15-го, а не сдам — пусть… Мы сейчас ничего не делаем, болтаемся <…> в общежитии, в городе. Если б можно было, я поехал бы к тебе в Ташкент, хочу тебя видеть! Ты в открытке желаешь мне мужества, если буду в бою. Спасибо. Хотя ты знаешь, что в этом деле я не отличусь, но что могу сделать — сделаю. Ну, желаю тебе здоровья и счастья! Живи хорошо. Целую. Ник. P. S. Всё же смею надеяться на твоё письмо. Привет от К. Титова, Н. Шеберстова, В. Молькова, которые всегда хотели видеть, чтоб я был вместе с тобой, а посему особенно зло лают на меня сейчас. Я не утерплю и вслед этому письму пошлю второе.[28]Письмо от 22 октября 1941 г.
22/Х-41 г. Здравствуй, Ирина! Опять хочется тебе писать. Причём делаю это без надежды получить от тебя ответ: у меня нет адреса. Сейчас я в армии. Мы идём из Москвы пешком по направлению к Горькому, а там — неизвестно куда. Нас как население, годное к службе в армии, решили вовремя вывести из Москвы, которой грозит непосредственная опасность. Положение исключительно серьёзное. Я был раньше зачислен в Яросл[авскую] лётную школу. Но когда вокруг Москвы создалось напряжённое положение, меня мобилизовали в числе прочих. Сейчас направляемся к формировочному пункту, расположенному где-то около Горького. 15–16–17 октября проходила эвакуация Москвы. Университет эвакуируется в Ташкент, к тебе. Ребята вышли из Москвы пешком, — эшелонов не хватило. Многие ребята с нашего курса поспешили сняться с военного учёта и смыться заблаговременно из Москвы. Меня эта эвакуация прельщала не тем, что она спасала меня в случае чего от немецкого плена, а соблазняла меня тем, что я попаду в Ташкент, к тебе. В конце концов, я перестал колебаться, и мы вместе с Арчилом Джапаридзе только вдвоём) не снялись с учёта и вот сейчас уже находимся в армии. Вообще, подробно тебе об этих днях — по-своему интересных — расскажу после. Идя в армию, я лишал себя возможности увидеть скоро тебя. А хотелось видеть тебя! Сейчас нас, людей самых разных возрастов и профессий, ведут по шоссе Энтузиастов по направлению к Мурому. Идём пешком. Устали ноги. Прошли Ногинск и Покров. В какую часть я попаду — не знаю. Адреса у меня пока нет. Хотелось бы видеть, какая сейчас ты. Целую крепко (очень). Ник. Извини, письмо безмарки: нет.Письмо от 8 ноября 1941 г.
Здравствуй, Ирина! Опять пишу. Мы уже за Арзамасом. Скоро перейдём Волгу. В общей сложности, мы должны пройти пешком около 1000 км, из них почти половина осталась за спиной. Через месяц, возможно, прибудем на формир[овочный] пункт. А там неизвестно, куда нас определят. От фронта мы почти так же сейчас далеки, как я далёк сегодня от тебя. Очень беспокоюсь за братьев, равно как и за родителей. Едва ли сейчас в Иваново спокойно. В Муроме встретили некоторых ребят из университета. Они эвакуируются (=бегут) в Ашхабад (а не в Ташкент, как я, было, писал тебе). <…> Увидев нас в шинелях (меня и Арчила), оглядывали нас, как старик Бульба сыновей своих некогда. Пятый курс (не наш) в большинстве своём вот так маскируется по эшелонам, направляющимся в Среднюю Азию. Ну, живу пока ничего. Тяжеловато, но кому ныне легко? О тебе думать хочется и ещё более — видеть тебя. Ты не обязана этому верить — я знаю, смеёшься, поди, небось? Но это — так. Жаль, что у нас неловко всё как-то вышло. Виноват целиком я, па-а-длец! А самое страшное — едва ли удастся увидеть тебя, слишком взаимно противоположные направления приняли дороги наши. Мне 22 года, впереди армия, фронт и вообще чёрт знает что. Ещё страшнее то, что ты думаешь обо мне, пожалуй, не совсем хорошо. И — права. Вот и стучу себя в грудь кулаком, а иногда такое настроение — забыла; ладно, всё перемелется… А верстовые столбы без конца, идёшь-идёшь, думаешь-думаешь, и опять где-нибудь выплывешь, и всё — сызнова. Курю. Думаю. Ругаю. Всех. Себя. Иногда разговаривать ни с кем не хочется. Даже с Арчилом. Насуплюсь и молчу. Тяжело идти, но я, дай бог, более или менее вынослив. Плохо очень с питанием. Есть с чего быть злым. Сплю на шинели, шинелью покрываюсь, в головах — тоже шинель. Не подумай, что их — три шинели. Всё это случается с одной шинелью. А рядом идут куда-то поезда. Может, и в Ташкент. И вдруг рассердишься — да что я в самом деле? Перемелется всё. Будем весёлыми. И ты хорошо живи: веселей, бери всё, что можно, а вообще мне тебя не учить. Это я просто от злости, бешусь. Злых я люблю, сам — злой. Ну, целую. Ещё раз, ещё. Ваш покорный слуга. 8 ноября 41 г. И зачем я пишу всё это? А?..Письмо от 18 декабря 1941 г.
Ирина, здравствуй! За последнее время я никому так много не писал писем, как тебе. Не знаю, радоваться или плакать тебе по этому случаю. Домой я не писал 11/2 месяца, — не знаю, что уж обо мне там теперь думают. О братьях ничего не слышу. А как бы хотелось всё обо всех знать! Сегодня — 18 декабря — ровно 2 м[еся]ца, как я в армии. По этому случаю и пишу, домой, тебе, братьям. Я чуть было не был демобилизован (по приказу по НКО о дипломниках), но почему-то задержали. А то я хотел было ехать в твои края. А теперь перспектива такова. До Нового года нас обещают маршевой ротой отправить на фронт. Но яснее никто ничего не знает. Скучна жизнь, да ничего не поделаешь, — война. Многого бы хотелось, да не всё есть. Сейчас приходится меньше требовать, а больше работать. Хочется увидеть тебя, говорить с тобой, глядеть на тебя. Пока же кое-как удалось прочесть «Юморески» Гашека, «Два капитана» Каверина. Если не читала последнюю книгу, прочти — хорошая… А в общем — скучно и грустно. Радуюсь нашим успехам на фронтах. Боюсь за братьев. Напиши мне письмо, возможно, оно застанет меня здесь. Целую. Ник. Привет от Арчила. 18/XII-41 г.Письмо от 28 декабря 1941 г.
Здравствуй, Ирина! Жду эшелона для отправки на фронт. Нахожусь в маршевой роте. Говорят, нас направляют в гвардейские части, на Московский фронт. Хорошо бы ехать через Иваново — возможно, забегу. Обмундированы хорошо: полушубки, ватники, в дороге валенки дадут. Дали махорки — самое главное. Воевать придётся в самые зимние месяцы. Ну да ладно — перетерплю. Арчила не взяли в гвардию — слепой. Тяжело было расставаться с ним. Поздравляю тебя с Новым годом, 1942 г.! Что-то ждёт меня в этом году. Ты знаешь, как я скверно встретил 1941 г. — был вызван сумасбродной телеграммой в Иваново. Сейчас Новый год тоже встречу в вагоне. Песни петь буду, тебя вспоминать. Жаль, что только вспоминать… Ну, пока всё, кажется. Целую тебя много-много раз. Николай. 28 декабря 1941 г. А. Софронова. Радуга над городом
А. Софронова. Радуга над городом
Воспоминания Ирины Пташниковой о Николае Майорове Студенческие годы
ЦСГ — знаменитое общежитие на Стромынке, Огарёвка — студенческая столовая на улице Огарёва, Горьковская читальня под куполом — места, памятные и дорогие не одному поколению студентов. После лекций, которые бывали обычно с утра, в первой половине дня, университетское студенчество, мы, историки в частности, шли обедать в какую-нибудь из ближайших столовых, чаще всего в Огарёвку. А после обеда занимались до позднего вечера, обычно до их закрытия, то есть часов до 10-ти, в читальном зале на мехмате — на 3-м этаже старого здания университета или в Горьковской читальне под куполом — там же, на Моховой. Вот здесь, на мехмате, я и познакомилась с Колей Майоровым: наши места в читальне оказались случайно рядом. Впрочем, «познакомились» сказано не очень точно: мы с Николаем знали друг друга и раньше, были в одном практикуме, в одной языковой группе и к тому же были соседями по общежитию, но знали друг друга внешне, со стороны, не проявляли интереса. А тут нашли общие интересы, как-то легко разговорились. И возвращались из читальни домой уже вместе. Темой нашего разговора были чьи-то стихи, напечатанные в университетской газете. Позднее эта тема — поэзия — никогда не могла иссякнуть, хотя появилось и много других интересных для обоих тем. Поражала его удивительная работоспособность. Несмотря на то, что по учебной программе нужно было перечитывать буквально горы книг, что приходилось просиживать в читальнях и по воскресеньям, Коля успевал очень много писать. Почти каждый вечер он читал новое стихотворение. Коля легко запоминал стихи и любил на память читать стихи любимых поэтов. Помню его увлечение Блоком и Есениным и в то же время — Уитменом. Помню период особенного увлечения Маяковским. Он даже подражать ему начал (эти стихи не сохранились). Из современников очень любил Твардовского.* * *
…Война подступала всё ближе и ближе. Коля очень глубоко переживал судьбу товарищей, побывавших на финской войне. Помнится, он рассказывал о ранении Сергея Наровчатова, гибели Арона Копштейна. Их он знал по Литинституту (тяжело ранен был его школьный друг Володя Жуков, тоже поэт). Мне кажется, что именно под влиянием этих событий и переживаний создано одно из самых сильных стихотворений Коли Майорова — «Мы».* * *
Наступила последняя наша студенческая мирная зима 1940–1941 года. Опять лекции, занятия в читальне, посещения литературного кружка. Нагрузка у Коли была очень большая: ведь он учился в Литинституте, да и на истфаке в этот год работы было много. В этот год Коля особенно много писал, и именно стихов этого периода почти не сохранилось. В конце 1940 года он закончил большую и, пожалуй, лучшую свою поэму «Ваятель». Судя по письму, которое я получила от него (подписано 19 июля), замысел поэмы возник у Коли в поезде, по дороге в Иваново — на летние каникулы. Он писал: «Приятно лежать на спине и пускать кольца дыма в потолок вагона… Кончил курить. Голова чуть кружилась. Медленно нащупывались какие-то отдельные строчки, потом сон брал своё, слова куда-то проваливались, а память их снова возвращала… Снова навязывались целые строфы. Полез за записной книжкой, а то забуду. Записал. Писать было трудно — вагон качало. Получилось вот что. ТворчествоЕсть жажда творчества, уменье созидать,
На камень камень класть, вести леса строений.
Не спать ночей, по суткам голодать,
Нести всю тяжесть каждодневных бдений…»
…А небо будет яростно и мглисто
Пылить с боков
Снежком голубизны…
Быть может, ты
Неопытным туристом
Сорвёшься с той
Проклятой крутизны,
Но ты не трусь!
Назад тебе — ни шагу!
Грозит обвалом
Каждый поворот.
И не убив —
Не прячь обратно шпагу,
И падая,
Ты сделай шаг вперёд!
(……………)
Ведь сущность жизни
Вовсе не в соблазне,
А в совершенстве форм её и в том,
Что мир грозит,
Зовёт тебя и дразнит,
Как женщина с ума сводящим ртом…
* * *
Окна Горьковской читальни на Моховой, где мы готовились к очередному экзамену по диамату, были широко открыты. И не все сразу поняли, что же произошло, когда с площади донеслась передаваемая всеми радиостанциями Союза грозная весть. Но все, один за другим, вдруг поднялись и вышли на улицу, где у репродуктора уже собралась толпа. Война!.. Помню лицо пожилой женщины, в немом отчаянии поднятое к репродуктору, по нему текли слёзы. Мы же в тот момент ещё не вполне реально представляли, что нас ждёт. У нас с Николаем в это время как раз была размолвка. Увидев друг друга, мы даже не подошли, поздоровавшись издали. И только через несколько дней, когда всем курсом девушки провожали ребят на спецзадание, мы вдруг осознали всю серьёзность, весь ужас происходящего. Я очень хорошо помню этот вечер. Заходило солнце, и запад был багровым. На широком дворе одной из краснопресненских школ выстроились повзводно уезжающие на спецзадание студенты. Помню Николая в этот момент — высокий, русоволосый, он смотрел на кроваво-красный запад широко распахнутыми глазами… Что видел он там? Судьбу поколения, так хорошо предсказанную им в стихотворении «Мы»? Может быть, именно в тот момент он особенно ясно понял это, почувствовал, что «Мы» — это стихи о нём самом, о его товарищах, что «ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы», в бой за мир и счастье, в бой, который помешал им прожить большую жизнь и дойти до потомков в бессмертных творениях, а не только в «пересказах устных да в серой прозе наших дневников…». Видно, и у меня в этот момент шевельнулось какое-нибудь тяжёлое предчувствие и горестно сжалось сердце, только я бросилась к Николаю, и мы крепко обнялись. Это была наша последняя встреча…* * *
Многих студенток 4-го курса отправили на работу по специальности. Я попыталась было попасть на фронт, но из-за сильной близорукости меня не пропустила медкомиссия. Тогда я получила назначение на работу и уехала в Ташкент. Адреса Николая я не знала и, уезжая, оставила ему открытку по адресу его друга, студента художественного института Н. Шеберстова. В ответ я получила от Николая несколько писем из армии. Ни одно из них не имело обратного адреса. Это очень хорошие письма, душевные и трагичные, очень характерные для Николая. В одном письме он писал: «Ты желаешь мне мужества, если буду в бою. Спасибо. Хоть ты знаешь, что я в этом деле не отличусь. Но что смогу — сделаю». Человек скромный, даже застенчивый, лишённый малейшей рисовки и показного, скорее гражданский, чем военный, Коля Майоров в то же время был наделён большой внутренней силой, мужественной убеждённостью, которые прорывались наружу, когда он читал свои стихи. Мне рассказывали уже после войны, что Коле предлагали уехать в Ярославское военное училище. Буквально в последнюю минуту отказался он и от возможности отправиться на фронт с агитбригадой, куда его устроили было. Он выбрал бой, передовую. Он не мог иначе. В марте 1942 года в ответ на моё письмо родные Николая написали мне, что получено извещение о его гибели: «Убит 8 февраля 1942 г. И похоронен в деревне Баренцево Смоленской области». Много лет я хотела разыскать эту деревню, но только летом 1958 года попробовала это осуществить. Ни одной деревни Баренцево в Смоленской области не оказалось, нет её и в тех районах Смоленщины, которые отошли к Калужской области после войны. Есть на Смоленщине, в 20 километрах к югу от Гжатска, деревня Баранцево, состоящая всего из нескольких старых изб. Там мне показали сровнявшуюся с землёй могилу двух советских солдат, убитых в конце зимы 1942 года. Но кто они — не известно. Вполне возможно, что один из них и был Николай Майоров, политрук пулемётной роты 1106-го стрелкового полка 331-й дивизии. В платёжной ведомости этого полка за февраль Майорову причиталось что-то получить, но подписи его нет… Он ведь был убит 8 февраля. (Об этом я узнала в архиве Советской армии в Подольске летом 1958 года.) Не удалось разыскать и однополчан Коли, которые могли бы сказать, как он погиб и где похоронен. Два года назад в газетах и по радио заговорили о подвиге Саши Виноградова и его одиннадцати товарищей, погибших под Москвой, на 152-м километре Минского шоссе в феврале 1942 года. А ведь Коля Майоров воевал тоже в тех местах и примерно в то же время. Может, выход книги Коли Майорова поможет разыскать его однополчан, выяснить подробности его последних дней.* * *
И ещё одна, пожалуй, наиболее важная задача: как найти пропавшие стихи и поэмы Николая, как узнать, где он оставил свои вещи, уходя добровольцем в армию 19 октября 1941 года. В первый день войны к Коле из Иванова приезжал его младший брат, Александр. Было ему тогда лет семнадцать. Он вспоминает, как вместе с братом заходил к одному товарищу, у того лежал Колин чемодан с книгами, и Николай просил брата увезти некоторые книги домой. Александр предложил забрать всё, но Николай только рукой махнул: до барахла ли теперь? Были поиски, были догадки, но без результата… Но, видимо, не всё ещё потеряно — не все ещё возможности проверены.* * *
Коля Майоров обещал многое. Поэт яркого, самобытного таланта и исключительной трудоспособности, он рос буквально на глазах. И не его вина, что так мало удалось донести до людей. Но и это немногое не забудется, как не забудутся и те, что в бой «ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы». М. Соколов. Берег с лодками
М. Соколов. Берег с лодками
Библиография
Майоров Н. П. Мы. Книга стихов / Предисл. П. Антокольского. (В кн. также: Памяти поэта. Воспоминания Д. Данина, И. Пташниковой, В. Жукова, Н. Глазкова, М. Львова). М.: Молодая гвардия, 1962. Майоров Н. П. Мы были высоки, русоволосы / Предисл. А. Туркова. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1969. Майоров Н. П. Мы / Предисл. Н. Банникова. М.: Молодая гвардия, 1972. Аннинский Л. А. Николай Майоров: Возьми шинель — покроешь плечи // Аннинский Л. А. Красный век. Эпоха и её поэты [в 2 кн.]. М.: ПРОЗАиК, 2009. Кн. 2. С. 280–291. Голубев Н. А. Ивановские тетради Николая Майорова / Н. Майоров // Откровение: лит. — худ. альманах. № 20. Иваново: Талка, 2014. С. 327–351. Голубев Н. А. Она помнит губы и голос поэта // Откровение: лит. — худ. альманах. № 17. Иваново: Талка, 2011. С. 141–154. Жуков В. С. «Мы были высоки, русоволосы…» // Тропинки памяти. Воспоминания и статьи о писателях-ивановцах. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1987. С. 151–159. Куликов Б. П. Николай Майоров. Очерк жизни и творчества. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1971. Куприяновский П. В. Голос поколения // Куприяновский П. В. В широком потоке. Иваново: Кн. изд-во, 1963. С. 132–136. Немировский А. И. О Николае Майорове (Воспоминания) // Откровение: лит. — худ. альманах. № 2. Иваново: Талка, 1995. С. 125–137. Ружина В. А. Нам страх и подлость были не к лицу… / Н. Майоров // Поэзия. Вып. 20. М.: Молодая гвардия, 1977. С. 147–153. Сердюк В. Е. Выше смерти. Страницы жизни Николая Майорова // Сердюк В. Е. Судьба писателя. Воспоминания и размышления. Иваново: ИД «Референт», 2011. С. 48–101. Таганов Л. Н. Ивановское братство поэтов-фронтовиков // Таганов Л. Н. «Ивановский миф» и литература. Иваново: Листос, 2014. С. 250–294. Терентьев В. П. Тайна поэта с «божьей искрой» // Ивановская газета [Ив. обл.]. 2013.16–18 января.Список репродукций
1. Секирин Николай Петрович (1899–1963). Рисунок к картине «В госпитале». 1945. Бумага, карандаш. 42x30,5. 2. Пророков Борис Иванович (1911–1972). Листы из альбома для рисования. 1928. Бумага, уголь, карандаш. 24x24,5 (Фонд Б. И. Пророкова). 3. Юдин Лев Александрович (1903–1941). В деревне. 1940. Бумага, офорт. 11x14,5. 4. Цуп Дмитрий Павлович (1908–1995). Иваново после дождя. Из серии «Иваново». 1940-е. Бумага, карандаш, уголь. 29,5x38,5. Интерьер.1950-е. Бумага, карандаш. 25,7x20. Городская улица. Из серии «Иваново». 1940-е. Бумага, карандаш. 30x35. Интерьер. У окна. 1950-е. Бумага, карандаш. 20x22. На железнодорожных путях. 1950-е. Бумага, карандаш. 20x22. Утреннее солнце. Уславцево. 1964. Бумага, карандаш. 40,7x59,5. В мастерской художника. 1950-е. Бумага, карандаш. 19x15. Поле осенью.1962. Бумага, карандаш. 40x60,5. 5. Лукин Борис Николаевич (1913–1987). Улица. 1932. Бумага, тушь, кисть, перо. 34,2x23,5. 6. Соколов Михаил Ксенофонтович (1885–1947). Ландыши. Бумага, тушь. 22,5x17. Женский портрет. 1920. Бумага, перо, тушь. 42x29,7. Пейзаж с деревом. Бумага, пастель. 29,7x20. Дама. Из цикла «Прекрасные дамы». 1930-е. Бумага, тушь, перо, акварель. 31,2x22. Дама с птицей. Бумага, сангина. 36x25,5. Берег с лодками. Бумага, карандаш. 28x30,2. 7. Кулагин Фотий Михайлович (1917–1977). Мужской портрет. 1940-е. Бумага, карандаш. 16x11. Женский портрет. 1940-е. Бумага, карандаш. 22x15,5. 8. Софронова Антонина Фёдоровна (1892–1966). Два деревца. 1927. Бумага, тушь, перо. 19,6x17,6. Радуга над городом. 1928. Бумага, тушь, перо. 19,6x17,6. 9. Серов Василий Васильевич (1911–1993). Демобилизация. 1945. Бумага, карандаш. 24,9x33,4. 10. В офоормлении перёплета использована репродукция рисунка Д. П. Цупа «Демидовская улица весной» (из серии «Иваново»). 1949. (Бумага, карандаш. 31,5x43,5). 11. На переднем и заднем форзацах: Цуп Д. П. Листы из альбома эскизов «Иваново». 1947. (Бумага, картон, карандаш, сангина. 20x28, 2x1,2).



Примечания
1
Вступление к несохранившейся поэме «Ваятель», написанной в 1939–1940 годах. Константин Титов (одноклассник и друг Н. Майорова) свидетельствовал: «Поэма навеяна встречами со скульптором Степаном. Фамилии его я не помню. Помню только, как ходили к нему в мастерскую-гараж, беседовали об искусстве и выпивали». В черновике к стихотворению «Творчество» остались строчки:А жизнь научит правде и терпенью,
Принудит жить, и, прежде чем стареть,
Она заставит выжать всё уменье,
Какое ты обязан был иметь.
В Москве у Земляного вала
В часовенке иль в бывшем гараже,
Где с потолка течёт, где света мало,
Где штукатурка рушится обвалом,
Он поселился в нижнем этаже.
В квартире пахло прежними жильцами.
Ваятель был скуласт и неумел.
<…>
И плитняком наполовину застлан,
Светился пол нечищенный. Слегка
Пахнуло деревянным маслом
От жёлтого, как лето, косяка.
— Затворнику не надо лучше места, —
Он пробурчал спустя пяток минут.
Он не имел пока ещё невесты,
И, стало быть, не надобен уют.
2
«На реке» — единственное стихотворение Н. Майорова, напечатанное при жизни автора в сборнике: Парад молодости. Физкульт. стихи и песни / 2-й Всесоюзный день физкультурника. М.: Физкультура и спорт, 1940. (обратно)3
Стихотворение «Детство» впервые опубликовано В. А. Ружиной в 1977 г. — см.: Библиография. (обратно)4
Стихи «Апрель», «На третьей полке сны запрещены…», «Дед» — предположительно, отрывки утерянной поэмы «Семья», написанной до 1940 года. Николай Банников (университетский товарищ поэта) определяет её как «стихотворную повесть из сельского быта». По мнению исследователя Б. П. Куликова, в произведении «Майоров намеревался проследить историю развития, большой крестьянской семьи, её приход в революцию, показать противоречия, раздиравшие крестьянство в годы коллективизации». Известны и другие фрагменты поэмы:Суп на столе уже дымился.
Детей кричали на обед.
И грязным кулаком крестился,
Глядя куда-то в угол, дед.
На нём огромная рубаха
(Носил её он с Покрова)
Пылала кровью, словно плаха,
С которой пала голова.
И пот стекал по переносью
(Густая мутная вода)
Туда, где рыжая, как осень,
На грудь спадала борода.
<…>
И, оторвавшись ото сна,
В тоске о сыне годовалом
Худые руки занесла
Мать над цветастым одеялом.
И ей мерещились гробы
И крышки с траурной каймою.
А от дверной косой скобы
Уже повеяло зимою…
5
Стихотворение «Август» впервые опубликовано В. А. Ружиной в 1977 г. — см.: Библиография. (обратно)6
Стихотворение «Зов жизни» впервые опубликовано В. А. Ружиной в 1977 г. — см.: Библиография. Стихотворение встречается в двух редакциях (вероятно, разновариантные рукописи хранились в архивах В. Н. Болховитинова и В. С. Жукова). Разночтения (см. курсив) касаются второй половины стихотворения:…не торопясь, кузнец в тяжёлых лапах
ласкал и тешил глупую жену.
Так мнёт горшечник розовую глину,
крутя её, как древний ворожей.
Так парни тащат за пальто к овину
бесстыжих хуторянок от мужей.
Дорога шла вразвалку от села
За рожь, в кусты, в душистые осины.
Там девка парня за руку вела,
в глаза глядела, за виски брала
и рассказать о звёздах не просила.
Что услышишь в ночь такую?
То ли влага бьёт в суку?
То ль тетерева токуют
в ночь такую на току?
7
См. Примечание 9 (к стихотворению «Утро»). (обратно)8
«Я сегодня пою по-иному…», «Юбилейное» — стихи из рукописных сборников школьного периода. Три тетради «Ухабы», «Смех», «Восемнадцатая весна» (иллюстрированные Н. Шеберстовым) передала в РГАЛИ (Ф. 1346. Оп. 4. Ед. хр. 101) в 1960 году О. В. Кульчицкая — сестра поэта Михаила Кульчицкого (1919–1943), товарища Н. Майорова по Литинституту. Известно, что двенадцать школьных рукописных сборников Майорова хранились в архиве В. Н. Болховитинова. (обратно)9
Стихотворение «Утро» Н. Майоров представил в 1938 году при поступлении в Литературный институт. Последнее четверостишие имело следующую редакцию:Глубиной пугает заводь
За осокой пустыри, —
Так встаёт перед глазами
Утро заспанной земли.
10
«В августе», «Пусть помнят те, которых мы не знаем…», «Когда к ногам подходит стужа пыткой…», «Нам не дано спокойно сгнить в могиле…». Литератор Геннадий Серебряков утверждал, что эти стихи написаны Н. Майоровым на фронте «в короткие передышки между кровопролитными боями». Серебряков пишет об этом факте как об открытии — однако ничем его не подтверждает (Серебряков Г. Пусть помнят // Комсомольская правда. 1969. 16 сентября. С. 2.). (обратно)11
См. Примечание 4. (обратно)12
Стихотворение «В вагоне» написано по дороге в Иваново. В черновике есть строка «И чьи-то спутанные губы шептали тихое „прощай“». (обратно)13
Стихотворение «Его герои» впервые опубликовано В. А. Ружиной в 1977 г. — см.: Библиография. (обратно)14
См. Примечание 4. (обратно)15
Н. Банников вспоминал строфу, «примыкавшую к этим [о детстве] стихотворениям, так ни в каких записях и не найденную»:Сваты топали ногами,
Ела тёща пироги.
У невесты под глазами
Стыли синие круги.
16
См. Примечание 9 (к стихотворению «Утро»). (обратно)17
В черновиках стихотворения сохранились строчки (показательные для мироощущения Майорова), не вошедшие в чистовую рукопись:Как твой полёт, мой путь опасен;
В нём шрамом — каждая строка.
<…>
Ходить землёй и видеть звёзды
И, позабыв про крик «Не тронь!»,
Ловить руками близкий воздух
И зажимать его в ладонь.
Последние комментарии
3 часов 46 минут назад
3 часов 59 минут назад
4 часов 33 минут назад
5 часов 5 минут назад
20 часов 35 минут назад
20 часов 45 минут назад