Ключ от рая [Атаджан Таган] (fb2) читать онлайн
- Ключ от рая (пер. В. Росляков, ...) 3.21 Мб, 533с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Атаджан Таган
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Атаджан Таган КЛЮЧ ОТ РАЯ
Атаджан Таганович Таганов

 Художник Б. Месропян.
Редакционный совет библиотеки
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
Председатель редакционного совета Сергей Баруздин
Первый заместитель председателя Леонид Теракопян Заместитель председателя Александр Руденко-Десняк Ответственный секретарь Елена Мовчан
Члены совета:
Акрам Айлисли, Ануар Алимжанов,
Лев Аннинский, Альгимантас Бучис, Василь Быков, Юрий Ефремов,
Игорь Захорошко, Наталья Иванова, Анатолий Иващенко, Наталья Игрунова, Юрий Калещук, Николай Карцов,
Алим Кешоков, Юрий Киршин,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе, Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко, Александр Овчаренко, Борис Панкин, Вардгес Петросян, Тимур Пулатов,
Юрий Суровцев, Бронислав Холопов, Константин Щербаков
Художник Б. Месропян.
Редакционный совет библиотеки
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
Председатель редакционного совета Сергей Баруздин
Первый заместитель председателя Леонид Теракопян Заместитель председателя Александр Руденко-Десняк Ответственный секретарь Елена Мовчан
Члены совета:
Акрам Айлисли, Ануар Алимжанов,
Лев Аннинский, Альгимантас Бучис, Василь Быков, Юрий Ефремов,
Игорь Захорошко, Наталья Иванова, Анатолий Иващенко, Наталья Игрунова, Юрий Калещук, Николай Карцов,
Алим Кешоков, Юрий Киршин,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе, Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко, Александр Овчаренко, Борис Панкин, Вардгес Петросян, Тимур Пулатов,
Юрий Суровцев, Бронислав Холопов, Константин Щербаков
Крепость Серахс (роман)

Перевод В. Рослякова.С утренней молитвой «Алла-хи акбер» начинался над старой крепостью еще один божий день. Никто не знал, чем окончится этот день, но начинался он точно так же, как и вчерашний. Золотилось небо над степью, медленно поднималось солнце, и с первыми его лучами с высокого минарета прозвучала та же молитва. Полная луна, как и вчера, низко висела над кладбищем Дуе-боюн[1]. Каменная глыба, поставленная в незапамятные времена среди могил и напоминавшая могучую шею исполинского верблюда, также тянулась к небу, словно хотела достать оттуда луну… Из крайней кибитки аула, рассыпавшегося у подножья крепости, вышел плотный круглолицый человек, неспешно подошел к лошади, привязанной к вбитому в землю железному клину, огляделся по сторонам, словно ища кого-то взглядом, отвязал заседланного вороного коня и с легкостью, удивительной для тучного тела, вскочил в седло. Это был Каушут, старший сын одного из предводителей серахских туркмен покойного Яздур-ды-хана. Каушут носил коротко подстриженную бороду, и на вид ему было не больше сорока. В седле он еще раз огляделся вокруг: что-то задерживается сердар[2]. Не успел он подумать об этом, как из-за соседней кибитки выехал на гнедом коне тот, кого ждал Каушут. — Саламалейкум, сердар! Приближавшийся всадник в ответ протянул вперед руки. Он был молод еще, на десяток лет моложе Каушу-та, и в седле сохранял вид энергичного и отважного человека. Звали его Тач-гок сердаром, иногда, несмотря на его молодость, просто сердаром. Вслед за Тач-гоком один за другим стали подходить аульчане. Первым явился сосед Каушута Келхан Кепеле, человек, известный в ауле тем, что не имел ни жены, ни детей, а все богатство его составлял один старый-престарый верблюд. После смерти жены у Келхана Кепеле ничего не получилось с новой женитьбой, но он все еще продолжал надеяться устроить свою судьбу и цеплялся за каждый случай, чтобы поинтересоваться какой-нибудь вдовушкой, объявившейся, по слухам, где-нибудь поблизости. Он тайно хранил надежду на счастье и поэтому, несмотря на возраст, все еще не отпускал бороду. В народе называли его Келханом Ленивым, слишком уж был толст, неряшлив и равнодушен ко всему на свете. Но сегодня он выглядел необычно, видно было, что привел себя хоть в какой-то порядок: и желтые ичиги на ногах, и поношенный шелковый халат были на нем не те, что вчера. — Ты что вырядился, Келхан? — спросил Тач-гок сердар. Толстяк погладил чисто выбритые щеки и улыбнулся: — Нас сегодня зовут на свадьбу Пенди-бая. — Ах ты, я и забыл, что сегодня свадьба! — воскликнул Каушут, также оглядывая Келхана с головы до ног. — Хорошо, когда тебя приглашают на свадьбу! — Ишака зовут, чтобы взвалить на него груз, Каушутджан, — ответил Келхан пословицей. — Ты же знаешь, нас не для того зовут, чтобы в красный угол посадить. Скот будем резать. — Ишак не спрашивает платы с собственных копыт, Келхан. Режь скот или сиди в красном углу, лишь бы это была свадьба. — Верно говоришь. Пускай будут свадьбы, лишь бы не поминки. На свадьбе я готов хоть казаны чистить. В это время еще из одной кибитки выглянул человек, в нерешительности остановился на пороге. То был младший брат Каушута Ходжакули. После вчерашнего спора он вряд ли вышел бы пожелать Каушуту благополучного возвращения, если бы тому не предстоял такой далекий и опасный путь. Ходжакули постоял немного в раздумье и решительно направился к отъезжавшим, словно спешил сообщить им хорошую новость. С ходу он обратился к брату: — Может, все-таки раздумаешь, Каушут? — Может, ты и с сердаром поздороваешься, если только не спали вместе? — съязвил Каушут. Ходжакули не понравилось, что брат ушел от ответа, но понял свою ошибку и тут же протянул обе руки Тач-гоку. А народ все подходил, окружая всадников тесным кольцом. Ходжакули считал себя человеком чистым, он вообще не любил ни споров, ни тем более скандалов, но на этот раз был решительно против того, чтобы его старший брат, оседлав коня, отправлялся в такое опасное место, как Иран, вызволять из плена захваченных раньше туркмен. Поэтому, не обращая внимания на обступивших людей, он продолжал свой спор с Каушутом: — Что, в Серахсе, кроме тебя, нет других людей? Есть тут и ханы и беки. Каушут, словно не желая разговаривать с братом, отвернулся в сторону Тач-гока. — Слышишь, сердар? В наше время мужчины хуже женщин стали. Вон жена моя, стоит молча, а младший брат слезы проливает. — Если ты так говоришь, то енге[3], которая сейчас молчит, после будет слезы лить, перед пустой постелью. Только потом поздно будет. Чувствуя, что разговор заходит слишком далеко и может кончиться плохо, Тач-гок попытался успокоить Ходжакули. — Мы ведь не на грабеж и не на войну идем, Ходжакули. Едем милости просить. Мы вроде как нищие без котомок. А поэтому… Но Ходжакули и Тач-гоку возразил: — Поэтому, — сказал он, — если нищих с сумой собаками встречают, то вас, без сумы, встретят свистом пуль. — Повернулся и ушел прочь. Каушут грустной улыбкой проводил брата. Из толпы стали раздаваться пожелания и напутствия: — Возвращайтесь благополучно! — Будьте осторожны! — Да поможет вам аллах! Выступила вперед и подошла к Каушуту сгорбленная, одетая в лохмотья старуха. В руках она держала лепешку. Протянула ее Каушуту, но не могла достать даже до спины лошади. Каушут наклонился и обеими руками принял хлеб. — Каушутджан, сынок, будьте осторожны и возвращайтесь благополучно. Каушут улыбнулся, чтобы люди не падали духом. — Послам смерти нет, старая, — напомнил он народную мудрость. — Доберемся благополучно и… — И вдруг запнулся, будто понял свою ошибку, будто натолкнулся на недоброе предчувствие, но все же досказал — И если поможет аллах, людей с собой приведем. Старуха приложила ковшик ладони к уху, но, ничего не расслышав, кроме слова «аллах», сказала; — Да поможет вам аллах, сынок. Каушут посмотрел на столпившихся аульчан и подумал, что слишком неосторожным и опрометчивым было его обещание привести с собой пленников. Он заметил в толпе пятнадцатилетнюю Каркару, державшую за руку младшего братишку Ораза. Их отца, соседа Каушута, Дангатара тоже угнали персы, и у Каркары с Оразом не осталось никаких кровных родственников. Кроме семнадцатилетнего сироты Курбана, племянника Дангатара. С недавнего времени Курбан жил в доме своего дяди. Мать Каркары, и без того больная, умерла вскоре после того, как угнали мужа. Разные слухи доходили до аула о судьбе Дангатара. Одни говорили, что шах Ирана замучил его в зиндане[4], другие, что Дангатар бежал из зиндана, но принц Хемзе Мурза поймал его и выколол глаза. Однако толком никто ничего не знал, а слухи разными путями доходили и до Каркары с Оразом. Перед ними-то и опрометчиво было давать такие обещания. Но Каушут все же рискнул попытать счастье, отправиться в опасный путь, главным образом из-за несчастной Каркары, судьбу которой принимал близко к сердцу. Даже самая неприглядная девушка, если у нее не было родственников, чтобы защитить ее, всегда оказывалась жертвой досужих негодяев, а Каркара росла чуть ли не первой красавицей во всей округе, и уже теперь пятнадцатилётняя девчонка была приманкой для дурного глаза. Всадники, распрощавшись с людьми, взяли направление к южной границе. Отъехав немного, они обернулись на преследовавший их детский крик: — Кау-шу-ут-ага! Отделившись от толпы, к ним бежал мальчонка в длинной бязевой рубашке. Уже совсем близко он вдруг упал, запутавшись в подоле своей длинной рубахи, но тут же вскочил на ноги, подбежал к поджидавшим всадникам, поднял вверх испачканное личико и тоненьким голоском спросил: — Каушут-ага, Тач-ага! Моего папу вы тоже привезете? Мой папа приедет с вами? Тач-гок сердар посмотрел на Каушута, спрашивая глазами, что тот может ответить мальчугану. Каушут опустил голову, и его взгляд остановился на босых ногах мальчика. Большой палец кровоточил, на нем налипла грязь, пропитанная кровью. Но малыш стоял перед всадниками задрав личико, он не обращал внимания на боль, весь превратившись в слух, ожидая ответа. Каушут не знал, куда деть свои глаза, наконец повернулся к Тач-гоку. Тач-гок сердар, славившийся своей отвагой, когда дело касалось кинжальных схваток, в эту минуту чувствовал себя не лучше мальчугана, сердце его разрывалось от жалости к маленькому человечку. Каушут, задумавшись, смотрел перед собой на седельную луку, где ослепительно сверкала под солнцем металлическая заклепка. Грубыми пальцами он щелкнул пару раз по этой заклепке и наконец проговорил: — Папа твой приедет, сынок, обязательно приедет. Мальчишка подпрыгнул на месте, словно наступил на огонь. — Когда приедет, Каушут-ага, когда? Каушут вообще-то был не уверен, вернется отец мальчика или нет, но если и вернется, то он не знал, когда это может случиться. Он молчал. Вместо него ответил Тач-гок сердар: — Вот поспишь три ночи, и отец твой будет дома, пальван![5] Каушут тронул коня. Мальчишка побежал назад, одной рукой придерживал подол рубахи, другую поднял вверх, громко вопя от радости: — Ахе-е-е-ей! Каушут оглянулся назад и посмотрел вслед счастливому мальчугану. Две лошади медленно несли всадников по иссушенной земле, заросшей верблюжьей колючкой. Всадники молчали. Наконец, когда Серахс уже стал теряться вдали, Тач-гок проговорил: — А не окажемся ли мы обманщиками, Каушут? Каушут повернулся к нему. — Мы не можем, — сказал он, — отвоевать пленников силой, сердар, у нас ее нет; не можем откупиться скотом — у нас нет скота. Только мир несем мы с собой, остается одно — ждать, как распорядится судьба. — Мы пленных персов освобождаем без всякого выкупа, — недовольно сказал Тач-гок сердар. — Без выкупа отпускаешь ты да такие, как ты, а погляди, как обходится со своими рабами Ходжам Шукур. — Да, у них ведь тоже дети, семьи… — Ты погляди, — воскликнул вдруг Каушут, — кажется, и сам хан идет! От реки шагал, ведя в поводу статную гнедую лошадь, хромавшую на переднюю ногу, хан Серахса Шукур Кара. На голове его была мерлушковая папаха, на плечах— синий чекмень[6]. Он вел с водопоя своего коня, который всегда брал первые призы на скачках, а на последнем состязании повредил переднюю ногу. Хан так любил скакуна, что сам задавал ему корм и водил на водопой, а теперь, когда конь стал хромать, Ходжам Шукур-хан и вовсе забыл обо всем, кроме любимца. Голодный народ, пленники, томящиеся в иранских зинданах, — все ушло на второй план. Поравнявшись с ханом, Каушут придержал коня, поздоровался. Ходжам Шукур ответил на приветствие, потом спросил: — Куда путь держите? — Путь держим к персам, хан-ага. — На разбой, грабеж или еще что задумали? — Едем пленников выручать, хан-ага, — сказал Каушут. — Раз уж те, кто должен выручать пленников, за ухом не чешут, решили сами сделать попытку. Ходжам Шукур понял намек, но последнее слово хотел оставить за собой. — Зачем же из-за девяти пленников беспокоить нукеров и ханов? В постоянных схватках такие потери неизбежны, и если думать об этом, надо все дела свои забросить, Каушут-хан… — Как нога заживает у скакуна, хан-ага? — перебил хана Каушут. Эти слова его означали: у тебя ведь никаких других дел нет, кроме заботы о своей лошади. Намек Ходжам Шукур уловил мгновенно. Но поскольку не знал, как ответить на это, предпочел сделать вид, что намека не понял. — Да, нога заживает, — ответил он и решил переменить тему разговора. — Из каких племен эти девять? — Хан-ага, — ответил на этот раз Тач-гок, — восьмерых мы и сами не знаем, девятый из аула Каушута. — Как зовут его? — Дангатаром зовут. Скромный человек. Жена умерла от горя, остались сиротами мальчишка и девочка. — А у кого пленники? — У Апбас-хана. — А что вы взяли на выкуп? — Ходжам Шукур краем глаза взглянул на хурджуны[7] путников и погладил свою редкую бороденку. — Что-то груз ваш не больно тяжел. Каушуту не хотелось долго препираться с ханом, и он ответил напрямик: — Скота для выкупа у нас нет, хан-ага. Есть только кривые сабли мастера Хоннали. А в хурджунах ничего, кроме еды. — И еще скажите, что на плечах у вас черные головы! — Ходжам Шукур насмешливо улыбнулся, — С такими подарками ехать, можно и головы потерять. — Черная голова всегда готова, — отозвался Тач-гок. — Если она может спасти людей, то не станет жалеть о себе. — Когда голова слетает ради других, она не думает об этом, — добавил Каушут. Хан скривил губы: — От чьего имени едете? — От имени народа, хан-ага. Ходжам Шукур деланно рассмеялся: — Светлый вам путь! Если вернетесь, сообщите, будем рады. Эти слова хана не понравились Каушуту. Он хотел ответить что-нибудь резкое, но ему помешал курносый человек, скакавший рысью со стороны реки. Человек еще на ходу закричал: — Хан-ага, ты задерживаешься. Люди ждут тебя. Хан сделал удивленное лицо, как будто не мог сообразить сразу, в чем дело. Но потом вроде вспомнил. — А, эта женщина… — Женщина женщиной, но толпа стоит. Люди не начинают без тебя. Ходжам Шукур неторопливо передал поводья человеку, успевшему уже соскочить со своей кобылы. — На, отведи коня. Смотри только не сядь верхом, у тебя хватит ума! Человек принял поводья, а Ходжам Шукур, чтобы лишний раз показать свою силу, еще державшуюся в немолодом теле, легко вскочил на чужую кобылу и, быстро усмирив ее, проговорил, не обращаясь ни к кому: — Да, люди разные живут на свете. Надо же! И на этой кляче кто-то ездит! Потом обернулся назад и уже совсем другим тоном сказал: — Ну, молодые люди, не худо бы и вам посмотреть, как надо оберегать честь мусульман. Если вам по дороге, следуйте за мной! Тач-гок и Каушут не представляли, что ожидает их у реки, но, поскольку им было по пути, двинулись за ханом. …По обоим берегам реки толпился народ. Здесь были только мужчины. На правом берегу, в трех-четырех шагах от толпы, сидела женщина. Она надвинула пуренджек[8] на самое лицо и спрятала голову в коленях. Видно, не все толком знали, в чем она провинилась, и люди вполголоса передавали один другому дошедшие до них слухи. Едва появился Ходжам Шукур на чужой неказистой кобыле, все замолчали, ожидая, что скажет хан. Но Ходжам Шукур не торопился начинать, словно предоставляя это право своим соплеменникам. И действительно, вскоре из толпы вышел молодой человек в накинутом на плечи чекмене и черной папахе. Он подошел к Ходжаму Шукуруг — Хан-ага, разрешите мне обратиться к этой женщине. Хан приосанился и слегка сощурил глаза. — А кем, скажи нам, она доводится тебе? Молодой человек смущенно опустил голову, словно не решаясь сказать. — Не стесняйся, юноша, не стесняйся. За свою вину она ответит сама. — Это моя енге, — не поднимая головы, ответил молодой человек. — А где же брат твой? — Брат умер. — Давно ли? — Меньше года, хан-ага. Ходжам Шукур изобразил на своем лице гнев и даже заскрипел зубами. — Меньше года? Меньше года, говоришь, не могла потерпеть? Да такую и собакам кинуть мало!.. У молодого человека покраснело лицо. Он переложил плеть из одной руки в другую и сделал нетерпеливое движение. — Хан-ага, если можно… — Можно, юноша, говори… Молодой человек решительно направился к женщине и остановился возле нее. — Скажи, ты виновата, или все это одни сплетни? Женщина молчала. — Скажи правду: если ты не виновата, я не дам тебе умереть. Говори!.. Тач-гок и Каушут, стоявшие в стороне, уже поняли, в чем дело, и их взгляды были устремлены теперь на Ходжам Шукур-хана. Его авторитет в народе за последнее время сильно упал. Те, кто хоть немного уважал себя, перестали приходить к нему за советом. Хану надо было теперь самому заботиться о своей репутации. А он знал, что поднять ее может только толпа. И поэтому, как только распространился слух, что енге этого юноши переступила закон шариата, хан решил использовать возбуждение народа в своих целях. Он должен был предугадать мнение толпы и согласно с нею произвести свой суд, не заботясь о том, будет он справедлив или нет. — Если ты не виновата, я спасу тебя. Говори же! Правда это? Говори! Вопрос был повторен второй и третий раз, но женщина не отвечала.
 Ходжам Шукур приподнялся на стременах:
— Юноша, она не может сказать «нет». Если она обманет нас, то аллаха ей не удастся обмануть. Что, у него нет глаз и ушей, чтобы видеть и знать все?!
— Собака, такого честного парня опорочила! — послышалось из толпы.
Молодой человек на минуту растерялся, видимо не зная, что делать. И вдруг поднял плеть и изо всей силы ударил женщину по голове. От его удара женщина повалилась на землю, но и тогда не издала ни звука и не открыла лица.
— Зачем же мучить перед смертью? — пожалел чей-то голос.
Молодой человек, уже собравшийся было уйти, словно в ответ на эти слова сделал шаг вперед и с размаху ударил несчастную сапогом и после этого скрылся в толпе.
Ходжам Шукур еще раз оглядел притихших аульчан.
— Люди! Когда мусульмане забывают, что они мусульмане, все родные и соплеменники становятся для них чужими. Эта женщина предалась соблазну и нарушила мусульманский обычай. Воля аллаха, она пойдет в ад…
Хан сделал знак рукой, и от толпы отделились два рослых человека и подошли к нему. Под мышкой у одного из них был чувал[9] с завязками.
— Аллах простит вас, — сказал хан, не глядя на них, и повернул свою кобылу мордой к реке.
— За таких жен нечего прощать, — заявил кто-то уверенно. — Наоборот, вы заслужите себе рай.
Двое подошли к женщине. Первый легко подхватил ее на руки, второй сразу же стал натягивать на нее чувал. Женщина пронзительно закричала. Сперва крик ее был громким и резким, а потом, когда чувал завязали, сделался сразу глухим, словно доносился из-за войлочных стен кибитки.
Когда чувал понесли к реке, толпа снова заволновалась. Отчетливо послышались голоса тех, кто стоял поближе:
— Что вы делаете! Пожалели бы человека!
— Нечего таких жалеть. Пусть знает, собака!
— Таких только в воду бросать!
На берегу двое мужчин перехватили чувал так, чтобы удобней было держать, раскачали и бросили в реку. На лету чувал забился, но эти движения уже воспринимались как агония обреченного на смерть тела. Через секунду чувал с сильным всплеском упал в воду и исчез в ней, а поднятую волну течением отнесло в сторону.
— Ты понял, чем он хочет взять? — сказал Каушут, кивнув на хана.
— Еще бы! Но боюсь, таким путем он многого не добьется. Зло никому еще не приносило доброго имени.
Каушут согласно кивнул головой.
Всадники продолжали путь.
Ходжам Шукур приподнялся на стременах:
— Юноша, она не может сказать «нет». Если она обманет нас, то аллаха ей не удастся обмануть. Что, у него нет глаз и ушей, чтобы видеть и знать все?!
— Собака, такого честного парня опорочила! — послышалось из толпы.
Молодой человек на минуту растерялся, видимо не зная, что делать. И вдруг поднял плеть и изо всей силы ударил женщину по голове. От его удара женщина повалилась на землю, но и тогда не издала ни звука и не открыла лица.
— Зачем же мучить перед смертью? — пожалел чей-то голос.
Молодой человек, уже собравшийся было уйти, словно в ответ на эти слова сделал шаг вперед и с размаху ударил несчастную сапогом и после этого скрылся в толпе.
Ходжам Шукур еще раз оглядел притихших аульчан.
— Люди! Когда мусульмане забывают, что они мусульмане, все родные и соплеменники становятся для них чужими. Эта женщина предалась соблазну и нарушила мусульманский обычай. Воля аллаха, она пойдет в ад…
Хан сделал знак рукой, и от толпы отделились два рослых человека и подошли к нему. Под мышкой у одного из них был чувал[9] с завязками.
— Аллах простит вас, — сказал хан, не глядя на них, и повернул свою кобылу мордой к реке.
— За таких жен нечего прощать, — заявил кто-то уверенно. — Наоборот, вы заслужите себе рай.
Двое подошли к женщине. Первый легко подхватил ее на руки, второй сразу же стал натягивать на нее чувал. Женщина пронзительно закричала. Сперва крик ее был громким и резким, а потом, когда чувал завязали, сделался сразу глухим, словно доносился из-за войлочных стен кибитки.
Когда чувал понесли к реке, толпа снова заволновалась. Отчетливо послышались голоса тех, кто стоял поближе:
— Что вы делаете! Пожалели бы человека!
— Нечего таких жалеть. Пусть знает, собака!
— Таких только в воду бросать!
На берегу двое мужчин перехватили чувал так, чтобы удобней было держать, раскачали и бросили в реку. На лету чувал забился, но эти движения уже воспринимались как агония обреченного на смерть тела. Через секунду чувал с сильным всплеском упал в воду и исчез в ней, а поднятую волну течением отнесло в сторону.
— Ты понял, чем он хочет взять? — сказал Каушут, кивнув на хана.
— Еще бы! Но боюсь, таким путем он многого не добьется. Зло никому еще не приносило доброго имени.
Каушут согласно кивнул головой.
Всадники продолжали путь.
С самой границы иранская земля показалась двум всадникам пустыней, в которой не могли обитать ни люди, ни звери. Но как только они вступили на окраину аула Апбас-хана, откуда-то, словно из-под земли, вырос здоровый белый кобель и преградил им путь. Хоть и боялся вцепиться в ноги или в хвосты лошадей, лаял без передышки, злобно раскрывая красную пасть. — Ну и собаки у них, видно, как сами! — сердито сказал Тач-гок. На громкий лай из крайнего дома вышли два человека. Вначале они смотрели спокойно. Но признав во всадниках чужеземцев, насторожились и через минуту скрылись в доме. А когда появились снова, в их руках уже были ружья. Всадники видели, как они повернулись в сторону аула и стали что-то выкрикивать. Из всех слов Тач-гок и Каушут смогли разобрать только два: «туркмен» и «теке»[10]. И без переводчика было ясно, что два гаджара[11] были настроены отнюдь не дружелюбно. Белый кобель затих и исчез так же неожиданно, как и появился. Всадники тронулись дальше. А тем временем весь аул Апбас-хана был уже поднят на ноги. Со всех сторон сбегались люди, кто с чем, с палками, ружьями, ножами… Когда Каушут и Тач-гок остановились перед крайним жилищем, впереди уже стояли полукольцом человек сто вооруженных людей. Каушут соскочил с коня и, не выказывая волнения, оглядел толпу. Взгляд его остановился на усатом персе, который на вид был постарше всех остальных. Каушут сделал несколько шагов в его сторону и остановился. — Саламалейкум! — поздоровался он почтительно. Усатый перс уперся прикладом ружья в землю. — Валейкум эссалам, туркмен. Каушут попытался вспомнить знакомые ему персидские слова, чтобы объясниться с усатым. — Мы пришли… Мы — не воевать… Апбас-хан муше-реф. Апбас-хан мерам…[12]. Перс медленно повернул голову и крикнул поверх плеча: — Мухамед! Из толпы вышел очень смуглый человек, который и был, вероятно, Мухамедом. Усатый перс что-то сказал ему по-своему, после чего Мухамед повернулся к Каушу-ту и обратился к нему на не очень чистом, но понятном туркменском языке: — Гость-ага, слушаем вас! Это «гость-ага» в сочетании с вооруженной толпой так рассмешило Тач-гока, что он не удержался от улыбки, но вовремя прикрыл губы рукой. Каушут же с невозмутимым лидом продолжал переговоры. — Мы послы. Мы пришли без людей и оружия, чтобы только поговорить с вашим ханом, потому что слышали, что у вас в ауле девять наших пленников. Мы просим вас провести меня и моего спутника в дом Апбас-хана. Переводчик объяснил все это усатому персу, и тот дал приказ людям расходиться. Толпа стала медленно рассеиваться. Но некоторые, даже отойдя к своим домам, все продолжали оглядываться на чужеземцев, словно стараясь получше запомнить их лица. Мухамед и усатый перс повели гостей к Апбас-хану. Всю дорогу их провожали любопытные взгляды иранцев. Дом Апбас-хана находился в самом центре аула. Каушут и сопровождавшие его вошли во двор, огороженный глинобитным забором. Хозяин дома лежал под навесом и играл в шахматы с каким-то стариком. Апбас-хан хоть и слыхал уже о прибытии гостей, но был поглощен шахматами настолько, что никак не отозвался на эту новость. И даже когда чужестранцы появились у его двора, он только кивнул: «Введите!» — и снова уставился на фигуры. Каушут и Тач-гок привязали своих коней, подошли к хану и почтительно поприветствовали его. Хан молча пожал им руки, а взгляд его так и не оторвался от доски. Друзья присели на край ковра и на всякий случай помолились аллаху. Хан, видя, что противник все еще намеревается сопротивляться, угрожающе кашлянул. Противник подумал немного и, вздохнув, признал себя побежденным. Лицо хана довольно засветилось, он уперся обеими руками в палас, слегка отодвинулся назад и словно тут только заметил двух незнакомцев, сидевших напротив него. Хан перевел удивленный взгляд на усатого перса, и тот поспешно рассказал ему о цели визита гостей. Апбас-хан похлопал ладонями по голенищам сапог, поразмыслил немного, потом взгляд его остановился на хурджуне, лежавшем у ног Каушута. — Что там, в хурджуне? — спросил он. — Там одна круглая лепешка, — ответил Каушут. Апбас-хан весело рассмеялся: — И стоило этой лепешке ехать так далеко? — Бывает, хан, и целые аулы из-за такой лепешки садятся на коня. Каушут намекал на те налеты и грабежи, которые Апбас-хан совершал в Серахсе. Хан сразу понял это, и лицо его изменилось. — Я не знаю тебя! Ты пришел с пустыми руками! Кто ты такой? Хан или бек? А если не хан и не бек, то по приказу какого хана ты пришел? И кто рядом с тобой? Конюх? Или слуга? — Я не хан и не бек. Но я хан в своем племени. А рядом со мной простой дехканин. Мы прибыли к вам с позволения Ораза Яглы-хана. Услышав знакомое имя, Апбас-хан немного смягчился. Яглы-хана он знал хорошо. Им не раз приходилось встречаться для переговоров о пленниках, воде и земле. — Почему же он не пришел сам? — У хана теперь плохое здоровье. Ему тяжело проделать такой путь… Эти слова, видимо, напомнили Апбас-хану о собственной старости и размягчили его еще больше. — Да, старость, болезни… Нет ничего страшней на этом свете. — Он посмотрел на крепкие плечи Каушута. — Было бы мне сейчас сорок, я бы вызвал тебя на борьбу и в награду поставил бы пленников. И, думаю, не слишком бы рисковал… «Эх, что-нибудь в этом роде было бы очень кстати», — подумал Каушут в ответ на самолюбивую усмешку хана. — Хан-ага, а может, у вас есть какие-нибудь другие условия, кроме борьбы? — осторожно вступил в разговор Тач-гок. Апбас-хан огляделся по сторонам и заметил миску, доверху наполненную вареным мясом. Он весело кивнул головой на нее: — Что ж! Разве кто больше съест баранины? Хоть по возрасту вы и младше меня, но вдвоем ваш вес почти будет равен моему. Друзья вежливо рассмеялись в ответ. — Но по правде есть одно условие, — начал было Ап-бас-хан. — Но… — Какое же? — Шахматы. Но я боюсь, настоящей игры у нас не будет… — Почему? — Потому что шестьдесят лет из своих семидесяти я играю… — И это все? — Нет, не все. Еще и то, что вы туркмены, кочевники… Каушута задели эти слова, но он сдержался и ничего не сказал. Тач-гок же подумал, что шахматы — неплохое условие. Он видел, как играл Каушут, считал его сильным игроком. Он надеялся, что Каушут пойдет на предложение хана. — Вы — кочевники! — продолжал Апбас-хан, похлопывая снова по голенищу сапога. На сей раз Каушут не смог промолчать. — Хан-ага, я думаю, вам было бы нелегко состязаться с туркменами-шахматистами. Конечно, нам далеко до них, но и мы не откажемся сразиться с вами. Хан удивился. — Пах, пах, — с насмешкой покачал он головой и погладил усы. — Ну, если уверены в себе… — Мы готовы. — Если готовы, — продолжал хан с насмешкой, — если уверены… Ну что ж, вас двое, и нас двое, — он показал на своего недавнего противника. — Будем играть двое на двое. Если один из вас обыграет одного из нас, а один из нас обыграет одного из вас, вы уедете пустыми. Если вы оба обыграете нас, то заберете пленников. А если проиграете оба — останетесь и сами у нас. Подумав немного, хан переменил условие: — Ладно, раз уж вы гости, последнюю часть я меняю. Если проиграете, тоже уедете… Тач-гок с тревогой посмотрел на Каушута. Его взгляд говорил: «Как бы мне не подвести тебя!» Каушут не стал долго думать и объявил за обоих: — Мы согласны. Сидевший рядом с ханом сказал что-то по-персидски. Апбас-хан хлопнул себя по ляжке и покачал головой. Потом обернулся к Каушуту: — Но сегодня наша игра не состоится. — Почему же? — поспешно спросил Каушут, испугавшись, что хан хочет увильнуть от состязания. Перед глазами все время стоял мальчишка, который догнал их при отъезде. «Неужели ему не дождаться отца?» — с горечью подумал он. Видя его испуг, хан довольно улыбнулся: — Сегодня вечером у нас собачьи драки. Пах, пах, это будет интересно! А в шахматы мы завтра поиграем…
Второй день продолжалось веселье в доме Пенди-бая. Как-никак женился его единственный сын — Мялик. Уже не одна овца жалобно проблеяла, в предчувствии смерти, перед здоровыми джигитами с засученными рукавами. Перевалило за полдень. Гостей у Пенди-бая набралось еще больше, чем вчера. Понаехали даже из дальних мест, наслышавшись о призах, которые Пенди-бай приготовил для победителей состязаний. Среди собравшихся снова появился вчерашний редкобородый глашатай. — Эй, кто надеется на свою силу, выходи сюда! Победителю— овца. Да не оскудеют богатства Пенди-бая! Эй, кто смелый — выходи! Слова эти взбудоражили толпу, но смельчаков пока не находилось. Келхан Кепеле, возлежавший почти у самых ног глашатая, спросил его: — Слушай, Джаллы, а петь кто сегодня будет? Глашатай, словно не расслышав его слов, затрубил во весь голос: — А вечером будет петь несравненный Аман-бахши![13] Всех, кто хочет его слушать, Пенди-бай зовет к своей кибитке!.. — Тьфу, дурень! Разорался! — недовольно вскрикнул Келхан, затыкая уши. Но в это время внимание всех привлекла группа всадников, появившаяся с западной стороны, из-за бархана, поросшего камышом. — Ну вот! — крикнул кто-то из толпы. — Лучше бы они тут не появлялись. — А что такого? — Развернуть бы их в обратную сторону… Последняя реплика не понравилась Непес-мулле. Хоть он и сам был здесь только гостем, но сказал таким решительным тоном, точно праздновали у него дома: — Гостей, пришедших на свадьбу, никогда не отправляют назад. Каждый должен отведать то, что ему положено. Пенди-бай, то ли в самом деле не желая нарушить законы гостеприимства, то ли из уважения к Непес-мулле, представился великодушным: — Мы рады любому гостю. Дадим и пришельцам, друзья, попытать счастья в борьбе. Победивший получит приз, а остальных найдется тоже чем угостить! — Джигиты, если они выйдут, валите их сразу на землю! Нежданные гости были нукерами хивинского хана Мядемина. Они занимались сбором налогов в Серахсе. Предводительствовал ими Хемракули-хан, известный среди туркмен как человек настойчивый в своих планах и изворотливый. Вся компания не пользовалась среди людей уважением. И даже красивые и дорогие лошади, на которых хвастливо восседали нукеры, из-за их всадников не приглянулись сейчас никому; люди помнили, как их копыта топтали поля мирных поселян. Всадники остановились невдалеке и поздоровались. Пенди-бай дал знак, и Джаллы приступил к своему делу: — Эй, молодцы, вы попали на свадьбу. Милости просим, слезайте со своих коней! Сейчас как раз начинается гореш[14]. Кто хочет, подвязывайте кушаки, и прошу сюда, на середину!.. — Гореш — это дело, — сказал Хемракули-хан. — А ну, джигиты, слезай, посмотрим, с кем тут потягаться. Начался гореш. Большинство, вслед за молодежью, отправились к месту состязания. И только Пенди-бай, Сейитмухамед-ишан, Непес-мулла и еще несколько любителей поговорить остались под навесом. Непес-мулла рассказывал о только что прибывших. — В Язи[15] они обычно не слишком бесчинствовали. А тут появился этот Кичи-кел, и они дошли до того, что хотели даже водой завладеть… Пенди-бай перебил его: — Разве Кичи-кел родом не из Караахмета? Что, у него и в Язи кто-то есть? — У таких людей только для доброй памяти никого нет! — с горечью ответил Непес-мулла. — А как начнут враждовать, так каждую душу припомнят! Л оди говорят, от него еще раньше все родственники отказались. Тогда он пришел к Мядемину и сказал ему: «Хоть я и туркмен, но туркмены меня кровно обидели. Они убили моего отца…» — Говорят, он даже на стариков плетью замахивался… — Про него еще и не то можно сказать!.. Когда в Караахмете убили его отца, который был там старейшиной, он вообразил, что его самого должны теперь поставить на место родителя. Но назначили другого. Кичи-кел разозлился и, чтобы отомстить аульчанам, примкнул к нукерам Хемракули-хана, слугам Мядемина. Сначала старался насолить своим, а потом ненависть его перешла на весь мир. Особенно достается от него родным… Шум вокруг места состязаний усилился, так что Непес-мулла вынужден был прервать свой рассказ. — Крути! Вали! Подними его! — доносилось со стороны наблюдавших за борьбой. Этот шум подействовал и на Пенди-бая. К тому же ему не хотелось омрачать свадьбу разговорами, которые они вели под навесом. Он оглядел собеседников и сказал: — Мулла, хоть мы сами уже и не сможем участвовать в гореше и приза не заработаем, может, хоть подойдем к тем, кто криком помогает пальванам? Непес-мулла кивнул головой: — Ты прав, и это тоже интересно. Все поднялись. Посередине площадки для гореша стоял Хемракули. Чувствовал он себя как нельзя лучше. Подошедшие получили подтверждение второй его победы: Курбан вывел на середину второго барана, выставленного на приз. Рот Хемракули-хана не закрывался от удовольствия. Кто-то сказал: — И бог дает баю, и Пенди-бай дает баю, — имея в виду выигрыш Хемракули. — Что ж ты плачешь! Иди! Победишь, тоже приз получишь. — Куда мне с этими. Они ж, кроме драки, ничего не знают! Хемракули-хан по обычаю коснулся лба барана и горделиво повернулся к своим воинам. Из числа нукеров, стоявших в сторонке с кинжалами эа поясом, вышел Кичи-кел. — Сто лет живи, хан-ага! — поздравил он своего командира и принял от него барана. — Даже если он проживет сто лет, тебе на семена все равно ничего не достанется! — воскликнул недовольный Келхан Кепеле. Кичи-кел обернулся и быстро нашел глазами того, кто это сказал. И, проводя мимо барана, проговорил вполголоса, так, чтобы не услышали другие: — Держи язык за зубами, ленивый вол! — Вол хоть поле пашет. А такие собаки, как ты, только лают на своих и чужих, да еще целые своры за собой водят! Кичи-кел невольно схватился за рукоятку кинжала, но тут же опустил руку. — Хоть я и собака, но я не хочу скандала. Скажи спасибо, что сейчас свадьба… Келхана Кепеле это ничуть не напугало. — Вон, смотри, у твоего аги от жадности зад обмарался. Иди лучше сковырни его навоз своей железкой! Кичи-кел весь задрожал от злости, В другом месте он не простил бы таких слов, но тут боялся гнева Хемракули, которому все празднество пришлось как нельзя более по душе. Поэтому он проглотил обиду и только бросил, отворачиваясь, Келхану: — Зад в навозе не у хана, а у ленивых ролов, как ты. Келхан же отвечал нарочно громко, чтобы могли слышать и другие: — Конечно! Хемракули и не может быть в навозе, пока у него есть такие подлизалы, как ты! Кичи-кел скрипнул зубами и совсем отошел от Келхана, слыша, как уже вокруг них начали раздаваться смешки. Но главное внимание людей было приковано к поединку. Посередине все еще расхаживал довольный, как петух, Хемракули-хан. А зрители роптали меж собой: «Неужели все призы заберут теперь нукеры Мяде-мина? Неужели среди стольких туркмен не найдется никого, кто повалил бы Хемракули?» Однако никто не решался выйти на середину. Видя, что состязание грозит оборваться, глашатай Джаллы начал подстрекать собравшихся: — А ну, кто силен, выходи на борьбу с Хемракули-ханом! Приз — лучшая овца из стада Пенди-бая! Туркмены, покажите свою силу и храбрость! — Ты бы не орал, Джаллы, а лучше бы сам шел на середину! — Ах, если б за голос что-то давали или можно было бы им бороться, я давно свернул бы шею Хемракули. А руки, разве у меня руки? Что у курицы ляжка, что у меня рука — все одинаково! Племянник Дангатара Курбан в это время прислуживал гостям. Но и он остановился. На середину вышел Келхан Кепеле и засучил рукава. Зрители с удивлением переглядывались между собой. Хотя Келхан и был здоровым на вид, но не относился к числу пальванов, выступающих на свадьбах. И вышел он сейчас, конечно, не ради приза, а лишь из неприязни к нукерам и их вожаку, распаленный к тому же схваткой с Кичи-келом. Лицо его было суровым, на толстых волосатых ногах, видных из-под засученных штанов, чуть подрагивали мышцы. Однако в сравнении с Хемракули он все же выглядел слабейшим. Когда Келхан Кепеле схватил за пояс Хемракули и начал его трясти, внимание всех напряглось. Схватка длилась недолго. После того как противники по нескольку раз безрезультатно стискивали друг друга, наступила небольшая пауза. Воспользовавшись ею, Келхан неожиданно подставил Хемракули подножку. Не выдержав боли, предводитель нукеров упал. Поднялся радостный шум. — Молодец, Келхан! — Сто лет жизни Келхану! — Дай бог тебе сына! — С этим ты не спеши. У него же еще и жены нет! — Барана сюда, барана! Но дарить барана было еще рано. По условиям борьбы, чтобы победить, надо было выиграть три схватки. В двух остальных схватках Хемракули повалил соперника и выиграл приз. Когда Келхан уходил с площадки, Кичи-кел не упустил случая задеть его: — Ну, как руками тягаться? Не то что языком! Келхан тут же прыгнул к нему: — Ты и тут лезешь, шакал! А ну бросай свой кинжал и выходи, если не боишься! Трусишь! Знай, будешь за чужой зад прятаться, свой волки оторвут! Кичи-кел поспешил отойти прочь. А Келхан вернулся на свое место и тяжело опустился на землю, держась за поясницу. — Эй, барана неси, чего ждешь! — кричал Кичи-кел уже с другого конца. Но Курбан, на котором лежала эта обязанность, стоял не двигаясь. Хоть бараны были и не его, но все равно было тяжело отдавать третьего подряд все тому же Хемракули. Забывшись на несколько мгновений, он размечтался. Он представил, что сейчас, именно в это мгновенье, перед ним появляются ангелы — в белых чалмах, с бородами и длинными посохами, такие, как о них рассказывали старики, и спрашивают его: «Мальчик, назови нам любое свое желание, и мы сейчас же исполним его!» И он попросил бы у них не богатства, не коня, не саблю, не долгую жизнь, не даже ту, которая была дороже всех на свете… Он попросил бы себе силу, которая могла бы победить Хемракули-хана… Но третий приз ушел к Хемракули, как и два первых. Если пальван имел хоть немного совести, он после трех одержанных побед, не видя достойного противника, уходил с поля боя, чтобы дать возможность и другим показать себя. Но Хемракули и не думал подчиняться этому негласному закону свадебных поединков. Напротив, опережая подхалимов из своей свиты наподобие Кичи-кела, он сам горделиво выкрикивал перед толпой: — Ну, кто там еще хочет выйти? Не вижу храбрецов! Из группы нукеров раздался голос: — Достойных здесь нет, хан-ага! Придется и остальные призы мне забрать! Но тут раздался голос: — Эй, не спеши, юнец. Рано радуешься! Еще не всех поборол ваш хан. Все взгляды устремились на человека, которому принадлежал этот голос. Это был Непес-мулла. — Вот это дело! — радостно воскликнул Келхан Кепеле. — Ну-ка, покажи ему, брат! Непес-мулла вышел вперед. — Эй, сними сначала свой жесткий кушак, — встрял опять Кичи-кел. — Не торопись, Кичи-кел. А то чьей-нибудь спине этот кушак придется как раз впору. Непес-мулла не спеша развязал свой кушак, отдал его кому-то из стоявших рядом и обратился к Хемраку-ли-хану: — Хемракули, ты знаешь, что я не занимаюсь борьбой, и поэтому условия мои не такие, как у других паль-ванов. — Я согласен на все условия, — ответил самоуверенно Хемракули. Мулла улыбнулся, и глаза его хитро сузились. — Когда я выхожу с настоящим пальваном, я иду не на новый приз, а на все его прежние призы… — Ну а если ты проиграешь? — Если он проиграет, — вступил в разговор Пенди-бай, — ты получишь еще столько же овец, сколько у тебя есть сейчас. — Я согласен.
В низине, на одной из окрайн села Апбас-хана, собралось много народу. Толпа шумела. Когда появился хан с гостями, все взгляды устремились в их сторону. Но смотрели люди большей частью не на самого Апбас-хана и не на чужестранцев, а на огромную ханскую собаку, которая шла рядом с ним, слегка позвякивая легкой цепью. Собаку звали Бисяр, что по-персидски означало выдающийся. Апбас-хан считал, что даже и пес его должен быть ханом среди других псов. У края лощины было выставлено множество собак разных пород и мастей. Сейчас каждый гладил и ласкал свое животное нежнее, чем любимого сына, а некоторые даже пытались внушить любимцу, как он должен вести себя во время схватки. Когда хан и вместе с ним гости остановились, какой-то незнакомый человек тронул Каушута за руку и вполголоса сказал: — Говори, что победит ханская собака, и не ошибешься. Считай тогда, что половина дела, за которым ты сюда приехал, сделана. Каушут ответил на это нарочито громко, но обращаясь как бы лишь к своему собеседнику: — Конечно, я в этом деле не мастак, но тут и слепому ясно, что победит собака Апбас-хана. Хан услышал его слова и довольно улыбнулся. А другие собаки, завидев ханского Бисяра, потеряли покой. Многим уже доставалось от него, да так, что подолгу не могли забыть ужасной пасти, которая и храброго джигита могла перепугать. По традиции все хозяева собак собрались в одном месте, и лишь только Апбас-хан остался в стороне. Что ж, и хозяин и его собака были самим аллахом поставлены над остальными! Распоряжавшийся состязанием вывел на середину здорового белого барана. Собаки, привыкшие к тому, что после барана начинается драка, принялись рычать друг на друга. Из толпы болельщиков послышались голоса: «Бисяр! Бисяр! Бисяр!» Услышав свое имя, пес заволновался. Но Апбас-хан натянул цепь и заставил его успокоиться. — Первым выступает Бисяр, — закричал человек с середины. — Кто хочет выставить свою собаку против ханской? Все молчали. Человек повторил призыв еще раз, и после этого первый приз — белый баран — был подведен к довольному Апбас-хану. Вторым призом был баран поменьше. Два худощавых человека, чем-то похожих друг на друга, вывели на середину своих собак. Те кинулись в драку, но безо всякой охоты, видно, из одной только боязни не рассердить хозяев, которые безуспешно пытались стравить их. Было ясно, что настоящей драки не получится. Тогда собак расцепили и вновь криками и угрозами заставили сойтись. Псы лениво рычали и толкали лапами друг друга. Так продолжалось какое-то время. Наконец распорядитель оттянул назад ту, что была чуть покрупнее, и сказал: — Вот победитель. Эй, хозяин, забирай награду! Но второму владельцу такое решение показалось несправедливым. — Почему это он, а не я? — Потому что его собака вцепилась первой. Если б твою не задели, она бы и с места нестронулась. — Верно, верно! — подтвердил первый хозяин и, улыбаясь, подошел к барану. Но не успел взяться за него, как подлетел побежденный и, не говоря ни слова, влепил победителю затрещину. Тот не замедлил дать сдачи. Завязалась драка, но теперь уже настоящая, не то что между собаками. Никто и не думал разнимать их, наоборот, разочарованные собачьей схваткой, болельщики с удовольствием следили за людской. Тач-гок шепнул на ухо Каушуту: — Интересно, кто здесь возьмет приз? Но Каушута, видно, мало интересовал этот поединок. — Нам-то что! Нам о другом думать надо. — Я готов на все, что ты скажешь. Но что делать? Я не знаю. Каушут повернулся к Апбас-хану: — Хан-ага, мы с удовольствием посмотрели на собачьи драки и на человечьи. Ваша собака оправдала кличку… — Ну ладно, ладно. Я вижу, ты говоришь одно, а на уме у тебя совсем другое. Чего ты хочешь? — Вы правы, хан-ага. Мысли мои заняты теми, ради кого мы сюда пришли. Мы бы хотели, с вашего позволения, увидеть своих людей. Апбас-хан, не отрывая взгляда от дерущихся, потянул за рукав переводчика Мухамеда, который все это время находился подле него. — Вот, отведи туркмен к своим, покажи… — Хану вдруг пришла в голову неожиданная мысль, и он закричал: — Эй, стой, стой! Разнимите их! Кто-то из подручных хана тотчас выполнил его приказание. Апбас-хан засмеялся, а потом толкнул вперед барана, которого присудили Бисяру: — Вот, кто победит, тот и возьмет его! Продолжайте! Два человека поглядели сначала на хана, потом друг на друга — ненавидящими глазами — и с еще большей яростью замолотили кулаками. До Каушута и Тач-гока, которые уходили к своим, какое-то время еще доносились удары и шум возбужденной толпы.
Каушут и Тач-гок с переводчиком Мухамедом вошли в густой сад позади дома Апбас-хана. Мухамед остановился перед человеком с окладистой бородой, который сидел, свесив ноги, на высоком дувале. В руках бородач держал ружье. Бязевые штаны его были так грязны, что нельзя было определить цвета. Широченные штанины спускались до самых пяток. От безделья он покачивал, как ребенок, ногой и низким приятным голосом пел себе под нос:
Ашуфта-а заман[16], А-ашуфта-а за-ман…
Не отвечая на слова переводчика, он слез с дувала и как-то пугливо поздоровался с гостями. Потом отряхнул штаны и пошел вдоль забора, пригласив следовать за ним. Глинобитный забор, чем дальше шли, тем казался все новее. Каушут подумал, что, наверно, строят этот забор пленники. Так оно и было на самом деле. В самом конце, где кончалась закладка дувала, сидело человек двадцать пленников. Поодаль от них о чем-то шумно спорили четыре гаджара. Узники не обратили никакого внимания на гостей. Они сидели вокруг старого пня и уныло жевали сушеную дыню. Их лица и одежда были перепачканы глиной. Каушут остановился в стороне от пленников, чтобы не мешать им есть. Переводчик и бородатый охранник поняли Каушута и не стали тревожить узников. Чтобы как-то скоротать время, пока люди заняты были едой, Каушут спросил переводчика: — Почему вы не даете узникам никакой другой еды, кроме сушеной дыни? Мухамед смущенно улыбнулся, словно ему стыдно стало за тот ответ, который он мог дать. Но Каушут снова заговорил, опередив переводчика: — После этой дыни они все время хотят пить? Их мучают жаждой? — Угадал, туркмен, — согласился Мухамед. Из пленных текинцев Каушут и Тач-гок знали в лицо одного только Дангатара, но его-то как раз и не было среди пленников. — Что-то я не вижу Дангатара-ага, — сказал Тач-гок Каушуту. Но тут Мухамед отступил назад и громко приказал: — Эй, туркмен, пошли!
…А дома продолжался гореш. Непес-мулла крепко схватил Хемракули-хана, уцепившись рукой за его шелковый кушак с кистями. Борцы склонились друг к другу и напрягли мускулы до предела. — Поднимай! — Гни его! — Не подкачай, мулла! Из-под ног сползали комья мокрой глины, лоб Хем-ракули покрылся крупными каплями пота. Так они топтались некоторое время, не в состоянии осилить друг друга. Наконец Непес-мулла, выбрав удобный момент, рванул противника на себя, приподнял над землей и бросил через колено. Сам он тоже не удержался и упал, но упал на Хемракули, опрокинутого на лопатки. — Молодец, мулладжан! Да живет вечно Непес-мулла! — кричали вокруг. Мулла поднялся и спокойно отряхнул налипшую землю с локтей и коленей. Курбан глядел на него, кричал от радости и махал руками. Нечаянно мальчик зацепил локтем старика, стоявшего рядом, смутился и виновато опустил глаза. — Не стесняйся, паренек, не стесняйся. Доброе сердце всегда болеет за своих земляков. Только не кричи так сильно, это неприлично, можешь обидеть пальвана — гостя. Второй раунд закончился так же, как и первый. Это означало, что в любом случае Непес-мулла выходил победителем. Хемракули-хан сложил обе руки на груди, давая этим понять, что сдается и не хочет дальше продолжать борьбу. Келхан Кепеле, возбужденный не меньше молодого Курбана, закричал: — Молодец, брат! До самой смерти готов служить тебе за твою победу! Вместе с Курбаном и Келханом Кепеле все шумели и радовались. Конечно, эта радость была ничтожной в сравнении со страданиями, которые причиняли простым туркменам те же нукеры Мядемин-хана. Но ведь так бывает и с узником: просидев в темнице долгие годы, он забывает от счастья обо всем на свете, стоит ему хоть на короткий миг увидеть луч солнца и дохнуть воздухом свободы… Непес-мулла обтер лицо полой рубахи, надел ичиги и, заметив рядом Курбана, попросил его: — Курбан, сынок, принес бы мне глоток воды! Курбан, готовый послужить своему герою, бросился в сторону одной из кибиток. Люди стали постепенно расходиться. Нукеры Мядемин-хана направились к своим лошадям. — Хемракули-хан, куда же вы? — обратился Пенди-бай к предводителю. — Нельзя быть на свадьбе и не отведать угощения! — У нас свои дела, — ответил нехотя, но довольно зло Хемракули. — Пенди-бай! — встрял в разговор Келхан Кепеле. — В народе говорят: «Лучше оторви друга от себя, чем отрывать его от дел!» Зачем держать Хемракули-хана? Он и так, кажется, много времени потерял. Да к тому же впустую! Кто-то толкнул его в бок: — Охота тебе беду наживать своим языком, Келхан! Зачем наступать на хвост лежачей собаке! Келхан Кепеле рассмеялся: — У меня столько бед, что одной больше, одной меньше — ничего не значит. Но Пенди-бай, делая вид, что не обращает внимания на Келхана Кепеле, подошел к Хемракули. — Ну, раз уж надо вам уезжать, возьмите хоть призы свои, — он указал рукой на трех баранов, связанных одной веревкой. Хемракули кивнул в сторону Непес-муллы, который стоял поодаль в ожидании воды. — Они теперь его!! — Нет, нет! Это была шутка. Мулла получит свой приз! Услышав эти слова, Кичи-кел быстро соскочил с коня и, кликнув за собой еще двух нукеров, бросился к баранам. Таким образом, гости удалились хоть и посрамленные, но все-таки с наживой. Когда Курбан подошел к кибитке, которую занимали женщины, первой встретилась ему Каркара. Она сразу заметила, что лицо Курбана сияет от радости. — С чего ты такой довольный? Как будто твой конь на скачках победил! — Был бы мой конь, я бы радовался один. А сейчас радуются все! — Что же случилось? — Непес-мулла боролся с Хемракули-ханом и так задал ему, что чуть все ребра не переломал! — Вот это здорово! Надо было ему еще и шею свернуть! Неприязнь девушки к Хемракули-хану была понятна. Все жители аула считали Хемракули своим личным врагом, потому что на его стол попадали крохи с каждого бедняцкого стола. То, что могло бы достаться детям бедняков, доставалось нукерам Хемракули-хана. Каркара наполнила водой деревянную миску и протянула ее Курбану. — Курбан! Человек, победивший Хемракули-хана, наверное, угоден аллаху. Ему известно больше, чем другим. Я прошу тебя, спроси у него, когда вернется мой отец. В ее глазах было столько тоски, что Курбан и сам чуть не заплакал. Самая красивая девушка в ауле была самой несчастной, и он отдал бы все, чтобы хоть как-то помочь ей. Но Каркара быстро заставила себя переменить тон. — Сегодня ставят белую кибитку, — сказала она, — Будут за платком прыгать. Приходи, может, тебе повезет. С этими словами Каркара повернулась и скрылась в кибитке, а Курбан вернулся к Непес-мулле. — Спасибо, сынок. Дай тебе бог хорошую подругу, — сказал мулла, принимая воду. Курбан улыбнулся, оттого что Непес-мулла как бы угадал его тайные мысли, но тут же снова нахмурился, вспомнив просьбу Каркары. — Мулла-ага, я вспомнил… Простите… Вы сказали про подругу… — он запинался, не владея собой. — Когда вернется дядя Дангатар? Привезут его в этот раз? Это Каркара спрашивает… Непес-мулла тяжело вздохнул. Он не знал, что ответить мальчику и вместе с ним его подружке, несчастной сироте. Глаза его невольно обратились в ту сторону, куда уехал Каушут, но там была одна лишь степь с низкорослыми зарослями колючки, по которым и он не мог прочесть никакого ответа. А мальчик внимательно глядел в его лицо. — Вернется, Курбан-хан, вернется. Аллах не даст Каушуту прийти пустым, если есть хоть какая-то правда на земле… Народ расходился с площадки для гореша. Некоторые отправились домой, однако большая часть двинулась к белой кибитке жениха посмотреть на другое состязание— прыжки за платком. Белая кибитка была большой радостью в ауле. Старики и на десятерых своих сыновей не могли завести новое жилище, и только Пенди-бай мог позволить себе такую роскошь — поставить сыну, едва нашлась невеста, новую кибитку. Новая кибитка, восьмикрылая, была сделана по специальному заказу лучшими сарыкскими[17] мастерами. У кибитки все уже было поставлено, кроме дурлука[18] и ука[19]. На высоком туйнуке[20] был подвешен кусок только что сотканного кетени[21], который и дразнил взгляды собравшейся молодежи. Те, кто считали себя хорошими прыгунами, разувшись, пробивались в кибитку. Но никто пока из прыгавших не мог достать до полоски красной ткани. Курбан еще ни разу не участвовал в этой игре. Сейчас и его взгляд был прикован к кетени. Мысленно он легко подпрыгивал вверх и касался кончиками пальцев материи. Кетени снимают и накрывают плечи Курбана. И, счастливый, он бежит сразу же к Каркаре… Но этой мечте так и не суждено было обратиться в действительность. Кетени достался не ему. Когда уже все вроде перепробовали, а Курбан все еще нерешительно топтался в стороне, в кибитку вбежал запыхавшийся старик. Кетени уже собирались снимать, раз никто не мог допрыгнуть, но старик закричал: — А ну, постойте! Дайте-ка и нам попробовать! Люди вокруг засмеялись. В самом деле, это выглядело смешно — старый человек брался за то, что было не под стать молодым людям. Но старик думал иначе. При первом же его прыжке толпа притихла. Видно было, что он всерьез хочет заполучить приз. Второй прыжок оказался удачным: пальцы старика коснулись края кетени. Довольный победитель удалился со своей добычей. Теперь, немного пониже, на туйнук подвесили платок. Тут уже Курбан решил не теряться. Едва только кликнули желающих, он стал разуваться. Но когда Курбан приготовился к разбегу, сзади подошел лет сорока человек, тоже разутый, и отодвинул его в сторону: — Дай-ка старшему начать. Молодой, подождешь! Курбан, сразу остывший, безропотно повиновался. Видно, и эта награда должна была достаться другому. Человек разбежался и, напрягши все тело, подпрыгнул. Рука его чуть не достала до платка. Опять толпа засмеялась, на этот раз еще сильнее, чем над стариком. Курбан посмотрел в ту сторону, где стояли женщины, и увидел Каркару. Она была в старом, выцветшем платке, недостойном, по мнению Курбана, такой головки, как у нее. Поэтому просто необходимо было добыть новый, чтобы и Каркара могла покрасоваться в нем перед другими. Не дожидаясь, пока еще кто-нибудь опередит его, Курбан вышел вперед, разбежался и прыгнул. Его легкое тело поднялось высоко, и пальцы коснулись платка. Приземлившись, он первым делом нашел глазами Каркару, на лице которой сияла радость.
Игра в шахматы, начатая рано утром, подошла к третьему туру. Апбас-хан внезапно переменил условия. Он сказал, что третью партию будут играть только Тач-гок со своим соперником. Эта партия была решающей. Две предыдущие сыграли вничью. Тач-гок сильно волновался. Лоб его был покрыт испариной, и каждый раз, когда он делал ход, на нем выступали новые капельки пота. Ведь каждый его ход решал судьбу пленников. Перед его глазами стояли эти несчастные, измученные люди, и не только они, но и те, что остались дома без кормильцев, их еще более жалкие матери, дети, старики… Шахматное поле — кусок ткани с нарисованными клетками — казалось Тач-гоку куском пустыни, местом настоящего сражения, на котором кони выступали против коней, пешки против пешек, слоны против слонов, а важные короли советовались со своими визирями и до поры до времени оставались в стороне от сражения. И всеми ими, всей этой армией, и пешками, и королями, должен был управлять Тач-гок. Про себя он сильно сомневался, достаточно ли у него сил и ума для такого дела. Вот отчего у него подрагивали руки, как в лихорадке, и потел лоб. — Эх, Каушут, — прошептал Тач-гок, глядя на товарища, — как бы я не подвел тебя! Но Каушут, хоть и был взволнован не меньше Тач-гока, внешне держался спокойнее, стараясь своим видом подбодрить его. Ведь сейчас все зависело от внимания и упорства Тач-гока. — Держись крепче, сердар! Ничего не бойся! Ты сейчас самый главный вояка! Чтобы определить, кому играть какими фигурами, Апбас-хан взял из миски, стоявшей на столе, сухую урючину, сунул ее в рот, потом выплюнул косточку в кулак, спрятал руки за спину, а затем выставил перед противниками два сжатых кулака. Белыми играть выпало Тач-гоку. Апбас-хан казался равнодушным, совсем не следил за игрой. Он глазел по сторонам, жевал урюк, а потом принялся расспрашивать Каушута о всяких посторонних вещах. Каушут отвечал, но его внимание было приковано к игре Тач-гока. Для него, как и для Тач-гока, на клетчатом поле шло настоящее сражение. Все пешки, визири, кони и другие силы противника должны быть уничтожены; каждый удачный ход приближал минуту освобождения пленников, минуту их возвращения в родной аул. Фигуры на доске редели. Тач-гок потерял на одну пешку больше, но позиция его была сильнее, чем у перса, так что шансы на выигрыш были примерно равные. Противники разменялись ферзями, и теперь выигрыш хотя бы одной легкой фигуры давал возможность провести пешку и тем самым победить. Хотя усатый перс действовал не слишком умно, видно было, что и Тач-гок не чувствует в себе уверенности, не знает, в каком направлении развивать борьбу. Ему казалось, что стоит тронуть любую фигуру, как она тут же попадется к персу в ловушку. Апбас-хан развалился на подушке и смотрел на лошадь Каушута, привязанную у забора. — Сколько лет твоему коню, туркмен? Каушут оторвал на мгновение взгляд от шахмат, глянул на своего коня. — Сколько лет?.. Лет много… Но мой, как деревянный, не стареет. Если, хан-ага, выведешь сейчас самого молодого своего коня, мой побьет твоего, спроси хоть у Тач-гока, он знает, мой побьет твоего… Тач-гок с удивлением посмотрел на Каушута. Потом снова перевел взгляд на шахматы и вдруг чуть не закричал от радости: он понял, что хотел сказать ему Каушут. Однако не стал спешить с ходом, а продолжал делать вид, что думает. Апбас-хан же не понял ничего и продолжал с недоумением смотреть на Каушута. Чтобы отвлечь его внимание, Тач-гок запустил горсть в миску с урюком и набил себе рот. Мелочи этикета занимали Апбас-хана больше всего, он быстро перевел взгляд с Каушута на Тач-гока и закачал головой. «А-я-яй! Как человек увлекся шахматами, даже не замечает, что делают его руки!» Тач-гок между тем еще немного подумал и сделал ход. Перс забрал в ответ его коня и тут только заметил, что упускает пешку. Он охнул и поднес руку ко лбу. Апбас-хан, который до этого лениво ворочался на своей подушке, резво вскочил и уставился на шахматное поле. Его цепкие глаза быстро оценили позицию. Еще некоторое время он без толку рассматривал фигуры, потом схватил за угол материю, резко выдернул ее из-под фигур и отшвырнул в сторону. Тач-гок от неожиданности перепугался. — Каушут, — спросил он негромко, — а не побьет хан этого беднягу? — Ничего! Кобыла не лягает больно своего жеребца! Усатый перс с виноватым видом подобрал шахматный лоскут, сложил в него разбросанные фигуры и протянул Апбас-хану. Хан зло сказал что-то по-персидски. — Смотри, Каушут, и здесь такие же ханы, как Ходжам Шукур! — А, все петухи кричат одинаково! Но победа была одержана, и Апбас-хану пришлось выполнить свое условие. Тач-гок от радости чуть не прыгал. Апбас-хан даже не встал с места, чтобы проводить гостей. Он велел усатому отвести туркмен к сторожу пленных и передать, чтобы сторож отпустил узников. — Эй, туркмен! — крикнул вслед Каушуту хан, когда тот направился к своему коню. — Так сколько же лет твоей лошади? — Моей лошади, хан-ага, три года. Но мать ее в самом деле была очень стара! Апбас-хан снова ничего не понял и с еще большим недоумением проводил глазами Каушута. — Ну спасибо, Каушут, ты меня выручил, — сказал Тач-гок, когда они садились на коней. — Тебе спасибо, сердар, что понял мои слова. Люди, понимающие язык друга, нигде не пропадут! — Нет, не говори! Если бы ты не придумал это про коней, я бы наверняка проиграл. Каушут, уже сидевший верхом, хитро сощурил глаза, посмотрел пристально на товарища и постучал хлыстом по луке седла. — Смышленый нукер для хозяина мед и сахар. Непонятливый и себя погубит, и хозяина. Тач-гок не нашелся что сказать в ответ, поставил ногу в стремя и почувствовал себя легким и счастливым как никогда. В тот же вечер Каушут и Тач-гок вместе с освобожденными пленниками отправились в Серахс.
Прошло больше недели с тех пор, как Каушут и Тач-гок вернулись от Апбас-хана. С утра Каушут помогал косить Тач-гоку и теперь возвращался к своему наделу. Старые, уже высохшие кусты янтака — верблюжьей колючки — крошились и хрустели под ногами. Над молодыми кустами кружили желтые пчелы, разлетаясь перед Каушутом, как народ перед верховным ханом. Было душно. Каушут снял с головы шыпырму — остроконечную шляпу мехом внутрь, на его потном лбу заиграло солнце. Капли пота стекали на щеки и глаза. Он отер их жестким мехом шыпырмы. Каушут поднялся на холм, огляделся по сторонам и тяжело вздохнул. На западе смутно угадывались очертания аула. Каушут задержал свой взгляд на пшеничном поле, посреди которого чуть виднелась небольшая вышка, отделявшая участок Келхана Кепеле от участка Каушута и его брата Ходжакули.
 Каушут спустился вниз, подошел к шалашу, сплетенному из веток эфедры[22], поглядел на снопы пшеницы, которые лежали тут же, как стадо ленивых овец, погладил свою короткую бородку и зашел в тень. Потом достал флягу, подвешенную на ветке, отпил глоток воды и прилег…
Он открыл глаза, услышав топот конских копыт Приподнялся на локте и увидел трех всадников, скакавших прямо на него через пшеничное поле. Поперек седла одного из них лежала женщина.
Каушут сразу сообразил: что-то неладно. Не иначе, кого-то похитили из аула. Понимая, что одному, да еще без лошади, никак не справиться, он вскочил на ноги и, размахивая серпом, закричал:
— Эй, Непес-мулла, идут на тебя! Гулхан-ага, заряжай ружье, не давай уйти вправо! Сапар-пальван, стой где стоишь! Вот они, воры! Хватай их живьем, не давай уйти!
Трое всадников, не встретив никаких препятствий с самого выезда из аула, видно, решили, что им заранее подстроена ловушка. Они остановили коней, о чем-то быстро посовещались, сбросили жертву на землю и помчались во весь опор к аулу. Потом резко свернули в сторону и скрылись из виду.
Каушут с серпом в руке бросился к тому месту, где лежала женщина. Это была Каркара. Она потеряла сознание, лежала на спине с закрытыми глазами. Каушут приподнял ей голову, помахал перед лицом шапкой. Каркара открыла глаза, посмотрела бессмысленно на Каушута, потом узнала его, и из глаз ее потекли слезы.
— Это вы, Каушут-ага?.. Нет ли воды? У меня горит все внутри.
Каушут сбегал к шалашу, принес флягу. Каркара села, отпила глоток воды, привела в порядок растрепанные волосы и снова заплакала.
— Как мне теперь в ауле появиться?.. Что мне теперь делать, Каушут-ага?.. Как я на людей буду смотреть?
— Люди, говоришь? — с горечью сказал Каушут. — А людям, дорогая, думаешь, лучше твоего?..
Каушут повел Каркару в аул. Женщины, прикрывая рты, смотрели на них с состраданием. Каркара, не поднимая глаз, вошла в свою кибитку. Следом за ней вошли женщины, валявшие кошмы.
Каушут прислонился к стенке. Повернув нечаянно голову, заметил подошедшую Язсолтан.
— Ну что ты тут слоняешься? — сказал он усталым голосом. — Поди помоги успокоить девчонку.
Язсолтан скрылась, а Каушута привлекло движение возле крайней кибитки. Там появилась сперва худощавая старуха, а следом за ней гнедая лошадь, на которой сидел мальчишка лет семи.
Каушуту они были незнакомы. Но блестящее серебряное украшение на шее лошади и богатая попона говорили о том, что это были не бедные люди. Старуха направлялась прямо к кибитке Каушута. Поняв это, он крикнул жене:
— Эй, Язсолтан, прими гостей!
Сам он поздоровался со старухой, не трогаясь с места. Жена выскочила навстречу подошедшей и обняла ее.
— Это дом Яздурды-хана?
— Да.
— Значит, ты, сынок, — она указала пальцем на Каушута, — сын Яздурды-хана?
— Верно. Я старший сын Яздурды-хана, и зовут меня Каушут.
— Я знаю тебя. Знаю, хоть и не видела ни разу. Дай бог тебе здоровья, сынок, дай бог, чтобы у тебя в жизни было только хорошее…
— А как тебя зовут, почтенная?
— Меня, сынок, зовут Ширинджемал-эдже.
— Странно, но я что-то совсем не знаю вас.
— Я невестка Ораза Хекге, дочь Нуры-усса. Мы живем в верхнем Горгоре. Наш аксакал очень плох. Он дарит тебе этого коня…
Старуха посмотрела на коня и сглотнула слюну. Видно было, что ей тяжело вспоминать о несчастье. Больше она не могла выдавить из себя ни слова. Каушут подошел к гостье на несколько шагов.
— Ширинджемал-эдже, я не из племени ходжа, и нам не под стать принимать подаяния. К тому же…
Старуха собралась с силами и перебила Каушута:
— Не спеши, сынок. Я скажу тебе то, что должна сказать. Наш аксакал ждет тебя. Поедем. Он должен перед смертью передать тебе кое-что. Ты должен услышать это. Если будешь не согласен с ним, можешь потом вернуть коня обратно. Этот конь как человек. На него можно даже ребенка сажать — не свалит. Ну а теперь бери, сынок, поводья в руки.
Мальчик уже слез с коня и протягивал поводья Каушуту. Но рука Каушута не торопилась оторваться от кушака. Он понимал, что таких коней не дают просто так, в подарок. А причину такого богатого дара, сколько он ни думал, понять не мог. Но, с другой стороны, было жалко старуху, проделавшую в такую жару дальний путь. К тому же, как она сказала, коня можно было всегда вернуть. И он решил согласиться.
— Почтенная, удостой мой дом своим вниманием. Не откажись воспользоваться хлебом и солью нашего очага.
— Рассиживаться я не собираюсь. Но уж коли мне привелось перед смертью попасть в твой дом, я отведаю и твой хлеб-соль.
Вошла Язсолтан, держа в руках сачак[23] из верблюжьей шерсти. Старуха присела, раскрыла скатерть и отломила кусочек лепешки. Долго шамкала беззубыми деснами. Потом прочитала товир — послеобеденную молитву — и встала.
— Ну что ж, пошли, сынок. Аксакал ждет тебя.
Каушут не стал долго раздумывать, взял коня, подвел к загону, отвязал там ишака, а коня привязал на его место. Взявшись за полосатую веревку на шее ишака, он подвел его к старухе.
— Дай отдых своим ногам, почтенная, — сказал Каушут.
Старуха покачала головой:
— Я же не влезу на него, сынок.
Каушут легко поднял старуху и усадил ее в седло. Веревку он отдал мальчику, который и повел ишака.
— Что же это такое? — вслух размышлял Каушут. — Ну ладно, пойдем посмотрим, что из этого выйдет.
Язсолтан испуганно крикнула:
— Каушут! Да благословит тебя аллах!
…Черный ослик Каушута остановился у кибитки на окраине аула Горгор. Навстречу вышел худощавый мужчина средних лет, без усов и бороды. Он поздоровался с Каушутом, помог старухе слезть с ишака и предложил гостю пройти в дом.
Каушут приподнял полог, вошел внутрь и увидел в левом углу кибитки человека, который сидел, обложенный со всех сторон одеялами. Было видно — час его пробил. Но и сейчас чувствовалось, что когда-то он был крепким, здоровым мужчиной. Теперь же некогда мускулистые руки не имели сил даже пошевелиться.
Аксакал еле слышно ответил на приветствие. Каушут подошел к очагу и остановился в нерешительности. Глаза старика были закрыты, но пальцы левой руки пошевелились, словно прося подойти поближе. Каушут подошел и сел рядом с больным.
— Вот, отец, я здесь, рядом с тобой. Да поможет тебе аллах выздороветь!..
Лицо больного, бледное, с бескровными губами и большим шрамом на лбу, было неподвижно. На пожелание Каушута он не ответил ничего, даже глаз не открыл. И лишь спустя довольно долгое время тихо спросил:
— Ты сын Яздурды-хана?
— Да, отец.
— Ты не узнаешь меня?
— Нет, отец.
— Я — твой дядя.
Каушут изумился. Он знал всех своих близких и дальних родственников, даже тех, кто остался в Ахале после того, как переехали остальные. Но до сих пор он не слышал ни разу, что близ самого Серахса у него живет дядя. «А может, он просто говорит так потому, что умирает и у него нет никого близких?» Как бы то ни было, Каушут решил не обижать перед смертью старика.
— Да, отец, такие теперь нелегкие времена, что и родственников своих можешь не узнать…
— Времена, говоришь?.. Времена… — старик запнулся и тяжело вздохнул. — Я тебя, сынок, тридцать с лишком лет назад видел. Ты учился, как помню, у муллы. Я тогда говорил Яздурды: «Вот, теперь можешь спокойно умирать, след твой уже не пропадет». А ты был похож на своего отца.
Каушуту снова пришлось удивиться.
— Да, отец. Но как вы все это помните? Уж не пророк ли вы?
Больной открыл глаза.
— Нет, я не пророк. — Он попытался протянуть Кау-шуту руку. — Давай поздороваемся с тобой, сынок. После тридцати с лишним лет. Как тогда, когда я приезжал. Ты протягивал мне обе свои руки…
Каушут протянул старику свои руки.
— Бисмилла![24]
— Алейкум эссалам… А теперь слушай. — Старик отнял свою невесомую руку от могучих ладоней Каушу-та. — Слушай, сынок.
— Я слушаю вас, отец. Говорите все, что вы собирались мне сказать.
— Я совсем один. У меня нет ни сына, ни дочери, ни братьев. Есть только вот этот шрам на лбу, такой же точно, как был у твоего отца на руке, ты помнишь его, сынок. Тот шрам, который спас меня от смерти. Это было сорок лет назад. И я тогда должен был умереть. Конечно, первое, что меня спасло, — это аллах, но второе— Яздурды. Тогда я сказал ему: «Ты у отца один. Я — тоже. Будем с тобой братьями…» И когда прогнали врага, мы зарезали овцу и позвали муллу. Там мы побратались с Яздурды. И жили братьями. Пока не стали врагами…
— Говори, говори дальше, отец!
— Нет, этого я не могу сказать. Эту тайну я унесу с собой в могилу. Кроме Яздурды про нее знает один аллах… Так вот, сынок, тогда Яздурды сказал: «И брат брату наносит раны, Ораз. Только я не стану убивать тебя. Но если я умру раньше тебя и ты придешь ко мне на поминки, я до конца света вынужден буду просидеть в своей могиле. Помни об этом, брат».
— И ты послушал его?
— Не торопись, сынок. Я должен был уехать из аула. Я знал, что виноват. Яздурды умер. И я не посмел прийти на его поминки. Но у себя дома я зарезал скотину и помянул его. А в ту ночь, когда исполнилось семь дней, я пришел к нему на могилу, взял на ней горсть песку, потер свои глаза и поплакал. Вот так, сынок… А теперь я прощаюсь с этим светом…
Каушут тут же возразил, повинуясь больше сердцу, чем глазам:
— Не спешите, Ораз-ага. Не тот умрет, кто слег, а тот, кому аллах скажет.
— Я понимаю… — ответил старик безразлично. — Яздурды был настоящим мужчиной. На том свете он простит мне мою вину…
— Обязательно простит.
— На этом свете у меня нет ничего такого, что могло бы сгодиться людям. Одна только лошадь, совсем еще молодая. А ты сын Яздурды. И это чистое животное я посвящаю тебе. Но если ты не примешь ее от чистого сердца, я уйду в могилу с незакрытыми глазами. А если примешь, мне будет хорошо, сынок. Туркменам все хуже и хуже с каждым днем. Ты — сын Яздурды-хана. И если ты настоящий сын, то не будешь сидеть дома, накрывшись тулупом. Ты сядешь на коня, ты будешь защищать свой народ. И если этот конь спасет тебя от погони и еще раз послужит тебе, когда ты будешь догонять врага, я возвращу свой долг моему брату Яздурды. Прошу, не отказывай одинокому старику, сынок…
Ораз-хан замолчал, то ли от усталости, то ли это было все, что он хотел сказать. Как раз в эту минуту полог откинулся и в кибитку вошли три человека. Одним из них был Непес-мулла, а двое других — старики с белыми бородами.
После приветствий самый старший из гостей подсел к больному поближе.
— Как дела, Ораз? Тебе лучше?
Больной недовольно поджал дрожащие губы и уставился в туйнук, словно собираясь говорить не с людьми, а с небом.
— Нам, ровесник, не долго осталось жить теперь на этом свете. — Потом еще что-то прошептал неразборчиво, слегка повернул голову и заметил Непес-муллу. — Мулла, ты тоже приехал? Дай бог тебе долгой жизни! Пусть бог уважит тех, кто уважил нас. Жаль, что мне не доведется больше слышать твой голос…
Старик закрыл глаза.
Непес-мулла подошел к больному поближе и взял его за руку.
— Ораз-ага, еще не известно, кто вперед уйдет. Еще много стихов моих послушаете. Поднимайтесь скорее на ноги, на днях уже заканчиваю «Бабаровшена»[25], будете слушать…
— Мулла, пусть теперь люди послушают! Мы уже получили свое… Но перед смертью хотелось бы услышать еще разок твой голос…
Непес-мулла, не выпуская руку Ораза, спросил:
— Что прочитать?
Старик на минуту открыл глаза.
— То, что мне читал в последний раз, — сказал он и снова закрыл глаза, как бы приготовился слушать.
Мулла начал читать
Каушут спустился вниз, подошел к шалашу, сплетенному из веток эфедры[22], поглядел на снопы пшеницы, которые лежали тут же, как стадо ленивых овец, погладил свою короткую бородку и зашел в тень. Потом достал флягу, подвешенную на ветке, отпил глоток воды и прилег…
Он открыл глаза, услышав топот конских копыт Приподнялся на локте и увидел трех всадников, скакавших прямо на него через пшеничное поле. Поперек седла одного из них лежала женщина.
Каушут сразу сообразил: что-то неладно. Не иначе, кого-то похитили из аула. Понимая, что одному, да еще без лошади, никак не справиться, он вскочил на ноги и, размахивая серпом, закричал:
— Эй, Непес-мулла, идут на тебя! Гулхан-ага, заряжай ружье, не давай уйти вправо! Сапар-пальван, стой где стоишь! Вот они, воры! Хватай их живьем, не давай уйти!
Трое всадников, не встретив никаких препятствий с самого выезда из аула, видно, решили, что им заранее подстроена ловушка. Они остановили коней, о чем-то быстро посовещались, сбросили жертву на землю и помчались во весь опор к аулу. Потом резко свернули в сторону и скрылись из виду.
Каушут с серпом в руке бросился к тому месту, где лежала женщина. Это была Каркара. Она потеряла сознание, лежала на спине с закрытыми глазами. Каушут приподнял ей голову, помахал перед лицом шапкой. Каркара открыла глаза, посмотрела бессмысленно на Каушута, потом узнала его, и из глаз ее потекли слезы.
— Это вы, Каушут-ага?.. Нет ли воды? У меня горит все внутри.
Каушут сбегал к шалашу, принес флягу. Каркара села, отпила глоток воды, привела в порядок растрепанные волосы и снова заплакала.
— Как мне теперь в ауле появиться?.. Что мне теперь делать, Каушут-ага?.. Как я на людей буду смотреть?
— Люди, говоришь? — с горечью сказал Каушут. — А людям, дорогая, думаешь, лучше твоего?..
Каушут повел Каркару в аул. Женщины, прикрывая рты, смотрели на них с состраданием. Каркара, не поднимая глаз, вошла в свою кибитку. Следом за ней вошли женщины, валявшие кошмы.
Каушут прислонился к стенке. Повернув нечаянно голову, заметил подошедшую Язсолтан.
— Ну что ты тут слоняешься? — сказал он усталым голосом. — Поди помоги успокоить девчонку.
Язсолтан скрылась, а Каушута привлекло движение возле крайней кибитки. Там появилась сперва худощавая старуха, а следом за ней гнедая лошадь, на которой сидел мальчишка лет семи.
Каушуту они были незнакомы. Но блестящее серебряное украшение на шее лошади и богатая попона говорили о том, что это были не бедные люди. Старуха направлялась прямо к кибитке Каушута. Поняв это, он крикнул жене:
— Эй, Язсолтан, прими гостей!
Сам он поздоровался со старухой, не трогаясь с места. Жена выскочила навстречу подошедшей и обняла ее.
— Это дом Яздурды-хана?
— Да.
— Значит, ты, сынок, — она указала пальцем на Каушута, — сын Яздурды-хана?
— Верно. Я старший сын Яздурды-хана, и зовут меня Каушут.
— Я знаю тебя. Знаю, хоть и не видела ни разу. Дай бог тебе здоровья, сынок, дай бог, чтобы у тебя в жизни было только хорошее…
— А как тебя зовут, почтенная?
— Меня, сынок, зовут Ширинджемал-эдже.
— Странно, но я что-то совсем не знаю вас.
— Я невестка Ораза Хекге, дочь Нуры-усса. Мы живем в верхнем Горгоре. Наш аксакал очень плох. Он дарит тебе этого коня…
Старуха посмотрела на коня и сглотнула слюну. Видно было, что ей тяжело вспоминать о несчастье. Больше она не могла выдавить из себя ни слова. Каушут подошел к гостье на несколько шагов.
— Ширинджемал-эдже, я не из племени ходжа, и нам не под стать принимать подаяния. К тому же…
Старуха собралась с силами и перебила Каушута:
— Не спеши, сынок. Я скажу тебе то, что должна сказать. Наш аксакал ждет тебя. Поедем. Он должен перед смертью передать тебе кое-что. Ты должен услышать это. Если будешь не согласен с ним, можешь потом вернуть коня обратно. Этот конь как человек. На него можно даже ребенка сажать — не свалит. Ну а теперь бери, сынок, поводья в руки.
Мальчик уже слез с коня и протягивал поводья Каушуту. Но рука Каушута не торопилась оторваться от кушака. Он понимал, что таких коней не дают просто так, в подарок. А причину такого богатого дара, сколько он ни думал, понять не мог. Но, с другой стороны, было жалко старуху, проделавшую в такую жару дальний путь. К тому же, как она сказала, коня можно было всегда вернуть. И он решил согласиться.
— Почтенная, удостой мой дом своим вниманием. Не откажись воспользоваться хлебом и солью нашего очага.
— Рассиживаться я не собираюсь. Но уж коли мне привелось перед смертью попасть в твой дом, я отведаю и твой хлеб-соль.
Вошла Язсолтан, держа в руках сачак[23] из верблюжьей шерсти. Старуха присела, раскрыла скатерть и отломила кусочек лепешки. Долго шамкала беззубыми деснами. Потом прочитала товир — послеобеденную молитву — и встала.
— Ну что ж, пошли, сынок. Аксакал ждет тебя.
Каушут не стал долго раздумывать, взял коня, подвел к загону, отвязал там ишака, а коня привязал на его место. Взявшись за полосатую веревку на шее ишака, он подвел его к старухе.
— Дай отдых своим ногам, почтенная, — сказал Каушут.
Старуха покачала головой:
— Я же не влезу на него, сынок.
Каушут легко поднял старуху и усадил ее в седло. Веревку он отдал мальчику, который и повел ишака.
— Что же это такое? — вслух размышлял Каушут. — Ну ладно, пойдем посмотрим, что из этого выйдет.
Язсолтан испуганно крикнула:
— Каушут! Да благословит тебя аллах!
…Черный ослик Каушута остановился у кибитки на окраине аула Горгор. Навстречу вышел худощавый мужчина средних лет, без усов и бороды. Он поздоровался с Каушутом, помог старухе слезть с ишака и предложил гостю пройти в дом.
Каушут приподнял полог, вошел внутрь и увидел в левом углу кибитки человека, который сидел, обложенный со всех сторон одеялами. Было видно — час его пробил. Но и сейчас чувствовалось, что когда-то он был крепким, здоровым мужчиной. Теперь же некогда мускулистые руки не имели сил даже пошевелиться.
Аксакал еле слышно ответил на приветствие. Каушут подошел к очагу и остановился в нерешительности. Глаза старика были закрыты, но пальцы левой руки пошевелились, словно прося подойти поближе. Каушут подошел и сел рядом с больным.
— Вот, отец, я здесь, рядом с тобой. Да поможет тебе аллах выздороветь!..
Лицо больного, бледное, с бескровными губами и большим шрамом на лбу, было неподвижно. На пожелание Каушута он не ответил ничего, даже глаз не открыл. И лишь спустя довольно долгое время тихо спросил:
— Ты сын Яздурды-хана?
— Да, отец.
— Ты не узнаешь меня?
— Нет, отец.
— Я — твой дядя.
Каушут изумился. Он знал всех своих близких и дальних родственников, даже тех, кто остался в Ахале после того, как переехали остальные. Но до сих пор он не слышал ни разу, что близ самого Серахса у него живет дядя. «А может, он просто говорит так потому, что умирает и у него нет никого близких?» Как бы то ни было, Каушут решил не обижать перед смертью старика.
— Да, отец, такие теперь нелегкие времена, что и родственников своих можешь не узнать…
— Времена, говоришь?.. Времена… — старик запнулся и тяжело вздохнул. — Я тебя, сынок, тридцать с лишком лет назад видел. Ты учился, как помню, у муллы. Я тогда говорил Яздурды: «Вот, теперь можешь спокойно умирать, след твой уже не пропадет». А ты был похож на своего отца.
Каушуту снова пришлось удивиться.
— Да, отец. Но как вы все это помните? Уж не пророк ли вы?
Больной открыл глаза.
— Нет, я не пророк. — Он попытался протянуть Кау-шуту руку. — Давай поздороваемся с тобой, сынок. После тридцати с лишним лет. Как тогда, когда я приезжал. Ты протягивал мне обе свои руки…
Каушут протянул старику свои руки.
— Бисмилла![24]
— Алейкум эссалам… А теперь слушай. — Старик отнял свою невесомую руку от могучих ладоней Каушу-та. — Слушай, сынок.
— Я слушаю вас, отец. Говорите все, что вы собирались мне сказать.
— Я совсем один. У меня нет ни сына, ни дочери, ни братьев. Есть только вот этот шрам на лбу, такой же точно, как был у твоего отца на руке, ты помнишь его, сынок. Тот шрам, который спас меня от смерти. Это было сорок лет назад. И я тогда должен был умереть. Конечно, первое, что меня спасло, — это аллах, но второе— Яздурды. Тогда я сказал ему: «Ты у отца один. Я — тоже. Будем с тобой братьями…» И когда прогнали врага, мы зарезали овцу и позвали муллу. Там мы побратались с Яздурды. И жили братьями. Пока не стали врагами…
— Говори, говори дальше, отец!
— Нет, этого я не могу сказать. Эту тайну я унесу с собой в могилу. Кроме Яздурды про нее знает один аллах… Так вот, сынок, тогда Яздурды сказал: «И брат брату наносит раны, Ораз. Только я не стану убивать тебя. Но если я умру раньше тебя и ты придешь ко мне на поминки, я до конца света вынужден буду просидеть в своей могиле. Помни об этом, брат».
— И ты послушал его?
— Не торопись, сынок. Я должен был уехать из аула. Я знал, что виноват. Яздурды умер. И я не посмел прийти на его поминки. Но у себя дома я зарезал скотину и помянул его. А в ту ночь, когда исполнилось семь дней, я пришел к нему на могилу, взял на ней горсть песку, потер свои глаза и поплакал. Вот так, сынок… А теперь я прощаюсь с этим светом…
Каушут тут же возразил, повинуясь больше сердцу, чем глазам:
— Не спешите, Ораз-ага. Не тот умрет, кто слег, а тот, кому аллах скажет.
— Я понимаю… — ответил старик безразлично. — Яздурды был настоящим мужчиной. На том свете он простит мне мою вину…
— Обязательно простит.
— На этом свете у меня нет ничего такого, что могло бы сгодиться людям. Одна только лошадь, совсем еще молодая. А ты сын Яздурды. И это чистое животное я посвящаю тебе. Но если ты не примешь ее от чистого сердца, я уйду в могилу с незакрытыми глазами. А если примешь, мне будет хорошо, сынок. Туркменам все хуже и хуже с каждым днем. Ты — сын Яздурды-хана. И если ты настоящий сын, то не будешь сидеть дома, накрывшись тулупом. Ты сядешь на коня, ты будешь защищать свой народ. И если этот конь спасет тебя от погони и еще раз послужит тебе, когда ты будешь догонять врага, я возвращу свой долг моему брату Яздурды. Прошу, не отказывай одинокому старику, сынок…
Ораз-хан замолчал, то ли от усталости, то ли это было все, что он хотел сказать. Как раз в эту минуту полог откинулся и в кибитку вошли три человека. Одним из них был Непес-мулла, а двое других — старики с белыми бородами.
После приветствий самый старший из гостей подсел к больному поближе.
— Как дела, Ораз? Тебе лучше?
Больной недовольно поджал дрожащие губы и уставился в туйнук, словно собираясь говорить не с людьми, а с небом.
— Нам, ровесник, не долго осталось жить теперь на этом свете. — Потом еще что-то прошептал неразборчиво, слегка повернул голову и заметил Непес-муллу. — Мулла, ты тоже приехал? Дай бог тебе долгой жизни! Пусть бог уважит тех, кто уважил нас. Жаль, что мне не доведется больше слышать твой голос…
Старик закрыл глаза.
Непес-мулла подошел к больному поближе и взял его за руку.
— Ораз-ага, еще не известно, кто вперед уйдет. Еще много стихов моих послушаете. Поднимайтесь скорее на ноги, на днях уже заканчиваю «Бабаровшена»[25], будете слушать…
— Мулла, пусть теперь люди послушают! Мы уже получили свое… Но перед смертью хотелось бы услышать еще разок твой голос…
Непес-мулла, не выпуская руку Ораза, спросил:
— Что прочитать?
Старик на минуту открыл глаза.
— То, что мне читал в последний раз, — сказал он и снова закрыл глаза, как бы приготовился слушать.
Мулла начал читать
Живи, как хочется тебе, душа, вот мой совет. Умей врага от друга отличать, вот мой совет. А коль с врагом сойдешься, осторожным будь. Пока ты на земле, продолжить род свой не забудь, Чем сорок лет в мая[26] ходить, ты лучше год ивером[27] будь.
…К вечеру гости распрощались с больным и отправились в обратный путь: два старика к верхнему аулу, а Каушут с Непесом — к крепости. — Кто он такой, этот яшули?[28] — спросил Каушут Непес-муллу. — Ораз-ага — человек, любящий стихи. В свое время он был богатырь. Пятерых верховых запросто одолевал. Но, как говорит старина Фраги[29], сколько ни живи, а в конце — все равно смерть. Видишь, каков он теперь? А мужчина был, таких поискать! Каушут шел молча, думая над словами Непес-муллы и самого старика. Вскоре они добрались до аула, стоявшего на берегу реки. У крайней кибитки на золе от тамдыра[30] лежал кобель, который при виде чужих лениво залаял, словно для того только, чтоб не получить нагоняя от хозяев. Из кибитки вышла женщина с сосудом для воды и направилась к реке. На шее у нее было ожерелье, на руках браслеты, в волосах мониста, и со стороны она напоминала ярко раскрашенную куклу; невысокий рост еще больше усиливал сходство. Каушут с муллой еще не дошли до брода, а женщина уже наполнила сосуд, вышла на берег и остановилась. Когда путники поравнялись с ней, женщина приветливо кивнула им головой. Каушут и подумать не мог, что она собирается к ним обратиться. Но женщина, не отрывая ото рта яшмак[31] и отвернув от мужчины голову, заговорила: — Поэт-ага! — Голос у нее был нежный, как у ребенка, и говорила она с небольшим акцентом. — Когда же вы исполните обещание? Говорили, что весной, а весна уже давно прошла… Уже всем красавицам стихи сочинили! А мы чем плохи? Что у нас в роду все маленького роста? Ну и что ж, это не наша вина, нас такими аллах создал! Такая смелость изумила Каушута и заставила его еще раз с любопытством оглядеть женщину. А Непес-мулла важно ей ответил: — Гелин![32] Я давно исполнил свое обещание и готов доказать это хоть сейчас, но не знаю только, прилично ли поэту читать свои стихи посреди большой дороги? У женщины таких сомнений, кажется, не было. — Поэт-ага, чего только в жизни не бывает! Сегодня по этой же дороге возвращались с бахчи наши женщины и девушки, на них налетели персы, уложили пятерых поперек седла и увезли. А уж прочитать стихи — в этом я не вижу ничего неприличного. Этот случай напомнил Каушуту другой. — Женщина, если ты говоришь в шутку, то шутка твоя не хороша! — Нет, я не шучу. Не стану же я такими шутками выпрашивать у поэта стихи! Я говорю о том, что было, можете сами спросить в нашем ауле. Непес-мулла тоже горько задумался. Хоть аул и был чужой, но беда любого туркмена была для него как своя. — Что ж, мулла, — сказал Каушут, — я думаю, не стоит обижать женщину. Прочитай стихи, не осудит же аллах тебя за это! У Непес-муллы стихи в самом деле были давно уже написаны, просто не было случая прочитать их, и сейчас он должен был это сделать в первый раз. — Хорошо, — сказал он, — я прочитаю, но прошу тебя, сестренка, не обижаться на шахира-ага[33]. — За что, шахир-ага? Других-то вы нахваливаете в своих стихах, а меня собираетесь очернить? За маленький рост мой? — Сама увидишь, а стихи так и называются — «Кичкине»[34]. Слушай:
Каприз твой, Кичкине, сведет меня с ума, Язык твой, как дурман, мне голову кружит, о Кичкине. Стрелы ресниц летят из лука твоих бровей, о Кичкине, Сияют зубы-жемчуга за лепестками губ твоих, о Кичкине, Твой взгляд околдовал меня, о сказочная Кичкине. О если бы войти в твой сад, сорвать твои плоды. Там и немая птица поет, как соловей. Прикован я к тебе, и слаще нет беды, Чем гибель от волшебной прелести твоей. Сгорает от любви душа моя, о Кичкине! Вот ты выходишь в розовом халате, как заря, Тебя увидит мир и побледнеет в тот же час. Твое лицо сияет, передо мной горя, И стрелы огненные летят из черных глаз, Чтобы сразить покорного Непеса, о милый мой палач, о Кичкине!
Маленькая женщина, выслушав стихи, слегка растерялась, стала перекладывать кувшин с водой из одной руки в другую. Потом прошла два-три шага, остановилась и, не поворачивая лица, спросила: — Шахир-ага, а не могли бы вы переписать эти стихи на бумагу? Для меня? — Приходи завтра ко мне домой, я оставлю там. — Шахир-ага, спасибо вам, пусть бог вознаградит вас, — сказала «малютка» и тронулась в путь. Она ступала легко, монеты в ее смоляных косах поблескивали и позвякивали, словно отсчитывали ее шаги. Непес-мулла с тихой радостью проводил маленькую женщину долгим взглядом.
Соседки напоили Каркару холодной водой, смешанной с сажей из казана, чтобы она могла уснуть, и ушли. Но Каркара не спала. Ей было тесно и неуютно в просторной кибитке, но и выйти наружу, показаться людям на глаза было страшно. Ей казалось, что и вообще никогда она не сможет теперь ни на кого посмотреть. То хотелось, чтобы скорее наступила темнота, чтобы никто не смог разглядеть ее лица, то, наоборот, она молила, чтобы солнце никогда не заходило, потому что тогда вернутся братишка Ораз и вместе с ним Курбан… Самое страшное для нее была теперь встреча с Курбаном. Ведь он уже взрослый и понимает, что такое честь девушки. И даже если чувства Курбана не изменятся, опа-то сама не может теперь считать себя достойной его… Каркара придумывала себе разные несчастья. Была минута, когда ей хотелось даже повеситься. Она представила, как соседи выходят утром и видят на дворе девушку, которая висит с высунутым языком… и начинают сразу говорить: «И на что Каушуту было спасать ее, оказывается, она уже потеряла честь, иначе зачем бы ей было вешаться?» Каркара поняла, что даже смерть не может спасти ее от позора… Погруженная в такие мысли, она не заметила, как в кибитку осторожными шагами вошел Курбан. Он остановился над ней и некоторое время молчал, не зная, с чего начать. Наконец из его губ вырвалось одно слово, которое вмещало для него тысячи; он тихо позвал: — Каркара! Но от его голоса Каркара только сильнее прижалась к старому чувалу, который лежал у нее под головой. Ей хотелось прорвать его и спрятаться в нем от своего позора. Но поскольку она не могла этого сделать, то лишь пригнулась сильней и закрыла руками голову, чтобы ее не мог видеть Курбан. Каркара еще и еще раз услышала свое имя, но не отзывалась. Курбану хотелось утешить ее, а получалось наоборот, не в силах вынести его голос, Каркара зарыдала. Ненависть к негодяям охватила Курбана. Дрожа от гнева, парень вышел во двор. Но как он мог, маленький и бедный, отомстить за свою Каркару?..
С наступлением вечера, когда скотину уже пригоняли с пастбищ, Каушут и Непес-мулла добрались до крепости Серахс. Там их дороги должны были разойтись: Каушут направляется в сторону востока, а Непес-мулла на север. Но толпа вооруженных людей возле стен крепости и шум, доносившийся оттуда, заставили их подойти ближе. У входа в крепость собралось человек пятьдесят, кто на лошадях, кто с ишаками. Было ясно, что какая-то особо важная причина привела их сюда. Корявенький, сухой старичок, сидевший на ишаке поперек седла, держал на коленях ружье с длинным черным стволом. Он вынул из-за пазухи круглую табакерку, положил щепоточку наса[35] себе под язык, сощурил глаза и поднял лицо вверх. — Эй, джигиты, мы должны доказать, что не зря носим на голове папахи. Пусть придет хан и скажет нам, хан он или нет! Я готов хоть сейчас отдать свою голову, если она понадобится. Где наш хан? Или мы так и будем сидеть на месте? Но людей, кажется, не воодушевляли слова старика. Они сидели и стояли, понуро опустив головы, и лишь некоторые что-то невнятно бормотали в ответ. — Нет дыма без огня, — сказал Каушут Непес-мулле. — Видно, этот коротыш сказал правду. По людям видно, что у них случилось что-то серьезное. Те, что были ближе к Каушуту и Непес-мулле, стали здороваться с подошедшими. Юноша лет двадцати резво соскочил со своей кобылы и протянул обе руки сначала Непес-мулле, потом Каушуту. Затем отступил на шаг и заговорил с жаром: — Мулла-ага, вы человек умный, много повидали… Скажите, может быть так? Вот вы не такой уж большой хан, а все равно не прошли мимо, вам интересно, о чем толкует народ. А настоящий хан и знать нас не хочет, хоть всех перережь, как овец, с места не стронется. Что у него, за молитвами ноги к заду приросли?.. Каушут перебил парня: — Сынок, ты сперва скажи толком, что у вас случилось, а то мы с Непес-муллой не знаем… Но в это время с другой стороны показались несколько человек, шедших к толпе. Люди заволновались, загудели. Юноша повернулся и сразу словно забыл о вопросе Каушута. Его внимание тоже приковали приближающиеся фигуры. Это был Ходжам Шукур со своей свитой. Сам он выступал впереди, в богатых кожаных сапогах с задранными носами, в просторном чекмене, который, по замыслу, должен был придавать грозный вид его щуплой фигуре. К кушаку с черными кистями на концах была подвешена кривая сабля с узким полумесяцем на ножнах. Вот он продел большие пальцы обеих рук за кушак, сощурил глаза и оглядел всех надменным взглядом. Народ сразу притих. И даже те немногие, кто только что перед его приходом выкрикивали: «Где хан? Пусть только придет, я скажу ему такое, что он с рождения не слышал!» — затаились. Поскольку никто не осмеливался нарушить первым молчание, хану пришлось начать разговор самому: — Ну, в чем дело? Зачем меня звали? Все молчали. Только лошади шлепали по своим крупам хвостами, отгоняя налетавших оводов. Хан принял грозный вид: — Ну, что вам от меня надо? Говорите! Или так и будете стоять, будто яшмаки на свои ослиные морды натянули? Не столько грубость тона, сколько унизительность сравнения заставила людей прийти в движение. Было ясно, что, если они стерпят и это, им никогда уже не выбраться из-под ханского башмака. Самым смелым оказался старичок, сидевший в седле как сухая колючка на ветке. Он поднял голову и крикнул: — Хан-ага, люди хотят говорить с тобой! — А чего ждете? Говори! — А если говорить, хан-ага, то дело такое… Что ж мы должны позволять всяким, кто даже навоза верблюжьего не стоит, топтать честь нашу! Может, ты тоже станешь на сторону своего народа, или он тебе совсем чужой?.. — Что же случилось с вашей честью? — перебил его хан, слегка смущенный такими словами. Юноша, говоривший с Непес-муллой, внезапно выскочил вперед и заговорил низким, но еще некрепким голосом: — Хан-ага, не надо притворяться. Ты же хан! Неужели ты не знаешь о том, о чем уже знают все? Может, мне тебе рассказать? Ходжам Шукур насмешливо поглядел на него: — Расскажи, сынок, расскажи! — Расскажу, если тебе это интересно. Сегодня после полудня прискакали персы и утащили пять наших женщин. Эти люди хотят отомстить разбойникам. А пришли они сюда за тобой. Если хочешь защитить нашу честь, командуй и привези за каждую отнятую голову по голове! Ходжам Шукур, не отрывая рук от кушака, повернулся и сделал несколько шагов в сторону. Его взгляд наткнулся на Непес-муллу и Каушута. На их приветствия хан ответил холодным кивком, словно говоря: «И вы тут как тут!» Толпа молчала в ожидании ответа. Неожиданно хан повернулся назад и заговорил: — Когда-то мы не ждали ханов в таких делах! Без подсказок делали то, что надо, даром времени не теряли!.. Каушут сказал на ухо Непес-мулле: — Когда беркут стареет, он делается мышеловом. Когда разбойник стареет, он делается хвастуном! Из толпы раздался уже полный решимости голос: — Людям не нужны пустые слова, хан-ага. Люди ждут ответа. Здесь много найдется таких, в ком хватит Сил надела, которых ты сам не боялся когда-то. Шукур засунул в рот конец своей редкой бороды и принялся жевать ее. Было видно, что он подбирал теперь другую тактику. — Если вы спрашиваете у меня совета… — начал задумчиво он. — Иран — большая страна. Там и пушки есть, и много войска… Если Иран поднимется, он разнесет в пух и прах всех туркмен, с детьми и предками. Вы сами знаете, сильные хорошими не бывают. Давайте лучше молить аллаха, чтобы он пощадил нас, вот мой совет, друзья… — Эй, хан, если даже аллах снизойдет до нас, то гаджары-то все равно не смилостивятся! Ходжам Шукур пропустил эту реплику мимо ушей и продолжал: — А потом, стоит ли из-за каких-то ненужных рабынь враждовать с такой большой страной! Не спешите! Придет время, узнаем про них, может, даже выручим. Так что живите спокойно. Все тот же юноша, который говорил с ханом, снова выступил вперед: — Хан-ага, ты очень хороший совет даешь! Среди этих пленниц — и моя жена. Я еще недели с ней не прожил… — Ну и что ты хочешь? — Пока будете вынюхивать да узнавать, отдайте мне свою дочь, она как раз на выданье, а приведете мою жену, я верну вам вашу дочь… Ходжам Шукур весь налился кровью и, забыв от такого неслыханного оскорбления про все на свете, выхватил саблю из-за пояса и бросился на юношу. Каушут, который уже понимал, чем может кончиться дело, в одну секунду очутился рядом с ханом и схватил его за руку. Хан попробовал вырваться, но сделать это было непросто. От толпы отделился статный старик с белой как снег бородой и подошел прямо к хану: — Дай сюда саблю!
 Каушут отпустил руку Ходжама Шукура, и тот, потупив глаза, повиновался. Сабля перешла в руки старика. Он подержал ее немного и вернул обратно Шукуру:
— Возьми, хан, положи обратно в ножны. Не посыпай солью раны своего народа.
Ходжам Шукур молча бросил саблю в ножны. Но толпа уже гудела, обращаясь к седобородому старику:
— Будь сам ханом!
— Нам не нужен Ходжам Черный!
— Тебя, тебя!
— На руках станем носить, будь ханом!
Старика звали Ораз-яглы. Он был одним из старейшин у текинцев. Но теперь уже не предводительствовал в своем племени, поскольку был стар годами. И все же, несмотря на возраст, голова его еще была светлой, и люди часто обращались к нему за советами.
Ораз-яглы опустил голову. Он не знал, что ответить. Будь ои чуть помоложе, он бы стал на место хана — не ради себя, ради несчастных женщин, которых надо было спасать.
Народ ждал ответа. Но мудрый Ораз-яглы молчал.
А Ходжам Шукур тем временем переводил свой злобный взгляд с одного на другого. Он не знал, на ком выместить обиду. И тут глаза его наткнулись на Кау-шута.
— Это ты воду мутишь, я знаю тебя, сын Яздурды-хаиа. Смотри, еще пожалеешь! Вечно лезешь не в свои дела. С такими, как ты, ханы и по одной дороге не ходят!
Каушут спокойно улыбнулся:
— Хан-ага, мои предки и сами бы не пошли с тобой по одной дороге. Только дело не во мне, а в твоем народе. В Серахсе земли много, я и своей дорогой пройду. А вот тебе, кажется, уже и идти некуда. Знаешь, как говорят, если нет сил на двор бегать, надо поменьше есть за обедом.
Каушут отпустил руку Ходжама Шукура, и тот, потупив глаза, повиновался. Сабля перешла в руки старика. Он подержал ее немного и вернул обратно Шукуру:
— Возьми, хан, положи обратно в ножны. Не посыпай солью раны своего народа.
Ходжам Шукур молча бросил саблю в ножны. Но толпа уже гудела, обращаясь к седобородому старику:
— Будь сам ханом!
— Нам не нужен Ходжам Черный!
— Тебя, тебя!
— На руках станем носить, будь ханом!
Старика звали Ораз-яглы. Он был одним из старейшин у текинцев. Но теперь уже не предводительствовал в своем племени, поскольку был стар годами. И все же, несмотря на возраст, голова его еще была светлой, и люди часто обращались к нему за советами.
Ораз-яглы опустил голову. Он не знал, что ответить. Будь ои чуть помоложе, он бы стал на место хана — не ради себя, ради несчастных женщин, которых надо было спасать.
Народ ждал ответа. Но мудрый Ораз-яглы молчал.
А Ходжам Шукур тем временем переводил свой злобный взгляд с одного на другого. Он не знал, на ком выместить обиду. И тут глаза его наткнулись на Кау-шута.
— Это ты воду мутишь, я знаю тебя, сын Яздурды-хаиа. Смотри, еще пожалеешь! Вечно лезешь не в свои дела. С такими, как ты, ханы и по одной дороге не ходят!
Каушут спокойно улыбнулся:
— Хан-ага, мои предки и сами бы не пошли с тобой по одной дороге. Только дело не во мне, а в твоем народе. В Серахсе земли много, я и своей дорогой пройду. А вот тебе, кажется, уже и идти некуда. Знаешь, как говорят, если нет сил на двор бегать, надо поменьше есть за обедом.
То, что Каркара и Курбан жили одним домом, было и хорошо и плохо. Хорошо потому, что они могли видеть друг друга каждый день, а плохо потому, что, когда живешь с человеком все время рядом, трудно перейти с обыденного привычного языка на другой язык, которым хотелось Каркаре и Курбану говорить между собой. Да и неприличным казалось в доме, из которого вынесли труп матери Каркары и увели отца, даже думать о любви. Обоим мерещились тени этих двух людей, укоризненно наблюдавшие за ними. Лучше бы они жили порознь, так порой думали девушка и юноша, тогда можно было бы встречаться где-нибудь тайком и говорить нежные слова друг другу. Каркара страдала еще больше. После несчастья, случившегося с ней, она думала, что Курбан не любит ее так, как прежде. Ведь она считала себя опороченной и боялась, что Курбан теперь отстранится от нее и она останется совсем одна. Но Каркара ошибалась. Курбан еще больше любил и жалел ее. Он думал не о прошлом, а о будущем, он мечтал только об одном — убедить Каркару в своей любви и узнать, что она тоже любит его. Ио оба они боялись сказать друг другу хоть слово об этом. Каркара не могла долго вынести неизвестности. Ей хотелось проверить чувство Курбана. Однажды днем она не выдержала и отправилась в кузницу, где был в это время Курбан, решила обязательно добиться от него хоть каких-то слов. Конечно, просто так она не могла пойти, поэтому взяла свой серп, собираясь как будто бы наточить его. Вместо звуков молота Каркара услышала разговор, доносившийся из кузни. Кузнец Хоннали любил поговорить. Он был мастером своего дела, хорошо известным в Серахсе, и любовь ко всякого рода историям, порой даже присочиненным наполовину, была единственным его недостатком. Он не ленился повторять одно и то же каждому новому человеку, мешая правду с вымыслом. Стоило какой-нибудь его истории понравиться людям, как он тут же готов был добавить целый чувал новой неправды. Сейчас слушателем был один Курбан, и, как только кузнец увидел девушку, за неимением лучшего собеседника, тут же обратился к ней: — Иди, иди, дочка, я кое-что расскажу. Тебе будет полезно послушать… Жила одна вдова… Но Каркара стояла в дверях и не трогалась с места. Ее смущало присутствие Курбана. Не обращая на это внимания, Хоннали продолжал: — …и было у нее две дочери. Хитрая была женщина, мудрая. Выдала своих дочерей замуж, а когда они уже были с мужьями и пришли к ней однажды, сказала: «Будут вставать ваши мужья утром, потяните их незаметно за полы рубахи и скажете мне потом, что они сделают». Пришли к ней дочери на следующий раз, и первая говорит: «Я потянула его, а он обернулся назад, ничего не сказал, только улыбнулся и пошел дальше». Тогда мать сказала ей: «Тебе попался слабовольный человек, можешь крутить им как хочешь». Потом рассказывала вторая дочь: «Я потянула его за рубаху, а он подумал, что это кошка, которая бегала тут же рядом, схватил кинжал и зарубил ее». — «Тебе попался очень жестокий человек, — ответила ей мать, — будь с ним осторожна, старайся лучше во всем угождать ему, а то он тебя может в другой раз вместо кошки зарубить». Вот так-то, милая. Смекай! Скоро и сама, может, будешь в чужом ауле, вот там вспомни мой рассказ. Каркара с интересом слушала Хоннали, ей только не понравились последние его слова. «С чего он взял, что я попаду в чужой аул? — подумала с тревогой она. — Или в самом деле так мне на роду написано?» Когда человек приходит в кузню с серпом в руках, то ясно, зачем он пришел. И поэтому, когда Хоннали закончил свой рассказ, подошел к Каркаре к взял из ее рук серп, она снова заволновалась; серп был не такой уж тупой, чтобы его надо было снова точить. Вдруг старик догадается? Но Хоннали не успел потрогать зубья, новое событие отвлекло его внимание. Это был новый повод почесать языком и заодно похвалить себя. — Ну-ка, ученик, иди сюда, — позвал он Курбана. — Ты должен все перенимать у твоего учителя. Посмотри-ка вон на того всадника, видишь, он едет в нашу сторону? Ну, что ты про него можешь сказать? Не кажется тебе, что копыта у его лошади слишком отросли, а может, даже и обломались? А едет он, по-моему, прямо к нам, и ни в какое другое место… Курбан, зная слабость своего учителя, решил польстить ему. — Как вы догадались, Хоннали-ага? Кузнец самодовольно погладил свои усы. — Я чувствую по тому, как спотыкается его лошадь. Куда ж ему еще на ней ехать, как не к кузнецу! Вот сейчас мы подкуем этого скакуна, и он уже больше не будет спотыкаться! Всадник тем временем и в самом деле подъехал к кузнице. Хоннали взял свои инструменты и пошел навстречу ему. Каркара осталась вдвоем с Курбаном. Еще несколько минут назад она собиралась непременно поговорить с ним, но теперь молчала, не в силах произнести ни звука. И Курбан растерялся. Он забыл все те многие слова, которые готовил для нее, и молча смотрел в лицо Кар-кары, на ее опущенные к земле глаза. Наконец, чтобы только сказать что-нибудь, он спросил: — Ты серп принесла? — Но это было и так ясно, он понял глупость своего вопроса и снова замолчал. Каркара вздрогнула и сказала: — Да, затупился совсем, жнешь, как будто руками… Курбан подошел к ней, протянул руку, он хотел коснуться ее руки, но в последнее мгновенье испугался и схватился за серп, даже не за рукоять, а за лезвие. И тут же почувствовал, какое оно острое, на пальце его остался след от зубцов, и он понял, что Каркара пришла совсем не из-за серпа. — Смотри, он же заточен! — Ой, я, наверное, ошиблась, взяла новый вместо старого, — и пришедшая протянула руку, чтобы забрать серп, но тут Курбан поймал ее ладонь и сжал в своей руке. На мгновение юноша и девушка замерли, но уже через секунду Каркара высвободила руку и отступила от Курбана. Молчание первым нарушил Курбан: — Почему ты убрала руку? — Моя рука недостойна твоей руки. За эту руку меня уже брали, а тебе нужна чистая рука, как твоя… — Чище твоей для меня нет, Каркара. Курбан вдруг повернулся и бросился в угол кузницы. Оттуда он вернулся со свертком в руках и протянул его Каркаре: — Это тебе на память от меня. Я боялся дать тебе дома… Каркара не стала спрашивать, что там. Она взяла это что-то, завернутое в старую зеленую тряпку, и вышла из кузницы. Даже если, кроме этой тряпки, не было ничего, этот подарок был бы дороже для нее всех других, потому что он был от Курбана. А в старую тряпку был завернут платок, который Курбан выиграл на свадьбе у Пенди-бая.
Каркара понемногу приходила в себя. Несчастье постепенно забывалось, а после объяснения с Курбаном на душе у нее сделалось совсем легко. Как-то днем, во время сильного зноя, к Каркаре прибежала ее подружка Кейик и предложила сходить искупаться. Девушки взяли два кувшина, отправляясь якобы за водой. Другие женщины были чем-то заняты, и никто на них не обратил внимания. Когда подружки подходили к броду, возле которого обычно все купались, мимо них проскакал незнакомый всадник и скрылся за холмами. Девушки остановились на берегу, не решаясь подойти к воде. Но кругом было тихо, и река была спокойной. На другом берегу из своего гнезда вылетела птица. Сделала несколько кругов над водой и снова скрылась в своей норе. Лягушка, словно испугавшись птицы, прыгнула в воду. Другая, наподобие брошенного по воде камня, сделала несколько прыжков и спряталась в камышах. — Кейик, пошли лучше вон туда, за деревья, такая жара, могут мальчишки прибежать. — Пошли. Они подхватили кувшины и пошли подальше от брода. Небольшая заводь, к которой подошли девушки, была закрыта с одной стороны отвесной скалой, а с другой зарослями тамариска. Но едва подруги начали раздеваться, как в кустах послышался шорох. — Там кто-то есть! — вскрикнула Каркара и прижалась к Кейик. Шорох приближался, зашевелились ближние кусты. Подруги боялись перевести дыхание. Наконец кусты раздвинулись, и оттуда вылезла собака. — Да это же кобель Тач-гока, — сказала с облегчением Каркара. — А мы испугались! Собака остановилась перед девушками, тяжело дыша. Ее тонкий язык вывалился из пасти. — Бедняжка, еле дышит! Такая жара, даже собаки лезут в воду! Пес не стал долго ждать, вошел в воду и поплыл. На середине реки собака резко повернулась и поплыла назад, к тому же самому месту, откуда входила в воду. Когда она вышла на берег, язык уже не торчал у нее из пасти, дышала она ровно, и даже шерсть ее, как только собака отряхнулась, приняла как будто другую, более чистую окраску. Собака постояла немного, глядя на девушек и как бы приглашая их в воду, отряхнулась еще раз и трусцой побежала домой. Девушки обмотали косы вокруг головы и вошли в реку. — Ой, Каркара, как хорошо! Окунайся скорее! Но едва они отошли немного от берега, как заросли тамариска снова зашевелились, но на этот раз посильнее, чем когда через них пробиралась собака Тач-гока. Каркара бросилась к Кейик. В это же время с другой стороны послышался стук копыт. Девушки повернулись. На том берегу, как раз напротив них, остановился всадник. — Нукер Хемракули! — Ну и что, он же на том берегу. — А на этом! Там тоже кто-то есть! — Поплывем к броду. Может, там ребята… — Да нет. Ты же слышишь, никого нет. Кусты опять зашуршали. Девушкам даже показалось, что там кто-то кряхтит. Всадник с того берега пристально смотрел, словно ожидая кого-то, и смотрел как раз в сторону кустов. Теперь там послышался храп лошади. — Все равно, поплыли к броду, — прошептала Кейик. Но было уже поздно. Из кустов выехали три всадника, тоже нукеры Хемракули. А тот, на противоположном берегу, громко захохотал, словно говоря: «Ну что, попались! Бежать некуда!» Нукеры остановились у самой воды, и один из них крикнул: — Помылись, можете теперь вылезать! Каркара посмотрела на Кейик, ища поддержки. Но деваться было некуда. Кейик первая поняла это и заспешила к берегу. — Если пискнете, считайте, что вы уже на дне. Ну, вылезайте, и побыстрее. Девушки вышли на берег. Мокрые рубахи плотно облегали их юные тела, отчетливо обрисовывая маленькие груди, талии, бедра… — Вах-вах-вах! Какие красотки! За одну мочь с такими можно много дать! — Что это купаться бросились, или уже успели замараться? А, малютки? Но третий нукер, молчавший все время, видно старший, посмотрел на товарищей так, что они приумолкли. Некоторое время никто не трогался с места. Каркара нагнулась, схватила кувшин, платье и пошла в сторону брода. Не успела она сделать и трех шагов, как пожилой всадник спрыгнул с лошади и схватил ее за локоть. — Ой! Пустите! Кувшин выпал из ее рук и покатился к воде. — Я сказал уже тебе, пикнешь, вот это получишь, — нукер взялся за рукоять своего кинжала и, не дав ей опомниться, схватил за пояс и бросил на седло товарищу. Каркара хотела закричать, но рот ей тут же заткнули тряпкой. — Помогите! — взмолилась Кейик и бросилась к подруге. Но тут же удар хлыстом ожег ей лицо, и она упала на землю, теряя сознание. Когда Кейик очнулась, рядом никого не было. Она сразу вспомнила, что произошло, и зарыдала, закрыв лицо руками: — А все я, я виновата! Я ее сюда потащила! Не могли жару перетерпеть, пойти со всеми! Каркара, милая, это я, я такая!.. Кейик поднялась на ноги, держась за ветку тамариска, посмотрела в воду. Кувшин Каркары уже чуть отплыл от берега и, задевая за камыши, наклонялся и черпал воду. Кейик глотала слезы и не могла сдвинуться с места. Кувшин покачался еще немного, сделал последний глоток и пошел ко дну…
В этот же день Келхан Кепеле устраивал поминки по матери. Он затеял настоящее торжество. Хотя скачки и гореш здесь не полагались, он постарался сделать все, чтобы у него было шумно и весело. Сам он, заткнув полу халата за кушак, ходил среди гостей и повторял: — Друзья, будьте как на свадьбе! Дай бог каждому из нас умереть в таких годах, как моя мама. Радуйтесь за нее, а не плачьте! Но одно состязание Келхан Кепеле все-таки намеревался устроить. Он подошел к резчикам мяса и взял у них берцовую кость барана. На таких костях мерились силой — кто сумеет разломить ее пополам. Это было нелегко, в каждом ауле знали двух-трех человек, способных переломить эту кость. Победителей награждали, как правило, сачаком дограмы[36] или бараньей ляжкой. Награда была небольшой, но получить ее было лестно. Навстречу Келхану Кепеле попался один из гостей — Сапар-ашикчи[37]. — Ну-ка, возьми вот это и спроси, нет ли охотников показать свою силу! Ашикчи задрал вверх руку с костью и прокричал во всю глотку: — Эй, где силачи, кто сломает эту штуку? Гости молчали. Сапар-ашикчи повторил свой призыв: — Ну, смелее! Неужели сегодня она так и останется целой?! Из-под навеса поднялся приезжий из Мары, он подошел к Сапару-ашикчи: — Ну-ка, дай ее сюда! Ашикчи посмотрел на человека с сомнением: — Друг, а не боишься опозориться? — В Мары я пока не позорился ни разу. Сапар-ашикчи, смеясь, протянул ему кость. — Ну что ж, попытай счастья. Что Мары, что Се-рахс — какая разница, бараны везде одинаковы! Человек крепко схватил кость и принялся ломать ее, Но кость не поддавалась. Люди тем временем уже обступили его. — Смотри, чтобы каких лишних звуков не вышло от натуги! Все смеялись. Лицо гостя налилось кровью. Он напрягся из последних сил, но кость не ломалась. Он подержал ее еще немного и вернул Сапару-ашикчи. Посмотрел уничтожающим взглядом на тех, кто насмехался, и отошел в сторону. — Смотрн, серахские кости оказались покрепче марыйских! — Ладно, что издеваетесь! Не знаете, как говорят: чужой гость дороже своего отца! Но насмешник не сдавался: — А если дороже, так сидел бы себе, как наши отцы, да ел дограму, ее и так дадут! Вызвался новый охотник: — Ну что, ашикчи, никто не может? Попробовать, что ли? — Попробуй. А не боишься, что и у тебя выйдет, как у марыйского гостя? Человек вытер жирные руки о сапоги, потом взял горсть песку и растер его между ладонями. — Ну, давай сюда. — Попробуй, попробуй! А вдруг повезет! Человек взял кость, но несколько иначе, чем гость из Мары. Подумал немного и напряг мышцы. — Йя, аллах! Одновременно с его вскриком послышался треск, и кость разломилась надвое, легко, как куриная. — Сачак! Сачак! Несите сачак! — кричал Сапар-ашикчи. Победитель увидел Каушута, подходившего к ним. — Что, и ты тоже хотел постараться? А тем временем к Каушуту, стоявшему чуть в стороне, подошел какой то старик и тронул его за локоть. — Каушут, а что там за письмо пришло в Мары? Ты не говорил с этим человеком? — Да он сам толком не знает. Говорит, вроде из Бухары прислали. Пишут, отделяйтесь, мол, от Хивы и идите к нам… Вроде они там собираются стать на сторону сарыков, салыров, текинцев, вообще всех туркмен… — А-я-яй, дело какое! Что-то многие хотят защищать, да мало кто это делает… Наверное, и Ниязмуха-мед уже про это знает? — А как же! Да не только он, уже и Мядемин-хан знает. Завтра, говорят, Ниязмухамед едет в Хиву. Вроде хан ему велел срочно приехать. Ясное дело, не на свадьбу зовет! Наверное, все из-за этого. — Может, и наш хан проснется, когда узнает, что нас уже другие защищать хотят? — Не знаю я, не знаю… Только боюсь, как бы еще хлеще не стало от этих всех защитников!.. — Да, трудное наше дело… Тут кто-то крикнул: — Каушут! Где Каушут? Иди сюда! Каушут извинился перед стариком и подошел в ту сторону, откуда его звали. У изгороди стоял человек, который пришел сказать, что Каркару опять украли.
Летом Хива, если смотреть на нее издали, кажется покрытой дымкой и проглядывается сквозь нее еле-еле. Из-за жары в городе — как в раскаленной печке. Даже редкие ивы, что растут по берегам арыков, не дают ни тени, ни прохлады. Но людей на улицах от этого ничуть не меньше. Старики в белых чалмах идут к мечетям, небрежно размахивая своими тросточками. На улице играют чумазые мальчишки и разбегаются при виде этих важных господ. Тянут свои ноши верблюды, ослы, и под стать им идут впереди хозяев, согнувшись под грузом, полураздетые амбалы. И поэтому, когда Ходжам Шукур со своим караваном вошел в город, это событие не произвело на его жителей никакого впечатления. Каждый день сюда прибывали десятки таких караванов, и этот отличался, может, только тем, что прибыл из сторон более дальних, чем другие. О далеком пути, пройденном караваном, говорило множество пустых бурдюков, наваленных на спину одного из верблюдов, и чересчур утомленные лица людей и морды животных. Впереди всех на белой лошади ехал Ходжам Шукур. Он дремал в седле, с трудом ворочая полуприкрытыми глазками. Кроме верблюда с пустыми бурдюками, все остальные были тяжело нагружены. Только еще у одного переднего груз был легким — на нем стоял богато убранный паланкин, обтянутый со всех сторон тонкой тканью. И увидеть, кто находился внутри, было невозможно. Ходжаму Шукуру, чтобы окончательно не лишиться своего ханства, нужна была твердая опора. Но опоры такой ни в Мары, ни в Серахсе у него не было. Не только простые дехкане, но и ханы и баи отвернулись от Ходжама Шукура. Поэтому он и отправился искать поддержки в Хиву. Ополчившийся втайне на свой народ, Ходжам Шукур и всех других подозревал в измене. Ему казалось, что Мары и Серахс собираются сговориться с Ираном и выступить против Хивинского ханства. Каждый раз, когда кто-нибудь из ханов или беков на несколько дней покидал Серахс, ему мерещилось, что они тайно пробираются в Иран, и испытывал сильное беспокойство. Так, перед самым своим отъездом Ходжам Шукур прослышал, что Пенди-бай вместе с сыном Мяликом отправился на поминки в Теджен, но не поверил этому и поручил Кичи-келу точно разузнать, не кроется ли за поминками что-то другое. Была у него на совести, кроме прочих, и еще одна вина, заставлявшая теперь вдвойне трепетать перед своим народом. Как только караван вошел в город, из-за старого, полуразвалившегося забора навстречу ему вышла худая, оборванная старуха, воздела руки к небу и принялась что-то бормотать. Казалось, она разговаривает сама с собой, не обращая на путников никакого внимания, но в Хиве хорошо знали таких старух — их была целая орда, они проводили на больших дорогах дни, зарабатывая тем, что встречали караваны и за небольшую подачку благословляли новоприбывших, молились аллаху за их удачу. И поскольку в Хиву приезжали большей частью богатые люди, совесть которых не всегда была чиста, подаяния не переводились, и старухи всегда могли заработать на кусок хлеба. Ходжам Шукур имел все основания прибегнуть к услугам благословительницы. Поравнявшись с ней, он остановил свою лошадь и стал развязывать кошелек. Старуха подошла и забормотала еще громче. Ее потухшие, безжизненные глаза продолжали смотреть в небо. Ходжам Шукур достал из мешочка две таньги и бросил на землю. — Жертвую аллаху! Старуха, не переставая молиться, нагнулась, подобрала монеты и отступила в сторону. Караван двинулся дальше. Через некоторое время путники стали свидетелями другого события. На широкой площадке слева от дороги два здоровых джигита гонялись с плетьми за юношей, обнаженным по пояс, со скрученными сзади руками и завязанными черным платком глазами. Каждый раз, когда джигиты настигали несчастного, они били его плетью, и юноша, слыша свист скрученных ремней, дрожал и сжимался от напряжения. Поскольку глаза его ничего не видели, он то и дело налетал то на дерево, то На забор, то на стену дома. Бьющие его перед каждым ударом громко восклицали: — Тысячу плетей каждому, кто скажет дурное слово о дорогом Мядемин-хане! И, как точка в конце предложения, раздавался звук удара по спине несчастного. За этим действом с улицы наблюдало множество любопытных. Одни смотрели как на веселое зрелище, другие хмурили брови, третьи от жалости утирали глаза. Но никакая жалость не могла спасти юношу. — Тысячу плетей каждому!.. И вслед за этим свист плети и звук удара. Один из зрителей, старик в белой чалме, который стоял, опираясь на посох, вдруг отделился от остальных и вошел на площадку. Нукер резко обернулся к нему: — Куда прешь, старый кобель? Но старик как будто и не слышал оскорбления. — Дети мои, не надо так! Разве этому учит нас аллах?! — А что, может, аллах учит порочить хивинского хана Мядемина? — Но ведь высокая честь хана от этого не стала ничуть ниже! — Ты что, старый пес, вздумал нас учить?! Если ты за такого негодяя, значит, ты сам против хана Мядемина! А ну, пошел прочь, пока с самого халат не содрали! Старик весь затрясся от гнева. — Опомнись, несчастный!.. Разве ты собака, которая прислуживает другой собаке… Нукер взмахнул плетью, и конец ее опустился на белую чалму старика. Старик дернулся и свалился па землю. Ходжам Шукур заметил, что второй нукер, глядя на это, прикусил губу и закачал головой. Ходжаму Шуку-ру не терпелось заявить о своей преданности Мядемин-хану, и он крикнул: — Видишь, нукер, как надо защищать честь великого хана! Нукер ничего не ответил, даже не посмотрел в сторону Ходжама Шукура. Хан гневно привстал на стременах: — Эй, я тебе говорю! Ты видишь, как защищают честь хивинского хана? Или уже в самом городе не стало верных ему людей?! Нукер поднял голову и обернулся к Ходжаму Шукуру. На лице его тоже был гнев, но он сдержал себя. — Хан-ага, мне кажется, если честь оберегать кнутами, она не станет выше от этого. — Тех скотов, которые не понимают, что такое честь, нужно учить только кнутами. И тебе, нукер, полезно помнить об этом. В это время неизвестно откуда брошенный камень, величиной с кулак, угодил в коня хана. Конь вздрогнул, бросился вперед. Хан оглянулся. Мальчишка-сорванец, стоявший у забора, обрадованный тем, что камень попал в цель, громко захлопал перепачканными руками. Ходжам Шукур строго посмотрел на нукера, идущего в пяти-шести шагах впереди, и крикнул: — Догони! Нукер направил коня к забору и замахнулся на мальчугана плетью. Мальчик присел, удар пришелся мимо. Нукер замахнулся еще раз. Мальчуган быстро метнулся в сторону и взобрался на забор с ловкостью обезьянки. Зная, что плетью его не достать, он без страха ругнулся на обидчика. Ходжам Шукур, с интересом наблюдавший эту картину, многозначительно улыбнулся: — Что, нукер, щенок плюнул тебе на бороду… Нукера обидела эта шутка, и он ничего не ответил хану. Надменный Ходжам Шукур почувствовал себя уязвленным и еще раз подхлестнул нукера оскорбительной шуткой: — Выходит, что твоими руками только навоз на дороге собирать? Кровь ударила нукеру в голову, но поскольку он полностью был подчинен хану, то не мог ответить обидчику и ограничился улыбкой: — Что со щенка возьмешь! — Это верно, — согласился Ходжам Шукур и оставил нукера в покое. …Утомленный караван остановился только перед высокими воротами жилья Мядемин-хана. На верху их были изображены грозные стрелы, и всякий смертный трепетал, проходя мимо. У ворот появился сотник. Вид у него был такой, как будто он только что подрался. Но, узнав Ходжама Шу-кура, от которого ему всегда кое-что перепадало, сотник сразу изменил выражение на лице. Он с улыбкой подбежал к хану, почтительно пожал протянутую руку и бросился докладывать о госте. Мядемин-хан сидел на застеленной коврами тахте, видимо ожидал кого-то. Шелковая занавеска на одной из дверей распахнулась, и оттуда вышла молодая, на редкость красивая девушка. Ее черные волосы были заплетены во множество косиц, сквозь прозрачную накидку просвечивало нежное, стройное тело. Плавной походкой она подошла к хану и отвесила ему поклон. Косы ее упали хану на колени. Лицо Мядемина засветилось. Мягкими, пухлыми пальцами он сперва погладил девушку по голове, потом по спине, затем обнял за талию. Словно забыв обо всем на свете, он запрокинул голову, закрыл глаза и отнял руки от красотки. В это время открылась наружная дверь, и с поклоном вошел сотник. Хан вопросительно посмотрел на него. — Из Серахса прибыл Ходжам-хан, — сообщил вошедший и снова поклонился. Хан жестом приказал девушке удалиться. Она понурила голову и вышла через ту же дверь, через которую вошла. — Пусть Ходжам-хан войдет. Сотник отвесил поклон и вышел. Хан уселся поудобнее, подвернул под себя ноги, погладил жирный подбородок и изобразил на лице подобающее для встречи подданного выражение. Через отворенную сотником дверь вошел Ходжам Шукур и постарался поклониться как можно ниже. — Саламалейкум, хан-ага, — почтительно произнес он. Мядемин-хан даже не пошевелился. И только когда гость, осторожно ступая, подошел совсем близко, протянул ему навстречу руку. Ходжам Шукур крепко ухватился за рукав и согнулся с таким видом, словно собирался расцеловать руку хана. Его всего трясло как в лихорадке. В его трусливом теле сейчас бушевало столько разных чувств: страх, радость, надежда, угодливая любовь, — этого хватило бы на десять человек. Чуть переведя дух, Ходжам Шукур осыпал хана вопросами. Как его здоровье? Как здоровье родственников? Как здоровье детей? Как себя чувствует любимая жена? Забываясь, хан спрашивал по нескольку раз об одном и том же. Мядемин-хан вначале отвечал на вопросы Ходжама Шукура, хотя и довольно однообразно: «Хорошо, спасибо» или «Слава аллаху, хорошо», но потом и это ему надоело, он перестал совсем отвечать и пристально стал смотреть на Ходжама Шукура, словно видел его в первый раз. Наконец Мядемин-хан поднялся, перешел на ковер и жестом пригласил Ходжама Шукура присесть напротив. Гость и хозяин сели и молча уставились друг на друга. Мядемин-хан никак не мог придумать, что бы такое сказать, а в обязанности Ходжама Шукура, как гостя, входило только одно: поздороваться и расспросить о здоровье хозяина и ближних, что он и исполнил, даже с излишней старательностью. Мядемин-хан подумал еще немного и решил взять быка за рога. — Чего привез? Лицо Ходжама Шукура радостно засияло, и он, торопясь и сбиваясь, принялся перечислять подношения: — Сушеной дыни пятнадцать пудов, хан-ага, зерна восемьдесят пять пудов, потом торбы, еще муки десять мешков… Мядемин-хан повел головой и стал рассматривать стены, словно раньше у него не было на это времени. Ходжам Шукур пытался угадать причину недовольства хана, перечислял в уме привезенное и не знал, чем можно вызвать интерес хана. Мядемин посмотрел в лицо Ходжама Шукура и перебил его: — Это все, что ты привез? — О аллах! Это только от Хемракули, хан-ага! А от меня еще верблюд с сарыкскими коврами, верблюд… Лицо хана вдруг приняло такой суровый вид, что Ходжам Шукур невольно замолчал. Все мысли его разлетелись в разные стороны, словно стая воробьев. Молчали они довольно долго. Наконец хан пристально посмотрел в глаза Ходжама Шукура и сладко улыбнулся, точно ободряя гостя. От радости Ходжам Шукур весь расплылся в ответной улыбке и даже закрутил головой. Но лицо хана моментально приняло прежнее выражение, даже еще более суровое. Ходжам Шукур перепугался чуть не до смерти. «А может, шайтан съел часть его ума? — вдруг мелькнуло у него в голове. — Сейчас позовет сотника и скажет: «А ну-ка отруби голову этому шакалу». Ходжам Шукур даже с опаской обернулся и посмотрел на дверь. Но сотника там еще не было. — Хан-ага, — вдруг начал вкрадчивым голосом Мядемин-хан, отчего гость его даже вздрогнул, — а не привез ли ты какой-нибудь туркменский цветочек, попроще, но поярче?.. До Ходжама Шукура наконец-то дошло. От радости он чуть не подпрыгнул на месте. — Как же, хан-ага! Привез, специально для вас, да такой, что поискать!.. Два человека, хоть и поздно, но все-таки сумевшие понять друг друга, обменялись ласковыми улыбками. Хан хлопнул в ладоши. Вошел сотник. Мядемин-хан прокашлялся и посмотрел на него особым взглядом. Сотник покорно поклонился и вышел. Мядемин-хан порадовался про себя понятливости своих слуг. Настроение у него заметно поправилось. Теперь хан и Ходжам Шукур молча смотрели на дверь, точно два хищника, поджидающие добычу. Наконец дверь осторожно отворилась, но пока никто не входил. Потом показалась одна из женщин хана. Она просунулась в дверь наполовину, похоже было, что кого-то тянула за собой. И действительно, следом за женщиной вошла девушка, осторожно подталкиваемая кем-то еще и сзади. Женщины выставили девушку вперед. Хан кивнул им, и они вышли. Девушка в тонкой шелковой накидке на голове осторожно сделала два шага, словно боясь, что кафельный пол ханского Дворца может провалиться, и остановилась. На ней были черные кожаные башмаки, красные вязаные носки. Из-под новенькой красной курте[38] виднелся подол платья из кетени. На пальцах кольца с поблескивающими в них камнями. Это была Каркара. — Девушка, тот, кто предстает перед ха лом, должен опустить голову! — грозно крикнул Ходжам Шукур, точно он сам и был хивинским ханом. Но Каркара не шевельнулась, продолжала стоять неподвижно, словно изваяние из камня, каких было много в приемной хана. Хан поглядел на нее, усмехнулся. Потом поменял ноги местами, подумал, осторожно встал и сделал несколько шагов в сторону девушки. Ходжам Шукур мигом вскочил следом за ним. Он испугался, что хан разозлится и ударит ее, но беспокоился он не из-за девушки, а из-за того, что ханская злоба может перейти и на него. Поэтому Ходжам Шукур вырвался вперед, подошел вплотную к Каркаре и повторил свой приказ: — Если не хочешь, чтобы вырезали весь твой род, нагни голову, тебе говорят! Но девушка продолжала стоять словно неживая. Сзади подошел хан и положил руку Ходжаму Шуку-ру на плечо: — Не трогай ее, хан-ага. Женщин, которые склоняют голову прежде, чем их попросят, и раздеваются раньше, чем до этого дойдет дело, в Хиве и так полно… Ходжам Шукур послушно отступил в сторону. А хан продолжал: — Когда женщина на каждую твою просьбу говорит «нет», она даже некрасивая становится красивой. А женщина, которая сама лезет к тебе, будь она хоть золотая, надоедает на второй день и гроша медного не стоит!.. Мядемин-хан приподнял накидку девушки и заглянул ей в лицо. Глаза его радостно засветились. — Как зовут красавицу? — Каркара. — Мы сами должны склонять головы перед такой прелестью. В подтверждение своих слов Мядемин с улыбкой поклонился. Ходжам Шукур отнес это «мы» и на свой счет и тоже пригнул голову. — Верно говорите, хан-ага, это очень хорошо, когда мужчины преклоняются перед красотой. Мядемин-хан хлопнул в ладоши. Вошел сотник. Хан хлопнул другой раз, и появились женщины, приведшие Каркару. — Пусть в наш хауз[39] вплывет еще один лебедь. Пусть моя Каркара до вечера вымоется, как следует оденется и отдохнет. Накормите ее самым лучшим, что есть у меня. Женщины увели Каркару. Хан вернулся к своему ложу, но, прежде чем сесть, обернулся к сотнику: — Пусть придет Мятер! Потом некоторое время постоял в раздумье и неожиданно поднял глаза на Ходжама Шукура: — Садитесь, прошу вас, хан-ага. Голос его был изысканно вежливым. Ходжам Шукур, не решавшийся это сделать прежде хозяина, быстро прошел вперед и сел. — Ну, как у вас в Мары? Как ваш народ поживает? — Разболтался народ, хан-ага. — Разболтался? Может, кто-то их разболтал? — Ваша правда. Это текинцы всё, из-за них… — А в чем же дело? — Причин я не знаю, хан-ага. — Не знаете? А что за текинцы? — Серахские. — Какой хан? — В том-то и дело, что не один хан. Все ханы разболтались. И не ханы тоже. Весь народ в Серахсе испортился. — Весь народ не может испортиться. Народ — это стадо. А у стада есть чабан. Куда он поведет, туда и они… — Но ведь сами чабаны и разболтались!.. — В том-то все и дело! Если разболтались чабаны, то и стадо все разболталось. — Это верно, хан-ага. — А если верно, то надо быть заодно с чабанами, тогда и стадо будет с тобой заодно. — И это верно, хан-ага. — А если чабаны тебя не будут слушать, то и все стадо не послушает! — И так не слушают! — И все больше будет испорченных. — И так их полно! — Верно. Разве ты не знаешь пословицу: «Если мать не родная, то и отец не твой»? — Знаю, хан-ага, знаю. — А если знаешь, то должен суметь поладить со своими ханами. Где понадобится, и согласиться с ними, и навстречу пойти. Запомни, хан, одну вещь: если старейшина согласился, согласился и народ! — Верно, хан-ага. Говорят же, если чабан захочет, он и козла подоит. — Мудрые слова! Но я тебе еще скажу: чтобы получать всегда молоко от козла, надо знать все слабости чабана и держать его в своих руках. — Верно, хан-ага, верно. Только так получилось, что текинские старейшины и сарыкских держат в своих руках. Кроме верного тебе Халып-ишана, никто не смеет ослушаться текинцев. Мядемин замолчал, потом вдруг от внезапно пришедшей мысли вздрогнул. — А что, — сказал он, — если я сарыков с землей смешаю? Успокоятся и текинцы. — Было бы неплохо, хан-ага. Я сам хотел попросить об этом. Но тут вошел Мятер, и оба хана замолчали. Разговор о сарыках надо было начинать заново, потому что собирать войско для запугивания туркмен должен был этот самый Мухамед Якуб Мятер, ближайший помощник Мядемина, его военачальник. Намерение Мядемина напасть на Мары, где жили сарыки, имело целью не только запугать сарыков и вообще туркмен, привести их к послушанию, но и отбить у них всякую охоту думать о воссоединении с Бухарским эмиратом. Хивинский хан Мядемин со своим старшим братом Рахимкулн уже прибегали к подобному маневру, когда в тысяча восемьсот сорок первом году разбили и разграбили Мары и далее прошлись с разбоем по окраинам могущественного иранского государства. Этим самым они заставили туркмен склонить головы перед Хивой, а чтобы показать свою мощь бухарскому эмиру, через год напали и разгромили Чарджоу, который находился под властью Бухары. Награбленным добром поделились с туркменами-старейшинами, чтобы те впредь не только слушались, но и восхваляли Хиву. Так был окончательно подчинен туркменский народ хивинскому хану. Однако Бухара не выходила из головы Мядемина, оставаясь для него опасным соперником. Пошлина с туркмен с перебоями и с большим опозданием поступала в ханскую казну, а тут еще стали доходить слухи, что Бухара якобы направила письмо сарыкам и салырам с целью перетянуть их на свою сторону. Все это тревожило Мядемина и привело его к решению повторить уже проверенный маневр, напасть на Мары, стереть с лица земли сарыков.
Для того чтобы выполнить поручение Ходжама Шуку-ра, Кичи-кел решил прибегнуть к помощи Тоты, жены Мялика. Кичи-кел договорился о встрече. Тоты хотелось воспользоваться отсутствием мужа и свекра, чтобы повидаться и поговорить со своим бывшим земляком, они были из одного аула. Для Кичи-кела смысл встречи был совсем в другом. По поручению Ходжама Шукура он должен был узнать доподлинно, куда и зачем уехали Пенди-бай с сыном. Если же подозрение Ходжама Шукура подтвердится, если Пенди-бай с сыном по наущению Каушут-хана отправились в Иран, чтобы замутить там воду против Хивы, он, Ходжам Шукур, немедленно должен известить об этом Мядемина. Кичи-келу давно казалось, что Тоты неравнодушна к нему, да и сам он, по правде сказать, хотел бы подобраться к ней, но не находил подходящего момента. Теперь случай подвернулся. Условились встретиться в сарае, за кибиткой. Тоты вошла в сарай, села, прислонившись к столбу, и принялась смотреть, но не в ту сторону, откуда должен был появиться Кичи-кел, а на дверь белой кибитки. Она не беспокоилась, что Кичи не придет, ее волновало больше то, что из кибитки могла выйти Огул-тачэдже. Шестидесятилетняя Огултач на старости лишилась сна и от нечего делать по нескольку раз за ночь выходила на улицу и обшаривала весь двор, даже когда Пенди-бай и Мялик были дома. Если же кто-то из них уезжал, малейший шорох заставлял старуху выскакивать наружу. Тоты уже начинала злиться, что Кичи-кела все нет. «Ему только бы дрыхнуть! Какой это мужчина, женщина ждет!..» Но тут за дверью, вернее за загородкой из колючей березы, показался силуэт человека. Это был Кичи-кел. Он приближался, беспокойно озираясь по сторонам. — Сюда! Иди сюда! — прошептала Тоты. Кичи-кел оглянулся еще раз и пролез в сарай. — Тоты моя! — он бросился к ней и хотел обнять ее. Но Тоты сердито оттолкнула его. Голос ее был и злым и радостным одновременно: — Не спеши! Закрой хоть загородку сначала, а то как бы собаки штаны не порвали! Кичи-кел послушно встал, закрыл дверь и вернулся к ней. — Я не спешу, Тоты, не спешу. Я понимаю, ты же замужняя женщина, а мы — бедные бобыли… Правду говорят, сытый голодному не товарищ! — Не дай бог такой сытой быть, как я! — А что, разве плох твой муж? — Чем такой муж, уж лучше никакого… Говорят, раньше девушки, став женщиной и вернувшись в отчий дом, — плакали… — Что ж у тебя Мялик жадный, что ли, хлеба тебе не дает? — Да дело не в том, что жадный или нет, а надо, чтоб мужик был настоящий! — А, вот оно что! Значит, твой храпит всю ночь? — Да нет, не всю ночь… Но и лишний раз тоже не обнимет… — Вах, Тоты! А я здесь для чего?! — Он обнял ее за талию и притянул к себе. Кичи-кел осторожно снял с ее головы курте, дотронулся до ее шеи. Тулуп свалился с его плеч. Он на мгновенье оставил Тоты, расстелил тулуп… В это время послышался скрип двери в кибитке. — Ой! Огултач! Ну все, мне конец! — жалобно вскрикнула Тоты и крепче прижалась к Кичи-келу. Кичи-кел, не отпуская Тоты, приподнялся и поглядел за прутья загородки. Старуха шла прямо к сараю. — Сюда идет? — еле слышно прошептала Тоты. — Тише! Может, просто по нужде. — Он и сам сильно надеялся на это, и руки и колени его подрагивали от страха. На их счастье, предположение Кичи оправдалось. — Все, ушла, успокойся. Тоты облегченно вздохнула и сама потянулась к Кичи-келу. Но он, сообразив, что женщина теперь его, не стал спешить. — Послушай, Тоты, я подумал, а что бы я делал, если бы мне такая жена досталась? — Почем я Знаю! А что бы ты мог делать? — Ну, уж свой сарай я бы сразу снес. — Подумаешь, сарай! Что, в поле места мало? — Ну, тогда бы пришлось без головы тебя оставить. — Да как бы ты узнал? — Как узнал? Уж узнал бы, будь спокойна. Как это мужчина может не знать, что его жена делает! — Да ни на волос бы не узнал. — Все узнал бы. — Ну как? — Во-первых, я не бросал бы свою жену-красавицу, как твой муж, и не уезжал в Теджен на свадьбу. — А, чепуха!.. Если женщина захочет, ты и знать не будешь, что в одной постели спят трое. — Как это трое? — Ну так, муж, жена и любовник… — Я бы снял головы и жене и любовнику. — Лучше не хвались, Кичиджан, а скажи спасибо аллаху, что он женщине немного стыда дал, а то она могла бы такое наделать!.. — Нет уж, пусть лучше не дает. — Почему? Кичи-кел улыбнулся в темноте. — Потому что если так, то ты сейчас должна встать и уйти… — Нет, миленький, я от тебя не уйду. А вот расскажу тебе старую историю. Один старик женился на молоденькой, а она была писаной красавицей. Молодые джигиты дня не могли прожить, чтобы не увидеть ее. И даже когда она уже была невестой, то и дело приставали к ней на улице, здоровались, говорили любезности. Старик, женившись, не доверял ей, не отпускал от себя и даже в поле брал с собой. Сам пахал землю, а жена тут же собирала курек, разводила огонь и кипятила чай. Но отчаянные джигиты и тут не растерялись. Пока старыймуж доплетался на своем быке до края поля, они уже успевали нацеловаться с красавицей. В конце концов старику надоело это, и он заказал специальный сундук. — Зачем сундук? — А ты слушай. Он сажал свою жену в сундук и носил за спиной. — И пахал землю? — И пахал. Зато был спокоен. И вот как-то хан этой страны со своими нукерами, визирями, меткими стрелками отправился на охоту. Они увидели старика, который пахал землю с сундуком за плечами. Хана это очень удивило, потому что никогда еще не видел он, чтобы пахали землю с сундуком на горбу. «Приведите ко мне старика», — сказал хан своим нукерам. Старик, не снимая ноши, подошел к хану и остановился перед ним. «Что это у тебя за сундук за спиной? — спросил хан. — Золото, драгоценности? И почему ты не хранишь их у себя дома? В моей стране не должно быть никакого воровства. Раз ты не веришь моим людям, носишь свое богатство за спиной, я тебя накажу». Тогда старик признался в том, что в сундуке не золото и не драгоценности, а собственная жена, она так хороша, что ей мужчины не дают прохода. «Если она так хороша, покажи ее нам», — сказал хан. Разве мог старик ослушаться хана? Он снял сундук со спины, открыл его, и вдруг оттуда выскочил молодой джигит и бросился в поле. Хан и его слуги, да и сам старик были поражены. Хан прицелился и хотел пристрелить убегавшего джигита. «Мой повелитель, — сказал один из нукеров, — не убивайте этого юношу, лучше поговорите с ним. Кто знает, что он скажет?» Пустили следом двух гончих, они быстро догнали парня и приволокли его к хану. Испугавшись хана, юноша рассказал все как было. «Когда старик засыпает вечером, — сказал юноша, — я сплю в объятиях его жены, а когда старик просыпается утром, я залезаю в сундук, и тогда жена его спит в моих объятиях». Поскольку юноша сказал правду, хан помиловал его и отпустил с миром. Вот видишь, Кичиджан? Женщина, если захочет, может сделать все. Кичи-келу ничего не оставалось, как согласиться с Тоты. — Вот я захотела, чтобы ты стал моим, и вот ты мой, — сказала она и плотней прижалась к Кичи. — И я тоже твоя. Кичи подумал, что как раз наступило время приступить к делу, и он спросил: — Тоты, а можешь ты сказать мне одну вещь? Только правду. — Разве я могу обмануть тебя? — Думаю, что нет. — Тогда спрашивай. — Куда уехал Пенди-бай с Мяликом? — На поминки в Теджен. — Это правда? — Да, правда. А ты думал куда? — Нет, никуда… Еще раз скажи, ты не врешь? Кичи-кел склонился к самому лицу Тоты, желая убедиться, нет ли обмана. Тоты обхватила его за шею и притянула к себе. — Нет, миленький, не вру. И Кичи-кел поверил, что она говорит правду.
После вечернего намаза Мядемин вышел во двор. Рядом с ним не было ни гостя, ни сотника. Заложив руки за спину, он дважды обошел пруд, по берегу которого росли платаны. Остановившись над невысоким обрывом, он поправил на себе одежду и подпер ладонью подбородок. Долго смотрел на отраженные в воде звезды, потом нащупал под ногами камешек и, улыбаясь, словно ребенок, кидающий подкормку рыбам, бросил в воду. Разошлись круги по водной глади и стерли звезды. «Все, что сталкивается с силой, меняет свой облик», — подумал про себя хан. Ему и в голову не пришло, что облик изменили не сами звезды, а лишь их отражения, а сами они по-прежнему сияли в глубоком ночном небе. Поднятые круги на воде исчезли, и звезды, сдвинутые ханом, снова вернулись на свое место. Они блестели, переливались, как будто подмигивали хану, напоминая девичьи глаза. Мядемин выпрямился, осторожно посмотрел в сторону ильмового дерева. В его тени расхаживала взад и вперед едва различимая фигура. Хан кашлянул тихонько. Темная фигура оказалась послушной, она сразу двинулась на зов хана. Не поднимая головы, Мядемин сказал, как будто бы обращаясь к воде: — Зейнеп! Фигура сотника вмиг исчезла, и вскоре появилась Зейнеп в тонких шелках, облегавших гибкое тело. Она подошла поближе к хану и, разведя в стороны шелковое одеяние, поклонилась. — Новая красавица готова? — спросил хан. Зейнеп, давая понять, что «красавица готова», повторила свое движение и после поклона бесшумно направилась к дверям дома. Хан сделал было несколько шагов вслед за ушедшей, но потом остановился, снова заложил руки за спину, облизал губы и поднял глаза к небу. И небесные звезды подмигивали ему так же, как и те, что отражались в пруду. Это понравилось хану. Даже звезды неба стараются угодить ему, не говоря уже о земных. Занавес на дверях откинулся, Зейнеп вывела за руку Каркару и подтолкнула ее слегка вперед. Девушка ни на шаг не приблизилась к хану, оставаясь стоять там, где оставила ее Зейнеп. Одета была Каркара не так, как утром. Хотя сквозь платье и не просвечивалось ее тело, как у Зейнеп, но шелка на ней были тонкие и дорогие. Мядемин распростер руки, словно Каркара собиралась открыть ему свои объятья. — Подойди ко мне, мой прекрасный цветок! Каркара даже не шевельнулась. Хан старался быть ласковым. — Ты моя прелесть, ты радость моя, Каркара! Нет равных тебе ни в Хиве, ни в Бухаре. Ты соловей мой, цветок мой! Слова эти не произвели на Каркару никакого впечатления. Но хан не разгневался. Он подошел к девушке. Заметив это сквозь тонкое покрывало, накинутое на лицо, Каркара вздрогнула всем телом, словно птичка, попавшая в неволю. Она осторожно огляделась по сторонам. Единственно, что увидела, был высокий забор. Бежать некуда. Хан приблизился к ней вплотную, погладил ее хрупкое плечико. Девушка опять вздрогнула и отошла в сторону. Хана это умилило, он улыбнулся, взял ее за локоть и притянул к себе. — Дикая козочка моя. Девушке удалось выскользнуть из цепких рук хана, она оттолкнула его. Но девичьи руки не в силах были сладить с ханом, он даже не сдвинулся с места, однако потерял самообладание и перешел от притворной ласки к решительным действиям. Схватил ее за руку и потянул за собой к водоему. Сильные пальцы хана так сдавили руку Каркары, что она чуть не вскрикнула от боли, но стерпела. Хан остановился у берега и какое-то время молча смотрел в черный омут, где золотились звезды. Каркара подумала, что хан привел ее сюда, чтобы сбросить в воду. Ей казалось, что когда гневаются ханы, то даже погода должна измениться, небо затянется тучами и на землю обрушится ливень. Ханы не останавливаются ни перед чем в своем гневе, не жалеют ни людей, ни зверей, кого угодно могут в один миг лишить жизни, и никто не спросит у них ответа. Ханы должны быть жестокими, и девушка поверила, что пришел ее конец и сейчас ее сбросят в омут. Но она не испугалась, напротив, почувствовала облегчение. «Обниму камень на дне пруда и задохнусь. Лучше умереть, чем быть наложницей в ханском дворце». Она думала сейчас только о смерти и ничего другого не желала. Вдруг послышался глухой голос Мядемина: — Жить не хочется? Каркара не ответила, не произнесла ни слова, когда вопрос был повторен. Хан немного разжал пальцы, физическая боль утихла, зато во сто крат усилилась душевная боль. — Покорись, красавица, или сегодня же я велю закопать тебя живьем в землю! Девушка и на эти слова ответила молчанием. Голос хана стал жестче: — Я сказал все. Выбирай! Каркара молчала. Хан хотел сказать еще что-то, но ему помешал выскочивший из низенького домика мужчина с непокрытой головой. По тому, что человек решился нарушить вечерний покой хана, можно было заключить, что дело у слуги было неотложное. Человек с непокрытой головой смело подошел к хану и стал что-то нашептывать ему на ухо. Мядемин закусил нижнюю губу, сказал: «Хоп!» — и согласно кивнул головой. Человек повернулся и пошел к дому, глядя в небо, словно пересчитывая там звезды. Следом за ним отправился и сам Мядемин. Каркара осталась одна. На какое-то время она почувствовала облегчение. Ей показалось, что с уходом хана ушла и опасность. Каркара стала осматриваться, чтобы найти хоть малейший выход из безнадежного положения. Со всех сторон окружал ее высокий забор, взобраться на который не было никакой возможности. И она почувствовала себя брошенной в колодец с кирпичными стенами. Каркара вздрогнула, заметив под развесистым ильмом человека, приближавшегося к ней. Человек, шедший в тени деревьев, был охранником Мядемина, его нукером. Не дойдя до Каркары, он повернул в противоположную сторону, словно вымерял длинными шагами расстояние между Каркарой и забором. Нукер шел с опущенной головой и как бы ни на что не обращал внимания, хотя ясно было, что он послан сторожить девушку. Во дворе дворца, кроме воина и Каркары, не было ни души. Даже распевавшие птицы угомонились, и только вдалеке где-то посвистывала синица. И тут нукер направился от Каркары в противоположную сторону. В сердце девушки вдруг вспыхнула новая надежда, и она решилась подойти к охраннику. Но, не зная, как назвать нукера, как обратиться к нему, то ли «дядя», то ли «ага», Каркара некоторое время стояла в нерешительности. Но вот воин снова прошел мимо девушки, и она, собравшись с духом, окликнула его: — Почтенный, вы кто? Нукер от неожиданности вздрогнул. Как? Его кликнула пленница, привезенная из далекого края, чтобы стать наложницей хана? Он остановился, дуло черного ружья направил в землю, огляделся по сторонам. Убедившись, что никого, кроме них, нет поблизости, подошел к девушке. — Что ты сказала? — спросил он, хотя прекрасно расслышал ее вопрос. Каркара повторила. — Я? — переспросил нукер, — Я сотник Мядемин-хана. — Тяжело вздохнул и, внимательно посмотрев в лицо девушке, добавил: — Я сотник. Что делать? Нам тоже надо жить. Я просто сотник, сестра. — А как зовут вас? Вопрос удивил нукера. «Интересно, для чего этой несчастной понадобилось мое имя? Может, хан поручил ей выведать мои мысли? Может, это просто ловушка для меня?» Но, подумав, что, если он и скажет свое имя, от этого ничто не изменится и что это решительно ничем ему не грозит, он ответил: — Меня зовут Керим, сестра. — А меня Каркара. По выговору и голосу чувствовалось, что девушка совсем еще юна. Керим задумался. «Видно, — подумал он, — случилось что-то непоправимое». — Сестра, что ты от меня хочешь? Кто тебя привез сюда и кто ты вообще? Девушка, оглядевшись по сторонам, торопливо стала рассказывать: — Керим, брат, я дочь одного старого человека. Кроме отца, у меня есть младший братишка. Мама умерла… — А я, сестра, несчастней тебя, — перебил Керим, — Я сам себе и мать, и отец. Тут я совсем один. Каркара, доверившись Кериму, сняла с лица покрывало и прямо посмотрела в глаза ханскому сотнику. Перед ней стоял красивый юноша лет двадцати. — Да благословит аллах твой жизненный путь, воин! А не могли бы наши общие страдания объединить нас в желании стать братом и сестрой? — вдруг нашлась Каркара. — Я не могу быть тебе братом, сестра. — Почему? — Потому, что брат всегда должен защищать свою сестру, даже голову свою положить на плаху за ее честь. А в этом дворце, не будешь подлецом, не проживешь и одного дня. Конечно, лучше умереть, чем служить им и самому быть подобным, но кому хочется умирать. Каркара не могла найти достойного ответа и тихонько заплакала. Сквозь рыдания чуть слышно проговорила: — Если бы Каушут-ага знал, он спас бы меня. — Кто такой Каушут, сестра? Каркара решила так расхвалить Каушута, чтобы раззадорить юношу, вызвать желание помочь ей. — Каушут — это самый сильный и смелый джигит нашего аула. Он победил в гореше хивинского пальвана Хемракули, — Каркара сказала неправду и замолчала: а вдруг Хемракули окажется родственником Керима? — Победил Хемракули? Каркара теперь боялась отвечать. — Если это правда, тысячу лет жизни Каушуту! Каркара удивленно подняла глаза: — А вы тоже не любите Хемракули? — Не люблю? — Керим запнулся от волнения. — Я его ненавижу! Он убил моего отца! Он… Он избил его плетью… Отец не прожил недели… А я… Керим сжал кулаки и замолчал. Видно было, что в душе его шла нелегкая борьба. Наконец он поглядел на Каркару и сказал: — Стой здесь. Тихо. Не двигайся. Сам он осторожно прокрался к двери, за которой скрылся Мядемин, и заглянул внутрь. Потом вернулся снова к Каркаре. — Они еще разговаривают. И, видно, долго будут… Я решил. Я помогу тебе. Но что ты будешь делать, если даже уйдешь отсюда? Даже если успеешь выбраться из Хивы? Ведь кругом пустыня. Ты не дойдешь до дома… — Брат! Только помоги! Я лучше умру в пустыне, чем стану наложницей хана. Только бы уйти отсюда! — Хорошо. Пусть аллах решит твою судьбу. Я больше ничем не могу тебе помочь. Мне тоже надо убегать отсюда и увозить жену. Я должен хану, а платить нечем. Он сказал, что возьмет мою жену. Теперь пусть бесится! Только надо скорее бежать. Если меня поймают, с живого кожу сдерут. Идем! Керим взял ее за руку и провел вдоль стены к маленькой калитке. Открыл ее и вышел вместе с Каркарой на улицу. — Ну прощай, сестра. Аллах тебе поможет. Иди не по дороге, а рядом. Увидишь всадников, прячься. Может быть, и найдется добрый мусульманин, который спрячет тебя. А там попроси послать гонца к своему Каушуту, сто лет ему жизни! Каркара схватила за руку Керима: — Дай аллах тебе счастья и жене твоей! Керим довел ее до угла улицы, показал, как выбраться на караванный путь, и быстро скрылся из виду. Каркара пошла по дороге, указанной ей Керимом. Она первый раз была одна ночью в чужом городе, но не чувствовала страха. Ей казалось, что если аллах помог ей выбраться из такого места, откуда, наверное, не выбирался еще ни один смертный, то и дальше он не бросит ее.
 На улицах не было ни души. Каркара невольно заметила, что здесь даже было тише, чем в Серахсе: там и ночью ржали кони, лаяли собаки, ревели ишаки, а тут город как будто вымер.
Единственный звук, как она поняла, исходил от нее самой. Это звенели украшения, надетые на нее Зейнеп. Каркара остановилась у какой-то канавы, сорвала и сбросила с себя украшения. Заодно скинула и тесные новые башмаки, которые только мешали, и пошла дальше босиком.
Скоро дома стали редеть, улица расширилась, это была уже окраина города. Еще через некоторое время жилища совсем пропали, и в лицо повеяло запахом сухой степной травы.
Каркара то бегом, то шагом пробиралась вперед. Город скрылся за спиной, и теперь ей казалось, что она идет по одному и тому же месту: ночью пейзаж степи еще однообразней, чем днем.
Скоро она начала уставать. Но страх перед оставшимся позади городом гнал ее дальше и дальше. Ноги уже болели и кровоточили. На востоке показалась утренняя звезда. Стало прохладней. Каркара уже не думала ни о чем, только шла и шла, не понимая, куда, зачем и к кому…
Светлая полоска постепенно захватывала край неба…
Каркара почувствовала, что идти дальше не может. Подошвы ног горели, колени дрожали, и хотя вокруг становилось все светлее и светлее, глаза, наоборот, застилал мрак. Нигде вокруг не видно было никаких признаков жилья. Каркаре казалось, что во всем мире нет других живых существ, кроме нее и невидимых птиц, которые, просыпаясь, верещали в низкорослой траве по обочинам дороги.
И вдруг сзади послышался топот копыт. Каркара оглянулась назад и увидела несколько черных точек, быстро нагонявших ее. По приближении точки стали приобретать очертания всадников. Каркара перепугалась. В первое мгновение подумала, что теперь ей конец. Всадники схватят и отведут обратно в дом Мядемин-хана. И тогда уже никто не поможет ей. Она даже успела представить Керима, связанного, избитого до полусмерти, стоящего перед ханом и его свитой. А из-за занавесок смотрят и хихикают ханские наложницы, которым ни до кого нет дела…
Но Каркара быстро пришла в себя. Она бросилась в сторону от дороги и побежала, пригибаясь и прячась за низкорослыми кустами. Она позабыла и про боль и про усталость. Страх перед ханом удесятерил ее силы. Всадники проскакали мимо, а Каркара все бежала и бежала, удаляясь от страшной дороги. Она боялась даже оглянуться, ей казалось, стоит только это сделать, как свирепый нукер схватит ее за волосы и бросит поперек седла…
Возле небольшой впадины Каркара споткнулась о торчащий из земли корень и упала, скатившись в яму. Хотела встать, но не смогла. Руки и ноги не слушались ее. Вокруг было тихо. Ни голосов, ни топота копыт, которые мерещились ей, пока она бежала. Девушка задыхалась. Теперь она постепенно начинала чувствовать, как болит все тело, особенно ноги, как будто с них содрали кожу и посыпали солью. Она начала тихо стонать. Ей думалось, что, если плакать громче, боль скорее утихнет. Но судьба не давала возможности бедняге не только громко радоваться, но и громко страдать: она боялась, что всадники услышат ее голос и схватят.
На улицах не было ни души. Каркара невольно заметила, что здесь даже было тише, чем в Серахсе: там и ночью ржали кони, лаяли собаки, ревели ишаки, а тут город как будто вымер.
Единственный звук, как она поняла, исходил от нее самой. Это звенели украшения, надетые на нее Зейнеп. Каркара остановилась у какой-то канавы, сорвала и сбросила с себя украшения. Заодно скинула и тесные новые башмаки, которые только мешали, и пошла дальше босиком.
Скоро дома стали редеть, улица расширилась, это была уже окраина города. Еще через некоторое время жилища совсем пропали, и в лицо повеяло запахом сухой степной травы.
Каркара то бегом, то шагом пробиралась вперед. Город скрылся за спиной, и теперь ей казалось, что она идет по одному и тому же месту: ночью пейзаж степи еще однообразней, чем днем.
Скоро она начала уставать. Но страх перед оставшимся позади городом гнал ее дальше и дальше. Ноги уже болели и кровоточили. На востоке показалась утренняя звезда. Стало прохладней. Каркара уже не думала ни о чем, только шла и шла, не понимая, куда, зачем и к кому…
Светлая полоска постепенно захватывала край неба…
Каркара почувствовала, что идти дальше не может. Подошвы ног горели, колени дрожали, и хотя вокруг становилось все светлее и светлее, глаза, наоборот, застилал мрак. Нигде вокруг не видно было никаких признаков жилья. Каркаре казалось, что во всем мире нет других живых существ, кроме нее и невидимых птиц, которые, просыпаясь, верещали в низкорослой траве по обочинам дороги.
И вдруг сзади послышался топот копыт. Каркара оглянулась назад и увидела несколько черных точек, быстро нагонявших ее. По приближении точки стали приобретать очертания всадников. Каркара перепугалась. В первое мгновение подумала, что теперь ей конец. Всадники схватят и отведут обратно в дом Мядемин-хана. И тогда уже никто не поможет ей. Она даже успела представить Керима, связанного, избитого до полусмерти, стоящего перед ханом и его свитой. А из-за занавесок смотрят и хихикают ханские наложницы, которым ни до кого нет дела…
Но Каркара быстро пришла в себя. Она бросилась в сторону от дороги и побежала, пригибаясь и прячась за низкорослыми кустами. Она позабыла и про боль и про усталость. Страх перед ханом удесятерил ее силы. Всадники проскакали мимо, а Каркара все бежала и бежала, удаляясь от страшной дороги. Она боялась даже оглянуться, ей казалось, стоит только это сделать, как свирепый нукер схватит ее за волосы и бросит поперек седла…
Возле небольшой впадины Каркара споткнулась о торчащий из земли корень и упала, скатившись в яму. Хотела встать, но не смогла. Руки и ноги не слушались ее. Вокруг было тихо. Ни голосов, ни топота копыт, которые мерещились ей, пока она бежала. Девушка задыхалась. Теперь она постепенно начинала чувствовать, как болит все тело, особенно ноги, как будто с них содрали кожу и посыпали солью. Она начала тихо стонать. Ей думалось, что, если плакать громче, боль скорее утихнет. Но судьба не давала возможности бедняге не только громко радоваться, но и громко страдать: она боялась, что всадники услышат ее голос и схватят.
К полудню Мялик вернулся из Теджена. Как бы возвещая о приезде хозяина, у загона пронзительно заржала его лошадь, однако встречать никто не вышел. Мяли-ка, уставшего от долгой утомительной дороги, это страшно возмутило. Обычно, если он уезжал куда-нибудь с ночевкой, Огултач-эдже, только заслышит цокот копыт, сразу же выскакивает из кибитки, бросается к сыну, еще не успевшему сойти с коня, обнимает, помогает слезть с лошади, спрашивает о дороге, о тех местах, где побывал, провожает в кибитку, просит отдохнуть с дороги. А тут никого. Взявшись за луку седла, Мялик со злостью спрыгнул с лошади, кое-как примотал повод уздечки к коновязному колу и, не дав себе труда ослабить подпругу, торопливой походкой направился к дому. С ходу толкнул он дверь белой кибитки, но та не отворилась. И тут до него из кибитки донесся стон. Это вмиг остановило Мялика, он прислушался. Стонала Тоты. Рядом с ней сидела Огултач-эдже, обняв невестку за та.:.до. Тоты была беременной. Ее свидания с Кичи-келом в холодном сарае, занятия по хозяйству привели к тому, что ребенок мог появиться на свет до срока и сразу же с этим светом расстаться. Такая участь ждала долгожданного внука Пенди-бая и Огултач-эдже, а ведь к появлению его на свет так долго готовились в этом доме. И, отправляясь в Теджен, Пенди-бай приказывал жене смотреть в оба, чтобы какая собака или птица не напугала невестку, как бы с ней не случилось чего в их отсутствие. В кибитке было прохладно, и все же у Тоты выступили крупные капли пота. Ее мучили схватки, и она с трудом удерживалась от крика, до крови кусала губы и, заглушая боль, стонала. — Ну, что с тобой, что случилось? — плаксивым голосом спрашивала Огултач-эдже. — И как же я не углядела тебя, ведь каждый шаг твой стерегла. Что с тобой, доченька? Какой шайтан попутал тебя, какая черная сила вселилась в тебя? В ответ раздавался только стон. Тоты носила яшмак и поэтому не могла разговаривать со свекровью. Яшмак закрывал рот и прилипал к потной шее. Огултач-эдже приставала со своими вопросами, пока не убедилась, не увидела, что невестка не может разговаривать. — Нашла время молчать за яшмаком! — Старуха с сердцем сорвала с невестки злосчастный плат. — Умираешь, а все стараешься показать себя скромницей. Застежка яшмака отстегнулась у Тоты, головной убор — топбы — отлетел в одну сторону, яшмак в другую. Тоты страдала, ей было тяжело, однако думала она о том, что ответит свекрови, если та снова начнет приставать с вопросами. И тут вспомнила, как в их ауле года три-четыре назад молодая женщина, испугавшись собаки, родила недоношенного ребенка, который на третий день умер. С одной стороны, хорошо бы разродиться, и тогда кончились бы ее муки, а с другой стороны, жалко ребенка, которого столько месяцев вынашивала под сердцем и который может умереть, как у той женщины. Тоты отлично понимала то, что натворила, проклинала себя, но изменить уже ничего было нельзя. Конечно, если ребенок родится мертвым, горевать будет не только она сама, но и другие, а ребенка-то все равно никто не вернет, никакая печаль не поможет. Тоты стонала, и неизвестно, от чего больше, от боли предродовых схваток или от этих горьких размышлений, от укоров совести. Огултач-эдже много повидала на своем веку и поэтому ни в какие чудеса не верила, знала, что без причины ничего не бывает на свете, что-то должно стоять и за этим случаем с невесткой. Огултач-эдже снова повторила свои вопросы, но теперь уже с большей строгостью и настойчивостью. — Если ты не оглохла, — строго допрашивала она, — если не онемела, говори же, что с тобой стряслось, проклятая аллахом? Говори! Ты что, не можешь понять, что лишаешь меня счастья?! Глаза Огултач-эдже были полны слез. В них были печаль, и жалость, и раскаяние. — Дурочка, — продолжала она говорить, — глупая, ты же мне внука погубила! Что мне делать теперь? Что я скажу баю, когда он домой вернется? Он же предчувствовал это, оттого так строго наказывал глядеть за тобой. Что я скажу ему теперь? Ее слова были пропитаны ненавистью к Тоты и жалостью к ребенку, которому суждено увидеть этот свет мертвым. Тоты не могла долго смотреть в глаза свекрови и опустила веки. С самого первого дня Тоты невзлюбила старуху, но теперь ей казалось, что она одинока и беспомощна и ближе свекрови никого в мире у нее нет. Если сказать старухе всю правду, подумала Тоты, она может меня спасти. Но эти мысли появились от растерянности, а через некоторое время новый приступ боли все смешал в голове Тоты, и она стала думать о том, что никто уже не может спасти ни ее, ни ребенка, и если она скажет правду, когда появится мертворожденный, кривая сабля, висевшая на стене, тут же сорвется со стены и полоснет ее по горлу. Ей уже стало казаться, что сабля специально повешена здесь и что она уже и не висит, а повисла над Тоты и метит в ее горло. В холодном поту Тоты схватилась за шею. — Перед рассветом, — начала она шептать, задыхаясь, — я вышла во двор… Черная… собака на… накинулась на меня… Лх, я умираю. Что мне делать, мама, я умираю… В ауле Пенди-бая было много собак, но черная была одна, собака Мешева-ага, жившего где-то в середине ряда. Звали собаку Карабай. Это был старый кобель, который давно уже не бросался на людей, ни на кого не лаял. Услышав про черную собаку, Огултач-эдже схватилась за ворот платья. — Это же проклятая тварь Мешева! — запричитала она. — Ах, чтоб тебе счастья не видеть, Мешев! Чтобы волки овец твоих задрали! Зачем ты собаку держал, что у тебя охранять? Какие богатства? Каких овец? Или на твою драную кибитку, на твои драные башмаки кто-нибудь зарился? Чтобы ты сдох поскорей, Мешев! Мялик стоял перед дверьми и все это время слушал, что происходило внутри кибитки. Потом ему надоело стоять, и он с тревогой стал кричать матери: — Мама! Открой! Что там с вами случилось? Огултач-эдже не стала открывать, но крикнула: — Ах, сынок, у нас такое несчастье! Жена твоя рожает! Мялика прямо передернуло всего от этих слов. Обида на то, что не встретили его, сразу же пропала, и он растерялся, не зная, что ему делать. У Тоты сильно исказилось лицо. От боли она лежала с открытым ртом, и старухе даже почудилось, что изо рта невестки вывалился и бессильно повис язык. Тоты вцепилась в плечо старухи: — Ах, родная, я умираю. Огултач-эдже испуганно вскрикнула: — Мяликджан! Сынок! Мялик отозвался: — Скажи, что мне делать, мама? — Ах, только поскорей выстрели из ружья, не то мы потеряем Тоты! Мялик отшвырнул в сторону плеть и бросился в сарай. Схватив ружье, он выскочил на улицу и растерянно закричал: — Куда стрелять, мама? Огултач-эдже не успела сказать, что стрелять надо в черного кобеля Мешева-ага, как возле кибитки раз-< дался оглушительный выстрел, так что даже старуха вздрогнула и помянула аллаха. И тут же появился на свет мальчик, который не успел вскрикнуть, не успел глаз открыть, получить имя, а уже ему пришла пора расставаться с этим светом. И спустя какую-то минуту прозвучал еще один выстрел, черное ружье Мялика, заряженное крупной дробью, отправило на тот свет ни о чем не подозревавшего старого Карабая, спокойно лежавшего в камышах за черной кибиткой Мешева-ага.
Каркара, эта худенькая девчушка, которая в далеком отсюда Серахсе вечером боялась выйти из дома, чтобы посидеть с соседкой Язсолтан, женой Каушута, лежала сейчас одна в пустыне, в какой-то яме, и ей не страшны были ни змеи, ни скорпионы, она боялась сейчас людей, которые были в тысячу раз опасней змей и могли доставить ей в тысячу раз больше страданий, чем змеиный яд. Каркара проплакала долго, и слезы немного успокоили ее. Дышать стало легче, подошвы ног, кажется, болели уже поменьше, но встать с земли она все равно еще не могла. Уже совсем рассвело, когда измученная девушка задремала. Спать она не собиралась, напротив, ей хотелось скорее отправиться в путь, чтобы подальше уйти от людей Мядемина. Однако усталость была сильней страха и надежды. Каркара уснула сладким сном на песчаной подушке, в траве, устилавшей дно впадины. Ей снился сон. Вместе с подружками она собирает на лугу цветы и вдруг видит красивую бабочку, бежит за ней, но бабочка улетает от нее все дальше и дальше, Каркара бежит, задыхается, подруги остались где-то далеко позади. Наконец, совсем обессиленная, она падает в траву. Откуда-то появляется мать, кладет ее голову к себе на колени, гладит и поет тихим голосом, как будто Каркара совсем еще маленькая девочка. И вдруг над ними вырастают всадники Мядемина, кони храпят и бьют копытами… Каркара очнулась, вокруг стояли всадники. Но когда она лучше разглядела их, они оказались не всадниками, а стаей голодных шакалов. Один из них стоял совсем близко, принюхивался, остальные удивленно разглядывали девушку. Каркара, которая только что не в силах была подняться, чтобы выбраться из ямы, вдруг пронзительно закричала и вскочила на ноги. От этого внезапного крика и резкого движения Каркары шакалы с испугом бросились в разные стороны. Каркара никак не могла разобраться во времени, вечер наступает или же зарождается утро в предрассветных сумерках. Когда огляделась вокруг и пришла в себя, ей стало казаться, что никаких шакалов не было на самом деле, они были продолжением сна, потому что далеко окрест лежала голая пустыня, ни хищников, ничего живого. Она сообразила, как далеко ушла в сторону, уже не видно было придорожных тополей, одни пески окружали ее. В северной стороне хоть кустики какие-то виднелись, селин, верблюжья колючка, а к югу, до самого горизонта, стелилась безжизненная пустыня. Идти на юг было опасно, если там нет растительности, значит, нет и воды. Идти на север, то есть назад, совсем нельзя, там ждут ее слуги Мядемина. И она решительно направилась в сторону сыпучих песков. Когда поднялось над пустыней солнце, стало ясно, что и сегодняшний день будет нестерпимо жарким. Она шла, и с наступлением жары ее стала одолевать жажда, которая была мучительней любой боли. Губы пересохли, постепенно сухим стал и язык. Он распух и одеревенел, с трудом помещался во рту. К полудню Каркара совсем выбилась из сил, перестала понимать, что с ней происходит и где она находится. Даже обжигающие пески уже не действовали на нее. Она не могла вспомнить, за что же ей выпали эти муки. Одна только мысль вела ее вперед — добраться до воды, утолить жажду. Ей стало казаться, что она видит далеко перед собой волны и даже слышит их влажный шум. Но это был всего-навсего только мираж. Наконец-то она увидела то, чего так ждала и на что так надеялась: впереди показался караван. Каркара думала, что это тот самый караван, который подберет ее и отвезет в родной аул. Она остановилась и стала смотреть затаив дыхание. Но караван шел не навстречу, а мимо. Каркара не сразу поняла это, ей страшно было так подумать, но в конце концов стало ясно: спасительный караван уходит, он слишком далеко, чтобы догнать его, и никакого крика не хватит, чтобы ее могли услышать. Каркара, как зачарованная, провожали караван взглядом. Надежды на спасение больше не было. Она побрела вперед, уже не чувствуя ни жажды, ни обжигающего ног песка… Она готова была умереть и знала, что, наверное, так и будет… Каркара не знала, как долго шла по пескам… Вдруг впереди показался одинокий куст саксаула. На верху его висел старый, выцветший дон. Это было первое, что хоть как-то напоминало человека. Каркара подошла к кусту, бессмысленно поглядела на него, упала на песок и потеряла сознание…
 Очнулась оттого, что почувствовала, как на нее падают капли воды, будто шел мелкий дождь. Чуть приоткрыв глаза, Каркара увидела над лицом своим сосуд и потянулась к нему рукой. Но сосуд поднялся, и Каркаре не удалось вдоволь напиться. Тут только беглянка окончательно пришла в себя. Над ней стоял незнакомый человек. Может быть, это нукер Мядемин-хана? Она задрожала от страха и прикрыла лицо руками.
Но человек не был ханским нукером. Это был Арна-курбан-сарык, дехканин, возвращавшийся из Хивы в Мары. Куст с истрепанным доном был как раз вешкой на его пути, благодаря которой Каркара и нашла свое неожиданное спасение.
Арнакурбан ездил в Хиву по поручению старейшин своего аула. До них дошли слухи, что Мядемин-хан подозревает сарыков в сговоре с Бухарой и собирается послать свое войско в Мары. Вероятно, кто-то настраивал хана против сарыков, и старейшины послали Арна-курбана с тем, чтобы он разубедил Мядемина и предотвратил ненужное кровопролитие. Но попасть в ханский дворец было совсем не просто. У Арнакурбана был в Хиве приятель, Турсункули, он часто бывал у хана, ковал его лошадей, и Арнакурбан рассчитывал, что Турсункули как-нибудь ему поможет увидеться с ханом. Но Мядемин не захотел принимать простого дехканина, ссылался то на здоровье, то на дела и тянул так почти целый месяц. Наконец Турсункули сообщил Арнакурбану, что Мядемин собирает войско, велел перековать всех лошадей и с утра до ночи беседует о чем-то со своими военачальниками. Арнакурбан понял, что разговаривать уже поздно, и пустился скорее в обратный путь, чтобы оповестить обо всем своих соплеменников.
Увидев девушку под кустом саксаула, Арнакурбан страшно удивился. Что занесло ее сюда — одну, с пустыми руками и окровавленными ступнями ног? В первую минуту он подумал, что она мертва, кто-то похитил ее, обесчестил и бросил здесь, в пустыне, чтобы скрыть свое преступление, Арнакурбан решил, что хоть выроет ей в песке могилу и прочтет стих из Корана, исполнив этим долг мусульманина. Но когда он нагнулся над ней, то понял, что девушка еще жива. Тогда он достал мытару[40] и стал капать воду ей на лицо. Как только она очнулась, он спросил:
— Дочка, кто ты, откуда? Как попала сюда?
Но Каркара только прошептала в ответ:
— Отец, воды… Воды!
Арнакурбан отошел к лошади, развязал суму и, порывшись в ней, достал два куска лепешки, что испекла ему на дорогу жена Турсункули.
— На, съешь сперва вот это, а потом я дам тебе воды.
Каркаре хотелось только одного: пить, но она взяла хлеб и через силу принялась его жевать. Она слышала еще от отца, что человек, измученный жаждой, должен сперва хоть немного поесть, иначе вода принесет ему вред.
В окрестностях Серахса не так уж редко увозили девушек и женщин, и все же весть о похищении Каркары потрясла аульчан. Слишком уж много несчастий падало на семейство Дангатара: плен самого хозяина, смерть его жены и вот теперь второе похищение дочери… «Сам аллах смотрит косо на этот дом», — говорили, вздыхая, аульчане.
Из всей семьи остался один Ораз. Он изо всех сил старался держаться на людях, выглядеть взрослым и самостоятельным, но в степи, когда оставался один с отарой овец, падал на землю и подолгу плакал, обо всех сразу — о матери, об отце, о сестре… С тех пор как увезли Каркару, он перестал играть с мальчишками, ходить на холм, расположенный в южной стороне аула, где они обычно собирались под вечер. Свое горе и позор он переживал в одиночку.
Туркмены, те, что ушли выручать украденных гаджарами женщин, вернулись с удачей, привезли не только своих, но еще и шестерых персиянок в придачу — как месть за нанесенное оскорбление. У Ораза была слабая надежда, что, может быть, вместе со всеми остальными вернется и его сестра, но о ней не было ни слуху ни духу.
Хотя мужчин в доме Ораза не было, все равно соседи — Каушут, Келхан Кепеле — сделали бы все, чтобы выручить Каркару, но беда была в том, что и они не знали, где ее искать. Кейик, бывшая в тот день вместе с Каркарой, со страху так и не поняла, чьи же люди увезли ее подругу, а кроме нее никто всадников не видел.
Первым делом, конечно, предположили, что это дело рук нукеров Хемракули. Но, не зная точно, нельзя было требовать от них вернуть девушку. Хемракули мог счесть это за оскорбление и наделать много зла в отместку. Каушут и Келхан Кепеле отправились вдвоем к Молла-непесу. Он считался самым уважаемым человеком в округе, и Каушут решил, что, если послать его к Кичи-келу, тот, хоть и известный враль, сказать неправду мулле не посмеет. Но Кичи-кел клялся и божился, что знать ничего не знает об этом деле. Пришлось ему поверить. И больше спрашивать было некого, оставалось положиться во всем только на волю аллаха.
Не меньше, чем Ораз, переживал и Курбац. Он никак не мог смириться с тем, что произошло. Один раз ему приснился сон: Каркара стоит в Хиве с шелковым покрывалом на лице, за высоченным каменным забором. Стоит и говорит ему сквозь слезы: «Курбан, я так и знала, что ты бросишь меня, ты меня стыдишься, ты больше меня не любишь. Видишь, стены какие высокие? Но я бы вскарабкалась на них и спустилась вниз, но куда я пойду дальше? Кто мне поможет? Разве у меня есть кто-то, кроме тебя? Но ты меня бросил, тебе все равно, кому я достанусь…»
После этого сна Курбан решил непременно отправиться на розыски Каркары. Пусть сон обманул его и ее нет в Хиве, но он все равно обойдет всю землю, обшарит все аулы и не вернется домой, пока не найдет ее. Сперва Курбан решил поделиться своим намерением с Каушу-том, но потом раздумал, он не поверит, что Каркару можно спасти, и еще захочет помешать ему, лучше уж он сам, не говоря никому ни слова. Дальше жить без нее нет у него никакой охоты.
Наутро Курбан сел рядом с Оразом и сказал ему:
— Ораз, я бросаю кузницу, пойду по другим аулам побатрачу, там больше заработаешь.
От такого известия у Ораза помимо воли на глазах выступили слезы.
— А как же я? Ты хочешь оставить меня совсем одного? Сестры нет, и ты теперь…
— Ничего, ты уже большой. Позови к себе кого-нибудь из своих ребят, и соседи есть, помогут, не пропадешь!
На другой же день Курбан пристал к каравану, который шел из Серахса в Мары. Оттуда он собирался пробраться в Хиву. У него не было ни еды, ни денег, вместо всего этого была одна надежда — найти Каркару, и эта надежда толкала его вперед, заставляя забыть про все остальное.
К вечеру караван вошел в Мары и стал разгружаться у дома Ниязмухамед-бая. Люди, пришедшие с караваном, разбрелись по своим делам. Одному Курбану идти было некуда. Он постоял немного рядом с верблюдами и направился вдоль главной улицы. Так он дошел до базара. Торговцы уже складывали свои товары, лишь кое-где были видны покупатели. Курбан подошел к подслеповатому старику, продававшему седла и сбрую, поздоровался с ним и принялся рассматривать ремни и уздечки.
Старик кивнул Курбану и, подняв одно из седел, прокричал:
— Эй, подходи, конец базара, дешево отдам! Подходи к седлам! Кому седла! Дешево отдаю!
Потом равнодушно повернул голову и сказал Курбану:
— Ну чего стоишь, присядь рядом, коли дела нет.
И тут же снова закричал:
— А вот седла, конец базара, подешевело. Подходи, даром отдам!
Но, видно, седла никому больше не были нужны. Старик вздохнул и умолк. Помолчал и обратился к Курбану:
— Я вижу, тебе и правда нечего делать. Помог бы старику дотащить седла до дома, я тебя чем-нибудь отблагодарю.
Курбан согласился, до утра ему делать было нечего.
— Хорошо, яшули, — сказал он и потянулся к мешку, стоявшему рядом.
— Эй, погоди, дай помогу поднять.
Старик побросал в мешок непроданную ременную сбрую и помог взвалить ее на спину Курбана, сам взял под мышку седло, которое выставлял напоказ, и они направились к дому шорника.
Дом старика оказался недалеко. Курбан свалил у порога ношу и остановился в нерешительности, не зная, то ли уходить, то ли дожидаться обещанной стариком награды.
— Сынок, особых угощений у меня нет. Хочешь, поешь вместе со мной хлеба с агараном[41].
Курбан, уставший после долгого пути и голодный, не стал упрямиться и пошел следом за стариком.
Мягкая лепешка и агаран возбудили в нем такой аппетит, что он принялся с жадностью поглощать кусок за куском. Старик тоже не отставал, видимо проголодался не меньше Курбана.
Чуть насытившись, седельщик спросил:
— Сынок, а чей же ты будешь, откуда родом? Что-то я тебя раньше у нас не видел.
— Иду из Серахса в Хиву, яшули.
— В Хиву идешь? Делу какому учиться, что ли?
— Нет, не учиться, просто поглядеть… Я много слышал про нее, теперь вот самому интересно стало…
Последнее, что сказал Курбан, показалось старику подозрительным. Он внимательно оглядел Курбана с головы до ног и покачал головой:
— Да благословит твои слова аллах, сынок. Скажи лучше правду. У тебя ни лошади нет, ни оружия, ни золотых монет, да и, кажется, серебряных тоже. Это только богачи едут в Хиву для прогулки, а ты что-то на богача не похож. Я вижу, на душе у тебя совсем другое.
Курбан понял, что зря сказал про Хиву, мог бы сказать, что пришел с караваном, тогда старик бы ему скорее поверил. Но седельщик чем-то успел уже расположить юношу к себе, и тот решил открыть ему правду.
— Да, отец, у меня нет ни лошади, ни монет… Я иду в Хиву, потому что у меня украли двоюродную сестру, Я иду искать ее. Мне кажется, что она в Хиве… Мне такой сон приснился…
— Стой, стой! Я, кажется, знаю, где твоя сестра. Я слышал, какую-то девушку отвезли в Хиву. Ее украли нукеры Ниязмухамеда и подарили Мядемин-хану. Уже недели две, как это было…
Курбан тотчас же вскочил с места.
— Где, где, ты сказал? Точно, в Хиве?
— Да, если это, конечно, она.
— Она, она… Отец, что же мне теперь делать?
— Что делать? Если ты поел, прочитай товир!
Старик завернул остатки еды в сачак и принялся читать молитву.
Потом не спеша достал табакерку, высыпал на ладонь немного наса, заложил его под язык и запрокинул голову.
— Сынок… Я в таком деле тебе не советчик… Советчик тебе твоя судьба, как она скажет, так и будет…
Курбан сжал кулаки. Лицо его загорелось.
— Нет, отец, я такого позора не стерплю!
— Что же ты хочешь делать?
— Что? Пойду в Хиву. Сейчас пойду.
Старик причмокнул губами и улыбнулся, сощурив глаза.
— Сынок, если даже в Хиву придут все твои туркмены, я думаю, они мало что смогут сделать… А потом… Сейчас ты все равно не пойдешь…
— Почему?
— Потому что в субботу из Хивы пришел караван, только к среде он нагрузится и тогда пойдет назад. А до среды еще целых три дня!
Но в это время послышался шорох у дверей, в дом вошла старуха с сачаком под мышкой, и старик замолчал.
Курбан поздоровался с ней, старуха ему ответила, подошла и расстелила между мужчинами свой сачак.
— Вот дограма, покушайте, не стесняйся, сынок.
Курбан положил в рот из вежливости горсть дограмы, но вкуса ее не почувствовал. Все мысли его сейчас были о Каркаре.
Старик выплюнул нас, прополоскал рот и принялся за дограму. Пока он ел, Курбан раздумывал. «Нет, я среды ждать не буду, пойду прямо сейчас. Ничего, не пропаду, я уже не ребенок. Если и умру, так пусть по дороге в Хиву. Пусть Каркара не думает, что я ее бросил и забыл…»
После молитвы старуха заговорила.
— Отец, — сказала она, прикрывая рот, — слыхал, Арнакурбан привез текинскую девушку, которую в Хиву увезли. Красавица… Мы заходили посмотреть. Сидит в углу, а глаза как у джейрана…
Курбан опешил, старик с удивлением посмотрел на жену.
— Да это же она! — воскликнул Курбан. — Яшули, где живет Арнакурбан?
— Через кривой мостик налево, там на улице у любого спросишь: где дом Арнакурбана-сарыка? Хотя постой, я тоже пойду с тобой.
Курбан думал, что Арнакурбан сразу же отведет его к Каркаре, но тот не спешил этого делать. Сперва сарык начал расспрашивать о Серахсе, о здоровье знакомых туркмен, потом стал выведывать, кем Курбан приходится девушке… Курбан спешил, запинался от радости и часто даже отвечал невпопад. И скорее по виду его, чем по словам, сарык наконец заключил, что Курбан на самом деле тот, за кого себя выдает, а не подослан людьми Мядемин-хана.
Когда он поднялся и вместе с Курбаном подошел к порогу черной кибитки, у юноши задрожали колени. Он думал о том, что скажет Каркаре, как только ее увидит. И слова никакие не шли на ум. Спросить: «Где ты была?» или «Как ты сюда попала?» — было глупо и неловко, а притвориться, вроде ничего особенного и не произошло, тоже было нельзя.
Поэтому, вошедши в дом, Курбан заговорил сперва с женой Арнакурбана. Каркара, как только услышала его голос, повернулась к нему спиной и прикрыла лицо чувалом. Курбан даже глаз ее не успел рассмотреть. Жена Арнакурбана подошла к Каркаре:
— Ну что ты, милая! Знать, уж судьба у тебя такая, сама-то хоть не мучай себя!
Но утешение это не подействовало. Курбан услышал, что Каркара плачет и с каждой минутой рыдания ее становились сильнее и сильнее. Курбан не знал, что ему делать. Он чувствовал, что на глаза у него наворачиваются слезы, и поэтому поспешил выйти из кибитки Арнакурбана…
Очнулась оттого, что почувствовала, как на нее падают капли воды, будто шел мелкий дождь. Чуть приоткрыв глаза, Каркара увидела над лицом своим сосуд и потянулась к нему рукой. Но сосуд поднялся, и Каркаре не удалось вдоволь напиться. Тут только беглянка окончательно пришла в себя. Над ней стоял незнакомый человек. Может быть, это нукер Мядемин-хана? Она задрожала от страха и прикрыла лицо руками.
Но человек не был ханским нукером. Это был Арна-курбан-сарык, дехканин, возвращавшийся из Хивы в Мары. Куст с истрепанным доном был как раз вешкой на его пути, благодаря которой Каркара и нашла свое неожиданное спасение.
Арнакурбан ездил в Хиву по поручению старейшин своего аула. До них дошли слухи, что Мядемин-хан подозревает сарыков в сговоре с Бухарой и собирается послать свое войско в Мары. Вероятно, кто-то настраивал хана против сарыков, и старейшины послали Арна-курбана с тем, чтобы он разубедил Мядемина и предотвратил ненужное кровопролитие. Но попасть в ханский дворец было совсем не просто. У Арнакурбана был в Хиве приятель, Турсункули, он часто бывал у хана, ковал его лошадей, и Арнакурбан рассчитывал, что Турсункули как-нибудь ему поможет увидеться с ханом. Но Мядемин не захотел принимать простого дехканина, ссылался то на здоровье, то на дела и тянул так почти целый месяц. Наконец Турсункули сообщил Арнакурбану, что Мядемин собирает войско, велел перековать всех лошадей и с утра до ночи беседует о чем-то со своими военачальниками. Арнакурбан понял, что разговаривать уже поздно, и пустился скорее в обратный путь, чтобы оповестить обо всем своих соплеменников.
Увидев девушку под кустом саксаула, Арнакурбан страшно удивился. Что занесло ее сюда — одну, с пустыми руками и окровавленными ступнями ног? В первую минуту он подумал, что она мертва, кто-то похитил ее, обесчестил и бросил здесь, в пустыне, чтобы скрыть свое преступление, Арнакурбан решил, что хоть выроет ей в песке могилу и прочтет стих из Корана, исполнив этим долг мусульманина. Но когда он нагнулся над ней, то понял, что девушка еще жива. Тогда он достал мытару[40] и стал капать воду ей на лицо. Как только она очнулась, он спросил:
— Дочка, кто ты, откуда? Как попала сюда?
Но Каркара только прошептала в ответ:
— Отец, воды… Воды!
Арнакурбан отошел к лошади, развязал суму и, порывшись в ней, достал два куска лепешки, что испекла ему на дорогу жена Турсункули.
— На, съешь сперва вот это, а потом я дам тебе воды.
Каркаре хотелось только одного: пить, но она взяла хлеб и через силу принялась его жевать. Она слышала еще от отца, что человек, измученный жаждой, должен сперва хоть немного поесть, иначе вода принесет ему вред.
В окрестностях Серахса не так уж редко увозили девушек и женщин, и все же весть о похищении Каркары потрясла аульчан. Слишком уж много несчастий падало на семейство Дангатара: плен самого хозяина, смерть его жены и вот теперь второе похищение дочери… «Сам аллах смотрит косо на этот дом», — говорили, вздыхая, аульчане.
Из всей семьи остался один Ораз. Он изо всех сил старался держаться на людях, выглядеть взрослым и самостоятельным, но в степи, когда оставался один с отарой овец, падал на землю и подолгу плакал, обо всех сразу — о матери, об отце, о сестре… С тех пор как увезли Каркару, он перестал играть с мальчишками, ходить на холм, расположенный в южной стороне аула, где они обычно собирались под вечер. Свое горе и позор он переживал в одиночку.
Туркмены, те, что ушли выручать украденных гаджарами женщин, вернулись с удачей, привезли не только своих, но еще и шестерых персиянок в придачу — как месть за нанесенное оскорбление. У Ораза была слабая надежда, что, может быть, вместе со всеми остальными вернется и его сестра, но о ней не было ни слуху ни духу.
Хотя мужчин в доме Ораза не было, все равно соседи — Каушут, Келхан Кепеле — сделали бы все, чтобы выручить Каркару, но беда была в том, что и они не знали, где ее искать. Кейик, бывшая в тот день вместе с Каркарой, со страху так и не поняла, чьи же люди увезли ее подругу, а кроме нее никто всадников не видел.
Первым делом, конечно, предположили, что это дело рук нукеров Хемракули. Но, не зная точно, нельзя было требовать от них вернуть девушку. Хемракули мог счесть это за оскорбление и наделать много зла в отместку. Каушут и Келхан Кепеле отправились вдвоем к Молла-непесу. Он считался самым уважаемым человеком в округе, и Каушут решил, что, если послать его к Кичи-келу, тот, хоть и известный враль, сказать неправду мулле не посмеет. Но Кичи-кел клялся и божился, что знать ничего не знает об этом деле. Пришлось ему поверить. И больше спрашивать было некого, оставалось положиться во всем только на волю аллаха.
Не меньше, чем Ораз, переживал и Курбац. Он никак не мог смириться с тем, что произошло. Один раз ему приснился сон: Каркара стоит в Хиве с шелковым покрывалом на лице, за высоченным каменным забором. Стоит и говорит ему сквозь слезы: «Курбан, я так и знала, что ты бросишь меня, ты меня стыдишься, ты больше меня не любишь. Видишь, стены какие высокие? Но я бы вскарабкалась на них и спустилась вниз, но куда я пойду дальше? Кто мне поможет? Разве у меня есть кто-то, кроме тебя? Но ты меня бросил, тебе все равно, кому я достанусь…»
После этого сна Курбан решил непременно отправиться на розыски Каркары. Пусть сон обманул его и ее нет в Хиве, но он все равно обойдет всю землю, обшарит все аулы и не вернется домой, пока не найдет ее. Сперва Курбан решил поделиться своим намерением с Каушу-том, но потом раздумал, он не поверит, что Каркару можно спасти, и еще захочет помешать ему, лучше уж он сам, не говоря никому ни слова. Дальше жить без нее нет у него никакой охоты.
Наутро Курбан сел рядом с Оразом и сказал ему:
— Ораз, я бросаю кузницу, пойду по другим аулам побатрачу, там больше заработаешь.
От такого известия у Ораза помимо воли на глазах выступили слезы.
— А как же я? Ты хочешь оставить меня совсем одного? Сестры нет, и ты теперь…
— Ничего, ты уже большой. Позови к себе кого-нибудь из своих ребят, и соседи есть, помогут, не пропадешь!
На другой же день Курбан пристал к каравану, который шел из Серахса в Мары. Оттуда он собирался пробраться в Хиву. У него не было ни еды, ни денег, вместо всего этого была одна надежда — найти Каркару, и эта надежда толкала его вперед, заставляя забыть про все остальное.
К вечеру караван вошел в Мары и стал разгружаться у дома Ниязмухамед-бая. Люди, пришедшие с караваном, разбрелись по своим делам. Одному Курбану идти было некуда. Он постоял немного рядом с верблюдами и направился вдоль главной улицы. Так он дошел до базара. Торговцы уже складывали свои товары, лишь кое-где были видны покупатели. Курбан подошел к подслеповатому старику, продававшему седла и сбрую, поздоровался с ним и принялся рассматривать ремни и уздечки.
Старик кивнул Курбану и, подняв одно из седел, прокричал:
— Эй, подходи, конец базара, дешево отдам! Подходи к седлам! Кому седла! Дешево отдаю!
Потом равнодушно повернул голову и сказал Курбану:
— Ну чего стоишь, присядь рядом, коли дела нет.
И тут же снова закричал:
— А вот седла, конец базара, подешевело. Подходи, даром отдам!
Но, видно, седла никому больше не были нужны. Старик вздохнул и умолк. Помолчал и обратился к Курбану:
— Я вижу, тебе и правда нечего делать. Помог бы старику дотащить седла до дома, я тебя чем-нибудь отблагодарю.
Курбан согласился, до утра ему делать было нечего.
— Хорошо, яшули, — сказал он и потянулся к мешку, стоявшему рядом.
— Эй, погоди, дай помогу поднять.
Старик побросал в мешок непроданную ременную сбрую и помог взвалить ее на спину Курбана, сам взял под мышку седло, которое выставлял напоказ, и они направились к дому шорника.
Дом старика оказался недалеко. Курбан свалил у порога ношу и остановился в нерешительности, не зная, то ли уходить, то ли дожидаться обещанной стариком награды.
— Сынок, особых угощений у меня нет. Хочешь, поешь вместе со мной хлеба с агараном[41].
Курбан, уставший после долгого пути и голодный, не стал упрямиться и пошел следом за стариком.
Мягкая лепешка и агаран возбудили в нем такой аппетит, что он принялся с жадностью поглощать кусок за куском. Старик тоже не отставал, видимо проголодался не меньше Курбана.
Чуть насытившись, седельщик спросил:
— Сынок, а чей же ты будешь, откуда родом? Что-то я тебя раньше у нас не видел.
— Иду из Серахса в Хиву, яшули.
— В Хиву идешь? Делу какому учиться, что ли?
— Нет, не учиться, просто поглядеть… Я много слышал про нее, теперь вот самому интересно стало…
Последнее, что сказал Курбан, показалось старику подозрительным. Он внимательно оглядел Курбана с головы до ног и покачал головой:
— Да благословит твои слова аллах, сынок. Скажи лучше правду. У тебя ни лошади нет, ни оружия, ни золотых монет, да и, кажется, серебряных тоже. Это только богачи едут в Хиву для прогулки, а ты что-то на богача не похож. Я вижу, на душе у тебя совсем другое.
Курбан понял, что зря сказал про Хиву, мог бы сказать, что пришел с караваном, тогда старик бы ему скорее поверил. Но седельщик чем-то успел уже расположить юношу к себе, и тот решил открыть ему правду.
— Да, отец, у меня нет ни лошади, ни монет… Я иду в Хиву, потому что у меня украли двоюродную сестру, Я иду искать ее. Мне кажется, что она в Хиве… Мне такой сон приснился…
— Стой, стой! Я, кажется, знаю, где твоя сестра. Я слышал, какую-то девушку отвезли в Хиву. Ее украли нукеры Ниязмухамеда и подарили Мядемин-хану. Уже недели две, как это было…
Курбан тотчас же вскочил с места.
— Где, где, ты сказал? Точно, в Хиве?
— Да, если это, конечно, она.
— Она, она… Отец, что же мне теперь делать?
— Что делать? Если ты поел, прочитай товир!
Старик завернул остатки еды в сачак и принялся читать молитву.
Потом не спеша достал табакерку, высыпал на ладонь немного наса, заложил его под язык и запрокинул голову.
— Сынок… Я в таком деле тебе не советчик… Советчик тебе твоя судьба, как она скажет, так и будет…
Курбан сжал кулаки. Лицо его загорелось.
— Нет, отец, я такого позора не стерплю!
— Что же ты хочешь делать?
— Что? Пойду в Хиву. Сейчас пойду.
Старик причмокнул губами и улыбнулся, сощурив глаза.
— Сынок, если даже в Хиву придут все твои туркмены, я думаю, они мало что смогут сделать… А потом… Сейчас ты все равно не пойдешь…
— Почему?
— Потому что в субботу из Хивы пришел караван, только к среде он нагрузится и тогда пойдет назад. А до среды еще целых три дня!
Но в это время послышался шорох у дверей, в дом вошла старуха с сачаком под мышкой, и старик замолчал.
Курбан поздоровался с ней, старуха ему ответила, подошла и расстелила между мужчинами свой сачак.
— Вот дограма, покушайте, не стесняйся, сынок.
Курбан положил в рот из вежливости горсть дограмы, но вкуса ее не почувствовал. Все мысли его сейчас были о Каркаре.
Старик выплюнул нас, прополоскал рот и принялся за дограму. Пока он ел, Курбан раздумывал. «Нет, я среды ждать не буду, пойду прямо сейчас. Ничего, не пропаду, я уже не ребенок. Если и умру, так пусть по дороге в Хиву. Пусть Каркара не думает, что я ее бросил и забыл…»
После молитвы старуха заговорила.
— Отец, — сказала она, прикрывая рот, — слыхал, Арнакурбан привез текинскую девушку, которую в Хиву увезли. Красавица… Мы заходили посмотреть. Сидит в углу, а глаза как у джейрана…
Курбан опешил, старик с удивлением посмотрел на жену.
— Да это же она! — воскликнул Курбан. — Яшули, где живет Арнакурбан?
— Через кривой мостик налево, там на улице у любого спросишь: где дом Арнакурбана-сарыка? Хотя постой, я тоже пойду с тобой.
Курбан думал, что Арнакурбан сразу же отведет его к Каркаре, но тот не спешил этого делать. Сперва сарык начал расспрашивать о Серахсе, о здоровье знакомых туркмен, потом стал выведывать, кем Курбан приходится девушке… Курбан спешил, запинался от радости и часто даже отвечал невпопад. И скорее по виду его, чем по словам, сарык наконец заключил, что Курбан на самом деле тот, за кого себя выдает, а не подослан людьми Мядемин-хана.
Когда он поднялся и вместе с Курбаном подошел к порогу черной кибитки, у юноши задрожали колени. Он думал о том, что скажет Каркаре, как только ее увидит. И слова никакие не шли на ум. Спросить: «Где ты была?» или «Как ты сюда попала?» — было глупо и неловко, а притвориться, вроде ничего особенного и не произошло, тоже было нельзя.
Поэтому, вошедши в дом, Курбан заговорил сперва с женой Арнакурбана. Каркара, как только услышала его голос, повернулась к нему спиной и прикрыла лицо чувалом. Курбан даже глаз ее не успел рассмотреть. Жена Арнакурбана подошла к Каркаре:
— Ну что ты, милая! Знать, уж судьба у тебя такая, сама-то хоть не мучай себя!
Но утешение это не подействовало. Курбан услышал, что Каркара плачет и с каждой минутой рыдания ее становились сильнее и сильнее. Курбан не знал, что ему делать. Он чувствовал, что на глаза у него наворачиваются слезы, и поэтому поспешил выйти из кибитки Арнакурбана…
Солнце взошло уже высоко. Келхан Кепеле и Каушут сложили в чувалы собранные дыньки и вышли на край бахчи. В это время с вершины холма раздался голос: — Эй, люди! Воды нет? Кричал Непес-мулла. — Давай сюда, найдем для тебя! За холмом был огород Непеса, где он высадил осеннюю морковь и теперь ходил ее пропалывать. Мулла спустился вниз. На плечах у него была белая бязевая рубаха, а на голове плоская, похожая на блин шыпырма. Все трое подошли к шалашу. Келхан снял с куста флягу и протянул ее Непес-мулле. — Келхан, что это ты так на муллу смотришь? — спросил Каушут. — Это он не на меня, а на флягу. Наверное, воды жалко. — Нет, мулла, на тебя. Воды мне не жалко, такому, как ты, последнюю каплю в пустыне отдам… Просто думаю, как аллах людей создает — всех по-разному. Видишь, разница, она с самого начала в нас есть… — А, ты завидуешь Непесу, что он мулла и детей может учить, а ты и сам не очень грамотный? — Да нет, не в этом только дело… Вот аллах — одним все дает, и уши и язык, старается, когда делает, а других просто — слепит, как пришлось, и все… — Да у тебя тоже вроде и нос, и уши на месте, чем ты недоволен? — Нос носу рознь. Есть такие носы, что и запаха чурека не чуют. Вот возьмем муллу, например. Он и читает, и стихи пишет, и других учит, и на дутаре играть может… И работает, слава богу, не хуже других… — Ну и что ж, поэтому ты хуже его? — Данет, Каушут, я ему ни в чем не завидую, только вот в одном, что аллах стихи не дал сочинять… — Ну и что бы ты тогда делал? — Сидел бы и стихи нам читал, — ответил за Келхана мулла. Келхан прищурил глаза и покачал головой: — Нет, я бы не вам читал… — А кому? — Он их вдовушкам бы читал, и от них не было бы отбоя. — Кажется, ты его за больное место задел, — засмеялся мулла, — Только, я думаю, нам с Келханом уже не о вдовах надо думать, а о чалме и ичигах. — Чалма и ичиги этому не мешают, — улыбнулся Келхан Кепеле. — Ты думаешь, Сейитмухамед-ишан и на свою Биби-эдже не глядит? — Келхан похлопал Непес-муллу по плечу. — А вспомни, что говорил про это Мамедвели-ага? Он ведь, кажется, умер, когда ему много уже за семьдесят было! — Он много чего говорил, а тебе про что, Келхан, интересно? — Ну вот про это, про вдов. Есть у него, наверное, стихи, которые им посвящены? Непес-мулла попытался припомнить:
Кемине говорит: вот совет всех мудрее: Замуж, вдовы, опять выходите скорее!
— Вот именно! А про вдовых мужчин наверняка у него есть: «А вы, вдовцы, женитесь скорее!» — Ну, если уж тебе так невтерпеж, давай пошлем Язсолтан и Бостан, пусть тебе кого-нибудь сосватают. Народ велик! Наверняка где-то вдовушки тебя поджидают. — Людей много, мы и гонцов можем послать, в Ахал, в Мары! — Еще и гаджаров не забудь и аймаков! Бухара еще есть и Хива! При упоминании об Ахале Каушут вдруг вспомнил про другое и прервал шутливый разговор: — Да, мулла, насчет Ахала. Я слышал, у тебя человек оттуда был? Нас, жалко, как раз в ауле не было, а то обязательно пришли бы послушать, что он говорит… — Да, приходил приятель оттуда… Три дня прожил у меня, все про нашу жизнь говорили… — А у них как там дела? Непес-мулла тяжело вздохнул: — Ах, Каушут, как дела! Тоже ничего хорошего. Урожай, говорят, в это лето никакой, даже что и уродилось, тоже собрать спокойно не могут… У нижних ёмудов[42], говорят, чуть получше. Вроде они с русским царем какую-то торговлю затеяли, а тот пообещал их защищать. Если так, то им, конечно, лучше нашего… — А нам как же быть? Так одним и оставаться? — Знаешь, как народ говорит: один в поле не воин, Каушут-ага! — Ну и что же? — А то, что надо хоть крепость свою иметь на случай войны… — Вот это верно, мулла… — Верно-то верно, но и крепость все равно не поможет. Нельзя сейчас жить никому в одиночку. Все только и ищут, как бы с кем соединиться и на других напасть! Вон ёмуды! Русские с ними торговать начали, а тут уж англичане шлют своих гонцов: «Не соединяйтесь с русскими, с нами вам лучше будет!» И шпионов своих каждый подсылает, воду мутят, такое дело, что сам шайтан не разберется. — Да, несчастный туркменский народ! — воскликнул Келхан Кепеле, молчавший до этого времени. — Вот увидишь, и у нас скоро шпионы появятся. Вот этот, в полосатом халате, что он здесь ходил все, высматривал? Говорил, из Мекки идет, от святых мест, а кто его знает? Я чувствую, многие хотят нас к рукам прибрать, и Хива, и Иран, и Бухара… Вот увидите, скоро и у нас что-то будет!.. А, смотрите, вон сосед едет! Со стороны аула к ним скакал на своем ослике Ораз. — Келхан-ага, тебе письмо из Мары! — прокричал еще издали мальчик. — Из Мары? Наверное, Арнакурбан прислал, вроде больше знакомых там у меня нет. Ну-ка, давай посмотрим, — сказал он, когда мальчик уже подъехал. — Возьми, Непес, грамотей, прочитай, что там пишут. Непес взял длинный листок бумаги, пробежал его сперва глазами, а потом начал вслух читать. — «Большой и сердечный привет посылает вам Арна-курбан, сын Агагельды, из народа сарыков. Мы сейчас хоть и трудно живем, но молимся аллаху о лучшей жизни, а потому живы и здоровы. И вам того желаем. Келхан, сын Кепеле, через неделю, как дела позволят, мы к вам в гости приедем. И еще дело одно есть. Привезем вам девушку. Я ее в пустыне подобрал, когда шел из Хивы. Зовут ее Каркара, она от хана Мядемина убежала. Сейчас она уже здорова и живет рядом с моей женой. Можете сообщить об этом ее родственникам. А пока будьте живы и здоровы, через неделю, если даст судьба, свидимся. Арнакурбан, сын Агагельды». После того как письмо было прочитано, все трое замолчали. Один Ораз запрыгал от радости и все пытался заглянуть в листок бумаги с непонятными значками, принесшими такую радостную весть. Взрослые сейчас думали о другом. Первым сказал Келхан Кепеле: — Слушай, Каушут, у меня детей нет, по мне никто плакать не будет, я этому Кичи голову оторву. А если ему не оторвать, он нам еще похуже гадость скоро подложит. Как же он мог своего муллу обмануть? — Человек, который народ обманул, он и муллу обманет, — тихо сказал Каушут. — Подождите, неизвестно, может, он еще ни при чем, — сказал Непес-мулла, в любом деле дороживший больше всего истиной. — Ни при чем? А как же тогда девчонка в Хиву попала? Тут ничьей другой руки и быть не может, кроме как этих подлецов. Что мы, совсем уже нищими стали?! Пора наши папахи собакам на хвост надеть, там им лучше будет! Тысячи туркмен терпят, как десяток лысых пройдох с навозом их мешают! Эх, мулла, был бы я поэтом!.. — Ну и что бы ты тогда смог сделать? — А я бы сделал вот что. Отправил бы один стих ахальцам, один — сарыкам, ёмудам, эрсары, — каждому по стиху и написал бы: собирайтесь вместе! Хватит терпеть, как всякие гаджары, аймаки грабят наш скот, убивают людей, крадут девушек! Пусть узнают, кто такие туркмены! Эх, мулла!.. Все трое снова замолчали. Каушут поглядел на мальчика, который с удивлением слушал непонятные ему разговоры. — Ну, беги, братишка, в аул, скажи, что Каркара нашлась. Ораз, давно ждавший этого, вскочил на ослика, ударил его голыми пятками и полетел во весь дух обратно.
У кибитки Келхана Кепеле сидело на кошмах несколько человек. Все они, кроме одного, были здешними. Гость был один — Арнакурбан-сарык. Собравшиеся о чем-то разговаривали, когда из кибитки вышел Каушут в халате, накинутом на плечи. — Саламалейкум! — Алейкум эссалам! Разговор на минуту смолк. Слышен был только треск огня, который горел в большом очаге у дома Ходжакули, да в одной из соседних кибиток пронзительно кричал ребенок, так, словно его укусила оса. Келхан Кепеле, вероятно, потому, что письмо пришло именно ему, принимал гостя в своей кибитке, хотя многие к себе приглашали. Келхан не стал возражать, когда семьи Каушута и Ходжакули предложили поставить свой казан на его очаг в честь гостя. — Ораз, зажги-ка лампу, — сказал Каушут мальчику, который вертелся тут же рядом. — Да она вроде и ни к чему, — возразил Арнакурбан, который хорошо знал, что лампы зажигаются только в большие праздники, да и то не в каждой кибитке. — Ничего, хоть лица друг друга видеть будем. Не беспокойся, на этом не обедняем, Арнакурбан-ага. В центре кружка поставили глиняную лампу с курдючным салом внутри, запалили ее, и она стала понемногу освещать лица собравшихся людей. Едва огонь вспыхнул, как откуда-то появился одинокий мотылек и стал летать вокруг пламени, а через минуту их собралась уже целая стая. — Интересно, откуда они узнают, что здесь огонь? Как будто со всей степи слетаются сразу. — На запах идут, как псы Мядемина… Келхан Кепеле хотел тоже что-то сказать по этому поводу, но его опередил выкрик, раздавшийся из-за плетня: — Сто лет белому дому! — Дверь ваша из золота! Это были аульские ребятишки. Они пришли «ремезанить».
На юге дерево стоит, В небо ветками глядит, А под деревом сидит Сам Зенги-баба.
Хозяйский кобель, заслышав шум, выскочил на середину двора. Но его лай перекрывали детские голоса:
Вы богаче всех у нас, Мы пришли к вам в этот час, Мы увидели луну Из кибитки, сквозь туйнук. В золото ее одели, А потом спустили вниз!
Келхан Кепеле подошел к ограде и помахал рукой одному из мальчишек, постарше других, который стоял в стороне и молчал, не присоединяясь к общему хору. — А ты, хан, что стоишь, как будто рот зашил? Ну-ка расскажи нам что-нибудь, послушаем твои стихи. Мальчишки тоже все набросились на него, заставляя выполнить просьбу Келхана. Паренек засмущался и хотел спрятаться за спины других. Но мальчишки выставили руки и стали подталкивать его вперед. Видя, что деваться некуда, паренек насупился, отвернул голову так, чтобы не глядеть ни на товарищей, ни на взрослых, и принялся читать свой стишок скотному загону:
Дадут мало, не возьму, В свой мешок не положу. Пусть тому, кто мало даст, Посылает дочь аллах. У того, кто не скупится, Пусть скорее сын родится. Ремезан! О, ремезан!
— Ремезан! — нестройным хором подхватили и другие ребята. Со всех сторон раздался смех. По традиции «ремезанщикам» стали задавать вопросы: — Если камень зачервивеет, чем его чистят? Один, небольшого роста, самый шустрый, выскочил вперед: — Если камень зачервивеет, его надо чистить верблюжьими рогами! — А разве у верблюда есть рога? — А разве камень червивеет? Кто-то из сидящих мужчин крикнул: — Эй, Келхан, насыпь им чего-нибудь в мешок, хорошие ребята! — Нет, рано, еще не заработали. Вот я им еще задам вопрос. Поскольку вопросы везде задавали одни и те же, ответы на них тоже были давно известны, и шустрый мальчик с готовностью снова выскочил вперед: — Задавай вопрос, Келхан-ага. А мы уж тебе ответим! — Ну-ну. Значит, говорите, если камень зачервивеет, его верблюжьими рогами чистить надо? А вот если в воздухе заведутся черви, тогда как их оттуда вытаскивать? Мальчишка, услышав неожиданный вопрос, растерялся и повернулся к своим товарищам. Те тоже пожимали плечами. — Эх, недоучки, даже этого не знаете! Если в воздухе заведутся черви, их надо чистить волосами Каушута! Все рассмеялись и поглядели на лысый лоб Каушута. Надо было сказать: «А разве у Каушута есть волосы?», но мальчишки на всякий случай остереглись трогать самого сильного человека в ауле и только заулыбались вслед за всеми. — Ну вот! — воскликнул со смехом Каушут. — Волос нет, а они всем покоя не дают! «Ремезанщикам» насыпали в мешок чашку зерна и отправили их к соседней кибитке. — Эй, ребята, — крикнул кто-то, — зря вы идете, возвращайтесь домой. Здесь, считайте, по человеку с каждого дома, так что Келхан за всех нас вам насыпал! Когда мальчишки отошли, разговор повернулся в другую сторону. — Народ говорит, — начал первым Арнакурбан, — «и гулять идешь — гуляешь, и в гости идешь — тоже гуляешь». Вот я и решил и в гости сходить, и погулять заодно. Захотел старых друзей увидеть, давно уж мы вместе не сходимся… — Это ты хорошо сделал, Арнакурбан. А то правда, уж и забыли друг к другу дорогу, разве что нужда какая приведет. Дела-то дела, а забывать соседей не годится… — Ну вот, заладили одно и то же, как мальчишка молитву учит!.. — А ты не перебивай, молитва от этого только лучше запоминается. — Я не старейшина у сарыков, — продолжал Арнакурбан, — не мулла, вы это знаете. Но и я не могу в стороне быть… Тут такие дела начинаются! Хива войско собирает, это я, можно сказать, своими глазами видел. Значит, туркменам скоро плохо будет. Когда они на нас пойдут, точно я не знаю, но думаю, скоро, очень скоро. Вот, Каушут, из-за этого я и приехал к вам. — Спасибо тебе, Арнакурбан. Мы и сами думали, что Хива что-то задумала, но не ждали, что это начнется так быстро. Но пока нам думать надо о другом, о наших посевах, об одежде, рытье арыков. Тем более что советоваться о том, с какой стороны ждать врага конечно же будут в доме Ходжама Шукура, а уж он-то всегда смотрит в рот хивинскому хану. Келхан Кепеле не удержался и перебил Каушута: — Что ты заладил «Шукур, Шукур»! Надоели уже с этим Шукуром! Думаешь, если бы он не родился, то все туркмены счастливо жили? Не на него надо смотреть, а на слезы, что льются из глаз туркменских детей. Глаза у них уже от слез почернели. Каушут поглядел в лицо Келхану Кепеле: — Келхан, когда завтра станет светло, погляди и на нас. У нас тоже глаза черные стали. В аул со всех сторон сгоняли скот. Как только солнце скрылось за горизонтом, на небе сразу засветилась луна, точно не желая ни на секунду оставлять пустым почетное место. Ораз теперь снова бегал с аульскими ребятишками. К вечеру они собрались у холма на южной окраине аула. Пришли еще не все, и поэтому игры не начинали, народу не хватало, ждали запоздавших. А возле другого холма собирались девушки. В такие ночи, когда светила яркая луна, они подолгу сидели, разговаривали, пели свои ляле[43]. Услышав смех девушек, мальчишки насторожились. Один сказал: — А знаете, как их подслушать интересно, такое рассказывают! — А ты почем знаешь, ты что, девчонка? — Не девчонка, но я… я знаете что вчера сделал? — Что? — Оделся я вечером в сестрино платье, сделал из лоскутов косички, на голову платок надел и с сестрой пошел… — Ну?.. И не узнали? — Не. Даже внимания не обратили. Сестру спросили, кто это? А она ответила, как я ей сказал: «Из аула Горгор тетя приехала, это ее дочка». — «А как звать?» — «Марал». Я чуть не заржал, еле сдержался. Потом ляле пели. Я отвернулся и как будто тоже подпевал… А рассказывают!.. Такое знают, что вам, дуракам, и не снилось. Особенно про свадьбу, про мужчин… Кто-то не дал договорить: — Пошли вместе сегодня! — А как? — Спрячемся, подкрадемся сзади. — А если увидят? — Не увидят. Мы тихо. А увидят, скажем, в прятки играли. Пошли! Ребята поднялись и тихо затрусили в обход соседнего холма. Девушки ничего не заметили. Ребятам удалось подползти довольно близко и залечь позади них. Среди девушек было две кайтармы. Одна была без мужа уже целых два года, звали ее Биби. А вторая — Кейик, та, что купалась вместе с Каркарой в тот день, когда Каркару украли. Кейик вернулась домой всего полгода назад. Биби была полная, смуглая и приземистая, а Кейик тоненькая и стройная, гораздо красивее подружки, поэтому и ее рассказы казались интересней и слушались с большей охотой. Каждый вечер рассказы перед началом ляле начинались с одного и того же. Биби спрашивала Кейик: — Кейикджан, ну расскажи еще, что было, когда тебя одели невестой? Кейик начинала говорить, но ее перебивала Биби и в сотый раз подробно рассказывала про свою жизнь в доме мужа с самого дня свадьбы до того, как она вернулась домой. Но каждый раз ей вспоминалось какое-нибудь новое событие, и она с упоением принималась пересказывать его, не упуская ни одной подробности. «Видно, сильно тоскует без мужа», — сочувственно думала про нее Кейик. А те, что только еще собирались замуж, готовы были слушать эти рассказы без конца, каждая мелочь была им интересна. И в этот вечер разговор начался с замужества. Одна из девушек попросила: — Ой, Биби, расскажи, а какой он был, твой муж? Биби повторяла стихи, которые уже много раз слышали от нее девушки.
Волосы и борода у него — желтые, как песок. А глаза — синие, как бирюза. А лицо — красное, краснее свеклы, Точно обожженный глиняный кувшин…
— Ой, неужели такой правда? И как ты к нему подходить не боялась? — Да это же шутка просто, такие стихи. Лицо у него загорело, вот и стало такого цвета, как кувшин. А глаза синие, поэтому и сказано: как бирюза… — Биби задрала голову и задумчиво посмотрела в небо. Там ярко блестела луна, словно красивая брошь на платье из голубого кетени. А ей казалось, что это ее возлюбленный с голубыми глазами выглядывает из луны. Он звал ее, тянул руки, — но так показалось только на минуту, а потом снова луна стала луной, а Биби сидела на своем холме далеко-далеко от нее… Девушки опять стали приставать к Биби и Кейик с вопросами, но Кейик, замечтавшаяся тоже о своем муже, сказала одной: — Гулле, милая, тебя же вот-вот выдадут, уже ведь и жениха нашли, потерпи немного, скоро все сама узнаешь. Гулле смутилась. От подруг она уже кое-что знала о том, как ведут себя муж с женой, но больше всего ее тревожило другое. Она не могла себе представить, как это ее заберут навсегда в чужой аул, к чужим людям, неизвестно даже к каким, и она должна будет всю жизнь закрывать рот яшмаком и не иметь права даже слова сказать без спроса… Она не могла поверить, что станет навсегда женой человека, которого даже в глаза ни разу не видела. Разве мало, думала она, своих парней и хороших, и красивых, вот, например, Курбан, Хужреп, Мо-мин? Зачем же ее хотят куда-то увозить? — А я не поеду в чужой аул, — сказала Гулле то ли в шутку, то ли всерьез. — Что мне там делать?! — Ах, подружка, — сказала Биби, — кто только об этом не плакал! Разве где-нибудь есть еще парни такие, как в нашем ауле? Наши все как на подбор… — Она вздохнула и посмотрела снова на луну. Но там виделись ей глаза не своих, а того чужого, что не выходил из головы. Она вздохнула еще раз. — Хотя и в других местах тоже бывают… Главное, чтобы встретился хороший человек!.. — Как твой, с «бирюзовыми глазами»!.. — Нет, — сказала Кейик, — это правда, таких, как наш Курбан, Хужреп, в других аулах днем с огнем не найдешь. — Если тебе что на роду написано, — снова заговорила Биби таким тоном, словно знала больше всех, — от этого уже никуда не уйдешь. А чтобы узнать, что с тобой будет, надо жребий бросать в монжукатды[44], он никогда не врет. Вот в прошлый новруз[45] гадали, дочери Куйки-ага Эджекке такой стих выпал:
Хеллеси, джан, хеллеси, Желтой дыни грядка. Отец пай тебе оставил, Голову рябой собаки…
— А я слышала, муж у нее хороший, — сказала Кейик. — Хороший! Рябой собаки не лучше! Да еще и косой! Кейик попыталась возразить, но Биби и слушать ее не стала. Ей обязательно хотелось, чтобы все чужие мужья были уродами. — Ну почему жребий должен обязательно попасть на чужого? — не унималась Гулле. — Разве нельзя выбрать своего? — Можно, конечно… Только хорошего… Вон, вспомни Каркару… — Бибиджан, что ее вспоминать, разве она мертвая? — перебила ее Кейик. Она чувствовала, что Биби скажет сейчас что-нибудь нехорошее. — Конечно, не умерла! Только я думаю, уж лучше десять раз умереть… Вместе с ребятами на холме, позади девушек, лежал Курбан. Сердце его сжалось, как только он услышал про Каркару. Будь он один, он заткнул бы сейчас уши и убежал отсюда, но что толку? — все равно, другие-то слышат! И он не мог встать и заткнуть рот этой Биби и заставить друзей не слушать ее. А Биби продолжала: — Какая теперь разница, девушка ты или нет. Неужели так просто кого-то отвезут в Хиву и отпустят оттуда за просто так? Человек еще, может, в это и поверит, да бога-то не обманешь. Все закружилось перед глазами Курбана. На лбу у него выступили капли пота. Ему в тысячу раз было бы легче, если бы позорили его самого. — А что Каркара сделала такого, почему ты говоришь про жребий? — Потому что аллах не написал ей на роду, а она сама хотела написать имя своего суженого. Вот бог и наказал ее. — Кого же она хотела написать? — Ладно притворяться, как будто не знаешь! Курбан лежал, боясь перевести дыхание. Но тут Кейик прервала разговор. Она тихонько запела ляле, и подружки подхватили песню:
Когда весною семя дыни падает, Оно недолго на земле лежит. О, юноша прекрасный моего аула, Остановись, дай поглядеть мне на тебя!..
Мальчишки, когда началось пение, потихоньку поднялись и побежали в свою сторону. Курбану было теперь не до игр. Не говоря никому ни слова, он отделился от остальных и пошел в аул. Всю дорогу его мучило сказанное о Каркаре. Он готов был сделать что угодно, чтобы защитить девушку от грязных сплетен. Но только долгое время могло стереть пятно, легшее на ее доброе имя. В пятницу вечером Ширинджемал-эдже устраивала сороковины по покойному мужу. Когда солнце опустилось к горизонту и уже перестало так палить, как днем, Кел-хан Кепеле, Ходжакули и Каушут отправились к кибитке старой женщины. Они шли мимо речки. Теджен за лето заметно обмелела, густо заросла камышом, который издавал тихий, удивительный шелест, словно тростинки переговаривались между собой. Лягушки вылезали на листья кувшинок и бросались снова в воду. Прямо от берега начинались заросли колючки, холмики, редкие саксаулы… На том берегу, вытягивая шеи, медленно прохаживались сытые верблюдицы с верблюжатами. — Бедняга Ораз, так и умер без детей, — вспомнил отчего-то Келхан Кепеле. Каушут с Ходжакули промолчали. У Кел-хана тоже никого не было, и они понимали, что, жалея Ораза, он жалеет и себя. Когда трое пришли, на ковре, расстеленном у кибитки Ширинджемал-эдже, уже сидели несколько стариков и разговаривали между собой, делились последними сплетнями и слухами. Один из них говорил с таким жаром, точно видел все собственными глазами, рассказывал о нападении аймаков на сарыков, как троих убили и угнали целую отару овец. Ширинджемал-эдже стояла рядом, слушала и вздыхала. Завидев за изгородью новых гостей, она торопливо засеменила им навстречу. — Алейкум салам! — она поздоровалась с Келханом Кепеле, как с самым старшим, а потом уже с Каушутом и Ходжакули. — Проходите, молодые люди! Проходите. «Молодые люди» сели на те места, которые указала им старуха. Сперва был прочитан аят, потом товир[46]. И только после этого общий разговор возобновился. — Каушут-бек, — начал один из аксакалов, — я слышал, из вашего аула украли какую-то девушку, а потом привезли назад. Это правда? Каушуту не хотелось, чтобы история с Каркарой расходилась по чужим аулам, потому что после, при сватанье, могло бы сильно повредить ей, и он на всякий случай соврал: — Да сплетни! Знаешь, люди иногда в капле лужу хотят видеть. Никто ее не крал. Напали двое, наши вовремя подскочили и отняли. — Ну конечно, — ответил старик, — я и сам так думал. Не могли они испортить девушку, а потом вернуть назад! На этом разговор о Каркаре и кончился. Из кибитки принесли миски с едой и поставили перед новыми гостями. Один старик спросил другого: — Чарыяр-ага, а сколько же лет прожил Ораз? — Вообще-то говорили, что ему было восемьдесят семь, но мне кажется, на самом деле он был гораздо старше. — А какой у него был год? — Год обезьяны. Ну-ка, кто у нас грамотный, сосчитайте. — Обезьяны? Какой, старшей, младшей? — Старшей, снежной обезьяны. Один из стариков, смысливший в счете, принялся считать по пальцам. — Значит, так, — сказал он после долгой паузы, — с года обезьяны прошло без одного девяносто лет… — Ну теперь, Чарыяр-ага, пора прочесть тебе аят. Чарыяр-ага сосредоточился и принялся вполголоса нашептывать молитву. Когда он закончил, остальные воздали почести умершему. — Светлый путь! — Да попадет он в рай! — Да принят будет Ораз-ага аллахом! В это время к кибитке Ширинджемал-эдже подошел высокий старик со светлым лицом и белой бородой. В одной руке у него был тростниковый посох, а другой он держался за мальчика лет семи в оборванных штанишках и ситцевой рубахе, едва доходившей до пупка. На голове у мальчика была мохнатая шыпырма, мех которой падал ему на лоб и почти закрывал черные юркие глазки. Мальчик не отнимал свою руку от руки старика, словно боялся чего-то. Завидев сидящих, мальчик подергал старика за рукав и, когда тот нагнулся, зашептал ему что-то на ухо. Старик сам сделал несколько шагов вперед, засунул посох под мышку, сцепил пальцы обеих рук и стал читать стихи:
Саламаленкум, стар и млад! Сердце кровью, братья, облилось. Да будут дни ваши счастливы до конца! Сердце кровью, братья, облилось.
Враг напал на нас, кто воевал, кто убежал… А моя судьба несчастней всех других. Двух сынов моих война взяла. Сердце кровью, братья, облилось.
И глаза мои от слез ослепли. Тело пополам мое согнулось. И пошел я прочь с моей земли несчастной. Сердце кровью, братья, облилось.
Руки женщин шерсть уже не режут. Нету отдыха в земле моей народу. Я не нищий, я слуга аллаха. Сердце кровью, братья, облилось.
Сто лет жизни, кто врага накажет! Пусть туркмены все сойдутся вместе. Заколите псов поодиночке. Сердце кровью, братья, облилось.
Был бы Хызром[47] я, то дал бы воду ждущим. За туркмен отважных жизнь бы я отдал. Но несчастный я Атаназар всего лишь… Сердце кровью, братья, облилось.
Старик закончил чтение и, словно опасаясь, чтобы спутник его не пропал, нащупал дрожащей рукой сначала шыпырму мальчика, а потом ухватился за его плечо. Старики похвалили слепого за его стихи. — Ровесники, мы не нищие, мы рабы аллаха, никому зла не делаем. Чарыяр-ага поднялся и подошел к поэту: — Рабы аллаха, отведайте нашего хлеба-соли! Эта подстилка расстелена здесь, потому что справляют сороковины умершего. Садитесь, справьте с нами тризну. — Вот как! Старик погладил плечо мальчика, а тот посмотрел сквозь нависший мех сначала на Чарыяра, потом на своего хозяина и повел слепого к месту, которое освободили ему. Слепой сел, и мальчик, поджав ноги, устроился рядом. Перед ними поставили миску. Мальчик, видно, сильно проголодался, он глотал куски не разжевывая и, когда в миске уже ничего не осталось, с сожалением посмотрел на нее. По обычаю поминок, миску сразу же унесли. Старик поблагодарил за угощение и принялся читать аят. Закончил он словами: — Да попадет он в рай, раб божий! Потом нащупал плечо мальчика: — Ну, вставай, внучек, пошли. На прощанье слепого уговорили прочитать еще стихотворение. Мальчик, которому, видно, уже надоело слушать одни и те же стихи, повторявшиеся в каждом ауле, отвернулся от старика и стал рассматривать Ширинджемал-эдже, как она возится возле очага. Когда стихи кончились и путники уже собрались уходить, старая женщина подошла к мальчику и протянула ему миску с дограмой: — Возьми, внучек, помянешь дедушку Ораза! Мальчик робко опустил голову. Старуха предложила ему еще раз. Но он, хоть и поблескивал жадными глазами, побоялся отчего-то протянуть руку за угощением. Тогда старик сказал: — Возьми, не бойся, Молладурды, это хорошие люди. Молладурды сразу схватился за миску, но растерялся, не зная, куда высыпать дограму. Вдруг его осенило, он снял свою шыпырму, и старуха опрокинула в нее миску. При виде наполненной доверху шыпырмы глаза мальчика радостно заблестели. Мальчик и слепой пошли, на ходу засовывая себе в рот куски лепешки с мясом. Люди, сидевшие на ковре, печально смотрели им вслед.
Язсолтан под навесом сучила полосатую нитку, когда увидела Курбана, прибежавшего с поля за обедом для мужчин. — Эй, Курбан, заходи, у нас горячий хлеб, только испекли. Курбан подошел к женщине. — Каркара дома, иди, она даст хлеба. Курбан, волнуясь, приподнял штору и заглянул в кибитку. Каркара сидела в углу и ткала что-то. Он решил про себя, что не стоит напоминать девушке про ее несчастье, а, наоборот, лучше разговаривать с ней, как будто ничего и не случилось. — Слушай, Каркара, ты когда-нибудь закончишь этот чувал или так и будешь его ткать всю жизнь? Каркара вздрогнула и опустила ниже голову. Она стыдилась теперь всех и с одной только Язсолтан могла разговаривать спокойно. Из дома она старалась не выходить, чтобы не встречаться со взглядами односельчан, сидела все время в кибитке, занималась какой-нибудь работой, а перед глазами так и стояли нукеры Мядемина и ханский двор в Хиве, даже в стуке своего дарака[48] ей мерещился стук лошадиных копыт. О Курбане она боялась даже подумать, ей казалось, что она опозорена перед ним навек. Поэтому Каркара ничего не ответила ему. Курбан снова повторил свой вопрос. Каркара подняла клубок, выпавший из ее рук, и, не поднимая головы, ответила: — До мизана[49], наверное, кончу. Только это не чувал будет, а большой ковер. — Ну, если до мизана, это хорошо, — сказал Курбан и прислонился к тяриму[50]. — Подай-ка мне лепешку, Язсолтан велела взять. Каркара встала, вынула из сачака лепешку, сунула ее в руки Курбана и сразу же вернулась на свое место. Курбан пошел было к двери, но потом вернулся. Он хотел сказать что-то еще Каркаре, но тут снаружи раздался крик Язсолтан: — Курбан, ты что там возишься, людей с голоду уморишь, сейчас не пост у нас! Курбан вздохнул и нехотя вышел. Взмокшие от пота Каушут, Келхан Кепеле и Ходжа-кули сложили в яму собранную морковь. Их лица и руки были запачканы землей. Пока не пришел Курбан с обедом, они отправились помыться к реке. На полдороге им встретился Мялик. Он ехал не спеша на своей черной лошади. Встретив знакомых аульчан, он вежливо поприветствовал их и тронулся дальше, но Каушут остановил его: — Эй, Мялик-хан, попридержи коня! Узнав теперь, что в похищении Каркары были замешаны Ходжам Шукур и нукеры Хемракули, Каушут подозревал, что и Мялик, как лучший друг Кичи-кела, знал об этом. Ходжакули и Келхан Кепеле пошли дальше, Каушут с Мяликом остались вдвоем. — Готов служить вам, Каушут-бек! — Служить не надо, байский сын. Надо только послушать, что я тебе скажу сейчас. — О чем же, интересно? — Пусть это пока будет между нами. Скажи своим дружкам, пусть они бедных людей не трогают. Кто трогает бедных и слабых, того и бог накажет, и люди. А твои шашни с ними к добру не приведут. Будешь обижать несчастных, сам в жизни никогда счастья не найдешь. Смотри, плохо это все кончится. — Чем же ты хочешь нас наказать, бек? Или аллах тебя своим помощником сделал? — Я думал, Мялик, ты человек, поэтому и заговорил с тобой. А ты хуже той скотины, что под тобой стоит. Лошадь тряхнула головой, будто хотела подтвердить слова Каушута. Но Мялика все это нисколько не тронуло. Он только дернул повод со злостью, словно подозревал свою лошадь в сговоре с Каушутом. — Аллах все видит, — сказал он, — даже муравья он не случайно посередине туловища разделил на две части, Каушут-бек. — Пусть твои гадкие мысли всегда будут твоими спутниками. Это я тебе говорю, остальное покажет бог, — сказал Каушут и повернулся догонять товарищей. Когда он был уже далеко, Мялик заскрежетал зубами. — Тоже мне защитник голытьбы! Девчонку пожалел! Родственник объявился! Каушут подошел к берегу, сел и тяжело вздохнул. — Что загрустил, пальван? — Говорят, дурной человек и себе и народу вред приносит, — видно, так оно и есть. Ходжакули сразу понял, о чем речь. — Нашел с кем связываться, плюнь ты на этого Мялика, он еще получит свое, не беспокойся! Каушут поднял глаза и вдруг вскрикнул; — Смотрите, кто это?! — Где? — Да вот же! — Сюда скачут. У ближайшего бархана всадники остановились, сняли кого-то с лошади, тут же развернули коней и поскакали обратно. Пеший человек с котомкой в руке пошел вперед. — Да это же Дангатар! — Не может быть! — Он, точно! Первым узнал его Каушут. Остальные недоверчиво смотрели на путника. А человек перешел кривой мостик, ступил на берег и нерешительно остановился. Теперь и Келхан Кепеле и Ходжакули узнали Дангатара. — Дангатар! Дангатар-ага! — все трое бросились навстречу. Как раз подоспел и Курбан, принесший взрослым обед. Как только он увидел на мостике человека и услышал крики «Дангатар!», в глазах у него потемнело, руки сами разжались, и торба с хлебом упала на землю. От радости он забыл про все на свете, повернулся и бросился в аул, скорее сказать Каркаре, что ее отец вернулся. А трое приятелей уже тем временем стояли перед Дангатаром. — Саламалейкум! — Алейкум эссалам! Только это и было сказано. Дангатар вернулся без одного глаза. Но от счастья, что он опять на родной земле, смотрел в лица соплеменников и не мог произнести ни слова. Так же молча он сел на землю и ощупал ее руками, как ощупывают потерянную и неожиданно найденную дорогую вещь. Дангатар сильно изменился. Прежде у него не было ни одного седого волоска, теперь же голова была сплошь белая. Лицо сморщилось, постарело. Трудно было поверить, что все это произошло за такой короткий промежуток времени. — Скот, хозяйство в порядке? — спросил Дангатар, с трудом подавляя нахлынувшие на него чувства. И голос его тоже изменился, стал хриплым и низким. Ходжакули и Каушут молчали. Келхан Кепеле отвернулся. — Говорите. От судьбы не уйдешь. Я уже много перетерпел. — Будь мужчиной, Дангатар. Жена твоя… Видно, у нее на роду было написано уйти раньше тебя. — Она!.. — Да, бедняга Огулхесель отмучилась. И без того слабые колени Дангатара задрожали. Он оперся руками о землю, хотел встать, но не смог. Остальные, хоть и были не последними джигитами, еле сдерживались, чтобы не заплакать. С дрожью в руках Дангатар прочитал аят. — Да будет рай ее домом! — прошептал Ходжакули. Дангатар тихонько кивнул головой и повернулся лицом к реке. Он смотрел на воду так, словно хотел увидеть там отражение покойной жены, с которой не сумел даже проститься. После нескольких минут молчания Келхан Кепеле спросил: — А глаз они выкололи? Дангатар молча развязал свой узелок и вынул оттуда что-то завернутое в тряпицу. Распеленал и положил на руку предмет, напоминавший сморщенный орех. Это был его левый глаз. Мужчины впервые видели, чтобы человек носил свой глаз в узелке, и это зрелище произвело на них жуткое впечатление. — Я забрал свой глаз, чтобы похоронить его в родной земле. Правда, от него теперь осталось… — Дангатар отвернулся и не смог дальше говорить. Глаз он потерял вот как. Когда Каушут и Тач-гок пришли к Апбас-хану, Дангатар был в другом селении, хан одолжил его на время своему приятелю. Вернувшись назад, Дангатар оказался один на персидской земле, остальных пленников увели Тач-гок с Каушутом. Он продолжал жить рабом у хана. Наконец, вытянув из него все жилы, хан подумал, что кормить пленника уже невыгодно, и решил избавиться от него. Он вызвал Дангатара к себе и спросил: — Сколько золота и серебра дадут твои родичи, чтобы ты вернулся домой? Дангатар ничего не ответил, он знал, что даже при нем в доме не было денег, а теперь и подавно гроша не сыскать. — Молчишь, туркмен? Хорошо. Тогда у нас будет другое условие. — Ну, говори, посмотрим… — Это условие такое, что не ты будешь смотреть, а мы. — Ну говори, какое же? — Это наше условие могут принимать только очень храбрые люди, — хан ехидно улыбнулся и погладил свои пышные усы. — Очень выносливые люди. Не думаю, что ты его сможешь выполнить. — То, что вынесет другой человек, вынесет и туркмен, хан-ага. Говори же! Хан немного подумал и сказал: — Я выкалываю пленному один глаз. И если он не закричит при этом, через сорок дней я его отпускаю на родину. А если закричит, то остается у меня, туркмен, но уже без глаза. Дангатар ответил не сразу. Слишком тяжело было согласиться на такую пытку добровольно. А вдруг закричишь? Но другого шанса попасть домой у него не было. Дангатар сказал: — Это слово мужчины, хан? — Персидские ханы слов на ветер не бросают. Так ты согласен, туркмен? — Согласен. Хан тут же кликнул трех здоровенных слуг, они схватили Дангатара под руки и повели в степь. Тут же с шумом стала собираться толпа любопытных. Отойдя на порядочное расстояние, двое грубо повалили Дангатара на землю, а третий уселся на него и достал из-за пазухи инструмент, напоминавший обычную ложку. — Ну, туркмен, не говори потом, что не понял чего-то. Один раз закричишь, и все твои муки будут напрасны. Дангатар молча сжал зубы. — Давайте! Левый глаз как будто опалило огнем. Еле сдерживая крик, он напряг все свои слабые мышцы, но сильные руки не давали ему вырваться. Он так стиснул зубы, что они захрустели. Последней мыслью было, что глаза уже нет, а он не закричал. И после этого Дангатар потерял сознание.
Язсолтан все еще сучила свою нитку, когда мимо нее пулей пролетел Курбан, ворвался в кибитку и закричал: — Каркара, дядя пришел, Дангатар-ага пришел! Каркара не сразу поняла, о чем он кричит. При имени отца у нее закружилась голова. Все заходило вокруг— туйнук, стены кибитки и сам Курбан, принесший такую весть. Каркара взялась за решетку тярима, с трудом встала на ноги и сделала несколько шагов навстречу Курбану. Она не знала, как его отблагодарить, ей хотелось расцеловать юношу, но стыд оказался сильнее радости, и она так и осталась на месте, глядя на него счастливыми глазами. В это время в кибитку вошла удивленная Язсолтан. — Что случилось? Что ты влетел как полоумный? Кто там пришел? Откуда? — Дангатар! Дангатар вернулся! Я только что видел его у реки, там Каушут, Келхан, Ходжакули… Язсолтан тут же выскочила на улицу и запричитала во весь голос: — Овсана-а! Огулбостан-а! Выходите скорей! Дангатар! Дангатар-ага вернулся! Хотя она успела назвать только два имени, из всех соседних кибиток высыпали женщины, бросились наперебой к Язсолтан, стали обнимать и поздравлять ее. — Сто лет жизни! — Поздравляем, Язсолтан! — Каркара, поздравляем! — Дай аллах счастья семье Дангатара!
Старейшины всех родов сообщили мужчинам, что все должны собраться после утреннего намаза у стен старой крепости. Сообщение это вызвало сильное беспокойство в аулах. И утром, хотя приглашена была только мужская часть населения, к назначенному месту пришли и женщины, и даже дети. Площадка возле крепости стала напоминать базар в разгаре. Из дальних аулов приехали на лошадях, на ишаках; привязывая животных за что придется снаружи, люди шли в крепость. Отдельной кучей собрались женщины с детьми. Женщины были в черных пуренджеках, надвинутых низко на лица, по их виду можно было предположить, что они пришли на поминки. Сначала никто толком ничего не знал, но постепенно распространился слух — и среди женщин, и среди мужчин, — что на туркмен напал Мя-демин. Послышался плач, причитания. Женщины заранее оплакивали своих братьев, мужей, сыновей. Глаза всех были устремлены на белую кибитку Ходжама Шукура, на людей, то и дело входивших и выходивших оттуда. Неожиданно толпа примолкла. Посреди площадки появился Атаназар, бродячий поэт-слепец, сопровождаемый внуком. Старик повторял ту же песню, что и на поминках в доме Ширинджемал-эдже:
Сто лет жизни, кто врага сразит! Пусть сойдутся сильные народа! Бейте гызылбашей[51] без пощады. Сердце кровью, братья, облилось.
Пусть мужи родятся на Ораз-яглы похожи, Львы такие же, как Кероглы достойный, Пусть от вашей силы содрогнутся горы. Сердце кровью, братья, облилось.
Был бы Хызром я, народу дал напиться, За туркмен отважных жизнь бы отдал. Но несчастный я Атаназар всего лишь… Сердце кровью, братья, облилось…
Закончив стихи, старик сказал, обращая невидящие глаза к людям: — Будьте отважными, богатыри! Не осрамитесь! — и с этими словами покинул площадку. Жена Пенди-бая, Огултач-эдже, наклонилась к уху Язсолтан: — Ну вот, говорили, Хива напала, а он про каких-то «гызылбашей» поет… Что же будет, соседка?.. Язсолтан не успела ничего сказать. Толпа снова загудела, задвигалась: из кибитки Ходжама Шукура вышли мужчины. Среди них были сам Ходжам Шу-хур, Ораз-яглы, Пенди-бай, Молланепес, Сейитмухамед-ишан, даже сейчас не расстававшийся со своими четками… Они взобрались на песчаный холм, который специально был насыпан посреди крепости и служил в подобных случаях местом для произнесения речей. Толпа напряженно ждала. Но старейшины молчали. Хоть и совещались с самого раннего утра, но ни до чего определенного так и не смогли договориться. Главный вопрос заключался в том, кого поставить над войском. Ораз-яглы был стар уже, тяжело садился на лошадь. Ходжам Шукур, кому и надлежало в первую очередь возглавить людей, хотя и не говорил ничего против сражения с Хивинским ханством, но, когда речь заходила о нем как о предводителе войска, что было вполне естественно, бормотал что-то невнятное в ответ, отворачивался в сторону и видом своим давал понять, что вести войско в этот раз вовсе не намерен. Больше на примете военачальников не было. Тогда Ораз-яглы предложил Каушута. Ходжам Шукур сразу закашлялся, точно поперхнулся, показывая этим, что кандидатура Каушута ему совершенно не по душе… Каушут и сам слышал, что ему собираются предложить возглавить войско. Но ему не хотелось делаться верховным ханом. Он сказал, что свою лошадь готов оседлать быстрее всех, но командовать другими отказывается. И говорил он так неспроста. Хотя Ходжам Шукур и был плохим ханом, но люди за долгое время привыкли к нему, его имя в бою олицетворяло и имя родины, поэтому Каушуту казалось, что при живом хане в самый решающий час сражения люди, хоть сами и изберут его, могут ослушаться в трудную минуту и обвинить в какой-нибудь случайной неудаче. Каушут знал, что и Ходжам Шукур, не любивший его, приложит все старания, чтобы опорочить нового хана, возбудить недоверие к нему. Все это Каушут обдумал и взвесил еще заранее. И когда его призвали в белую кибитку и сказали, что уважаемые люди оказывают ему высокое доверие, просят стать главным ханом, ответил решительным отказом и, не объясняя причин, поднялся и вышел, хотя ему никто не разрешал этого. Он нашел в толпе Келхана Кепе-ли и сел с ним вместе играть в дуззим[52], как бы желая этим сказать, что разговор для него окончен и слова своего он менять не собирается. Но в белой палатке все-таки решили назвать ханом Каушута: надо же было кого-то называть, тем более что достойнее его действительно найти было трудно. Каждый решил про себя, что выбор во всех отношениях будет верный. Если даже Каушут откажется и перед народом, то вся вина падет на него, а не на совет старейшин, не сумевший подобрать военачальника. Как только народ притих, Сейитмухамед вышел на шаг вперед и заговорил. — Ну, в общем, так, люди, — начал он не очень решительно. — Если вы сами не против сына Яздурды-хапа, то мне как раз и придется назвать его. Каушут не выходил из толпы. Ходжам Шукур не выдержал и усмехнулся: — Много от него толка будет, если он даже показаться не хочет!.. Но тут Пенди-бай, почти все время до этого молчавший, неожиданно заступился за Каушута. Он повернулся к Молланепесу, словно признавал его за старшего, и сказал: — Мне кажется, только очень неумный человек согласится на такое дело с первого слова и начнет прыгать от радости. Молланепес поддержал его: — Конечно, Каушут не из тех, кто запрыгает. Есть ведь еще достоинство, воспитанность, скромность. Я думаю, надо смелей объявлять его, ясное дело, лучшего хана мы не найдем. Ходжаму Шукуру очень не понравились эти слова, но он уловил, к чему клонится дело, и из опаски только покривился, ничего не сказал. Ораз-яглы подумал и тоже присоединился к Молланепесу: — Да, ишан-ага, надо его просить, если народ потребует, он не посмеет отказаться… Сейитмухамед что-то смекнул про себя и тоже решил не перечить. Он подозвал глашатая Джаллы и сказал ему: — Кричи: народ требует Каушута. Да погромче, чтобы все слышали. Как только Джаллы выполнил то, что ему было поручено, толпа одобрительно загудела и стала повторять: — Каушута! — Пусть ханом будет Каушут! — Тысячу лет жизни новому хану! Как только Язсолтан услышала имя своего мужа, она охнула и тихо прошептала: — О аллах, опять лезет куда-то, мало я слез пролила… — Что ты, милая! Тут радоваться надо! — быстро принялась ее успокаивать Огултач-эдже. — Люди ему честь оказывают, главным ханом ставят. А я давно знала, что будет так. Надо поблагодарить аллаха… — она посмотрела в ту сторону, где стояли яшули, — А вот и он сам! Смотри, к аксакалам идет! Каушут действительно подошел к минбару[53]. Как только он остановился, Сейитмухамед-ишан набросился на него: — Говорят, когда сам народ требует, последнего коня отдай! Каушут-бек, если люди тебя просят, а ты только упрямишься, это не по-мусульмански! Ты должен стать ханом! Тебя просят твой народ и твой ишак! — Ишан-ага, против народа мы не можем идти. Если народ и правда хочет, а вы благословляете, я не могу противиться. Но… — Никаких «но» и быть не может, Каушут-хан, — на слове «хан» Сейитмухамед сделал особенное ударение. На лбу у Каушута выступил пот. Народ снова зашумел. Все приветствовали нового хана и просили его не отказываться. Но Каушут явственно слышал другой голос, исходивший неизвестно откуда. Он говорил: «Каушут! Проклятие твоему отцу, если ты не сможешь спасти свой народ и по твоей вине прольется его кровь. Если не можешь быть ханом народа, не лучше ли тебе остаться ханом своего племени, сеять в своем поле и пасти свой скот?» Это смущало Каушута. Он посмотрел на Сейнтмухамеда и тихо спросил: — Ишан-ага, а может, правда, лучше жить мне своей жизнью и не лезть в чужие дела? Вид у Каушута сразу сделался растерянный и жалкий. Но Сейитмухамед-ишан, зная только свое, тут же возразил ему: — Но ведь и народу ты нужен, хан! Ты сам говоришь, против народа идти нельзя! Удачи тебе в сражениях и счастья в жизни. Пусть твое слово будет твердым, и да поможет тебе аллах! Ишан начал было уже поднимать руки, чтобы благословить нового хана, но Каушут остановил его: — Постойте, ишан-ага, подождите! Сейитмухамед-ишан недоуменно посмотрел на него и опустил руки. Каушут огляделся по сторонам. Тысячи глаз неподвижно и зорко, как звезды с чистого неба, смотрели на него. Это были глаза самых разных людей, с разными взглядами, душами, намерениями… Как не знал Каушут, о чем думают звезды на небе, так и не знал сейчас, что происходит за этими глазами. Он не имел ни с кем из них, за исключением только очень немногих, никаких дел, они никогда не мешали ему, не просили ни хлеба, ни воды… Но Каушуту надо было знать про эти глаза все, иначе нельзя было вести их на войну, надеяться на успех большого дела, за которое он брался. Рядом с Каушутом стояли сейчас те, к кому народ уже привык, кто сами привыкли обращаться с народом. Таким, как Ораз-яглы, люди верили беззаветно и готовы были отдать последнюю каплю крови… Поверят ли так же они Каушуту? Сможет ли он заставить их в решительную минуту беспрекословно исполнить его волю? Чтобы узнать это, требовалось время, не один год общения с людьми, а времени этого сейчас не было. Надо было решать сразу и бесповоротно. Либо взвалить все бремя ответственности на свои плечи, либо отказаться, хоть и с позором, но уйти сейчас, пока не поздно. Думая о тех, кого он совсем не знал, Каушут вспомнил и про других, кто был ему хорошо известен. И эти люди не походили друг на друга. Одни могли кривой шашкой разрубить камень пополам, другие больше предпочитали ссылаться на старые заслуги, часто мнимые, добытые хитростью и золотом, и думали лишь о том, как спасти свою шкуру… Каушут подумал и про тех, кто сам хотел бы занять место хана. Сейчас они молчат, прячутся за спины народа и только ждут случая, чтобы посеять в людях недоверие, вражду к новому хану… Обо всем этом думал Каушут, стоя на песчаном холмике перед выжидательно глядящей на него толпой. Наконец он поднял руку: — Люди! Вы называете меня. Не скажете ли завтра, что этого не хотели? Пусть никто не лицемерит. Скажите все сейчас. Не стесняйтесь! Это будет лучше и для меня и для вас! — Верим тебе! — Согласны! — Будь хлебным! — Будь богатым! Видя, что толпа целиком поддерживает Каушута, Сейитмухамед опять собрался благословлять его. Но Каушут и тут остановил ишана. Он снова повернулся к толпе. — Если вы согласны, я тоже согласен. Отныне я и плакать, и радоваться буду вместе с вами… Но сперва… Вон видите ту белую кибитку? — Видим! — Дом хана! — Кибитка Ходжама Шукура! — Так вот. Снимите с этой кибитки дурлук, узук, все остальное оставьте на месте, кибитку перенесите и поставьте над моей головой. Стоявшир рядом с Каушутом с удивлением посмотрели на него. Толпа тоже заволновалась. — Что он хочет? — Какое ему дело до кибитки Шукура? — Мы ничего не поняли. — И мы ничего… Ходжам Шукур стоял с невозмутимым видом, как будто к нему все это не имело ни малейшего отношения. Он все еще надеялся на свой прежний авторитет и считал, что вздорное требование Каушута никто не посмеет выполнить. А люди старались по-разному истолковать слова Каушута. — Нет, тут что-то неспроста! — А что непонятного? Конечно, стал ханом и сразу хочет забрать себе новую кибитку, у самого-то вся в дырьях небось! Что тут голову ломать! — Много ты понимаешь! Что-то раньше такого за Каушутом не замечали. Нужны ему эти тряпки! Он так дешево честь свою продавать не станет. — Ишь ты! Что он, лучше других, что ли? — А то ты не знал! Уж кто-кто, а Каушут доказал это… — Интересно, как это? Подумаешь, хан нашелся! Пусть только ко мне сунется!.. — Вот уж ты бы, сосед, молчал! А кто тебе старшего брата от гаджаров привел, да еще без копейки денег? Не Каушут разве? Знаешь, дорогой, тот, кто за белыми кибитками охотится, не пойдет в чужую землю в одиночку, да еще к таким псам, как гаджары. Человек, обвинявший в жадности Каушута, сконфуженно замолчал. От напоминания про старшего брата ему стало стыдно, и он постарался скорее спрятаться за спинами других. Каушут тем временем сошел с песчаного холма, подтянул полы халата и уселся у подножья прямо на землю. Исподлобья он разглядывал людей, стоявших возле него. Многие бессмысленно улыбались, все еще никак не в силах понять, что к чему. Но Каушут по-своему расценивал эти улыбки. Там, где дело не касалось непосредственно их, люди привыкли верить Ходжаму Шукуру. Так было спокойнее. На всех советах, сборищах, даже если он принимал заведомо неправильное решение, люди говорили про себя: «Наверное, это я глупец. Аллах водит его рукой. Пусть будет, как сказал Ходжам-ага». И эту косность, нежелание думать ни о чем всерьез надо было в людях перебороть. Приказ Каушута поставить белую кибитку Ходжама Шукура над своей головой и был попыткой заставить людей сделать наконец выбор, испытать силу их преданности. Если они в самом деле почитают Каушута выше, чем Ходжама Шукура, то должны выполнить этот приказ. Если же согласие с новым ханом — только на словах, если они побоятся обидеть старого, значит, это будет залогом того, что и в другой момент, когда речь пойдет о предмете гораздо более серьезном, чем белая кибитка, они тем более не исполнят волю Каушута, а поддадутся на уговоры Ходжама Шукура. В таком случае он лучше оставит навсегда Серахс, чем сделается верховным ханом. От толпы наконец отделилось четверо мужчин. — Хан-ага, ты хочешь, чтобы мы принесли кибитку и поставили ее здесь, или хватит того, что мы просто сдвинем ее с места? — спросил один из них. — Я хочу, чтобы кибитку принесли сюда и поставили над моей головой. Тот, кто спрашивал, махнул товарищам рукой, и все четверо двинулись к дому Ходжама Шукура. Из толпы вышли еще четыре человека и бросились вдогонку первым. — Что вы хотите? Вожак второй кучки схватился за саблю. — Или черная голова, или белая кибитка! Одно из двух! Не думай, что старого хана отдадут так дешево. Старший из первой четверки быстрым движением руки сорвал с головы черную папаху, кинул ее товарищам, потом вынул из-за пазухи белый платок, перетянул свои волосы и тоже схватился за саблю. Люди на площадке замолкли. В нависшей тишине был слышен звон клинков этих двоих. Некоторое время оба только размахивали саблями. Наконец сторонник Каушута изловчился и с криком «Йя, аллах!» выбил саблю из рук у противника и уже занес было для удара свою, но в это мгновение прозвучал окрик Каушута: — Остановись, сын! Рука с саблей замерла в воздухе. Победитель, разгоряченный схваткой, обернулся к Каушуту: — Прошу тебя, хан-ага! Каушут отрицательно покачал головой: — Вложи свою саблю в ножны, сынок, она тебе еще пригодится! Воинственный джигит взглянул еще раз на своего противника и с видимой неохотой подчинился Каушуту. Теперь из толпы вышло еще человек двадцать и вместе с первой четверкой направились к белой кибитке Ходжама Шукура, самой богатой и красивой, где хозяин принимал знатных гостей из всех окрестных земель. Спустя какое-то время кибитка качнулась, как бы собираясь покинуть свое место. Тут уж не выдержал Ходжам Шукур. Он сошел с возвышения и трусцой подбежал к Каушуту: — Что это значит, хан?! В голосе его слышались гнев и отчаянье. Слово «хан» он произнес насмешливо. Каушут поднял голову и спокойно ответил: — Не волнуйтесь, Ходжам-ага. Мужчины принесут твою кибитку сюда, а потом снова поставят на место. Я обещаю, что ничего с ней не сделается. Заслышав слово «мужчины», еще три паренька, словно желая показать, что и они тоже взрослые и могут поступать наравне с другими, оторвались от толпы и бросились к белой кибитке. Лицо Ходжама Шукура побагровело. Редкая бородка затряслась. — Сынок, ты бы мог взять с меня деньгами за десять кибиток. Зачем тебе этот позор! Останови их, пока не поздно! Ведь пожалеешь потом. — Кто знает, хан-ага! На свете то и дело совершаются непристойные дела. Возможно, это одно из них, и об этом я, может быть, когда-нибудь пожалею. На все воля аллаха. Таким оскорбительным тоном с ним никто еще не разговаривал. От злости Ходжама Шукура всего затрясло. Он хотел что-то сказать, но не нашел слов, выхватил свою саблю из ножен и бросился на Каушута. В этот же миг люди, стоявшие рядом, набросились на старого хана, подняли, как пушинку, и отнесли в сторону. Сабля его, отнятая чьей-то рукой, упала на землю перед Каушутом. Каушут встал на ноги, поднял с земли саблю и подошел к Ходжаму Шукуру. Старый хан с ненавистью глядел на нового. — Возьми, Ходжам, спрячь в ножны. Второй раз здесь поднимают оружие на соплеменника. Поберегите его лучше для наших врагов. Хан злобно засунул саблю в ножны. Люди уже оголили белую кибитку, сняли дурлук, узук и прочие украшения, легко подняли ее на руках и понесли. Их обступило много народу. Рядом шли те, кому не хватило места, не за что было ухватиться, и они сопровождали процессию криками и свистом. Для многих это событие казалось настоящим праздником. Ходжам Шукур не мог спокойно смотреть на свой дом, выглядевший теперь жалким и беззащитным. Он заправил полу своего халата за пояс и бросился, забыв про все, навстречу процессии. На ходу он воздел руки к небу и закричал на людей, словно оставался еще верховным ханом: — Не смейте! Остановитесь, нечестивцы! Идущие впереди замедлили было шаг, но под напором тех, кто шел сзади, вынуждены были снова перейти на быструю ходьбу. Белая кибитка проплыла мимо Ход-жама Шукура, которого могла бы затоптать толпа, не сумей он вовремя отскочить в сторону. Кибитка была поставлена над головой Каушута. Каушут теперь не походил на прежнего Каушута. Глаза его горели, как глаза голодного тигра в клетке. Такой вождь и нужен был народу — забитому и озлобленному. Глядя на него, текинцы поняли, что именно он, и никто другой, должен был стать их вождем. Каушут-хан вышел на порог и обратился к толпе: — Люди, теперь я приказываю. Пусть богатыри, те, кто считает честь туркмен своей честью, седлают своих коней и собираются у ворот. Да поможет аллах нам в борьбе за нашу свободу! Толпа, как черная туча, медленно потекла к воротам крепости. Стоявшие на холме забеспокоились. Нового хана так и не успели благословить. Сейитмухамед-ишан быстро подскочил к Каушуту, призвал на помощь всех святых, затем воздел руки к небу и произнес торжественное «Омин!». Толпа, приостановившись на минуту, повторила вслед за ишаном: — Да будь благословенным! Каушут склонил свою голову перед Сейитмухамедом. Потом поднял ее и сказал: — Ишан-ага, народ поверил мне, а вы благословили. Ради блага всех туркмен клянусь, что не пожалею ни сил, ни крови под защитой всевышнего. — Омишалла![54] — ответил Сейитмухамед и поднес руку к бороде. Люди седлали за воротами своих лошадей и ишаков. Кони били копытами землю, ишаки ревели, женщины причитали и взывали к аллаху… Шум над толпой стоял невообразимый. Мужчины были вооружены кто как. У одних за поясом торчали кривые сабли, другие держали луки со стрелами, третьи ружья… Были и такие, что принесли с собой топоры, шесты, а то и вообще пришли без ничего. Непес-мулла подошел к Каушуту: — Неужели поведешь эту толпу, хан? — Что толпа большая, это хорошо, — значит, все захотели прийти… Но, по правде сказать, лучше бы вместо десяти безоружных пришел один с ружьем. Каушут с Непесом вошли в толпу. Надо было как следует рассмотреть будущих воинов. Первым на глаза Каушуту попался Келхан Кепеле. — Ты, Келхан, иди и набирай себе нукеров. Отбирай самых лучших и вооруженных. Келхан забрался на своего коня, выкрикнул несколько имен и двинулся в ту сторону, куда показал ему Каушут. По пути к Келхану стали присоединяться мужчины. Каушут заметил трех ребят, державшихся вместе и очень похожих друг на друга. Он поманил их рукой. — Из какого аула? — Из Горгора, хан-ага. — Чьи будете? — Из Язы. — Я спрашиваю, дети чьи? — Селима-слепого, хан-ага. — Братья? — Да, все трое. — А отец жив еще? — Нет, умер, хан-ага. — А мать? — Мать жива. — Она и собирала вас? — Да, хан-ага. — Ну что, нового хана будете слушать? — Да благословит аллах тебя, хан-ага. — Ну, молодцы. А кто из вас самый младший? Один из юношей улыбнулся; — Я, хан-ага. Каушут внимательно посмотрел на него. — Ну вот, ты, сынок, ступай домой. Скажешь матери… — Хан-ага! — перебил его юноша, но старшие братья грозно посмотрели на младшего, и юноша сразу замолчал. — Скажешь матери, братьев Каушут-хан взял с собой, а меня назад отправил. Понял? Младший обиженно поглядел на хана: — А нельзя ли, хан-ага, чтобы кто-нибудь из них остался? — Нет, сынок, нельзя. Ступай. А вы, молодцы, идите к Келхану Кепеле. Удачи вам! — Сто лет жизни, хан-ага! Каушут огляделся и заметил в толпе Дангатара. Позади него на одной лошади сидели Курбан и Ораз. Из-за пояса у Дангатара торчала кривая сабля, а за плечами висело ружье. — Куда собрался, Дангатар-ага? — подошел к нему Каушут. Дангатар поправил по привычке повязку на пустой глазнице. — Туда же, куда и ты, хан-ага. — Да? А не лучше тебе вернуться домой? Дангатар отвернул голову так, чтобы Каушут видел только здоровый глаз. Он решил про себя, что хану не нравится его увечье. — Это уж мое дело, куда мне идти. Я не ребенок. — А что ж ты раньше молчал, когда меня еще не выбрали? Я же всех спрашивал, кто против меня? — Я не против! — Как не против! Я тебе говорю одно, а ты другое! Какой же я хан, если с первого дня уже меня не слушают! — Я слушаю… — А раз слушаешь, давай поворачивай и ступай в аул. — Каушут почувствовал, что взял слишком резко, и, чтобы не обидеть старика, добавил: — В ауле тоже люди нужны, Дангатар-ага. Если все на войну уйдут, что же это будет? Даже за скотом некому присмотреть. Дангатар вздохнул и покорно кивнул головой. — Ну а вы куда? — Каушут повернулся к Оразу с Курбаном. — Ораз-бек, ну-ка слезай с коня! Ораз сразу надулся. — Каушут-ага! Я уже не ребенок, папу спросите! Я уже стрелял из ружья! — Вот и стреляй! Тебя в ауле много ворон ждет. Смотри, к моему возвращению чтобы ни одной не было! Каушут пошел дальше разглядывать воинов нового ополчения. Вдруг он услышал голос у себя за спиной: — Вот, дедушка, хан-ага. Каушут обернулся. Перед ним стоял слепой с мальчиком-поводырем. Старик протянул руку. Каушут поздоровался с ним. — У меня нет глаз, хан. И лица тоже нет. Один только внук. Когда он вырастет, сядет на коня и будет твоим нукером. Удачи тебе, острого орухсия, хан! — Старик поднял руку, и вслед за ним это движение повторили все те, кто стоял рядом. Еще до полудня всадники были разделены на три группы и в таком порядке оставили Серахс, направляясь в степь для боевых учений. Впереди на белой лошади ехал Каушут-хан. Сотни глаз смотрели им вслед, и сотни губ молили аллаха о сопутствующей им удаче.
По всем приметам казалось, что зима 1854 года будет теплой, но, вопреки предположениям, она рано начала вступать в свои права. Вчера еще воздух был мягким и прохладным, а сегодня с утра земля покрылась твердой коркой, прошлогодние стебли обледенели и звонко потрескивали под конскими копытами. К полудню пригрело солнышко, но холодный ветер с севера оказался сильнее солнечных лучей. Предсказания стариков, что ожидается «двойная весна», не оправдались. И уже на следующее утро все увидели землю белой от выпавшего за ночь снега. Значит, в почве будет достаточно влаги, а в колодцах и арыках много воды. Надо было чистить главный арык, который тянулся от старой Серахской крепости до аула Горгора. Кроме него было еще множество более мелких, одни из них также надо было чистить, другие расширять, третьи в некоторых местах прокапывать заново. Словом, пришло время готовиться к весне. Поскольку среда считалась удачным днем, то именно в этот день и собрались люди, вооруженные лопатами, мотыгами и кирками. К старой крепости пришло до трехсот человек. Одни на лошадях и верблюдах, другие пешком. Боевой дух, царивший здесь, напоминал больше военные сборы, чем обычные работы по расчистке арыков. Было довольно холодно, но люди оделись легко, надеясь согреться в работе. Пока же запалили костры и грелись возле них по очереди. Когда огонь догорал, сверху кидали сырые дрова, и от них поднимался черный и едкий дым. Он тоже придавал сборищу зловещий, непривычный вид. Наконец раздался окрик: — Все по своим паям, расходись! Люди стали собираться в группы и покидать место сбора. А дым еще долго вился над опустевшей площадкой, словно пророча грозные события, ожидавшие страну впереди. Пай аула, к которому принадлежали Каушут, Келхан Кепеле, Дангатар и Ходжакули, начинался с того места, которое называлось «тамарисковой рощей». Ходжакули отмерил паи для тридцати своих аульчан и в конце каждого пая сделал в земле зарубки. Хотя это и называлось «тамарисковой рощей», тут давно уже не было никакого тамариска. Земля была покрыта пересохшим кустарником. Перед началом земляных работ надо было сжечь его и расчистить место. С подветренной стороны подожгли сухие кусты, и огонь весело затрещал в сушняке, потянуло дымом. Не только молодые ребята, но и пожилые бородачи по-детски радовались огню, вдыхали испокон веков тревожащий человека горьковатый дым. Вдруг из-за горящих кустов послышались крики: — Держи его! — Не упускай! — С той стороны заходи! Через огонь не пойдет! Все с любопытством стали глядеть в кусты. Ходжакули, стоявший к ним ближе всех, разглядел что-то, нагнулся и юркнул вперед, отворачивая голову от огня. Назад он вылез не один. В руках у него бился шакал, крепко схваченный за горло. Тут же выскочил неизвестно откуда Кичи-кел. — Брось его сюда. Сейчас устроим потеху! — Брось его, Ходжакули, божья тварь, пусть живет на свободе, — сказал стоявший тут же Дангатар. — А когда он дыни твои жрет, не жалко? Не пускай его, Ходжакули, я вам покажу представление! — Да что это тебе, обезьяна, что ли? — Сейчас увидите! Кичи-кел воткнул свою лопату в землю, снял черный кушак, осторожно подошел к Ходжакули и, не давая шакалу укусить себя, завязал ему глаза. — Пускай! А вы стойте тут! Ходжакули выпустил зверя. Тот упал, прижался к земле и закрутил очумело головой. Кичи-кел зашел сзади и закричал, подражая шакалу: — И-и-и-ий! Зверь бросился вперед и тут же наткнулся слепой мордой на подставленную кем-то лопату. Шакал отскочил в сторону, опять налетел на лопату, развернулся и сиганул назад… Но куда бы он ни тыкался, всюду его нос налетал то на кирку, то на лопату. Люди смеялись, даже Дангатар-ага, все время хмурившийся, развеселился. А когда шакал пошел на него, он сам выставил лопату и закричал: — А ну, пошел назад, рыжая морда! От постоянной беготни туда-сюда шакал совсем выбился из сил. Ноги его стали заплетаться, и кончилось тем, что он споткнулся, упал и так больше и не смог подняться с земли. Воодушевленный своим успехом, Кичи-кел сбегал куда-то, притащил узкую доску, положил ее на шею шакалу, придавил с обеих сторон ногами и развязал зверю глаза. — Ну ладно, хватит, поиграли. Эй, Келхан, скажи ему, пусть не мучает, — крикнул из толпы кто-то. — Если бы не надо было мучить, мы бы и не мучили, — ответил самоуверенно Кичи и стал покачивать доску из стороны в сторону. Шакал в предсмертной агонии зацарапал по земле задними лапами. Потом перевернулся, весь скрючился и просунул задние лапы между ног Кичи-кела. Кичи-кел для пущей потехи схватил его за лапы и потянул вверх. И тут из шакала вырвалась струя зловонной жидкости и ударила Кичи-келу прямо в лицо. Кичи-кел как полоумный отскочил в сторону. Люди вокруг корчились от смеха. — Вот это да! — Получил! Так тебе и надо! — Ох, вот уж точно, показал представление. — Так и обезьяна бы не насмешила! — Эй, Кичи, поздравляем с победой. Смотри, шакал-то подох! Кичи-кел протер рукавом глаза и ошалело огляделся. Увидев толпу смеющихся над ним людей, он повернулся и бросился прочь из середины круга. В кустах он нашел немного снега, вымыл им лицо, потом вытерся изнанкой халата. Так как делать больше было нечего, он поборол чувство стыда и поплелся обратно к своей лопате. Люди все еще продолжали смеяться, поглядывая то на победителя, то на дохлого шакала. К. толпе подошел Каушут. Первым делом он заметил красное лицо Кичи-кела и, еще не зная ни о чем, спросил: — Кичи, что у тебя с лицом? Простыть успел в первый день? — Нет, хан-ага, — смущенно ответил тот. — Какая там простуда! — А лицо красное? — Ничего… Снегом умылся. — То-то вижу, жар из тебя идет. Почаще бы снегом умывался! — Хан повернулся к остальным. — Может быть, пора и за дело? Каушут пошел к своей лопате и увидел дохлого шакала. — А это откуда? Ему тут же рассказали всю историю. Каушут рассмеялся и поглядел в сторону Кичи-кела, который нарочно раньше всех схватил свою лопату и уже спустился в арык. Все разошлись по своим местам. Последний участок достался Каушуту. По дороге к нему Каушута догнал Келхан Кепеле. — Хан-ага, вообще-то тебе лопатой копать не полагается. Ты должен наверху стоять, людьми командовать: «Ты так рой, а ты сяк!» Зачем в арык полез? Каушут поглядел на Келхана: — Да, брат, вот из тебя бы хан вышел! Келхан пожал плечами, повернулся и пошел к своему месту. Все взялись за работу. Каушут захватывал своей лопатой песка меньше, чем остальные, зато кидал его не за первую отметку, а сразу за вторую. Он держался за самый конец черенка, и движения его были ловкими и точными. Очистка арыков всегда превращалась в соревнование между ровесниками, старыми и молодыми, между одними аулами и другими. Победителем объявлялся тот аул, который закончит свой пай раньше других. Но существовало еще и личное первенство. Каждый старался изо всех сил вылезти первым наверх и сидеть там, вытирая лопату, пока остальные доканчивают свои участки. Но одна скорость еще ничего не давала. Старший мираб[55] арыка собственноручно проверял работу: глубину рытья, качество очистки, крепость берегов, которые не должны были ссыпаться на дно. Если хоть что-то не нравилось мирабу, хозяин участка должен был снова спускаться в арык. А это считалось большим позором. После такому человеку целый год не давали прохода. Стоило ему вставить на каком-либо сборище свое слово, как кто-нибудь из окружающих обязательно одергивал его: «Ай, ты бы сидел да помалкивал. Твои слова как твоя прошлогодняя работа на арыке». Каушут хоть и хорошо работал и выбрасывал землю за вторую отметку, все же его опередили два парня, первыми вылезли из арыка и уселись наверху. Но Каушуту было скорее приятно, чем завидно. «Хорошо, — думал он, — что у нас ребята такие растут». И, как нарочно, чтобы умерить его радость, к Каушуту, едва он вылез наверх, подскочил Кичи-кел. По лицу его сразу можно было догадаться, что он принес какую-то гадость. — Саламалейкум, хан-ага! — сказал он тихо и вкрадчиво. Каушут удивленно посмотрел на него: — Ты что, в самом деле заболел? — Нет, хан-ага, с чего вы взяли? — А зачем шепотом здороваешься? Да мы уж и виделись с тобой сегодня. — Ай, хан-ага, я решил еще раз поздороваться. — Ну это не так страшно, только приветствие не воруют, зачем же тогда произносить его шепотом? — Я хотел, хан-ага, другое сказать, более важное. Поблизости никого не было, и Каушут сказал: — Если у тебя секрет, то говори, не стесняйся, Кичи-бек, все останется между нами. Но Кичи придвинулся еще ближе и проговорил еще тише: — Хан-ага, только что один человек оскорбил тебя грязно, и я пришел сказать тебе. Каушут с улыбкой повторил движение Кичи, как бы готовясь посекретничать с ним. — Что же сказал он? — шепотом спросил хан. — Он очень плохо сказал о твоей сестре. Вот что. — А не унесли ли джинны его ум в пустыню? — Вах, хан-ага! — горячо прошептал Кичи. — Он не сумасшедший и даже очень видный парень. И не сдуру оскорбил тебя, а потому, что хотел оскорбить. Вон, посмотри, у арыка стоит. Видишь? — Вижу. — Вот он и есть, хан-ага. Каушут посмотрел на широкоплечего парня, очищавшего сухой веткой лопату. Кичи ожидал похвалы хана после такого известия. А Каушут, сощурив смеющиеся глаза, сказал: — Спасибо, Кичи-бек, за приятное сообщение. Кичи расплылся в улыбке. Но Каушут прибавил неожиданно: — Если такой парень станет нашим зятем, мы возражать не станем. Кичи опешил, собрался что-то сказать, но Каушут опередил его: — Думаю, что любой человек, уважающий хана, тоже не станет возражать. Не правда ли, Кичи-бек? Эти слова Каушута еще больше запутали Кичи. Он совсем забыл, что хотел только что сказать, и смотрел на хана с глуповатым недоумением. И хан решил перевести разговор на другое. — Ты закончил свой пай? — спросил он. Если сказать правду, значит, признаться перед ханом, что отстал от других, и все же, подумав немного, Кичи решил не лгать. — Нет, хан-ага, не совсем еще закончил. Каушут улыбнулся: — Тогда ступай заканчивать, а то этот галтаман и тебя может обругать. Кичи шел и раздумывал. Что же это за хан? Раньше, бывало, за такие слова парень бы голову положил на плаху, а теперь что? Или у этого Каушута шкура толстая, как черная кошма, или он в самом деле такой добрый? Непонятно. Закончив свою работу, из арыка вылез Дангатар. Он тяжело дышал и вытирал краем халата взмокшее лицо. Каушут крикнул Келхану Кепеле: — Эй, Келхан, а Дангатар-ага раньше тебя справился. Вот правду говорят: «Начнет старый игру — чертям тошно станет!» — Если б за это призы давали! — огрызнулся Келхан. — Подумаешь, первый! Скоро и я закончу. — Только умирать не надо раньше других, а во всем остальном, Келхан, старайся быть первым, — поглаживая бороду, не без гордости сказал Дангатар. Завершив послеобеденный намаз, Ширинджемал поставила перед собой большой чайник и две пиалы. Наполнила их одну за другой, потом развязала узелок на конце платка и достала оттуда кусочек набата[56], оглядела его со всех сторон, как будто видела первый раз в жизни, и только после этого положила в рот. Когда она заканчивала первую пиалу, в кибитку вошел Пенди-бай. — Саламалейкум! — поздоровался бай и остановился у порога. — Ой, Пендиджан! Вот счастье, что пришел! — затараторила старуха. — А ну, не стой на пороге, заходи, заходи, обнимемся! После долгих приветствий Ширинджемал усадила Пенди-бая на старенький коврик возле очага. — Как дела, как здоровье, Ширинджемал? — участливо осведомился Пенди-бай. Старуха пригладила свои волосы. — Спасибо, Пендиджан, благословение аллаху! Ай, ничего, дышим потихоньку. Шевелимся, пока еще времечко наше не вышло… А ты-то как? Пенди-бай взял пиалу, которую протянула ему старуха, и принялся разглядывать плавающие в ней чаинки. Потом поднял голову. — Тоже помаленьку. Вот решил сходить тебя проведать, а заодно и дельце небольшое есть. — Спасибо, спасибо, что старуху не забыл! Пусть аллах тебя благословит за это! — Она сделала несколько глотков и помолчала. — А дельце-то какое у тебя, если не секрет? — Какие же секреты от вас, упаси аллах! Хотел праздничек справить, если получится, конечно. — Ой, Пендиджан, что ты такое говоришь? Почему не получится? Все получится. — Омишалла! — День рождения хочешь справить, так, что ли? — Можно было бы и день рождения. Только вот у сына нашего есть дружок в соседнем ауле, он даже родственник наш. Так вот, пять лет назад мы женили его, а жена попалась никудышная. Уже два года, как не живет с ней, к родителям отправил. Скоро и развод у них… Хотим пристроить его получше. Мне-то, по правде сказать, дела большого до него нет, да вот жена с сыном пристали, прохода не дают: жени парня, и все! Подробности эти Ширинджемал не очень интересовали. Она считалась удачливой свахой, известной на всю округу, хорошо знала, что от нее требуется, и в излишние детали привыкла не вдаваться. И поэтому сразу же перешла к делу: — У кого были уже? Пенди-бай немного замялся. — Да были у этого, как его, Дангатара… — Тот, что из плена вернулся? — Ну да. Глаз которому вынули. — Знаю, знаю, хороший человек! — Старуха на минуту задумалась. — А дочка у него, кажется, Каркарон зовут? — Правильно, Каркарой. Я сам-то не видел ее, но говорят, все там на месте, и сама — скромная, работящая… — А я слышала, увезли ее прошлым летом… — Был грех. Что правда, то правда. Но она чистая вернулась, это мы узнали. — Да, да, да. И я так слышала, — быстро согласилась с ним старуха. — Так, значит, говоришь, ходили уже? Ну и что? — Да вот, в прошлую среду отправил я сватов… Все вроде честь честью… Да этот Дангатар уперся, точно хан Хорасана! Так и не смогли уломать! — Ну и дурень этот Дангатар! Где он найдет родственников лучше Пенди-бая? Не понимают люди своего добра. Счастье само в руки идет, а они еще ломаются! — Вот именно, Ширинджемал. Поэтому и решил я с вами посоветоваться. Мой-то совсем покоя не дает. Если, мол, не договоришься, силой ее возьмем. А я думаю, в своем ауле все же так не годится. — Не годится, Пендиджан, упаси бог! Ну а что же дальше думаешь делать? — Дело за вами, Ширинджемал. Если вам не трудно, сходили бы к этому Дангатару. У вас всегда получается. Ну а нет, так нет. Свет клином не сошелся на нем, и другую невесту найдем. — Уж это точно! Такому человеку любой рад будет. Старуха опять примолкла, потом спросила: — А что, Пендиджан, насчет выкупа говорили? Тут ведь дело такое, уважение уважением, а денежки получить всякий хочет. — А как же не говорили! Я сказал: будет торговаться, не скупитесь. Хоть по весу невесты готов золота насыпать. Лишь бы только люди не говорили, вот Пенди-бай ходил свататься, а ему отказали! Так что вы тоже не стесняйтесь в деньгах, сколько попросит, столько и обещайте. — Постараюсь, Пендиджан, постараюсь. Говорят, среда хороший день. Сегодня вроде вторник у нас. Прямо с утра завтра и пойду, после намаза. — Вот спасибо. Я уж отблагодарю вас, можете не сомневаться, Ширинджемал. А теперь пора мне, своих дел еще полно. Завтра мне и скажете, как там и что, буду ждать. — Будь спокоен, Пендиджан, постараюсь для тебя. До завтра. — До завтра. Пенди-бай нагнулся и вышел из кибитки. Ходжам Шукур целыми днями просиживал дома, Говорил, что болеет. На самом же деле не хотел показываться людям на глаза после своего позора. В один из дней, к полудню, он услышал, как кто-то крикнул за дверью по-туркменски, но с заметным акцентом: — Хан-ага дома? Хан вздрогнул. — Дома, входите. Но никто не вошел. — Входите, — повторил он, — я больной, не могу выйти. Дверь осторожно отворилась, и в кибитку вошел усатый голубоглазый перс. — Я от Апбас-хана. Наш хан хочет видеть вас. — Где же он? — Ждет вас у крепости. Ходжам Шукур подумал немного и ответил: — Хорошо. Скажи, сейчас иду. Когда Ходжам Шукур вышел из кибитки, он увидел перед крепостной стеной группу всадников. Сначала это встревожило его. Но как только навстречу ему вышел сам Апбас-хан с широкой улыбкой на лице и первый начал приветствие, Ходжам Шукур сразу успокоился. Он пожал руку гостю и пригласил в дом. — А что это у вас, хан, лицо такое хмурое? Может, случилось что? — спросил Апбас-хан, как только оба уселись друг против друга на дорогом ковре. — Да так, приболел немного… А вы как в наших краях? Не на охоту ли вышли? — Да как вам сказать… И на охоту, и заодно решили пленников своих обратно попросить. — Апбас-хан снова улыбнулся. Но в улыбке его можно было прочитать: «Добром не отдадите, силой возьмем». — Значит, вроде как в пословице: и к дяде едут, и заодно жеребца объезжают. Апбас-хан подумал, что Ходжам Шукур острословит, и решил не уступать противнику: — У нас, хан-ага, необъезженных нет. — Значит, уже всех объездили? Ходжам Шукур испугался, как бы Апбас-хан не разгадал его грубого намека, и поспешил отвлечь хана от опасной двусмысленности. — У нас в плену, хан, всего лишь один ваш человек. Можете хоть сейчас забирать его без всякого выкупа. Апбас-хан расценил поспешность Ходжама Шукура как трусость, тем не менее поблагодарил его и прибавил: — Видно, мы не вовремя явились, хан-ага, ваши люди ушли куда-то. Видно было, что Апбас-хан хорошо осведомлен о том, куда и зачем ушли текинцы. Да и Ходжаму Шукуру не хотелось ничего скрывать, главным образом из-за обиды на Каушута. Ненависть к нему заставила Ходжама Шукура быть предельно откровенным перед Апбас-ханом. — По слухам, — сказал он, — Хива собирается напасть на Мары, Апбаскули. И текинцы ушли на сборы, чтобы подготовиться к будущему сражению. Апбас-хан сделал вид, что это известие удивило его. — Текинцы хотят напасть на Хиву? Пах-пах-пах! — А чего им бояться! У них же теперь такой смелый вождь!.. — Как, разве не вы? А кто же? — Каушут-хан, Апбаскули. — А мы знаем его? — Должны знать. Он к вам ездил за нашими пленниками… Апбас-хан хлопнул себя по ляжкам. — О-го-го! Этот человек действительно отважен, хан. И у него хорошая голова на плечах. Ходжам Шукур нахмурился. — Если бы у него была хорошая голова, хан, он бы не отважился с пятьюстами никуда не годными воинами выступать против Мядемина. Апбас-хан молчал, но Ходжам Шукур распалился от своей злости на Каушута. — Он же погубит всех текинцев. Интересно, зачем сарыки навлекли на себя гнев Мядемина? Зачем они настроили себя против Хивы? Ведь Хива не принесла им никакого вреда, напротив, распространила среди них мусульманство. Эти слова не интересовали Апбас-хана, потому что он лучше Ходжама Шукура знал, с какой целью Хива старается удержать в своих руках Мары, с какой целью Мядемин идет на сарыков. И Апбас-хан не стал выслушивать Ходжама Шукура, а сказал о цели своего приезда. — В любом деле надо быть мужественным, хан. Мы пришли поохотиться за текинцами, как они часто охотятся за нами. Если есть желание помериться силами, выходите. Если нет, мы удаляемся, не обнажив своих сабель. Апбас-хан не ожидал, что Ходжам Шукур ответит на это с таким безразличием. — Я, Апбаскули, теперь в дела текинцев вообще не вмешиваюсь. Что они захотят, пусть то и делают. Теперь у них новый хан, человек горячий, но безмозглый. Если ты сегодня угонишь скот у его соседа, он завтра же с войском пойдет на тебя. Это я говорю тебе как соседу. Каушут действительно безмозглый человек. Апбас-хану понравились последние слова Ходжама Шукура. — Я тебе обещаю, хан, если этот человек ступит еще раз на иранскую землю, считай, в живых ему больше не ходить. — Апбас-хан вдруг улыбнулся и погладил свои усы. — Значит, безмозглый, говоришь? А где сейчас скот его аула пасется? А? Пусть йотом приходит со своим войском, мы рады будем встретить его. После некоторого молчания Ходжам Шукур поднял глаза на Апбас-хана и тоже улыбнулся. Это была первая его улыбка за последние несколько дней.
Утром, когда Каушут открыл глаза, он увидел прокопченные дымом перегородки туйнука. Иней осел на них затейливым узором, словно нанесенным искусной рукой мастера. Сквозь приоткрытую задвижку виднелось голубое небо. Оно было таким чистым и прекрасным, будто никогда не заволакивалось ни черным пороховым дымом, ни пылью из-под конских копыт многотысячного войска. Но Каушут знал, что на севере и на юге изготавливалось много пороху, заново подковывались лошади, чтобы снова в некий роковой час затмить это чистое и прекрасное небо Серахса. Зачем? Почему люди не могут жить в мире и согласии? И в его голове снова и снова встали во всех подробностях картины будущего сражения. Неизбежная битва казалась совершенно бессмысленной и непонятной. Обе стороны будут проливать кровь, рубить, сбрасывать друг друга с коней, затаптывать недорубленных безо всяких на то оснований. Чем больше он думал над этим, тем меньше радовали его и чистое голубое небо, и этот морозный узор на перегородках туйнука, и даже этот обманчивый покой. На душе было мутно и тревожно. Треск сучьев в очаге отвлек его от тяжелых раздумий. Столбик дыма закрыл отверстие туйнука, слизал иней с решетки и сам растаял без следа где-то за крышей кибитки. Каушут встал с постели, накинул на плечи дон и вышел во двор. Легкий морозец заставил его натянуть халат и опоясаться кушаком. В ауле стояла такая тишина, словно жители его вымерли или покинули свои жилища. И только старая верблюдица Келхана Кепеле, вытянув шею, смотрела куда-то на юг, словно пытаясь своим верблюжьим взором охватить весь открывшийся перед ней простор. Из кибитки Дангатара вышла Каркара. В руках у нее была тыква[57]. Каркара огляделась по сторонам, улыбнулась про себя чему-то, но, как только заметила Каушута, смутилась и даже выронила тыкву из рук. Каушут хотел было ответить на ее улыбку, но вспомнил, что девушка все еще страдает от своего несчастья, стесняется людей, и поэтому сделал вид, что не заметил ее. Каркара подняла тыкву и, не глядя больше по сторонам, побежала к коровнику. Каушут прошелся по своему ряду и увидел Келхана Кепеле. Келхан, видно, тоже только что встал и еще как следует не пришел в себя. Он широко зевнул на глазах у Каушута, прикрыл рукой рот, пробормотал «йя, аллах!» и только после этого заметил Каушута. — А, Каушут-бек, доброе утро! — Здравствуй, Келхан. Вы тоже благополучно проснулись? — Валейкум, Каушут… А что это на «вы» ко мне, как будто у меня дети и полный дом людей? Сам ложусь, сам и встаю… — А твоя верблюдица? Она ведь тоже встала! — А!.. — Келхан поглядел в сторону герблюдицы. — Эта уж, считай, отвставала свое, пора в Мары к мяснику вести. Где-то заржала лошадь, и появился новый повод для разговора. — Скачки скоро, — сказал Каушут, — как думаешь, кто победит? — Это уж как аллах даст. Не знаю, у нас джигитов много… Состязание должно было состояться через две недели у стен старой крепости. Собирались прийти наездники не только из Серахса, но и из многих аулов Теджена.’ Скачки проводились круглый год. Но зимой на них собиралось особенно много зрителей, потому что люди не работали в поле и имели много свободного времени. Со всех зрителей собирали деньги и покупали что-нибудь для победителей. А такие богачи, как Ходжам Шукур или Пенди-бай, делали особые пожертвования, назначали сами награды. Каждое состязание было особым праздником для туркмен. — …Да только нам призов не заработать, — продолжал со вздохом Келхан Кепеле. — Была одна кобыленка, и ту племяннички на молотьбу забрали. А когда отдадут, аллах знает! — А верблюдица твоя? Чего ты ее бережешь, думаешь, она тебе верблюденка еще родит? Пускай ее! Кто на чем хочет, на том и едет. — Это верно. Но я другого боюсь, а вдруг она приз возьмет, который Шукур заготовил для своей кобылы. Ведь сдохнет от злости! — Да нет, сдохнуть-то не сдохнет, а вот твою верблюдицу так проклинать начнет, что она протянет ноги. Смотри, тогда вообще ничего у тебя не останется! — Да подавись он своим призом и моим верблюдом! Каушут с Келханом дошли за разговором до конца улицы и остановились. — Ну что, может, зайдем ко мне, чаю попьем? — Да уж не знаю, хан, — заколебался Келхан Кепеле. Вообще-то он всегда был не прочь зайти к кому-то в гости, потому что скучал у себя дома один, но и показаться слишком назойливым тоже не хотелось. — Вон, смотри-ка, брат твой идет к тебе. Больно рано что-то. — Наверное, что-нибудь интересное во сне увидел, хочет рассказать, пока не забыл. Ну-ка пошли, растолкуем его сон. Келхан Кепеле вздохнул и согласился. Они нагнали Ходжакули, когдатот уже собирался войти в кибитку. Келхан Кепеле поздоровался с Ходжакули. — Пусть будет пророческим твой сон, — прибавил он с улыбкой. — Нет уж, Келхан. Ты раньше пришел к Каушуту, сперва твой сон растолкуем, а я согласен на очередь. — Ну и молодец ты, однако, — весело сказал Келхан, как бы признавая себя побежденным. Завтрак был уже готов и сачак расстелен. Хужреп с матерью пили чай. Ходжакули отодвинул чайник, поставленный перед ним. Каушут вопросительно взглянул на Ходжакули: — Что это значит? — Вы пейте. У меня к тебе небольшой разговор. — Ну, говори! — Каушут почувствовал, что брат чем-то недоволен, и насторожился. — Давай говори! Когда ешь и слушаешь, пища лучше переваривается. — А по мне, все равно, — Келхан отломил кусок лепешки и уселся поудобнее. — Боюсь, что разговор будет не из приятных, лучше поешьте сначала. После завтрака Каушут сказал: — Все. Теперь можешь начинать. Ходжакули раздражала словесная перепалка, вроде с ним играли в какую-то игру, и оба, Каушут и Келхан, как будто уже заранее посмеиваются над ним. — Слышал я один разговор, — сказал Ходжакули. — Верно ли это, Каушут? — И посмотрел на брата такими глазами, будто уличал его, по меньшей мере, в воровстве. Каушут не мог ответить на туманный и незаконченный вопрос. Что за слухи могли так взволновать брата? И, не припомнив ничего такого, что могло бы затронуть честь Ходжакули, переспросил: — Какой же разговор ты слышал, Ходжакули? В народе много разговоров, как в Мекке арабов. — А в Иране — гаджаров, — вставил Келхан Кепеле, проглотив последний кусок лепешки и подвинув к Хужрепу цветастый чайник. — Я вам не шут, Келхан! — Ходжакули гневно сверкнул глазами, потом перевел свой взгляд на Каушута, как бы говоря: «Это и к тебе относится». — О, братишка, ну скажи хоть что-нибудь толком, — не выдержал Каушут, потому что никак не мог понять причины такого раздражения. Ходжакули присмирел немного. — Говорят, ты опять собираешься в Иран. Правда ли это? — Правда. — А зачем? Каушут промолчал, и тогда Ходжакули снова спросил: — Может, гаджары угнали твоих овец? — Моих или не моих, какая разница? Есть и мои двадцать голов и твои — полтора десятка. — Ради моего скота можешь не делать ни одного шага в сторону Ирана. Не хочу, чтобы и за своими ходил. — Почему не хочешь? — Ты уже один раз был там, сделал дело. Теперь пускай другие сходят. — Но ведь меня люди назвали вождем своим! Ходжакули махнул рукой: — Оставь ты это, брат! Тебя уже один раз втравили в это дело, чудом вернулся, скажи спасибо. И раньше заставили идти в Мары резать невинные головы. И оттуда ты вернулся, а кровь пролил невинных людей. Теперь хватит! Чем к гаджарам идти, выпрашивать паршивых овец своих, лучше отправляйся в Каабу[58], искупи там свои грехи. Это будет лучше и для тебя, и для нас, и для людей. — У меня нет грехов, которые надо искупать в Каабе, Ходжакули! Ходжакули снова перебил Каушута и вспомнил стычки десятилетней давности. — Разве ты не виноват за кровь, пролитую в Мары? Или это я виноват? Или эта кровь записана на тебе не как грехи, а как искупление от них? — Это не вина Каушута, Ходжакули, — вступился за хана Келхан Кепеле. — Тогда чья же она? — Это вина грабителей мирного народа. — На том свете не с грабителей спросят, а с вас. Вы же догнали их и навязали кровопролитие. Вы наступили на хвост лежачей собаки. Келхан усмехнулся. Ходжакули заметил усмешку, резко встал и пошел к выходу, но потом снова вернулся назад, словно забыл еще что-то сказать. — В Серахсе, Каушут, кроме тебя есть мужчины, носящие папахи. Каушут долгим взглядом остановился на младшем брате. Губы его тронула улыбка. — Те мужчины, Ходжакули, только под боком у своих жен мужчины. А когда до дела доходит, им ничего не стоит поверх своих папах и бархат накинуть. — Я не говорю, чтобы ты бархат на голову накидывал, Каушут. Мужество, честь и отвага — это хорошо! Если ты станешь Хазретом Али[59], будет еще лучше, я буду рад. Теперь хочу сказать только одно — не суйся туда, куда не следует. — Нет, Ходжакули, я не Хазрет Али и не Кероглы[60]. Но ты же видишь, что аул остался без скота. Все угнали. Если сегодня оставить так, завтра начнут угонять наших дочерей, прямо из дома. Тогда ты что скажешь? Ходжакули опять повысил голос: — Ты не учи меня уму-разуму! Ты лучше не ходи к гаджарам! — Нельзя не идти, Ходжакули, — тихо, почти виновато ответил Каушут. — Нельзя не идти. Ходжакули принял воинственный вид: — Тогда придется тебе переступить через мой труп. Пока я жив, — ты не только не поедешь в Иран, но даже не посмотришь в его сторону. — Через твой труп нельзя переступать, Ходжакули. Но если надо ехать, значит, надо. И не только к Апбас-хану, но понадобится, и в Газмин[61] поедем. Ходжакули сказал свое последнее слово: — Тогда мы с тобой не братья, рожденные от одного отца. Можешь считать, что ты один, меня для тебя нет. Каушут успел ответить Ходжакули, уже переступавшему порог: — Если человек, имеющий такого брата, как ты, станет говорить, что он от отца родился один, ему не поверят ни бог, ни люди. Ходжакули ушел. На следующий день, в среду, Ширинджемал-эдже, как и обещала Пенди-баю, отправилась после обеда к Дан-гатару. Дома была одна Каркара. Она сидела в углу и латала старую одежду. — Здравствуй, доченька, — ласково начала старуха, — как здоровьечко, как братец твой? — Спасибо, хорошо. — А где отец? — Там, за сараем домолачивает. — У меня дело к нему. Ты бы послала кого-нибудь из ребятишек за ним, поговорить надо. Каркара молча поднялась и вышла из кибитки. Не прошло и минуты, как появился Дангатар. — А, ты и сам пришел. Говорят, у кого душа открыта, тому и путь открыт. А я уж Каркару за тобой послала. Все живы, все здоровы? — Слава богу! А вы как? Как ваша старость? — спрашивал Дангатар, снимая ичиги. — Пока аллах милует, Дангатарджан. Шевелюсь помаленьку. Дангатар смотал портянки, собрал набившиеся в них зерна и сказал Каркаре: — Возьми, дочка, поди высыпь в мешок. Каркара подставила свои ладони, потом нагнулась, чтобы поднять несколько упавших на пол зерен. Все это время старуха не спускала с нее глаз. «А девушка хороша стала, — думала она. — Они, видать, не дураки, знали, на кого глаз положить. И что церемониться, надо было хватать, да и все!» Каркара наконец все подобрала и вышла из кибитки. А Дангатар поставил свои ичиги к порогу и сел на кошму. — Ну и хорошо, Ширинджемал-эдже, что шевелитесь. Главное, чтобы всем на этом свете легко дышалось. Ширинджемал тем временем думала, как бы половчее подобраться к сердцу Дангатара. Она верила в поговорку «ласковое слово и змею из норы вытащит», всегда старалась сперва войти в расположение к своим клиентам. Сейчас она вспомнила жену Дангатара и решила завести речь о ней. — Вспоминаю я бедную Огулхесель, Дангатар. До чего же я любила ее. Давай, уж раз мы встретились, прочти аят в честь нее. — Нет, уж коли так, то лучше вы, Ширинджемал-эдже. Я-то человек неграмотный, а вы учились у муллы, вам и надо аят прочитать. — Что ты говоришь, Дангатарджан! Я ведь женщина, а женщина, пусть даже всю мудрость знает, все равно, если в доме есть хоть семилетний мужчина, товир не может поднимать. Прочтите вы, ваша молитва аллаху угоднее будет. Дангатар поднялся с места, прошел в дальний угол, подстелил под колени сачак из верблюжьей шерсти, склонил голову и прочел те немногие молитвы, которые знал. После этого поднял к небу руки. Ширинджемал сделала то же. — Пусть попадет она в рай! Пусть будет светлым то место, где она лежит! — Старуха тяжело вздохнула и продолжала: — Ах, Дангатар! Когда тебе за семьдесят, только и остается, что думать о других. Сама-то никуда не годишься. И сесть, и встать тяжело, а уж когда встанешь, уже и обратно-то сесть не можешь. Аллах видел, как я радовалась, когда узнала, что ты вернулся. И смеюсь, и плачу, старая дура. Только уж сил к тебе не было прийти, хворая была… — Да что вы, Ширинджемал-эдже, будет вам! — только и сказал Дангатар. Он никак не мог понять, чем вызвал такую любовь старухи, с которой раньше вообще-то был довольно мало знаком. «Ну и язык у нее, один мед, — думал он. — Вот кого надо было с Каушутом посылать к Апбас-хану за скотом, эта бы любого заговорила!» — Но это ничего, Дангатарджан, праздник никогда не стареет. Вот вернулся ты благополучно, и для всех радость. Поздравить никогда не поздно. Поздравляю тебя. Видно, бог не возлюбил тебя и обрек на такую разлуку. Дангатар призвал на помощь всю свою учтивость и ответил: — Что ж, наше дело терпеть, что нам аллах посылает. И вам спасибо за вашу доброту. Ширинджемал поняла, что теперь самое время заговорить про Каркару. — И дочка, я смотрю, такая красавица стала у вас! Замуж-то отдавать не собираетесь? — Да нет, как-то еще не думал пока. — Зря, зря, о таком деле лучше заранее подумать, чтоб жениха хорошего приглядеть, а не какого-нибудь. Вот, слышала я, Пенди-бай к вам сватов посылал… Это хорошо, что вы сразу отказали. Пусть не думает, что раз богач, так сразу все ему, в один миг готово. Но, по правде сказать, сватает-то он за хорошего человека, родственника своего, я его знаю, парень хоть куда! Да и Пенди-бай сам не поскупится, сколько попросите, столько и заплатит. Он мне говорит: «Я хоть на вес невесты золота насыплю…» Теперь только Дангатар смекнул, к чему так издалека подбиралась Ширинджемал. Стараясь не обидеть старуху, он осторожно ответил: — Тут дело такое… Подумать надо. Я ведь только пришел, еще вроде и не разобрался, что к чему. — А что думать! Дело-то хорошее. Да и подумайте, зачем вам ссориться с Пенди-баем. Всякий знает, богача лучше своим другом иметь, чем врагом. — Эх, я уж ничего не боюсь. Аллах мне столько послал, что уж ничего хуже, думаю, не будет. Разговор продолжался еще много времени, но в этот день Ширинджемал так и не удалось уломать Дангата-ра. Но старуха не теряла надежды. И когда уходила от Дангатара, так же ласково попрощалась с ним и спросила позволения прийти проведать его еще раз. Богатый подарок от Пенди-бая, на который она рассчитывала, не давал ей покоя. Но сегодня она решила не заходить к баю, чтобы зря его не расстраивать. Вместо этого Ширинджемал направилась к Сейитмухамед-ишану, рассчитывая получить от него какую-нибудь помощь в своем деле. Когда Ширинджемал подошла к кибитке Сейитмуха-меда, ишан, заложив руки за спину, прохаживался чуть поодаль, возле виноградника. Хозяин и гостья не заметили друг друга, Ширинджемал вошла в кибитку, но тут кобель, лежавший до этого возле конюшни, поднялся и лениво забрехал. Ишан понял, что пришел кто-то чужой. В кибитке была биби[62] Мерьем. Ширинджемал с воодушевлением принялась ее приветствовать, обняла, как это принято между хорошими подругами, тем временем вошел и сам Сейитмухамед, поздоровался и уселся на своем полосатом коврике. Сперва заговорили о последних новостях, пересказали, кто чего слышал нового в мире. Сейитмухамед вздохнул тяжело и обратился к гостье: — Если я не прав, то пусть аллах простит меня, Ширинджемал-эдже, но мне кажется, что приближается конец света! — И не говорите, отец ишан, ваша правда. И пришлось же нам увидеть на старости лет, чего не дай бог никому! Времена-то, какие времена пошли! Как тут жить, когда старших за старших уже не почитают, а младших за младших не признают! В самом деле, конец света! И воров-то в аулах развелось — видимо-невидимо! — Верно, верно говорите, Ширинджемал-гелин, — подтвердил ишан и легонько закашлялся. Ширинджемал, к имени которой прибавили слово «невестка», сразу приободрилась. Она, как и все, тоже была когда-то невесткой, но этим именем уже давно никто не называл ее. И теперь она сразу почувствовала себя так, точно ей снова стало двадцать пять. Она улыбнулась и невольно захотела пригладить свои волосы, но едва дотронулась до них, как тут же почувствовала, что это уже не волосы молодой женщины, а что-то ветхое, почти чужое, давно отжившее свой век. И ей сразу стало грустно. А ишан продолжал: — Конец всему, конец! Теперь из-за этих негодяев и возле дома ничего нельзя оставить. У Кертика-хаджи, бедняги, одна лошадь всего была, все скачки ему выигрывала. Увели! Прямо со двора! А ведь такой человек был, мухи не обидит, ничем аллаха не прогневит! Да им разве до этого есть какое дело! Нечестивцы, ни на грош святого не осталось!.. — Ишан-ага, — перебила его Ширинджемал, — но ведь всемогущий сам должен наказывать тех, у кого грязные руки! Или это не так? — Ой, ой, Ширинджемал-гелин, что вы такое говорите! Конечно, накажет, всех накажет на том свете, все они будут на вечном огне гореть!.. — Верно, верно, — подтвердила биби Мерьем, все время молчавшая до этого. — Отец ишан, на этом свете грязных дел становится все больше и больше! Вот у нас… — она запнулась, потому что не могла вспомнить никакого примера, однако тут же выдумала его из головы. — Вот у нас тоже двоих поймали, прямо во дворе, хотели у бедняка увести корову… Дальше Ширинджемал побоялась говорить, она вдруг подумала, что такой могучий ишан, как Сейитмухамед, обязательно уличит ее во лжи, и тогда ей будет стыдно. Но страх ее был напрасным, ишан ничего не заметил. — Да, когда воруют скот, хоть это и несчастье, но все-таки не самое тяжкое. Можно даже посчитать, что украденное животное — это принесенная тобою жертва аллаху ради здоровья других людей. Но вот я слышал, недавно украли у одного человека, тихого и скромного, по имени Дангатар, взрослую дочь. Да мало того. Когда первый раз ее отбили, украли во второй. Вот тут уж настоящее горе… Просто страшно стало в наше время невесту в доме иметь… Был такой человек, звали мулла Мамедвели[63], вы слышали, наверное, Ширинджемал-эдже?.. — Знаю, знаю его, отец ишан. — Это который бедняком совсем умер? — вставила биби Мерьем, чтоб только поучаствовать в разговоре. — Ну да. Умер он, кажется, года четыре назад. Вот он такие слова говорил: «Выросла девушка в доме — каждый прохожий тебе враг». Выходит, прав был покойник. Ширинджемал очень обрадовалась, что ишан сам вспомнил о Дангатаре. Это был удобный случай приступить к делу, ради которого она и пришла. — Отец ишан, а вы сами знали этого Дангатара? — Наверное, видел, только не помню сейчас в лицо. — Пенди-бай хочет с ним породниться, сватает его дочку. — Ну, аллах ему в помощь! Пенди-бай хороший человек. Настоящий мусульманин, и веру почитает, и ишанов. — Но Дангатар не хочет, отец ишан. — Да? Чего же он хочет? Где найти свата лучше Пен-ди-бая? — Вот и я ему то же самое говорю. А Пенди-бай теперь сам не свой. Чтобы в таком деле ему отказали! — Ну, это ясно. — Вот я и пришла вас попросить. Вы ведь, отец ишан, все можете. Помолите аллаха, чтобы он заставил Дангатара согласиться. Сейитмухамед вдруг прикрыл глаза и стал тихонько смеяться. «Ну и хитрая сватья, — подумал он. — Хочет и ишана, и самого аллаха в свои дела запутать!» Старуха насторожилась. Ей показалось, что ишан заметил всю ее ложь и хитрость, и даже щеки ее слегка покраснели. — А что это вы так смеетесь, отец ишан? — Ай, вспомнил историю одну. Этот ответ вроде немного успокоил ее. Она еще раз внимательно посмотрела в лицо ишана и решила про себя, что все-таки не такой он великий, чтобы видеть все насквозь. — Интересно и нам послушать, какая история. Ишан перестал смеяться и слегка прокашлялся. — Отец наш был очень сильным муллой. Звали его Рахим-ишан, Ширинджемал-элти. Но даже по имени его редко кто называл, а больше называли «Ишан с поводырем». — У него и люлька в доме сама качалась, — добавила биби Мерьем. — Да, это верно, Ширинджемал-гелин. — Мы тоже слышали про такое. Говорят, что это означает особое благословение аллаха над домом. — Ну так вот. А прозвище свое он получил потому, что у него был поводырь от аллаха, который показывал ему всегда дорогу. Поэтому Рахим-ишан даже в самую темную ночь ходил так же легко, как днем. Один раз, да будет светлым то место, где он лежит, отец сидел возле кибитки и перебирал четки. И в это время подходит к нему одна женщина, молодая еще, все косы в украшениях. Отец с ней поздоровался и говорит: «Гелин, входите в дом, хозяйка там». Но женщина ему отвечает, даже не прикрывая рта: «Отец ишан, я не к хозяйке пришла, а к вам. Я хочу, чтобы вы дали мне один амулетик». Так и сказала: «амулетик». А это большое кощунство! Называть его так — значит занижать могущество священной вещи. Но отец виду не подал и спрашивает: «Какой же вам нужен амулет?» — «Какой? Я молоко взбиваю, а масла мало выходит. Вот дайте мне такой, чтобы масла было много». Отец ей говорит: «Дорогая, но на молоко никакие амулеты не действуют!» Тогда она опять начинает кощунствовать: «Что же это ты за ишан, если даже на маслобойку не можешь подействовать!» Отец тут разозлился и ответил ей такими стихами:
Ох, противная лягушка, Хочешь ты для масла амулет? Лучше ты ложись попозже И пораньше чуть вставай. Лишних сделан шесть ударов, Вот тебе и амулет!
Так он сказал ей, Ширинджемал-элти. Так и в книге написано: «На нынешних гогов и магогов никакие амулеты не действуют». Последние слова ишана Ширинджемал совсем не поняла. Она смотрела на Сейитмухамеда, надеясь получить ответ на свою просьбу. Но, закончив свой рассказ, он замолчал, всем своим видом показывая, что говорить больше ни о чем не собирается. Ибо в этом рассказе и было все, что он хотел сказать свахе.
Прошло девять дней с тех пор, как Каушут со своими людьми отправился к гаджарам, чтобы вернуть обратно угнанный Апбас-ханом скот. Их долгая отлучка уже вызывала тревогу. Времена были такими, что можно было ожидать всего. Язсолтан совсем потеряла покой. По ночам она то и дело просыпалась, разбуженная ревом ишака или ржанием лошади, вскакивала на ноги и не могла заснуть. На девятый день ей приснился страшный сон. Она увидела Сахата, одного из соседей, ушедших с Каушутом, он стоял без папахи, а рядом с ним — сам Каушут, в одном башмаке. Лица у обоих были грустные. И вдруг, ни с того ни с сего, голова Каушута упала с плеч и покатилась по земле. Язсолтан проснулась с колотящимся сердцем. Она тут же решила испечь семь лепешек в жертву Серахс-баба и три раза подряд прочитала молитву Кулхуала. Потом Язсолтан собралась пойти к Ходжакули, узнать, нет ли каких новостей, но сообразила, что еще слишком рано и, если она придет в этот час, может встревожить брата. Тогда Язсолтан сама попыталась побороть свой страх. «Ай, это сон от дьявола. Это он нарочно послал такой сон, чтобы запугать меня. Но я ему не поверю». Однако эти утешения не очень-то подействовали. Она решила, как только взойдет солнце, сходит к Бостантач-эдже, которая хорошо разгадывала сны. Призвав на помощь аллаха, Язсолтан снова положила голову на подушку. Но ей не спалось. Да и боялась уснуть: а вдруг этот страшный сон снова придет к ней. Она лежала с открытыми глазами и ждала, когда раздастся «Аллахи акбер» Сейитмухамед-ишана и наступит новый день. А когда взошло солнце, Ходжакули сам пришел к ней. Он поздоровался и остановился в дверях. Лицо его было печальным. Язсолтан не начинала первой разговор, боялась разозлить этим Ходжакули. Но он заговорил сам: — Гелендже, если Каушут и на этот раз воротится целым… — Ходжакули вдруг спохватился, увидев, как задрожала при его словах Язсолтан. — То есть я не хочу сказать, что его уже убили, я даже уверен, что он вернется. — Ты слышал что-нибудь, Ходжакули? — перебила его Язсолтан. — Да нет, ничего… Но я хочу сказать, что если Каушут и дальше не успокоится, то я соберу свои вещи и уеду отсюда. Аллах не даст с голоду умереть, найду себе кусок лепешки если не в Ахале, так в Мары. Это лучше, чем сидеть всю жизнь как на иголках! И куда он лезет! Как будто только его скот угнали! Вот погоди, дождется он, покатится его черная голова с плеч долой! — Не говори так, Ходжакули! Не говори про черную голову! И откуда только тебе на ум приходят такие слова! Но Ходжакули разошелся и не слушал Язсолтан. — Откуда? Оттуда, что я не слепой и не глухой. Многим уже эта голова не дает покоя! Сколько они в Мары чужих голов поотрезали? Знаешь? А кто начал? Твой муж, Каушут. А ведь нет ни одной головы, за которую не будет спрошено. Если человек и простит, то аллах-то не простит. И мы все будем тоже за эту кровь отвечать. Только, я думаю, до аллаха дело не дойдет. Люди сами отомстят. Мне вчера один хивинец у Ораз-хана сказал: «Смотрите, будет скоро у вас большая беда!» — Какая беда, Ходжакули? — А такая, что Мядемин собирается вот-вот напасть на нас. Всех, говорит, вырежу, до последнего, и детей, и стариков. Вот чего твой Каушут добился… Язсолтан не знала, что отвечать. В душе она соглашалась с Ходжакули. Только она не верила, чтобы Каушут мог сам резать головы. Действительно, она заметила, что глаза у Каушута после похода в Мары изменились. Но она думала, что это от усталости, от вида крови, проливаемой другими. Ходжакули же выставил самого Каушута каким-то кровожадным разбойником, в котором Язсолтан не могла узнать мужа. Ходжакули несколько минут говорил еще что-то в том же роде. Потом повернулся и ушел, обиженный и рассерженный на старшего брата. Язсолтан еще долго думала о Ходжакули и своем муже. «Вот два человека, два брата, — говорила себе она. — Этот живет себе спокойно, ни во что не вмешивается. И никто не ругает его за то, что он не садится, чуть что, на коня и не едет то спасать пленников, то защищать каких-то сарыков… А в моего точно бес какой-то вселился…» Язсолтан действительно стала подумывать, что у Каушута помутился разум. И она решила: если на этот раз он вернется живым, то больше никогда его никуда не пустит. Солнце поднялось уже высоко, и Язсолтан отправилась к Бостантач-эдже, жене Непес-муллы. На улице было не слишком холодно. Иней, выпавший за ночь, растаял, и с земли поднимался легкий пар. Радостно прыгали на обочинах дороги жаворонки. На деревьях, росших по краям арыка, еще держалась белая изморозь и под ярким солнцем придавала им особенную красоту. Кусты прошлогоднего янтака и чети были тоже в инее и издалека казались покрытыми белыми цветами. Бескрайняя степь дышала легко. Дойдя до черной кибитки, Язсолтан услышала голос Непес-муллы, который занимался с ребятишками. Мулла объяснял, как ведется летосчисление. — Первый год — мышь, потом корова, барс, заяц, рыба, змея, баран, лошадь, обезьяна, собака, свинья… Мальчишки хором повторяли за муллой. Язсолтан приподняла полог и поздоровалась с Непес-муллой. — Элти в хибаре, — ответил мулла, — идите туда. Язсолтан опустила полог и вышла. Когда она вошла в хибару, там никого не было. Но по традиции она сказала свое «Саламалик!» и села на кошму. Через минуту появилась и Бостантач-эдже. Женщины поздоровались. — Ну, как твой муж, еще не вернулся? — Ай, Бостан-эдже, не вернулся! Он-то уехал, а мы тут остались волноваться за него! Что-то больно долго его нет!.. — Старые люди знаешь как говорили? Моли, чтобы юноша, ушедший по делу, задержался. Ибо если задержится он, значит, дело свое сделает. — Бостантач достала шерстяной сачак и положила его перед Язсолтан. — Бери хлеб, ешь. А за него не волнуйся. Язсолтан, поверившая в пророческий дар старухи, серьезно спросила у нее: — Но они хоть здоровы, Бостан-эдже? — Здоровы, слава богу, здоровы. Язсолтан развернула сачак и отломила от лепешки. Бостантач хотела было снять висевший в углу кувшин с маслом, но гостья остановила ее: — Нет, нет, спасибо, пусть он там висит. Я уже поела, можно и товир поднять. Язсолтан быстро дожевала хлеб, ей не терпелось рассказать старухе свой сон и услышать его толкование. Как только товир был поднят, Язсолтан опустила голову и, волнуясь, начала: — Бостан-эдже, я к вам пришла… Я хотела… Мне сон сегодня приснился, хочу, чтобы вы растолковали его. — Да будет его разгадка истинной и счастливой! Говори, Язсолтан! И Язсолтан принялась рассказывать. Бостан-эдже терпеливо дослушала до конца и ничего дурного в пересказе сна не увидела. — У Сахата голова раскрыта потому, что его скот тут, дома. А у Каушута упала голова… — Почему? Что это значит? — Это значит только то, что хотя Каушут и там, но голова его и мысли здесь. — Но почему же у них лица такие печальные? — Потому что они устали с дальней дороги. И вообще, мне кажется, что они где-то близко… — Ах, Бостантач-эдже, может, аллах услышит ваши слова! — Вот увидишь, милая, мне сердце говорит, придешь домой, а Каушут уже там. Язсолтан от всего сердца поблагодарила Бостантач-эдже за хорошие слова. В этот раз они оказались и в самом деле вещими. Каушут и его спутники действительно были уже у дома. Но Язсолтан увидела своего мужа только вечером, потому что по дороге он остановился у Ораза-оглы, с которым надо было обсудить важное дело. Скот они не привели, но для Язсолтан было главным, что все вернулись живыми и здоровыми.
К Дангатару все чаще и чаще приходили сваты. Хотя Каркаре и не полагалось знать, о чем разговаривают мужчины, но она, как, впрочем, и весь аул, не могла не догадываться о причине этих посещений. Слухи расползались быстро среди людей, докатывались они и до несчастной Каркары. «Парень у нас хороший, скромный, — хвалили все на один лад своих женихов. — Вашей дочке будет с ним хорошо». А «парню» редко бывало меньше чем за тридцать, да каждый еще имел в придачу двух-трех детей. Все прекрасно понимали, почему за Каркару сватают только вдовых и разведенных. Хотя честь Каркары и не была тронута, на ее имени лежало черное пятно, из-за которого девушка считалась невестой хуже других и не могла надеяться получить себе в мужья молодого парня. Каркара понимала это и сама. Но ведь она любила Курбана и, пока была хоть самая маленькая надежда, не оставляла мысли о том, чтобы связать свою судьбу с его судьбой. Эта надежда, как лучик света, расцвечивала последнее время все ее темные и однообразные дни. Если бы только знать ей, что Курбан любит ее так же, как она его! Иногда она думала: «Честь Курбану будет дороже меня. Сколько сразу пойдет толков и пересудов, если он женится на такой девушке, как я. Наверное, он теперь меня и не любит!» Но потом приходили и другие мысли: «Если бы он не любил меня, разве пошел бы за мной пешком в Хиву? Я еще ни разу не слышала, чтобы так искали украденную девушку, будь у нее даже семь здоровых братьев! Значит, он меня любит, раз не смог усидеть дома». Но мечты были мечтами, а жизнь жизнью. Покуда Каркара думала о Курбане, Дангатар приглядывал ей жениха из числа тех, за которых сватали. И один старик в белой папахе, кажется, уже успел больше других завоевать его расположение. Он ездил уже третью неделю. Еще вчера, когда сват седлал свою кургузую кобылу, лицо его хмурилось, а сегодня глаза старика уже повеселели, потому что Дангатар провожал его теплее обычного. Каркара заметила это, и ей захотелось подбежать к белой папахе и сказать: «Яшули, вы зря к нам ходите, я не могу выйти за вашего жениха, потому что я уже обручена». Но обручена она была только в своих мечтах, на самом же деле между ней и Курбаном даже не было еще сказано и слова обо всем этом. А Дангатар, похоже, в самом деле уже был готов дать согласие белой папахе. Желая по-своему добра единственной дочери, он хотел поскорее пристроить ее, чтобы покончить со всеми сплетнями и кривотолками, ходившими вокруг ее имени. Каркара чувствовала, что вот-вот, не сегодня завтра, приедет со стариком какая-нибудь женщина с седыми волосами и ласковой речью, улестит окончательно отца, и всем ее надеждам придет конец. Каркара решила, хоть это и было ей ужасно стыдно, во что бы то ни стало переговорить еще до последнего отцовского слова с Курбаном. Потому что медлить больше нельзя. И если случится так, что он откажется от нее, тогда ей будет уже все равно, за кого выходить замуж, хоть даже за самого старика в белой папахе. Вечером того же дня Дангатар стал собираться куда-то. Сердце подсказывало Каркаре, что он идет говорить о ней, и она решилась на отчаянный поступок: выследить, к кому он пойдет, и подслушать весь разговор, чтобы уже точно знать, что ее ожидает и как ей быть дальше. Когда отец вышел из кибитки, Каркара выскользнула следом за ним и пошла в том же, что и он, направлении, стараясь не потерять его в темноте, но и самой не быть обнаруженной. Дангатар свернул к кибитке Келхана Кепеле. Каркара на минуту остановилась в нерешительности. Сердце ее стучало, она чувствовала себя совсем не такой, какой была прежде. То, что она сейчас делала, совсем не укладывалось в ее голове. Расскажи ей, что так поступала другая, она бы ту девушку обозвала самыми последними словами. И если кто-нибудь обнаружит ее здесь, это будет великим позором не только для нее, но и для всей семьи. Но что делать! Самые близкие люди — отец, Ораз — были сейчас для нее не ближе одного человека, которому и принадлежало все ее сердце. «Наверное, я просто сошла с ума», — подумала вдруг Каркара. Но это было не так. Просто она любила, и любовь властно ее вела за собой, как во все времена, во всех землях ведет за собой лучших парней и девушек. И путь этот, если взглянуть со стороны, всегда в чем-то один и тот же, неизменен и стар, как само время. Лишь для одной Каркары и это время, и этот извечный путь были новыми. Они-то и привели сейчас Каркару к кибитке Келхана Кепеле. Ведь тут никакие запреты, никакие мысли о долге и приличии не способны остановить любящее сердце. Подслушивать мужской разговор, да еще о собственном сватовстве, — на такой страшный грех могла решиться только та, кто сильно и по-настоящему любит. Не чуя под собой ног, Каркара подобралась к самому пологу и осторожно заглянула в маленькую щелку. В кибитке было светло от горящего очага, ясно виделись лица Дангатара и Келхана Кепеле, и сквозь потрескивание огня отчетливо доносились слова. — Спасибо, не надо подушку, и так весь день пролежал, — говорил Дангатар. — Ну тогда сиди. Я чувствую, ты о чем-то поговорить хочешь, не стесняйся, начинай. — Верно. Откуда ты знаешь? — Ну, что ж тут знать! Я уж вижу, у твоей кибитки все время одна и та же лошадь, да не из нашего аула. — Правильно ты заметил. — И белая папаха все время одна… — Да, и тут ты прав. Вот про нее я и хочу поговорить. — Понимаю, Дангатар. — А раз понимаешь, то что объяснять? Дело такое, взрослая дочь — считай, ломоть отрезанный. — Ну, а раз так, надо поскорее ее пристраивать. — Вот и я о том же думаю. — Так кто же это белая папаха? — Я и сам хорошо не знаю. Знаю, из бурказов[64] он. — Из бурказов? — Да, бурказ. — Ну что ж! Бурказы тоже туркмены, беды никакой нет! — Это так, да знаешь, какое тут дело… — Знаю, знаю все, Дангатар. — Тогда помоги. Надо же скорее все закончить. — Какая же тебе помощь нужна от меня? Ты знаешь, я все сделаю, что смогу. — Да вот, думаю я, как бы там ни было, а все равно лучше наперед узнать. Оно, конечно, все от аллаха зависит, но и своими руками в огонь толкать тоже не хочется. — Да ведь это не от твоих рук зависит. — Вот я потому к тебе и пришел. Ты все-таки много ходишь, у тебя знакомые везде, вот бы получше и разузнал. — Ну что ж, если из бурказов, то, может, я и так знаю… Как его зовут-то? — Кого, белую папаху? — Нуда. — Вельмамед Букур. — Не Вельмамед-следопыт, случаем? — Он самый. — И кого он женить хочет? — Младшего брата своего. — Халмамеда? — Ну да, правильно. — Ну, если это тот Халмамед, которого я знаю, то у него трое детей должно быть, если даже не четверо. А на это как ты смотришь? При этих словах Каркара пришла в ужас. Она стала молить аллаха, чтобы он заставил сказать Келхана Кепеле: «Нет, Дангатар, это не годится. Ты же не можешь свою дочку отдавать за такого человека!» Но аллах не услышал просьбу Каркары, и Келхан Кепеле ничего не сказал. Дангатар тоже на минуту замолчал. Но его, кажется, ничуть не смутило сообщение о детях жениха, он думал о чем-то другом. Через некоторое время Келхан Кепеле сказал: — Ну хорошо, Дангатар, чтоб уж никакой ошибки не было, я сам завтра схожу к бурказам, а вечером вернусь к тебе и все расскажу. Слова эти можно было понять так: «Я и без того знаю этого человека, но, раз уж тебе так хочется, схожу и все проверю лишний раз». Каркара сразу представила себе человека, за которого ее хотят выдать, и еле сдержалась, чтобы не зарыдать во весь голос тут же, у полога чужой кибитки. — Сделай милость, Келхан, — ответил Дангатар. — А то у меня и пойти больше не к кому. Ты знаешь, еще Каушут, но он слишком занят, неловко его просить. — Сделаю, сделаю, Дангатар, не беспокойся, все будет, как договорились. Больше Каркаре было нечего подслушивать. Она узнала все, что хотела. Слезы застилали ее глаза. Она повернулась и пошла прочь от кибитки, но пошла от волнения не в ту сторону и заметила это только у скотного двора Келхана Кепеле. Каркара повернула обратно. Но ей не хотелось домой. Ей хотелось уйти сейчас куда глаза глядят. Все, что сейчас окружало ее, — и хмурое ночное небо с редкими звездами, и силуэты кибиток, и по-брехивающие в ночи собаки, — все казалось ей ненавистным. Все, казалось, предавало ее. Даже Келхан Кепеле, такой добрый и справедливый человек, и тот не пожалел! Впрочем, вину с Келхана Кепеле она тут же сняла и переложила на отца. «Что Келхан, — думала она, — он чужой, разве он может запретить отцу выдать свою дочь. А отец… Ему ни капли меня не жаль…» Когда Каркара подходила к кибитке, увидела Курбана и Ораза, возвращавшихся со своих игр. Она еле удержалась, чтобы не подбежать сразу же к Курбану, не рассказать ему про все, что сейчас слышала. А потом, когда они уже вошли внутрь, пожалела, что не сделала этого. Она решила непременно сегодня же поговорить с ним. Потому что завтра будет уже поздно. Но почему Курбан ведет себя так, как будто и не подозревает ни о чем? Это пугало Каркару больше всего. И наконец она решилась. Собрала все свое мужество, приподняла полог и сказала: — Курбан, посмотри, тут какой-то верблюд приплелся, наверное, Келхана Кепеле. Надо привязать его, чтобы не потерялся. Но Курбан, который уже успел улечься, не захотел снова вставать. — Эй, Ораз, — равнодушно сказал он, — иди отгони верблюда в загон. Ораз вскочил было и хотел выйти, но Каркара толкнула его обратно в кибитку: — Ты-то куда! Сиди, без тебя обойдутся! Тут только Курбан сообразил, что дело было совсем не в верблюде, а в чем-то другом. Он поднялся, отодвинул мальчика и сказал: — Ладно, не выходи, темень такая, я сам погляжу. Никакого верблюда Курбан, конечно, не увидел. Но Каркара что-то шепнула ему на ухо, они молча прошли в глубь двора и спрятались за сарай. Как только Ораз-яглы услышал о том, что люди, ходившие в Иран, возвращаются, он сразу же схватил свою палку и вышел во двор. Три всадника уже приближались к его кибитке. Ораз-яглы, с трудом переставляя ноги, двинулся им навстречу. Впереди ехал Каушут. Завидев Ораза-яглы, он поднял руку с плетью и закричал: — Хан-ага, мы сами подъедем. Остановись, нас не за что встречать. Но Ораз-яглы продолжал идти. Как только всадники подъехали и спрыгнули с коней, он тепло обнялся с каждым и начал с таких слов: — Ничего, ребята, не плачьте! Значит, так суждено. Уже то, что вы сели на коней ради других, — большое дело. Аллах за это благословит вас, эншалла! Ну, пойдемте ко мне, поговорить надо. Зто приглашение обеспокоило Каушута. Ораз-яглы был не такой человек, чтобы из-за какого-нибудь пустого дела задерживать уставших после дальней дороги людей. Значит, он хотел сказать что-то действительно серьезное. Заботясь о родственниках, вернувшихся из Ирана, первым делом Ораз-яглы посадил мальчишку на коня и велел скакать в аул, сообщить о благополучном возвращении. Затем он накормил гостей. И только после этого приступил к разговору. Начал Ораз-хан издалека: — Дни и месяцы летят. Мужи старятся… Но жизнь-то не стареет! Просто другим ее надо в руки забирать. Вам надо. На нас-то, стариков, вы уже не рассчитывайте! Но когда-то же и туркмены заживут по-человечески!.. Люди молчали, чувствуя, что хан подбирается к чему-то важному. — Ну ладно, это все вы и так слышали… Первое, что я хотел вам сказать, вот о чем. Ходжам Шукур собирается бежать от нас, со всей своей родней. Я это знаю, потому что он сам приходил ко мне советоваться. Пенди-бай, который тоже пришел, узнав о возвращении людей, горячо воскликнул: — И что же ты ему сказал, хан-ага? Старик мягко ответил: — Не горячись, бай, погоди. Говорят, что у джейрана, пришедшего на твой порог, никакой вины, кроме двух его рогов, нету. — Какой джейран может быть из этого волка! — Ну вот, поскольку он не джейран, мы и не стали его уговаривать. Да таких людей уговорами и не удержишь, если они хотят оторваться от своего народа. Я и сказал ему — делай как знаешь… — Ораз-яглы на минуту замолчал. — Но это не главное. А главное то, что из Хивы прибыл человек. И сказал, что после Мары Мяде-мин сильно сердитый. — И чего же он хочет? — Хочет он собрать войско и пойти на Серахс. Конечно, все мы в руках аллаха, но и ждать просто так, пока враг нападет на тебя, тоже нельзя. Надо народ готовить. Самим готовиться надо. Тут заговорил Каушут: — Хан-ага, ты дай нам совет, как быть. Ты же знаешь, ружей нет, зарядов тоже, как нам готовиться? — Конечно, — поддержал его Сахат, — не будем же мы Мядемина чабанскими посохами встречать! — Как готовиться? Я вам скажу. Во-первых, у нас есть мастер Хонналиусса, можем сами ковать оружие. А во-вторых, надо подумать, чтобы поискать оружие и в других местах. — Где? — У гаджаров? — Гаджары вам оружия не дадут. — И Хива тоже не даст. — Бухара даст, — уверенно заявил Пенди-бай. Ораз-яглы покачал головой: — Бухара-то даст, только нам взять нельзя будет. — Почему же? Какая разница — у Бухары брать или у аймаков, мы ж не даром будем просить, за деньги… — Это само собой, что не даром… — Так в чем же дело? — Вот поедете вы в Бухару просить оружие… — Ну, приехали… — Приедете и попросите. И Бухара согласится. Только кого вы этим больше усилите, себя или своих врагов? Сахат удивился: — Как же врагов, мы ведь для себя просим?! Ораз-яглы повернул к Сахату спокойное лицо: — Просите-то вы для себя, но разве Хива сразу же не узнает об этом? — Узнает, ну и что? — А то, что если до этого она собиралась с пятьюстами всадниками напасть, то, как только узнает, что вы закупили оружие, хоть ишаков заседлает, но уже целую тысячу приведет! Вот и думайте, есть ли смысл вам в Бухаре брать оружие? — Так что же делать? — Аллах нам сам помогает. В этом году, слава богу, у нас урожай хороший родился. А вот в Ахале наоборот, Зато у них, я знаю, излишки оружия есть. Вот и надо с ними сговориться. Пошлите к ним гонцов. Просите помочь нам с оружием. — Так они и помогли! — Помогут! Ахальцы — народ отважный. Если узнают, для чего нам оружие, и даром дадут. Но мы даром просить не будем. Я же говорю, у них засуха в этом году. Вы и отвезите им зерно. Грузите и пшеницу, и джугару. Два дела сделаете сразу: и братьям своим поможете, и оружие раздобудете. — Ораз-яглы повернулся к Каушуту, — Только делайте это, хан, сейчас, скорее, не ждите, пока Мядемин придет. Каушут кивнул головой: — Да, ты прав, хан-ага, так и надо сделать… Ну, что еще ты нам хотел сказать? Если все уже, так мы пойдем, дома ждут. — Нет, не все. Есть еще один разговор. — О чем же? — О грабежах. Вчера возле Горгора ограбили караван, шедший в Бухару. И это уже не в первый раз. Хозяин здесь был, такие слова говорил, что даже страшно было слушать. Клялся, что даром это не оставит, вернется сюда и отомстит. Я знаю, это кто-то из наших сделал, больше некому. Надо меры, Каушут-хан, принимать, пусть люди спокойно ходят своей дорогой. У нас и так врагов много, а новых наживать совсем ни к чему. Вот и подумайте об этом, вы за покой наших людей отвечаете, а так долго его у нас не будет. Эта весть буквально взбесила Каушута. Он прекрасно понимал, что грех двух-трех негодяев ляжет пятном на весь народ, и прежде всего на него, главного хана. Он решил в первую же очередь найти этих людей и так наказать их, чтобы уже другим неповадно было. На следующий день гонцы повсюду сообщили, чтобы все мужчины собрались у старой крепости. И было сказано: кто не придет, тому не поздоровится. Когда Непес-мулла узнал, что люди из Ирана вернулись ни с чем, он очень расстроился. Закончил поскорее урок, отпустил ребятишек, потом вышел из кибитки и сел, прислонясь снаружи к ее камышовой стенке. Он думал о своем народе, о его защитниках. Бывает, и взрослые люди начинают в несчастье мечтать, как дети. Непес закрыл глаза и представил себе: вот в Серахс приходит какой-нибудь великий вождь со своим стотысячным войском. Подходит он к мулле, здоровается с ним и говорит: «С сегодняшнего дня мы будем защищать туркменскую землю. Во всем свете никто больше не посмеет тронуть вас. Живите спокойно». Мулла погладил свою уже начавшую седеть бороду, тяжело вздохнул и открыл глаза. Все это были только мечты. Он знал, что никто не придет и не защитит их. Но человеку хочется хоть на минуту успокоить свое сердце даже и несбыточной надеждой. Непес-мулла вздохнул еще раз, поднялся на ноги и вошел в кибитку. Там он взял завернутый в плотную ткань дутар, вышел вместе с ним и отправился в сторону старой крепости. Когда Непес-мулла вошел в кибитку Каушута, там сидели сам хозяин, Тач-гок сердар, Келхан Кепеле и еще несколько стариков. Мулла прислонил свой дутар к чувалу в углу кибитки и поздоровался с каждым за руку. Ему указали место рядом с Тач-гоком, и он сел. Видно, и остальные пришли совсем недавно, главный разговор еще не начинали, только успели расспросить друг друга о делах и здоровье. Теперь настало время для того, ради чего все и собрались. Но тут вошел Ораз с вязанкой дров, и это еще на минуту оттянуло начало разговора. От нечего делать все смотрели на мальчика. А он быстро сложил дрова слева от очага, потом взял несколько сучьев и подбросил их в огонь. Пламя сначала слегка пригасло, но ветер, проникавший из-за неплотно задернутого полога, тут же с новой силой раздул его, и яркие блики огня заиграли на лицах людей и стенах полутемной кибитки. — Убери чайник с огня, —сказал кто-то Оразу. — Уже кипит. Ораз отодвинул тунче в сторону, потом посмотрел на взрослых, ожидая, не будет ли каких еще приказаний, но, поскольку никто больше ничего не говорил, тихонько вышел из кибитки. — Ну что, вернулись благополучно? — первым спросил Непес-мулла у Каушута. — Как видишь, сами-то вернулись… По голосу Каушута чувствовалось, что ему неприятно говорить об этом. Дангатар в это время тяжело вздохнул, — видимо, поход к гаджарам напомнил ему собственные его мучения в иранской земле. — Ну и слава аллаху! Это самое главное, что сами пришли. Дангатар часто закивал головой, соглашаясь с Непес-муллой. Каушут кашлянул, давая понять, что хочет говорить. Все приготовились слушать хана. Люди ожидали, что он расскажет, как сходили и почему не взяли скот. Но хан начал совсем с другого. — Мулла, мы как раз собирались посылать за тобой. Непес удивленно поглядел на Каушута. Он не представлял, зачем мог так понадобиться хану. Но потом сообразил: наверное, в честь возвращения поиграть на дутаре, прочесть стихи… Непес улыбнулся: — Мулла угадал ваше желание. И сам пришел, и дутар с собой принес. Каушут пригладил бороду. — Что дутар принес, это хорошо, поиграешь нам потом, вот и яшули душу отведут… Но я хотел позвать тебя и еще для другого. Мулла опять вопросительно поглядел на хана. — Нас ждет большая опасность, мулла… — Если ты о Мядемине, то я уже знаю, слышал вчера. — А если знаешь, то есть к тебе большая просьба. — Хан, я готов выполнить любую просьбу, если только буду знать, что это на пользу людям. Я и за головой своей не постою. Хан замахал руками: — Эншалла! Черной голове ничего не грозит! С врагами мы и без тебя сладим. Но для черной головы есть другое дело. — Говори, хан, я слушаю. — Тебе, мулла, надо будет съездить в Ахал. — За каким же делом? — За каким?.. Чтобы взять оружие. Сам знаешь, у нас ничего нет. У ахальской родни в этом году плохо с зерном. Ты возьмешь пару караванов и отвезешь им хлеб. Обменяешь на оружие. — Если дело только за мной, во славу аллаха, хан! Я готов ехать хоть сейчас. — Нет, погоди, еще не сейчас. Сперва мы должны собрать зерно. Вот когда караван будет готов, тогда и поедешь. Пенди-бай обещал дать десять верблюдов. Дангатар перебил его: — Пять арвана[65] он обещал еще и зерном погрузить. — От меня можете два мешка добавить, — сказал Келхан Кепеле, до этого молча лежавший в сторонке. — Хорошо, хорошо, считать будем после. Полог откинулся, и в кибитку снова вошел Ораз. Следом за ним Курбан внес миску с едой. Разговор снова на время прервался. Все принялись молча есть. После товира мулла сказал: — Хан, я слышал, ты завтра всех мужчин собираешь. К добру ли? На этот раз за хана ответил Тач-гок: — К добру! Мы уж забыли, когда к добру люди собирались! Тут просто объявилось в Серахсе несколько смельчаков, которым силы некуда девать. И вот нашли забаву: стали караваны грабить, которые мимо идут. На мирных людей нападают, врагов нам новых наживают. Вот хан и хочет их найти. — Трудно будет, — сказал один из стариков. — Неважно. Главное, — пусть знают, что их ищут и что награды никакой за их дела им не будет. А то могут подумать, что так и надо, что, дескать, хан на все это сквозь пальцы смотрит. А как купцы соберутся да придут с оружием, небось сразу по кустам разбегутся. — Ай, такие люди все равно не признаются! И тут вдруг, нарушив все приличия, в разговор влез Ораз: — Это вы про тех, кто караван грабил? Я их знаю, я видел, их было пять человек! Но я только одного в лицо увидел, другие далеко проехали. — Ну-ка, ну-ка, сынок, как ты видел, расскажи. — Я как раз один шел, а тут караван увидел, хотел подойти посмотреть, и они напали. Я испугался и спрятался. Они меня не видели. А один близко проскакал, и я узнал его. — Ну, и кто он, как его зовут? — Не знаю. — Из какого аула? — Тоже не знаю. — Как же ты узнал его? — На свадьбе Пенди-бая видел. — Да у Пенди-бая тогда народу больше чем муравьев в куче было! — Тихо, тихо! — заговорил Каушут. — А скажи, Ораз, если ты его еще раз увидишь, узнаешь? — Конечно! Я его хорошо помню, Каушут-ага. — Ну ладно, об этом мы завтра поговорим, я кое-что придумал. — Каушут сделал небольшую паузу. — А теперь, мулла, можешь и дутар взять. Говорят, печаль и радость рука об руку ходят. Хоть ты повесели нас! Все с готовностью поддержали Каушута. Мулла достал свой дутар, подтянул струны, потом подался немного вперед и заиграл. Но, вопреки ожиданиям, мелодия его была не радостная, а печальная. Такую подсказывало поэту его сердце.
К полудню у крепости собрался народ. Толпа была возбуждена. Одни говорили; «Сегодня ночью нападаем на гаджаров». Другие сообщали, что Мядемин собрался нападать со стотысячным войском и уже стоит у Карабуруна. Поскольку слухи были такими противоречивыми, им почти никто не верил. Но многие были недовольны тем, что хан так часто собирает людей и все время затевает что-то новое, не понимая, что хан не сам придумывает людям несчастья, а лишь хочет предупредить их, пока они не разрослись и не превратились в настоящую беду. — Очень круто хан за нас взялся! Если каждый день мужчин на коней сажать, через два месяца в аулах ни одного не останется. — Что он тогда будет делать, когда враг нападет? — А! Женщин возьмет воевать. — А его жена будет мингбаши![66] — Ха-ха-ха! — Да, Ярмамед, это ты хорошо сказал насчет того, чтобы с женщинами воевать. — А как же иначе? Если начнешь уничтожать мужчин, они, само собой, переведутся! У них же души не в бутылках спрятаны! — Представляешь, жена Каушута — с саблей в руках — и за Мядемином! — Ха-ха-ха! — А конец платка сзади — как лошадиный хвост! С приближением яшули смех и разговоры стали утихать. Люди становились так, чтобы получше видеть, что будет впереди. На возвышение взошли Каушут, Ораз-яглы, Сейит-мухамед-ишан, Пенди-бай, Непес-мулла, Тач-гок сердар. Каушут тут же вышел вперед и крикнул: — Люди! Вы побросали семьи, дома. Все волнуются, ждут, наверное, беды. Я хочу сказать вам сразу: успокойтесь. Плохих новостей у меня нет. Враг еще не нападает на нас. — А чего тогда зря тащить сюда? — Для того и собрал, что не нападает? — Тебе делать больше нечего? Нравится, что крикнешь — и люди сразу бегут! — Го-го-го! — Тише, люди! Тише! Собрали вас для того, чтобы узнать, сколько в каждом ауле есть оружия. А потом с просьбой хотели к вам обратиться… — Что за просьба? — И так нищих полно кругом. — Проси, хан, проси! Поделимся, чем богаты! — Тише! — Да слушайте, когда хан говорит! — Люди, тише! Мы у вас не верблюдов хотим просить. Вы знаете, на нас все время нападают. А у нас нет оружия, чтобы защищаться от врагов. И поэтому мы хотим отправить людей к ахальской родне попросить оружия. — Ну, а мы-то при чем? — Сам хочешь, сам и проси! — Люди, дело вот в чем. Мы и сами живем не сказать чтобы сладко. Но в этом году аллах пожалел нас, и урожай был хороший. У ахальцев плохо с зерном. Конечно, они и так оружие дадут, но я думаю, что надо и им помочь. Поэтому мы хотели спросить вас, согласны отдать лишнее зерно, чтобы отвезти в Ахал? — А если не дадим? — Силой возьмешь? — Нет, люди, если не дадите, силой отнимать никто не будет. — Но ведь как давать, одни мало дадут, другие много? — Пусть дают, кто сколько не пожалеет. Ругать никого не будем. Наши люди сегодня пойдут по аулам, сыпьте все им. — Ну, конец теперь? — Все сказал? — Нет, еще не все. — Тогда говори, с самого утра на ногах, когда домой вернемся? — Сказать я вот что еще хочу. Завелись тут у нас слишком храбрые молодцы, и не сидится им па месте. — Ну и что же? — Слава богу! Ты, хан, гордиться такими должен! — Да нет, гордиться тут нечем. Потому что храбрость свою они на то пускают, чтобы грабить проходящие мимо караваны. А те потом в отместку сестер наших и жен поперек седла увозят. И мы все из-за этих разбойников должны страдать. — Что же ты делать хочешь? — Конечно, надо их наказать! — А нам-то что! Кто может, пусть и грабит! Как будто нас не грабили! — Глаза им выколоть! — Нет, глаза им выкалывать не будем. Я хочу только, чтобы эти люди вышли сами и признались. И даю ханское слово, вина им будет прощена. — Прощать таких? — Нет, все равно не прощать, наказать надо! — Я сказал, пусть сознаются — и будут прощены. Само собой, до первого нового грабежа. Выходите! Но из толпы никто не выходил. Хан прождал минуту и подозвал к себе глашатая Джаллы. Он решил, что, может, не все слышали, и велел громко повторить его слова. Джаллы прокричал, но из толпы снова никто не вышел. Тогда был передан новый приказ хана: всем людям разделиться по своим аулам. Толпа задвигалась. Старики сошли с возвышения и подошли к своим. Скоро все сборище разбилось на отдельные группы. Каушут тоже спустился вниз и подозвал к себе Ора-за. Сначала никто не понял, зачем ему мальчик, думали, так просто, ханская прихоть, и с удивлением смотрели, как они вдвоем обходили аул за аулом. И только когда они остановились у одной из групп, стало ясно, зачем был позван Ораз. Мальчик увидел Кичи-кела и указал пальцем на него: — Вот он, Каушут-ага. Еще у него была белая лошадь. А папаха эта же самая. — А ну, джигит, выйди вперед, — сказал Каушут притворно ласковым голосом. Кичи сделал несколько шагов и улыбнулся: — Ну, если сам хан ханов просит, придется выйти!.. — Придется, богатырь. И штаны снять придется, если хан тебя попросит. Тут голос Кичи сорвался неожиданно на грубый: — Нет уж, штаны мои трогать не стоит! Каушут повернулся к Оразу: — Ты хорошо узнал его? Получше посмотри, чтоб не говорил потом, что ошибся. — Я не ошибся. Он был с ними. Я видел. — А может, и не я? Может, кто-то другой? — угрожающе процедил ему Кичи-кел. — Да ты чуть не задавил меня! Мимо проскакал, даже не заметил. А я в тех кустах прятался! — На кого ты врешь, щенок! Толпа зашумела: — А чего ему врать? — Ораз мальчик честный, не соврет, я его знаю! — А вы тоже уши поразвесили! А ты, змееныш, попадись только мне! — Ну, ну, парень, ты на мальчика не кричи! И на людей тоже. Кто свой народ не почитает, тот и отца родного — не подумает — продаст! — Хан-ага, я и людей уважаю, и отца своего тоже. Не надо такими словами зря бросаться. — А я тебе говорю, что не уважаешь. И от имени всего народа говорю. Если бы ты его уважал, то не стал бы грабить чужой караван, чтобы потом другие за тебя расплачивались. А уж сделал, так будь мужчиной, вышел бы сейчас, когда тебя просили, и признался. Выходит, ты еще и трус. При последних словах хана Кичи-кел опустил голову. В толпе опять раздались голоса: — Признавайся! — И дружков своих назови! — В землю таких живьем закапывать! — Слышишь, что люди говорят? Или тебе на всех наплевать? Говори, кто твои товарищи? — Не было у меня и нет никаких товарищей. — Ты что, разве не человек? Если ты скажешь, что не человек, я поверю, что у тебя нет товарищей, — Я человек, хан, но товарищей у меня нет. — Значит, ты один ограбил караван? — Да, один. — Врешь! — Почему же вру? — Потому что человек, который даже боится в своем поступке сознаться, один напасть на караван тем более не сможет. Кто еще с тобой был? — Я же сказал, я был один. — Ты на меня так не смотри, парень, ты не мне врешь, а всему своему народу. По Кичи уперся и не хотел больше ничего говорить. Тогда его повели на середину. Вслед ему из толпы летела оскорбительная ругань. Люди, обиженные со всех сторон, рады были хоть на ком-то выместить свое зло. — Хан-ага, если ты не разденешь его перед всеми, значит, всех нас оскорбишь! — Нет, живьем таких в землю! — И пусть друзей своих назовет! Наконец Каушут и его окружение подошли к минба-ру и перед ним остановились. — Ну, последний раз говорю тебе, парень, назови, кто был с тобой. Так и тебе и нам лучше будет, — Я сказал уже, не было никого со мной. Тут Каушут вышел наконец из себя. Голова его вскинулась от гнева. — Снимай дон! Кичи понял, что теперь шутки с ханом плохи. И поэтому не заставил повторять приказ дважды. — И рубаху снимай! Кичи замешкался на минуту, но, взглянув хану в лицо, быстро снял и рубаху. — А теперь все остальное! Но этого уже Кичи сам сделать не мог. Хан не стал говорить ему еще раз. Не спуская глаз с провинившегося, он коротко приказал: — Снимите с него штаны! Трое здоровых джигитов вышли тут же вперед, двое из них схватили Кичи-кела, а третий уцепился за его штаны. Но тут неожиданно запротестовал Сейитмухамед-ишан: — Хай, парни, погодите! Те, кто набросился на Кичи-кела, остановились. Сейитмухамед подошел к Каушуту. — Хан, но это большой грех — оголять мужчину. Каушут легонько усмехнулся, и тут же его лицо приняло прежний суровый вид. — Да, грех, ишан-ага. Но из-за таких шакалов нашим женщинам приходится оголяться перед чужими мужчинами. Простите, но на этот раз я не могу вас послушать. Сейитмухамед не нашелся что ответить. Толпа поддержала хана: — Правильно, хан-ага! — Ишан-ага, зачем вы такую змею защищаете! — За такого и заступаться грех! — Пусть ишан глаза закроет, если ему стыдно! Каушут сделал знак джигитам, и штаны Кичи-кела мигом спустились до колен. Сам Кичи пригнулся от стыда вперед и прикрылся руками. Хан повернулся к толпе: — Пусть все знают, такой позор ждет каждого, кто будет поступать во зло своему народу! — Правильно говоришь, хан-ага! — Только так и надо! Тут в руке хана показалась плеть. Многие этого не ожидали, думали, дело кончится только публичным позором. И поэтому, когда плеть резко просвистела в воздухе и с громким шлепком обрушилась на Кичи-кела, толпа невольно ахнула. А Кичи-кел взвыл от боли и закрутился на месте. — Это тебе от Каушут-хана, сынок. Были и такие, кому наказание показалось слишком легким. Они кричали: — Добавь ему и от нас, хан-ага! — И за каждого товарища по разу! — Бей так, чтобы забыл, как на коня садиться! Но вот Каушут сделал знак, чтобы Кичи одели, повернулся и отошел к старикам. Сзади долетало: — Правильно, хан! — Нечего их жалеть, пусть теперь знают! — Посмотрим, кто еще захочет караваны грабить!
Ночью Мялик рыдал, зарывшись с головой в одеяло. Из головы его не выходило происшествие возле старой крепости. Он тоже грабил караван, но мужество Кичи спасло его от плети Каушута и, главное, от позора быть раздетым на глазах толпы. Теперь он был обязан отомстить за товарища. Так решили все, кто участвовал в грабеже. А месть заключалась в том, что Мялик должен был убить Ораза. Боясь, что его назовут трусом, Мялик согласился выполнить это. Но теперь переживания прошедшего дня и то, что ему предстояло сделать, терзали его слабую душу и вызывали постыдные слезы.
Семья Дангатара давно уже спала сладким сном. Никто и не подозревал, что в этот час к дому крадется беда. Крадется в облике человека, сновавшего, словно аист, по двору. Каждый, наверное, видел сейчас свой сон. Каркаре, возможно, снилась давно умершая мать, а может, тот последний разговор с Курбаном, за сараем, во время которого он пообещал ей поговорить с Келханом Кепе-ле, упросить его сделать так, чтобы Дангатар не давал согласия свату в белой папахе. Дангатару, наверное, снилось, что из бедной хибары он попал в роскошный дворец или, может, просто в белую, только что поставленную кибитку, о которой он мечтал всю жизнь. А Ораз выпустил своих коров в поле и просто лежал на траве, радуясь короткому отдыху, солнцу и теплому воздуху. Но Мялику ни до чего этого не было дела. Он знал только одно: что должен убить Ораза, мальчика, который стал случайным свидетелем их преступления. Жалости к нему у Мялика не было, он был готов убить его так же просто, как воробья на ветке. Единственно из-за чего дрожали его колени и, вырываясь из груди, стучало сердце, так это из-за страха, что кто-нибудь увидит и узнает его. На цыпочках Мялик подкрался к входу в дом, потянулся к кожаной ручке двери, но, как только дотронулся до нее, тут же отдернул руку, как будто это была кожа ядовитой змеи. Ему послышался какой-то шорох. Мялик осторожно огляделся по сторонам. Вокруг не было ни одной живой души, за исключением разве что старого ишака, который лежал на земле и, навострив уши, внимательно глядел на Мялика. Мялик собрался с духом и надавил на дверь. Она бесшумно подалась. Тогда Мялик просунул одну ногу за порог, нога наткнулась на ичиги Дангатара и повалила их. Слабый шум, возникший при этом, показался Мялику громом небесным. Он, не помня себя, выскочил на улицу. Ишак, обеспокоенный странным поведением человека, икнул и поднялся на ноги. Мялик зло посмотрел на него. Кругом снова было тихо. Мялик опять набрался смелости и пошел к двери. Теперь он осторожно отодвинул ногой ичиги в сторону и пролез в кибитку. Там он вынул свой нож из чехла, крепко сжал его в кулаке и прикусил нижнюю губу. В это время на кибитку налетел порыв ночного ветра. Он зашумел в камышовой обшивке, как бы предупреждая обитателей: «Дангатар, Курбан, не спите, над вами — беда!» Но спавшие не слышали этого шума. Как ни старался он пробудить их, крепкий сон оказался сильнее. Вдруг в темноте послышалось бормотанье: — Куда пошла, назад, чтоб рога твои обломались! Это бредил во сне Ораз. Он и тут пас своих коров. Мальчик пробормотал еще что-то невнятное, перевернулся на другой бок и опять крепко заснул.
 В первую секунду ноги у Мялика буквально подломились. Он хотел побежать, но не смог. И уже через мгновенье понял, в чем дело, и даже обрадовался, что теперь ему не надо искать свою жертву. Она как будто сама звала к себе убийцу.
Мялик собрал все свое мужество и двинулся в направлении шевельнувшейся под одеялом фигуры. Хотя до Ораза и было всего несколько шагов, но Мялику показалось, что он проделал путь невероятной длины. Если бы кто-нибудь увидел его сейчас, то мог сказать то же самое: дыхание его было тяжелым и пот градом катился с лида.
Ораз спокойно дышал во сне. Чистая его душа была похожа на ласточку в небе, которая играет, поет, не подозревая, что кровожадный коршун уже завис над ней. Мгновенье — хищник сложил крылья и ринулся вниз. Нож Мялика вонзился в самое сердце Ораза. Мялик тут же выдернул его и бросился к двери.
Ораз не издал ни звука. Только Мялик споткнулся впопыхах о порог и вызвал этим шум в кибитке. Данга-тар проснулся. Он тут же поглядел на дверь и увидел, что она раскрыта. Это сразу обеспокоило Дангатара, и он крикнул:
— Каркара! Каркараджан!
Каркара проснулась.
— Что, папа?
— Ты здесь? Слава богу! Ну-ка зажги лампу!
— Зачем, папа, еще же рано!
— Я тебе говорю, зажги!
Первой мыслью Дангатара было, что кто-то опять собрался выкрасть Каркару.
Каркара встала и зажгла лампу. Теперь и Курбан проснулся. Только один Ораз лежал неподвижно. Дан-гатару и в голову ничего не могло прийти насчет Ораза. Он думал, что мальчик, уставший за день, крепко спит. Дангатар вышел из кибитки, обошел вокруг, но ничего подозрительного не увидел. Когда он вернулся назад, Каркара и Курбан стояли перед Оразом как каменные. Они уже увидели при свете лампы кровь, но им все еще казалось, что глаза обманывают их. Дангатар бросился вперед. Не веря тоже своему единственному глазу, он склонился над мальчиком, и лишь когда рука его ощутила теплую кровь, ему все стало ясно.
Каркара упала на тело Ораза и закричала душераздирающим голосом:
— Брат! Мой брат! Ораз! Убили Ораза!
Вопли ее разбудили соседей, и они начали собираться в кибитку Дангатара.
На рассвете прибежал Келхан Кепеле. Он единственный сообразил сразу, что надо делать, отыскал в стороне от двери, там, где еще не успели затоптать, отчетливый след убийцы и накрыл его казаном. Потом он постоял немного, пробормотал: «Ах, бедняга!» — и вошел в кибитку.
Весь аул уже был на ногах. К небу поднимался жалобный вой, возвещавший жителей о том, что новый день начался со смерти человека.
В первую секунду ноги у Мялика буквально подломились. Он хотел побежать, но не смог. И уже через мгновенье понял, в чем дело, и даже обрадовался, что теперь ему не надо искать свою жертву. Она как будто сама звала к себе убийцу.
Мялик собрал все свое мужество и двинулся в направлении шевельнувшейся под одеялом фигуры. Хотя до Ораза и было всего несколько шагов, но Мялику показалось, что он проделал путь невероятной длины. Если бы кто-нибудь увидел его сейчас, то мог сказать то же самое: дыхание его было тяжелым и пот градом катился с лида.
Ораз спокойно дышал во сне. Чистая его душа была похожа на ласточку в небе, которая играет, поет, не подозревая, что кровожадный коршун уже завис над ней. Мгновенье — хищник сложил крылья и ринулся вниз. Нож Мялика вонзился в самое сердце Ораза. Мялик тут же выдернул его и бросился к двери.
Ораз не издал ни звука. Только Мялик споткнулся впопыхах о порог и вызвал этим шум в кибитке. Данга-тар проснулся. Он тут же поглядел на дверь и увидел, что она раскрыта. Это сразу обеспокоило Дангатара, и он крикнул:
— Каркара! Каркараджан!
Каркара проснулась.
— Что, папа?
— Ты здесь? Слава богу! Ну-ка зажги лампу!
— Зачем, папа, еще же рано!
— Я тебе говорю, зажги!
Первой мыслью Дангатара было, что кто-то опять собрался выкрасть Каркару.
Каркара встала и зажгла лампу. Теперь и Курбан проснулся. Только один Ораз лежал неподвижно. Дан-гатару и в голову ничего не могло прийти насчет Ораза. Он думал, что мальчик, уставший за день, крепко спит. Дангатар вышел из кибитки, обошел вокруг, но ничего подозрительного не увидел. Когда он вернулся назад, Каркара и Курбан стояли перед Оразом как каменные. Они уже увидели при свете лампы кровь, но им все еще казалось, что глаза обманывают их. Дангатар бросился вперед. Не веря тоже своему единственному глазу, он склонился над мальчиком, и лишь когда рука его ощутила теплую кровь, ему все стало ясно.
Каркара упала на тело Ораза и закричала душераздирающим голосом:
— Брат! Мой брат! Ораз! Убили Ораза!
Вопли ее разбудили соседей, и они начали собираться в кибитку Дангатара.
На рассвете прибежал Келхан Кепеле. Он единственный сообразил сразу, что надо делать, отыскал в стороне от двери, там, где еще не успели затоптать, отчетливый след убийцы и накрыл его казаном. Потом он постоял немного, пробормотал: «Ах, бедняга!» — и вошел в кибитку.
Весь аул уже был на ногах. К небу поднимался жалобный вой, возвещавший жителей о том, что новый день начался со смерти человека.
Каркара обезумела от горя. Бостантач отвела ее к себе и хотела уложить, но девушка все время вскакивала, кричала, порывалась бежать к брату. Женщины, как могли, успокаивали ее. Но когда пришла весть, что Ораза скоро понесут на кладбище, Каркару уже невозможно было удержать. — Вай! Я хочу взглянуть на него! Не уносите! Дайте взглянуть! Бостантач вытерла кондом платка слезы, надвинула пуренджек пониже на лоб и сказала: — Надо сводить ее к брату. Пусть хоть простится. Женщины взяли Каркару под руки и повели к ее дому. Возле кибитки с утра сновали люди. Одни рыли очаг, другие делали похоронные носилки, третьи стояли без всякого дела. Дангатар сидел в стороне, замкнутый и безучастный ко всему. К нему никто не подходил. Знали, что утешать бесполезно, что мужчину лучше оставить в таком горе, он сам, без посторонней помощи, должен перенести его. Дангатар не плакал, не причитал, сидел молча, с опущенной головой и только время от времени подергивал шнурки от ичиг… Когда Каркару ввели в кибитку, Ораз уже лежал в саване, готовый к своему последнему путешествию. Мальчик был и без того рослым не по годам, а теперь, в этой печальной одежде, казался совсем большим. Один из стариков осторожно открыл для Каркары лицо брата. Когда она взглянула на него, ей показалось, что Ораз спит. Во всяком случае, лицо его ничем не отличалось от того, какое было у него во время сна. Каркаре еще никогда не доводилось видеть покойников. Умершую мать ей не показали, тогда она была еще ребенком. Но ей представлялось, что лица у тех, кто умирает, должны быть желтые, с запавшими глазами, какой была мать перед смертью. Лицо же Ораза казалось совсем живым. — Вай! Он же не умер, он только спит! Зачем вы хороните его? Каркара заплакала и упала на брата, словно надеясь своими слезами разбудить его. Женщины подняли девушку, попытались успокоить ее, но Каркара их не слушала. — Дайте! Дайте еще раз взглянуть!.. Ораз, проснись!.. Ораз, братик мой! Яшули сделал знак, чтобы ее увели. Женщины почти насильно оттащили Каркару от покойника.
С кладбища люди вернулись вместе со следопытом Сары. Он уже был довольно стар, но в свое время разгадывал след не хуже самых известных в округе следопытов. Один из учеников Сары рассказывал про него такой случай: «Однажды мы сидели и пили чай на холме, возле колодца Баллы. Вдруг Сары-ага повернулся и начал пристально смотреть в одну точку на горизонте. «Ребята, кто-то едет оттуда на верблюде». — «Откуда?» — «Вот оттуда». Мы тоже посмотрели, но не увидели ничего и стали смеяться над стариком: «Это тебе кажется, Сары-ага. У тебя у самого уже в глазах верблюды ходят». Он ничего нам не ответил. А когда мы закончили пить чай, с той стороны, куда показывал Сары, на самом деле подъехал человек на верблюде. Это был чолук[67], он приехал с бурдюком набрать воды». Сары снял опрокинутый казан и внимательно поглядел на след. Потом, опираясь на свой посох, медленно пошел вперед во главе процессии. За ним шло человек двадцать. Все были до крайности возбуждены и желали немедленной расправы над убийцей. Даже люди из соседних аулов не оставались равнодушными и говорили: «Если только он найдется, порежем его на куски». Все подгоняли Сары и предлагали свою помощь. — Постарайся, отец! — Пусть аллах тебе поможет! — Сто лет здоровья, если отыщешь его! — Отец, если устанешь, скажи, мы тебя на руках понесем! Сары, казалось, ничего не слышал и только был занят своими следами. Неожиданно он сказал: — А убийца, должно быть, совсем не старый был. И всю дорогу бежал. — Какой бы ни был, все равно найди его, пусть это даже сам Арап Рейхан[68]. Когда процессия вышла из аула, один человек как бы невзначай приблизился к следопыту и быстро проговорил: — На ночь помолись получше, Сары-ага. А то можешь, случаем, и не дожить до завтра. Сары как будто ничего и не услышал, даже не посмотрел на того, кто говорил, но через несколько шагов вдруг неожиданно изменил направление. А человеком, бросившим ему угрозу, был Кичи-кел. Сары привел людей к берегу реки и там остановился. — Убийца в воду вошел. А в воде и мои глаза ничего не видят. Шедшие за ним молча переглянулись. Один из них обратился к следопыту: — Яшули, разве в такой холод может человек в воду войти? Смотри, по ней же лед еще плавает! Но Сары погладил свою бороду, поднял глаза кверху и глубокомысленно ответил: — Человек, у которого рука на такое дело поднялась, может и зимой в воду войти. У него кровь не стынет. Никто не нашелся что сказать на это, с понурыми лицами люди возвращались в селение… После того как отметили семь дней со смерти Ораза, Дангатар стал сам не свой. На следующий день он даже не дочитал до конца утренний намаз, на полуслове схватился обеими руками за голову и замолчал. Свет, идущий от красных углей, падал на его единственный глаз, и глаз от этого казался налитым кровью. Треск сырых поленьев отдавался в голове старика так, словно стреляли из ружей. Каркара делала в это время что-то по хозяйству, она заметила, что отец не закончил намаза, и это испугало ее. В обычной обстановке это считалось большим кощунством. — Папа, что случилось? Почему ты перестал читать? Дангатар ничего не ответил, только пристально посмотрел на дочь. Когда Каркара встретилась с этим взглядом, по телу ее поползли мурашки. Единственный глаз отца выражал и злобу, и сожаление, и недовольство. — Папа, что с тобой? У тебя голова болит? Дангатар ответил не сразу. — Доченька, убери намазлык[69] совсем. Я теперь никогда не должен читать намаза. От этих слов Каркаре сделалось еще страшнее, но она постаралась не подавать виду, а как-нибудь успокоить отца, который явно был не в себе. — Если тебе плохо, папа, можешь выпить чаю и прочитать только конец молитвы, у больного человека аллах все равно примет ее. Дангатар ударил рукой по полу: — Я тебе сказал убери — значит, убери! Тоже мне ишан! Ты разве не знаешь, что женщина, сколько ее ни учи, все равно не может стать казы?[70] Отца еще учить будет! Не смей и сама читать! Запрещаю! Каркара впервые в жизни слышала, чтобы отец так грубо разговаривал с ней. Прежде никогда, даже если она случайно била посуду или совершала еще какую оплошность, Дангатар не повышал на нее голоса. Поэтому теперь к горлу ее подступил горький комок, она молча подняла намазлык, свернула его в трубочку и спрятала туда, где он должен лежать. Но неожиданно за спиной ее раздался ласковый, совсем не вязавшийся с последними словами голос Дангатара: — Каркараджан, доченька, а ну пойди ко мне. Сядь сюда. Каркара сразу же выполнила его просьбу. — Надо и нам сходить, доченька… — Куда, папа? Но Дангатар теперь задумался о чем-то и не отвечал на ее вопрос. — Каркараджан, ты знаешь, что ты теперь у меня только одна? Вот, посмотри, — он показал рукой на одеяло. — Тут был Ораз. А теперь его нет. Ты теперь мне одна и сын и дочь. Ты это знай. А то у меня совсем никого не осталось. Каркара еле сдерживала слезы. — Папа, ты куда-то звал только что? — А? — он не понимал дочь. Вдруг Дангатар взял кочергу, сунул ее в самую середину огня и стал с улыбкой смотреть, как она горит. Каркара подскочила к нему. — Ты хотел куда-то идти, папа. Куда? Старик вздрогнул и посмотрел на дочь: — Куда? Разве ты не знаешь куда? — Нет, папа, не знаю. — Мы пойдем к Оразджану. Ведь он там, бедный, один лежит. Ему скучно одному. Посмотри, вот в нашей кибитке туйнук есть. А у него нет. Ему там и дышать нечем. И света нет. Каркара больше не могла сдерживать себя. Она отошла в угол, села, положила голову на колени и заплакала. Дангатар с улыбкой посмотрел на нее. Тем временем кочерга, забытая в очаге, наполовину обгорела и свалилась на пол. Дангатар взял ее, но палка была горячая, и он тут же бросил ее и засунул обожженные пальцы в рот. — А кочерга-то сгорела! Потом он снова повернулся к Каркаре и заговорил с ней так, как будто это был Ораз: — Не плачь, сынок, не плачь. Вот я тебе красивую невесту приведу. Ты будешь спать утром, а она хлеб печь, и воду греть, для меня, и все сама будет делать. И нам будет с тобой хорошо… Каркара не могла больше слушать бред сумасшедшего отца. У нее было такое чувство, точно все несчастья случились именно сегодня: и мать умерла, и брата похоронили… Проснулся Курбан. Подошел к очагу и сел. Дангатар заговорил с ним: — Знаешь, племянник, а мне Ораз снился. Ай, это и не сон был. Только я не помню, он ко приходил или я к нему. И мы всю ночь разговаривали. Я говорю: «Ты что делаешь?» А он: «Коров пасу. Замучили меня, чтоб рога у них обломались!» Они же глупые, коровы. Что с ними сделаешь! Идут себе куда хотят — и на наши поля, и на поля гаджаров. Для них же все равно — что гаджары, что другие. Они, когда голодные, что хочешь погрызут! А эти негодяи гаджары, ты сам знаешь, за кисть винограда готовы глаза тебе выколоть! У них ни капли нет жалости. Курбан молча слушал Дангатара, не перебивая его, он понимал, что со стариком случилось что-то неладное, но чем помочь ему, не знал. Вернулась Каркара с кувшином. Она поставила кувшин в угол, взяла казан вместе с треножником и поднесла его к огню. Дангатар тем временем придумал что-то новое. — Доченька, ты мне дай что-нибудь отнести, чтобы поблагодарить. — Кого ты собираешься благодарить, папа? — Пойду к Сейитмухамед-ишану, попрошу судьбу мою погадать, а то что-то на сердце у меня неспокойно… Надо будет дать ему за гаданье. Каркара подумала, что ишан, может, вылечит ее отца, и поэтому быстро с ним согласилась: — Сходи, сходи к нему, папа. Она вынула из красного чувала кусок белой ткани, завернула в него что-то и передала отцу. Дангатар засунул узелок под мышку, поднялся на ноги и медленно вышел из кибитки.
Дангатар вошел к ишану, поздоровался. Единственный человек, сидевший там, с удивлением посмотрел на пришедшего. — Ой, оказывается, ты не ишан-ага? Ну все равно. Полный, круглолицый человек поднялся на ноги. Это был гость Сейитмухамед-ишана, приехавший из Тед-жена. — Если ты старше — то эссаламалейкум! Если младше — валейкум эссалам! Гость протянул руку Дангатару. — Я, сынок, и не знаю, старше я тебя или младше… Гость засмеялся: — Так ты скажи, ровесник, сколько тебе, вот мы и узнаем… — Я не знаю… И тебе до этого дела никакого нет. — Считай тогда, я ничего не говорил. Гость подумал про себя: «Видать, у этого бедняги не все дома». — А ишана-ага нет? Гость решил, что, раз человек пришел к ишану, надо быть с ним на всякий случай повежливее, и поспешно предложил Дангатару: — Вы проходите, проходите, ишан-ага скоро вернется. — Тогда я лучше в другой раз зайду. — Ну, как хотите… Так мы вашего возраста и не узнали. А я подумал, мы ведь и сосчитать можем, вы скажите, какой год у вас? — Год? — Ну да, год. — Наверное, зайца. — А какого зайца? — Белого, наверное. — Такого года не бывает, ровесник. — Ну тогда, значит, черного. — И такого тоже года нет. — Нет? Значит, заяц в два муче[71] Тут гость не выдержал и рассмеялся: — Значит, тебе всего двадцать пять, да? Дангатара обидел его смех. — И это не твое дело, ровесник! Дангатар постоял секунду, потом круто повернулся и вышел из кибитки. А гость поднес руку к бороде и проговорил: — Эй, тоба, тоба[72], ничему не удивляемся! — После этого гость вернулся на свое место и принялся дожидаться Сейитмухамед-ишана.
Едва утихли звуки послеобеденной молитвы, вокруг крепости стало шумно и многолюдно. Люди шли со всех сторон. Сегодня был день скачек, это событие и собрало столько народу. Хозяева с гордостью смотрели на своих коней, каждый старался найти в своей лошади то, чего не было в остальных. Вокруг толпились зрители — от самых старых до самых маленьких — и шумно спорили о предстоящих состязаниях. Погода была нехолодной и безветренной, как раз такой, какая и требовалась для скачек. И тем не менее самые ревнивые хозяева покрывали кошмами своих лошадей, чтобы не дай бог не застудить их. Края кошм спускались до самой земли, и это придавало животным совсем необычный и даже чуть страшноватый вид. Казалось, царящее вокруг возбуждение передавалось и ленивым ишакам, они усиленно двигали ушами, кричали, как будто тоже готовились состязаться. С одной из сторон к крепости медленно подъезжал ветхий старик на таком же видавшем виды ослике грязно-серого цвета. Сзади его догонял другой, на черном осле. Второй всадник был длиннее первого, и ему приходилось поджимать ноги, чтобы они не волочились по земле. Но вид у него все равно был бравый и веселый. — Эй, Агаменгли-ага, — крикнул второй первому, — мог бы поменять свою скотинку. Уж больно стара! Но Агаменгли даже не обернулся, словно эти слова относились не к нему. И, как бы стараясь показать, что ослик его еще вполне пригоден для езды, поддал ему пятками в бока, но ослик не обратил никакого внимания на пинки своего наездника. — Ай, не мучай животное! — закричал снова старик на черном осле. — Ты его хоть до смерти избей, он быстрее не пойдет, только рассыпаться может! — и с этими словами обогнал соперника. — Гони, гони, джигит! Кто первый придет, тому овцу дадут! — ехидно подбодрил его хозяин белого осла.
 А длинноногий старик все дальше и дальше удалялся от Агаменгли, высоко держа голову и гордо потряхивая космами длинношерстной папахи. Но и этого лихого наездника поджидало несчастье. Путь его пересекали лошади Ходжама Шукура. Одна из них, недовольная тем, что ее не пускают вскачь, проходя мимо ослика, свирепо поглядела на него и вдруг бросилась в его сторону. Наездник успел натянуть поводья и удержать лошадь, но ослик с перепугу так подпрыгнул, что старик хоть сам и удержался в седле, но все-таки уронил наземь свою красивую папаху. Папаха была у него одна, он очень дорожил ею, надевал только по самым большим праздникам, и поэтому теперь страшно разозлился на не в меру резвую лошадь.
— У, чтоб тебе мытом заболеть! — злобно проворчал он на нее.
Ходжам Шукур, который шел чуть позади своих лошадей, любуясь ими со стороны, сперва рассмеялся на неловкость старика, но, заметив взгляд, которым тот провожал животное, испугался и поспешил его догнать.
— Нельзя плохим глазом на лошадь смотреть, если она на скачки идет, ровесник!
Старик отвел взгляд от лошади, посмотрел на Ход-жама Шукура, потом слез с ослика, нагнулся и подобрал свою папаху.
— Да на что она мне нужна, хан-ага? Вон видишь, как напугала, шапка слетела.
— Ну, тут вины ее нет, ровесник. Она же не наехала на тебя, резвится просто, бежать скорей хочет. Ты же знаешь, лошадь она и есть лошадь.
— Ладно уж, что там, хан-ага, — ответил уже успокоившийся старик, — пусть первой прискачет, у меня зла на нее нет…
Только тут успокоился и Ходжам Шукур, оставил старика и поспешил к своим лошадям.
Путь, по которому должны были скакать кони, был с обеих сторон помечен особыми вешками. Он шел по кругу, и дальнюю точку определяли одинокие заросли тальника, обогнув которые, всадники должны были поворачивать назад. Так как и в скачках, как и в жизни, находится много всяких хитрецов, желающих без особого труда загрести куш и готовых при общей горячке и неразберихе срезать незаметно круг, в тальнике сидел специальный человек, следивший, чтобы этого не произошло.
Глашатай Джаллы, вечный гость всех свадеб и прочих торжеств, и сейчас появился перед толпой. Он громко объявил:
— Выпускаются трехлетки. Кто уверен в своих скакунах, выходи!..
Четыре одинаковых, точно рожденных от одной матери, гнедых жеребца были выведены к месту старта. И шеи, и туловища — все у них было одного склада, и шерсть всех четырех одинаково поблескивала на солнце. Только у одного на лбу было белое пятно, в остальном же самый дотошный глаз не смог бы отличить их друг от друга. И наездники их тоже повязали головы одинаковыми белыми платками.
Скакуны не могли спокойно стоять на месте, перебирали нетерпеливо ногами, точно земля жгла им копыта. Волновались и наездники, каждому казалось, что у жеребца противника и холка выше, и ноги тоньше и длиннее.
Толпа тоже с нетерпением ждала, когда дадут сигнал к началу. И лишь в сторонке сидели на лошадях человек пять молодых парней, всем видом своим стараясь выказать безразличие к происходящему. Эти всадники были еще недостаточно опытны, чтобы участвовать в призовых скачках, они должны были скакать сбоку от дистанции, сопровождать к финишу возвращавшихся соперников.
У финишной черты стояли все старейшины Серахса, за исключением Сейитмухамед-ишана, которому сан не позволял принимать участие в этом деле. Один из них был главным распорядителем скачек. Чуть в сторонке от остальных стоял Ходжам Шукур. Сейчас он занят был разговором с богом, молил аллаха, чтобы тот первым привел к финишу его жеребца.
Старик распорядитель уже готов был дать старт, как неожиданно от толпы болельщиков оторвался всадник и во весь опор поскакал к группе у финиша. Это был пожилой худощавый человек, полы тонкого его халата развевались по ветру и лицо было красным от негодования. Он осадил коня возле самого яшули и с ходу начал кричать что-то.
— Нет, не может такого быть! — отвечал яшули.
— Это ты говоришь, а я хорошо его знаю, ровесник, такие люди ни бога, ни людей не боятся, что угодно могут сделать, совести-то у них нет!..
Яшули не хотел испытывать терпение наездников и поэтому уговаривал прискакавшего не мешать началу, но тот не сдавался:
— Нет, пусть он подъедет сюда, ты своими глазами глянь ей в зубы, иначе поперек поскачу, все равно проходу не дам!
Яшули понял, что спорить бесполезно и лучше в самом деле проверить лошадь перед началом скачек. Он снял папаху и махнул в сторону тех, кто был на старте:
— Эй, белолобый, сюда!
Наездник ослабил узду, и жеребец, принявший это как сигнал к забегу, бросился вперед. Остальные тоже было рванулись, но наездники их удержали. Рысаки громко заржали, явно выражая этим недовольство. Наездник, которого отозвал яшули, с трудом развернул своего жеребца и поскакал к старейшинам.
Как только он подъехал, яшули взял коня за морду и попытался открыть пасть. Но жеребцу это не понравилось, он тряхнул головой и вырвался из рук яшули.
— А ну, сам открой ему рот.
Наездник как бы нехотя занес ногу, но прискакавший старик опередил его, сам соскочил со своего коня, подбежал к жеребцу, крепко схватил его за челюсть и раскрыл рот.
Жеребец оказался пятилетним, старик был прав. Наездника тут же сняли с соревнования, и он поплелся в сторону с опущенной головой.
Кто-то закричал вслед:
— Поздравляем, джигит! Поделись наградой, ов!
Наездник разозлился, лицо его вспыхнуло.
Тем временем три лошади, оставшиеся на старте, получили сигнал и бросились вперед. Они подняли такой стук, как будто их было не три, а по крайней мере тридцать. Летящие из-под копыт комья глины словно праздничными пышками осыпали тех, кто стоял слишком близко.
Жеребец с пятном на лбу, увидев своих собратьев бегущими, заволновался, стал ржать, бить землю копытами. Ему тоже хотелось в забег. Хозяин злобно дернул поводьями, точно лошадь была виновата, что она оказалась старше, чем надо. Жеребец притих, но все равно не спускал глаз с подлетавшей уже к самому тальнику тройки.
Во втором заезде было выпущено шесть лошадей-пятилеток. С ними шла и лошадь Ходжама Шукура. Бывший хан потерял покой. Он закружил вокруг своего скакуна как заводной. То гладил ему гриву, то круп, то ноги. А лошадь стояла, не обращая на него внимания, и только вытягивала голову в сторону вернувшихся и прохаживавшихся жеребцов первого заезда.
— Пятилеток выводи на старт! — прокричал на всю округу Джаллы.
Все еще не прекращавшийся горячий спор между теми, кто был доволен результатами предыдущего заезда, и теми, кто был недоволен, сразу же притих, и головы всех повернулись в сторону выходивших к началу круга новых наездников.
Пять лошадей уже стояли на месте, и только не хватало одной — ханской. Ходжам Шукур все еще обхаживал ее, уговаривал, чуть не умолял прийти к финишу первой, как будто она понимала что-то и от его уговоров мог зависеть результат.
По приказу яшули Джаллы прокричал Ходжаму Шукуру:
— Хан-ага, вас ждут!
Шукур отчего-то приуныл, словно предчувствовал недоброе, собственноручно подвязал лошади хвост, подвел ее к месту старта и только тут передал повод наезднику.
Потом ласково похлопал лошадь и подтолкнул ее вперед:
— Иди, родная, да будет удача с тобой!
На сей раз топот сорвавшихся с места лошадей оказался еще сильнее, чем в первом заезде. Со всех сторон раздавались голоса:
— Йя, аллах!
— Постарайся, красавица моя!
— Чув-в!
— Давай, родная!
Особенно волновался Ходжам Шукур. Казалось, что он не стоит у финиша, а сам скачет на своей лошади. Хан размахивал руками; словно плетью рассекал воздух концом веревки и выкрикивал то и дело: «Йя, мой господин! О, Шахимердан!» Но никто не обращал на него внимания, все с не меньшим азартом следили за бегом летящих по кругу лошадей.
Глашатай Джаллы что-то выкрикивал, но его голос тонул в общем шуме. Те, кто уже сделали свои ставки, орали невообразимыми голосами, каждый выкликал имя своей лошади, надеясь, что если даже она шла позади, все равно успеет к финишу обогнать других.
Среди лошадей второго заезда была и черная лошадь Пенди-бая, в общем-то принадлежавшая больше Мяли-ку, который увлекался скачками гораздо сильнее, чем его отец. И сейчас он переживал куда заметней самого Пенди-бая. В Серахсе это была одна из самых лучших лошадей, и обскакать ее могла только лошадь Ходжама Шукура.
Сейчас они были главными претендентами на почетный приз. Большинство ставок приходилось именно на них.
Обычно, когда не было серьезных соперников, Мялик сам скакал на своей лошади, но в этот раз, когда она шла с лошадью Ходжама Шукура, он посадил в седло вместо себя своего приятеля Кичи-кела. Кичи-кел хоть и не был профессиональным джигитом, но в седле держался тоже неплохо, а главное, весил на целый пуд меньше Мялика. К тому же Кичи умел резким свистом подзадорить лошадь, а если рядом оказывался незадачливый наездник, моги дернуть его незаметно за ногу и заставить сбиться с галопа Мялику же только и надо было, чтобы его лошадь пришла первой.
И в этот раз он надеялся на своего друга. Лошади уже обогнули заросли тальника, Мялик во все глаза напряженно смотрел вперед. Он уже узнавал своего скакуна, узнавал Кичи, сидевшего в седле как приклеенный, но из-за того, что всадники неслись навстречу, не мог определить, чья лошадь идет впереди. Но чутье ему подсказывало, что первой идет его лошадь, — по крайней мере, он верил в это.
Рядом с Мяликом сидели на земле два паренька. Один из них толкнул в бок другого:
— Атабал, как думаешь, кто первый придет?
— Конечно, лошадь Ходжама! Кто у нас может обогнать ее? — и паренек почесал колено через дырку на штанах.
— Но ведь и у Пенди-бая черная лошадка тоже ничего, а, как ты думаешь?
Атабал, продолжая неистово чесаться, как будто у него была чесотка, ответил:
— Ха, да эта твоя черная лошадка рядом с лошадью Ходжама Шукура — осел!
Атабал был прав. Впереди всех шла лошадь Ходжама Шукура. И, лишь немного отставая, скакал Кичи на черной байской кобыле.
Но тут случилось то, чего не ожидал никто. Недалеко от финиша стояли два всадника, которые должны были для пущей торжественности сопровождать победителя сбоку на последнем отрезке пути. Как только лошадь хана поравнялась с ними, всадники пустили своих коней и закричали на полном скаку:
— Слава, хан-ага!
— Хан-ага, кидай шапку вверх!
— Слава победителю!
Две лошади сопровождающих скакали рядом, и вдруг одна из них метнулась неизвестно с чего в сторону другой, толкнула ее, и вторая, падая, полетела под ноги лошади Ходжама Шукура. Второй наездник как-то успел спрыгнуть и оказался позади, но ханской лошади уже не было места свернуть, она хотела перепрыгнуть через свалившуюся лошадь, но та как раз приподнялась на колени, и ханская лошадь, отбросив далеко наездника, полетела кувырком. Шедшие сзади наездники тучей пронеслись мимо лежащих на земле наездников и коней к уже совсем близкому финишу.
Первой пришла лошадь Пенди-бая. Она по правилам и должна была считаться победившей.
Не успели еще наездники прийти к финишу, как Ходжам Шукур, точно помутившийся в рассудке, бросился наперерез им к своей лошади. Кичи чуть не растоптал его, но успел на полном скаку взять чуть в сторону и пронесся в полушаге от хана.
Следом за Шукуром к его лошади кинулись еще человек десять. Ходжам Шукур стоял над своей кобылой не шевелясь, глядел на нее расширившимися от ужаса глазами. А лошадь лежала с неестественно вывернутой шеей и тоже не двигалась. Кто-то начал причитать:
— Ах, бедняжка!
— Сглазили!
— Вот жалко-то как!
Но ни одно из этих слов ни лошади, ни ее хозяину помочь ничем не могло.
Ханской кобылице не хватало воздуха, она громко дышала, тяжело раздувая ноздри.
Наездник, тоже пострадавший, но несравненно меньше, медленно подошел, хромая и держась одной рукой за бок.
— Что случилось? Обрежьте подпругу!
Кто-то вытащил кинжал и бросился к несчастной, но вгорячах вместо ремня полоснул кобылу, по ее телу прошла быстрая судорога. Кто-то пришел на помощь, и подпруга была перерезана. Лошадь задышала полегче, попыталась повернуть голову, но ей это не удалось, и снова по ее телу пробежала болевая дрожь. Шея была сломана. Один из стоявших сочувственно покачал головой:
— Бедняга, в таких муках умрет!
При слове «умрет» Ходжам Шукур замотал головой как ужаленный. Он всей душой возненавидел человека, сказавшего это, как будто слово тут могло что-то значить, потом он опомнился и закричал во весь голос:
— Гум-ма-а-ан!
Этот человек уже бежал к собравшейся у лошади толпе. Гумман был старым сейисом[73], но кроме того, что объезжал лошадей, он еще и разбирался немного в разных переломах и ушибах.
Гумман взглянул на лошадь, и с первого взгляда ему стало все ясно. Однако он побоялся сразу же сообщить хану свое заключение. Он нагнулся, потрогал сначала лошадиную шею, потом распухшую переднюю ногу и даже приложил ухо к животу. Потом поднялся, отошел в сторону и прикусил губу.
— Ну что, Гуммаджан?
Гумман ничего не ответил.
— Гуммаджан, можно хоть что-нибудь сделать?
Гумман поднял глаза на Ходжама Шукура:
— Хан-ага, вы очень любите свою лошадь?
Глаза хана озарились надеждой.
— Очень люблю! Поставь на ноги, ничего не пожалею!
— Если вы правда любите, избавьте ее от напрасных мук.
Все увидели, как по лицу хана потекли слезы. Хан, не глянув больше ни единого раза на лошадь, махнул рукой и отвернулся. Это должно было означать: «Если надо убивать, убейте, но я сам приказать не могу».
Без ханского позволения никто не решался подойти к лошади. Хан понял, что именно его слова и ждут сейчас. Все замерли, глядя на Ходжама Шукура. И хан наконец словно чужой рукой вытащил из-за пояса нож и молча протянул его назад.
Гумман взял нож и подошел к лошади. Нагнулся, но потом снова выпрямился.
— Нет, я не могу. Руки не те, только замучаю ее. Возьмите кто-нибудь…
Гумман вытянул вперед руку, но никто не подходил к нему. Каждому было жалко убивать красивую лошадь, хотя она и была искалечена.
— Что вы боитесь? Только добро сделаете! Она же мучается, смотрите…
Один человек подошел к Гумману и взял из его рук нож. Проверил пальцем лезвие, потом подошел к голове лошади, присел на корточки и прочитал короткую молитву. Раздался короткий вскрик:
— Йя, бисмилла!
Лошадь захрипела. Ходжам Шукур весь затрясся. Так и не поворачиваясь назад, он принял обратно свой нож и медленно пошел в сторону.
Глаза лошади и после смерти не закрывались. Сейис проговорил: «О, бедняга!», опустился на колени и попытался прикрыть веки руками. Но глаза так и оставались открытыми. Голова лошади была обращена к финишу, и людям казалось, что она и сейчас смотрит туда и мертвый ее взгляд выражает сожаление, мольбу, отчаянье…
А длинноногий старик все дальше и дальше удалялся от Агаменгли, высоко держа голову и гордо потряхивая космами длинношерстной папахи. Но и этого лихого наездника поджидало несчастье. Путь его пересекали лошади Ходжама Шукура. Одна из них, недовольная тем, что ее не пускают вскачь, проходя мимо ослика, свирепо поглядела на него и вдруг бросилась в его сторону. Наездник успел натянуть поводья и удержать лошадь, но ослик с перепугу так подпрыгнул, что старик хоть сам и удержался в седле, но все-таки уронил наземь свою красивую папаху. Папаха была у него одна, он очень дорожил ею, надевал только по самым большим праздникам, и поэтому теперь страшно разозлился на не в меру резвую лошадь.
— У, чтоб тебе мытом заболеть! — злобно проворчал он на нее.
Ходжам Шукур, который шел чуть позади своих лошадей, любуясь ими со стороны, сперва рассмеялся на неловкость старика, но, заметив взгляд, которым тот провожал животное, испугался и поспешил его догнать.
— Нельзя плохим глазом на лошадь смотреть, если она на скачки идет, ровесник!
Старик отвел взгляд от лошади, посмотрел на Ход-жама Шукура, потом слез с ослика, нагнулся и подобрал свою папаху.
— Да на что она мне нужна, хан-ага? Вон видишь, как напугала, шапка слетела.
— Ну, тут вины ее нет, ровесник. Она же не наехала на тебя, резвится просто, бежать скорей хочет. Ты же знаешь, лошадь она и есть лошадь.
— Ладно уж, что там, хан-ага, — ответил уже успокоившийся старик, — пусть первой прискачет, у меня зла на нее нет…
Только тут успокоился и Ходжам Шукур, оставил старика и поспешил к своим лошадям.
Путь, по которому должны были скакать кони, был с обеих сторон помечен особыми вешками. Он шел по кругу, и дальнюю точку определяли одинокие заросли тальника, обогнув которые, всадники должны были поворачивать назад. Так как и в скачках, как и в жизни, находится много всяких хитрецов, желающих без особого труда загрести куш и готовых при общей горячке и неразберихе срезать незаметно круг, в тальнике сидел специальный человек, следивший, чтобы этого не произошло.
Глашатай Джаллы, вечный гость всех свадеб и прочих торжеств, и сейчас появился перед толпой. Он громко объявил:
— Выпускаются трехлетки. Кто уверен в своих скакунах, выходи!..
Четыре одинаковых, точно рожденных от одной матери, гнедых жеребца были выведены к месту старта. И шеи, и туловища — все у них было одного склада, и шерсть всех четырех одинаково поблескивала на солнце. Только у одного на лбу было белое пятно, в остальном же самый дотошный глаз не смог бы отличить их друг от друга. И наездники их тоже повязали головы одинаковыми белыми платками.
Скакуны не могли спокойно стоять на месте, перебирали нетерпеливо ногами, точно земля жгла им копыта. Волновались и наездники, каждому казалось, что у жеребца противника и холка выше, и ноги тоньше и длиннее.
Толпа тоже с нетерпением ждала, когда дадут сигнал к началу. И лишь в сторонке сидели на лошадях человек пять молодых парней, всем видом своим стараясь выказать безразличие к происходящему. Эти всадники были еще недостаточно опытны, чтобы участвовать в призовых скачках, они должны были скакать сбоку от дистанции, сопровождать к финишу возвращавшихся соперников.
У финишной черты стояли все старейшины Серахса, за исключением Сейитмухамед-ишана, которому сан не позволял принимать участие в этом деле. Один из них был главным распорядителем скачек. Чуть в сторонке от остальных стоял Ходжам Шукур. Сейчас он занят был разговором с богом, молил аллаха, чтобы тот первым привел к финишу его жеребца.
Старик распорядитель уже готов был дать старт, как неожиданно от толпы болельщиков оторвался всадник и во весь опор поскакал к группе у финиша. Это был пожилой худощавый человек, полы тонкого его халата развевались по ветру и лицо было красным от негодования. Он осадил коня возле самого яшули и с ходу начал кричать что-то.
— Нет, не может такого быть! — отвечал яшули.
— Это ты говоришь, а я хорошо его знаю, ровесник, такие люди ни бога, ни людей не боятся, что угодно могут сделать, совести-то у них нет!..
Яшули не хотел испытывать терпение наездников и поэтому уговаривал прискакавшего не мешать началу, но тот не сдавался:
— Нет, пусть он подъедет сюда, ты своими глазами глянь ей в зубы, иначе поперек поскачу, все равно проходу не дам!
Яшули понял, что спорить бесполезно и лучше в самом деле проверить лошадь перед началом скачек. Он снял папаху и махнул в сторону тех, кто был на старте:
— Эй, белолобый, сюда!
Наездник ослабил узду, и жеребец, принявший это как сигнал к забегу, бросился вперед. Остальные тоже было рванулись, но наездники их удержали. Рысаки громко заржали, явно выражая этим недовольство. Наездник, которого отозвал яшули, с трудом развернул своего жеребца и поскакал к старейшинам.
Как только он подъехал, яшули взял коня за морду и попытался открыть пасть. Но жеребцу это не понравилось, он тряхнул головой и вырвался из рук яшули.
— А ну, сам открой ему рот.
Наездник как бы нехотя занес ногу, но прискакавший старик опередил его, сам соскочил со своего коня, подбежал к жеребцу, крепко схватил его за челюсть и раскрыл рот.
Жеребец оказался пятилетним, старик был прав. Наездника тут же сняли с соревнования, и он поплелся в сторону с опущенной головой.
Кто-то закричал вслед:
— Поздравляем, джигит! Поделись наградой, ов!
Наездник разозлился, лицо его вспыхнуло.
Тем временем три лошади, оставшиеся на старте, получили сигнал и бросились вперед. Они подняли такой стук, как будто их было не три, а по крайней мере тридцать. Летящие из-под копыт комья глины словно праздничными пышками осыпали тех, кто стоял слишком близко.
Жеребец с пятном на лбу, увидев своих собратьев бегущими, заволновался, стал ржать, бить землю копытами. Ему тоже хотелось в забег. Хозяин злобно дернул поводьями, точно лошадь была виновата, что она оказалась старше, чем надо. Жеребец притих, но все равно не спускал глаз с подлетавшей уже к самому тальнику тройки.
Во втором заезде было выпущено шесть лошадей-пятилеток. С ними шла и лошадь Ходжама Шукура. Бывший хан потерял покой. Он закружил вокруг своего скакуна как заводной. То гладил ему гриву, то круп, то ноги. А лошадь стояла, не обращая на него внимания, и только вытягивала голову в сторону вернувшихся и прохаживавшихся жеребцов первого заезда.
— Пятилеток выводи на старт! — прокричал на всю округу Джаллы.
Все еще не прекращавшийся горячий спор между теми, кто был доволен результатами предыдущего заезда, и теми, кто был недоволен, сразу же притих, и головы всех повернулись в сторону выходивших к началу круга новых наездников.
Пять лошадей уже стояли на месте, и только не хватало одной — ханской. Ходжам Шукур все еще обхаживал ее, уговаривал, чуть не умолял прийти к финишу первой, как будто она понимала что-то и от его уговоров мог зависеть результат.
По приказу яшули Джаллы прокричал Ходжаму Шукуру:
— Хан-ага, вас ждут!
Шукур отчего-то приуныл, словно предчувствовал недоброе, собственноручно подвязал лошади хвост, подвел ее к месту старта и только тут передал повод наезднику.
Потом ласково похлопал лошадь и подтолкнул ее вперед:
— Иди, родная, да будет удача с тобой!
На сей раз топот сорвавшихся с места лошадей оказался еще сильнее, чем в первом заезде. Со всех сторон раздавались голоса:
— Йя, аллах!
— Постарайся, красавица моя!
— Чув-в!
— Давай, родная!
Особенно волновался Ходжам Шукур. Казалось, что он не стоит у финиша, а сам скачет на своей лошади. Хан размахивал руками; словно плетью рассекал воздух концом веревки и выкрикивал то и дело: «Йя, мой господин! О, Шахимердан!» Но никто не обращал на него внимания, все с не меньшим азартом следили за бегом летящих по кругу лошадей.
Глашатай Джаллы что-то выкрикивал, но его голос тонул в общем шуме. Те, кто уже сделали свои ставки, орали невообразимыми голосами, каждый выкликал имя своей лошади, надеясь, что если даже она шла позади, все равно успеет к финишу обогнать других.
Среди лошадей второго заезда была и черная лошадь Пенди-бая, в общем-то принадлежавшая больше Мяли-ку, который увлекался скачками гораздо сильнее, чем его отец. И сейчас он переживал куда заметней самого Пенди-бая. В Серахсе это была одна из самых лучших лошадей, и обскакать ее могла только лошадь Ходжама Шукура.
Сейчас они были главными претендентами на почетный приз. Большинство ставок приходилось именно на них.
Обычно, когда не было серьезных соперников, Мялик сам скакал на своей лошади, но в этот раз, когда она шла с лошадью Ходжама Шукура, он посадил в седло вместо себя своего приятеля Кичи-кела. Кичи-кел хоть и не был профессиональным джигитом, но в седле держался тоже неплохо, а главное, весил на целый пуд меньше Мялика. К тому же Кичи умел резким свистом подзадорить лошадь, а если рядом оказывался незадачливый наездник, моги дернуть его незаметно за ногу и заставить сбиться с галопа Мялику же только и надо было, чтобы его лошадь пришла первой.
И в этот раз он надеялся на своего друга. Лошади уже обогнули заросли тальника, Мялик во все глаза напряженно смотрел вперед. Он уже узнавал своего скакуна, узнавал Кичи, сидевшего в седле как приклеенный, но из-за того, что всадники неслись навстречу, не мог определить, чья лошадь идет впереди. Но чутье ему подсказывало, что первой идет его лошадь, — по крайней мере, он верил в это.
Рядом с Мяликом сидели на земле два паренька. Один из них толкнул в бок другого:
— Атабал, как думаешь, кто первый придет?
— Конечно, лошадь Ходжама! Кто у нас может обогнать ее? — и паренек почесал колено через дырку на штанах.
— Но ведь и у Пенди-бая черная лошадка тоже ничего, а, как ты думаешь?
Атабал, продолжая неистово чесаться, как будто у него была чесотка, ответил:
— Ха, да эта твоя черная лошадка рядом с лошадью Ходжама Шукура — осел!
Атабал был прав. Впереди всех шла лошадь Ходжама Шукура. И, лишь немного отставая, скакал Кичи на черной байской кобыле.
Но тут случилось то, чего не ожидал никто. Недалеко от финиша стояли два всадника, которые должны были для пущей торжественности сопровождать победителя сбоку на последнем отрезке пути. Как только лошадь хана поравнялась с ними, всадники пустили своих коней и закричали на полном скаку:
— Слава, хан-ага!
— Хан-ага, кидай шапку вверх!
— Слава победителю!
Две лошади сопровождающих скакали рядом, и вдруг одна из них метнулась неизвестно с чего в сторону другой, толкнула ее, и вторая, падая, полетела под ноги лошади Ходжама Шукура. Второй наездник как-то успел спрыгнуть и оказался позади, но ханской лошади уже не было места свернуть, она хотела перепрыгнуть через свалившуюся лошадь, но та как раз приподнялась на колени, и ханская лошадь, отбросив далеко наездника, полетела кувырком. Шедшие сзади наездники тучей пронеслись мимо лежащих на земле наездников и коней к уже совсем близкому финишу.
Первой пришла лошадь Пенди-бая. Она по правилам и должна была считаться победившей.
Не успели еще наездники прийти к финишу, как Ходжам Шукур, точно помутившийся в рассудке, бросился наперерез им к своей лошади. Кичи чуть не растоптал его, но успел на полном скаку взять чуть в сторону и пронесся в полушаге от хана.
Следом за Шукуром к его лошади кинулись еще человек десять. Ходжам Шукур стоял над своей кобылой не шевелясь, глядел на нее расширившимися от ужаса глазами. А лошадь лежала с неестественно вывернутой шеей и тоже не двигалась. Кто-то начал причитать:
— Ах, бедняжка!
— Сглазили!
— Вот жалко-то как!
Но ни одно из этих слов ни лошади, ни ее хозяину помочь ничем не могло.
Ханской кобылице не хватало воздуха, она громко дышала, тяжело раздувая ноздри.
Наездник, тоже пострадавший, но несравненно меньше, медленно подошел, хромая и держась одной рукой за бок.
— Что случилось? Обрежьте подпругу!
Кто-то вытащил кинжал и бросился к несчастной, но вгорячах вместо ремня полоснул кобылу, по ее телу прошла быстрая судорога. Кто-то пришел на помощь, и подпруга была перерезана. Лошадь задышала полегче, попыталась повернуть голову, но ей это не удалось, и снова по ее телу пробежала болевая дрожь. Шея была сломана. Один из стоявших сочувственно покачал головой:
— Бедняга, в таких муках умрет!
При слове «умрет» Ходжам Шукур замотал головой как ужаленный. Он всей душой возненавидел человека, сказавшего это, как будто слово тут могло что-то значить, потом он опомнился и закричал во весь голос:
— Гум-ма-а-ан!
Этот человек уже бежал к собравшейся у лошади толпе. Гумман был старым сейисом[73], но кроме того, что объезжал лошадей, он еще и разбирался немного в разных переломах и ушибах.
Гумман взглянул на лошадь, и с первого взгляда ему стало все ясно. Однако он побоялся сразу же сообщить хану свое заключение. Он нагнулся, потрогал сначала лошадиную шею, потом распухшую переднюю ногу и даже приложил ухо к животу. Потом поднялся, отошел в сторону и прикусил губу.
— Ну что, Гуммаджан?
Гумман ничего не ответил.
— Гуммаджан, можно хоть что-нибудь сделать?
Гумман поднял глаза на Ходжама Шукура:
— Хан-ага, вы очень любите свою лошадь?
Глаза хана озарились надеждой.
— Очень люблю! Поставь на ноги, ничего не пожалею!
— Если вы правда любите, избавьте ее от напрасных мук.
Все увидели, как по лицу хана потекли слезы. Хан, не глянув больше ни единого раза на лошадь, махнул рукой и отвернулся. Это должно было означать: «Если надо убивать, убейте, но я сам приказать не могу».
Без ханского позволения никто не решался подойти к лошади. Хан понял, что именно его слова и ждут сейчас. Все замерли, глядя на Ходжама Шукура. И хан наконец словно чужой рукой вытащил из-за пояса нож и молча протянул его назад.
Гумман взял нож и подошел к лошади. Нагнулся, но потом снова выпрямился.
— Нет, я не могу. Руки не те, только замучаю ее. Возьмите кто-нибудь…
Гумман вытянул вперед руку, но никто не подходил к нему. Каждому было жалко убивать красивую лошадь, хотя она и была искалечена.
— Что вы боитесь? Только добро сделаете! Она же мучается, смотрите…
Один человек подошел к Гумману и взял из его рук нож. Проверил пальцем лезвие, потом подошел к голове лошади, присел на корточки и прочитал короткую молитву. Раздался короткий вскрик:
— Йя, бисмилла!
Лошадь захрипела. Ходжам Шукур весь затрясся. Так и не поворачиваясь назад, он принял обратно свой нож и медленно пошел в сторону.
Глаза лошади и после смерти не закрывались. Сейис проговорил: «О, бедняга!», опустился на колени и попытался прикрыть веки руками. Но глаза так и оставались открытыми. Голова лошади была обращена к финишу, и людям казалось, что она и сейчас смотрит туда и мертвый ее взгляд выражает сожаление, мольбу, отчаянье…
Когда праздник, оказавшийся таким печальным, закончился и люди уже начали было расходиться, возле кладбища «Верблюжья шея» показался всадник с женщиной позади себя. Всадник скакал по направлению к людям. Всем стало любопытно. А всадник остановился около первого попавшегося ему навстречу прохожего и задыхающимся голосом спросил: — Где хан у вас? Ему показали. Каушут шел вместе с Пенди-баем, Непес-муллой и Оразом-яглы. Завидев всадника, скакавшего им навстречу, они остановились. Всадник с трудом переводил дух, но все же, стараясь быть как можно почтительней, поздоровался. — Откуда ты будешь, парень? — спросил его Непес-мулла. — Я вижу, у тебя дело какое-то до нас? Юноше, сидевшему на коне, было лет девятнадцать. По рукам, большим и мозолистым, можно было угадать в нем дехканина. Он поглядел с надеждой на стоящих перед ним яшули и ответил: — Дело мое в том, что я не просто путник, а беглец. Мы скачем уже целые сутки. — Значит, ты выкрал девушку? — усмехнулся Пен-ди-бай. — Да, я ее украл, отец. — Глаза парня вдруг засверкали. — Я украл девушку, которую люблю, и отдам ее только со своей головой! — А от нас что ты хочешь? — спросил снова Непес-мулла. Юноша опустил глаза и уже не таким уверенным тоном ответил: — От вас… Мы хотели… Мы хотели попросить вашей защиты… Пока. Ну, пока мы не найдем где спрятаться… — У тебя разве нет родственников? — Я совсем один… — Откуда ж ты родом? — Сам я из Каррыбента, из Теджена. За нами, наверное, уже гонятся, у этой девушки шесть братьев, и если они сейчас поймают нас… Каушут, все время молчавший, пристально посмотрел в лицо парню. — Яшули, что вы так смотрите на меня? Узнать хотите? У меня с ханами не было родни… — Нет, я хочу спросить… — Спрашивайте, все, что знаю, скажу… — Скажи мне, только честно, ты насильно увез ее? — Я ее люблю… — Любить — это одно, а чтоб тебя любили — другое. Говорят, о камыш кибитки, где красивая девушка живет, и собака потрется. Ты мне скажи, она была согласна или нет? Юноша поглядел на Каушута и повернулся назад. — Айсолтан, не бойся, здесь одни туркмены. Скажи сама, хотела ты со мной бежать? Девушка подняла накидку и взглянула на людей. Все подивились ее необыкновенной красоте. «Ну уж, если ты такую красавицу заставил полюбить, я тебе помогу», — подумал про себя Каушут. Айсолтан горячо проговорила: — Я буду с ним до конца жизни, если только не отнимет у меня его аллах! Сказав это, она снова закрыла лицо. Каушут хотел позвать юношу к себе, но Пенди-бай опередил его: — Считайте, у моего очага вам уже готово место. Как тебя зовут, сынок? — Аннам, яшули. — Езжай, Аннам, вон в тот аул, там спросишь, где живет Пенди-бай, и скажи, что я велел тебе остаться у меня. — Сто лет жизни вам, бай-ага, спасибо! Юноша развернул коня и поскакал в направлении, указанном ему Пенди-баем. Яшули пошли дальше. А Каушут-хан, заметив впереди, в идущей перед ними толпе, Кичи-кела, крикнул ему: — Ах-хов! Парень! Поди сюда! Услышав голос Каушута, Кичи-кел бегом заспешил к нему. — Эссаламалейкум, отцы! Яшули вместе с Каушутом ответили ему. — А ты почему здесь? — спросил Каушут, — Почему не уехал в Хиву? Кичи-кел принадлежал к нукерам Хемракули-хана, главного сборщика налогов. Этих нукеров, не причинив им никакого вреда, подобру-поздорову выгнали из Серахса. Но Кичи-кел подумал, что в Хиве изгнанных сборщиков налогов ничем хорошим не встретят, и остался в Серахсе. Он не знал сейчас, что ответить Каушуту, молчал, понурив голову. Яшули, не дождавшись ответа, пошли дальше, а Каушут сказал, собираясь тоже уйти с аксакалами: — Кичи-бек, советую тебе никогда не плевать в небо, потому что этот плевок всегда попадет тебе же в лицо.
На следующий день сразу после утреннего намаза к Каушуту прискакал Мялик и сказал, что Пенди-бай просит его немедленно прийти. Каушут понял: что-то случилось, но не стал расспрашивать Мялика, думая, что дело связано с Хивой, а в серьезных вещах бай не очень-то доверял сыну. Каушут тут же сел на коня и поскакал. Пенди-бай встретил его на дворе. Лицо у бая было взволнованно, и Каушут спросил: — В чем дело? Что случилось? — Хан, чужая собака пришла и гостей привела. Вчерашнего парня ночью зарезали, а девушку увезли. Каушут много бед пережил в своей жизни, но эта внезапная весть заставила его сердце больно сжаться. Пенди-бай повернулся, и Каушут молча пошел следом за ним. — Вот здесь я их оставил, — сказал Пенди-бай, когда они подошли к кибитке. Каушут осторожно приподнял полог и вошел внутрь. На полу, словно спящий, раскинув в стороны руки, лежал Аннам, верхняя часть тела и голова были накрыты его собственным доном. Каушут приподнял край дона и взглянул в лицо юноши. Глаза его были раскрыты и, казалось, говорили: «Я вам поверил, хан-ага…» Каушут опустился на колени и провел рукой по векам раскрытых глаз. — Да будет земля тебе пухом, сынок! Потом Каушут поднялся и повернулся к Пенди-баю; — Этот грех на нас, бай-ага! Узнал бы я негодяя, который выдал его! Пенди-бай опустил голову, не зная, что отвечать. Ответ лежал посреди кибитки, по-мертвецки вытянувшись на полосатом одеяле. Когда Мамед-хан вошел в низенький глинобитный домик, он задохнулся от зловония. Однако нукеры сидели тут, скрестив ноги, и занимались своим делом. Мамед-хан зажал пальцами свой широко расплюснутый нос, уродства которого не могли скрыть даже пышные смоляные усы. Огляделся по сторонам и, гундося, поскольку нос был зажат указательным и большим пальцем левой руки, спросил: — Как тут у вас? Много тылла[74] уходит? — За эту неделю даже пять тылла не ушло, — ответил один из нукеров. — Даст бог, скоро и одного не будет уходить, — сказал хан. — Да, теперь мало ушей приносят, — подтвердил нукер и опустил голову, словно задумавшись о чем-то. Он прикрыл глаза, но отрезанные уши по-прежнему маячили перед ним. Его угнетали мысли о своей несчастной судьбе, о непристойном занятии, к которому принудил его хан. Словно забыв о его присутствии, нукер проворчал сквозь зубы: «И что за жизнь?! Что за работа — человеческие уши клеймить?! Лучше умереть, чем есть такой хлеб!» — Хан-ага! — вдруг воскликнул он и вскочил с места. — Пожалейте, хан-ага! Избавьте меня от этой работы, по ночам не могу спать, только и вижу: уши да отрезанные головы. Вчера мать приснилась, и она без ушей. Мы всякое видели — и как деньги считают, и как скот считают. Поставьте на конюшне работать, хан-ага, или я сойду с ума, пожалейте, хан-ага. — Может, тебя на хивинскую конюшню? — перебил хан. Нукер смолчал. Ему было ясно. Если он откажется от этой гнусной работы в Караябе и вернется в Хиву, Мядемин снимет ему голову, лишит жизни его родственников и даже детей. Нет, он должен смириться с судьбой, даже если бы ему пришлось пересчитывать не только отрезанные уши, но и выдавленные человеческие глаза. Хивинское ханство воздвигло в Караябе крепость и направило туда Мамед-хана, который усердно служил Мядемину и к его жестокостям немало прибавил и своих. Чтобы держать в страхе и повиновении сарыков, чтобы припугнуть туркмен из Мары и Серахса, он объявил всем, что будет платить за каждую голову, отрезанную у непокорного сарыка, десять тылла, а за пару отрезанных ушей по пяти тылла. Мядемин охотно пошел на эти расходы. Но чтобы одни и те же уши не сдавались дважды, Мамед-хан велел ставить на них метки. Когда он вошел в маленький глинобитный домик, два нукера как раз и занимались этой работой. Караябскую крепость туркмены стали называть повсеместно «Крепостью ушей». Хан не мог долго находиться в домике и дышать этим смрадом. Он вернулся к открытой двери и прислонился к косяку. — Что с жалобой старухи? — спросил он. — Вон ее жалоба! — ответил нукер. Мамед-хан посмотрел в сторону, куда показал нукер. Там к стене были приколоты тамарисковыми ветками два уха. — Это хорошо, — одобрительно сказал хан. Приколотые уши не принадлежали ни непокорному сарыку, ни разбойнику, ограбившему караван Мядемина. Они принадлежали сарыку по имени Агалык, который отважился исказить приказ Мамед-хана. Несчастный Агалык-ага, чтобы заработать пять тылла и не найдя непокорного, отрезал уши своему племяннику, приехавшему погостить. Сестра Агалыка-ага, мать пострадавшего, пожаловалась Мамед-хану, и тот, возмутившись неслыханным жульничеством, приказал отрезать уши самому Агалыку. Один из нукеров, поставив клеймо на очередную пару чьих-то ушей, бросил их в мешок и обратился к хану: — Какие вести из Хивы, хан-ага? — Из Хивы? — переспросил хан уже из-за двери, потому что не мог больше стоять даже у выхода. — Да, из Хивы. — Из Хивы пока нет никаких вестей. — Вряд ли хан ханов будет спокойно смотреть на поведение текинцев, — вмешался в разговор второй нукер. Мамед-хан уже собрался было совсем уйти, вернулся назад и весело рассмеялся. — Не думай, баранья голова, — сказал он, — что Мядемин-хан останется в долгу. Поведение текинцев говорит нам только о той палке, которая обрушится на их головы. В один прекрасный день Мядемин-хан приведет тысячное войско, и ты увидишь текинцев на коленях. — Мамед-хан сделал небольшую передышку и прибавил: — Пусть это вас не заботит, делайте свое дело. После этих слов Мамед-хан ушел. — Неужели, — спросил первый нукер, — хан ханов пригонит тысячное войско? — Обязательно пригонит, — ответил второй нукер. — Если он придет с тысячным войском, Насреддин и думать перестанет, чтобы пройти через горы. Хан ханов не успокоится, пока своего не добьется.
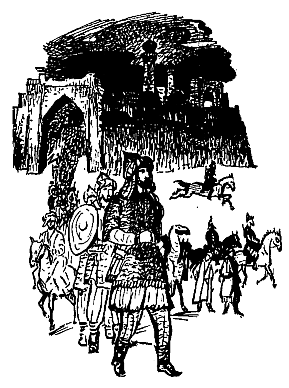 Нукеры горячо обсуждали серахский вопрос. Прежние хивинские ханы, которые были до Мядемина, — его отец Аллакули-хан и его старший брат Рахимкули-хан, несмотря на то что Хорезмский вилайет был больше некоторых других ханств, все же считали себя подчиненными иранского хана. Мядемин же, пришедший к власти в тысяча восемьсот сорок пятом году, не захотел согласиться с устоявшимся положением. Он стал считать Хорезм самостоятельным ханством, вывел его из-под власти Хорасана. В течение десяти лет он совершал набеги на туркменские земли и стал собирать с туркмен дань. Это не понравилось иранскому шаху Насреддину. Его возмутило то, что Хива начинает прибирать к своим рукам земли туркмен. И он решил положить этому конец. У Насреддина таких наместников, как Мядемин-хан, было около двадцати, и каждый из них занимал территорию не меньшую, чем Хорезм. Владея таким богатством, Насреддин не мог допустить своеволия Мядемина, его власти над туркменами. Он решил отправиться в Хиву и на всех землях Хорезма оставить следы копыт своей боевой конницы. Узнав об этом намерении, главный визирь Садрыагзам сразу же понял, насколько рискован и ошибочен замысел шаха. Хотя упрямый Насреддин признавал только собственное мнение, все же не считал унижением для себя слушаться советов главного визиря. На этот раз Садрыагзам предостерег шаха от похода на Хиву. Чтобы отправиться туда с большим войском, потребуются огромные запасы продовольствия, кроме того, безводные пустыни, которые придется преодолевать, могут таить в себе неожиданные и даже непреодолимые трудности. Вместо рискованного похода главный визирь предложил другой план, согласно которому можно завладеть туркменами без особых затрат. С согласия шаха визирь написал бумагу и с нею отправил в Серахс мирзу Афсалеллы. Переговорив со старейшинами Серахса, Афсалеллы должен был отправиться с той же бумагой к сарыкам в Мары. В шахской бумаге предлагалось туркменам иранское покровительство. Главный визирь понимал, что туркмены согласятся платить любую дань Ирану, если шах защитит их от набегов и грабежа со стороны Хивы. Если туркмены смогут спокойно сеять и пасти свой скот, они согласны будут отдавать кому угодно половину своих доходов. В бумаге волею шаха давалось обещание: «И если туркмены выделят четыре сотни верховых нукеров для службы в шахском войске и отправят в залог сорок своих семей, то всемогущий Насреддин обещает содержать текинцев и сарыков под своим покровительством и ограждать их от набегов любого врага».
Старейшины Серахса приняли Афсалеллы как почетного гостя. От имени Каушут-хана было написано письмо Насреддину, в котором говорилось, что текинцы принимают условия шаха. Заручившись согласием в Серахсе, Афсалеллы отправился в Мары.
Когда все это дошло до слуха Ходжама Шукура, которого изгнали в свое время текинцы, и тот, затаив обиду, перебрался со своими родственниками в Карабурун, подальше от текинцев и сарыков, бывший хан Серахса поспешил известить Мядемина о состоявшейся сделке. Не преминул он добавить при этом, что главная роль в этой сделке с иранским шахом принадлежит Каушут-хану. С помощью Мядемина Ходжам Шукур намеревался отомстить своему кровному врагу Каушут-хану, опираясь на бежавших из Мары в Карабурун и ставших ненавистными сарыкам старейшин.
Нукеры горячо обсуждали серахский вопрос. Прежние хивинские ханы, которые были до Мядемина, — его отец Аллакули-хан и его старший брат Рахимкули-хан, несмотря на то что Хорезмский вилайет был больше некоторых других ханств, все же считали себя подчиненными иранского хана. Мядемин же, пришедший к власти в тысяча восемьсот сорок пятом году, не захотел согласиться с устоявшимся положением. Он стал считать Хорезм самостоятельным ханством, вывел его из-под власти Хорасана. В течение десяти лет он совершал набеги на туркменские земли и стал собирать с туркмен дань. Это не понравилось иранскому шаху Насреддину. Его возмутило то, что Хива начинает прибирать к своим рукам земли туркмен. И он решил положить этому конец. У Насреддина таких наместников, как Мядемин-хан, было около двадцати, и каждый из них занимал территорию не меньшую, чем Хорезм. Владея таким богатством, Насреддин не мог допустить своеволия Мядемина, его власти над туркменами. Он решил отправиться в Хиву и на всех землях Хорезма оставить следы копыт своей боевой конницы. Узнав об этом намерении, главный визирь Садрыагзам сразу же понял, насколько рискован и ошибочен замысел шаха. Хотя упрямый Насреддин признавал только собственное мнение, все же не считал унижением для себя слушаться советов главного визиря. На этот раз Садрыагзам предостерег шаха от похода на Хиву. Чтобы отправиться туда с большим войском, потребуются огромные запасы продовольствия, кроме того, безводные пустыни, которые придется преодолевать, могут таить в себе неожиданные и даже непреодолимые трудности. Вместо рискованного похода главный визирь предложил другой план, согласно которому можно завладеть туркменами без особых затрат. С согласия шаха визирь написал бумагу и с нею отправил в Серахс мирзу Афсалеллы. Переговорив со старейшинами Серахса, Афсалеллы должен был отправиться с той же бумагой к сарыкам в Мары. В шахской бумаге предлагалось туркменам иранское покровительство. Главный визирь понимал, что туркмены согласятся платить любую дань Ирану, если шах защитит их от набегов и грабежа со стороны Хивы. Если туркмены смогут спокойно сеять и пасти свой скот, они согласны будут отдавать кому угодно половину своих доходов. В бумаге волею шаха давалось обещание: «И если туркмены выделят четыре сотни верховых нукеров для службы в шахском войске и отправят в залог сорок своих семей, то всемогущий Насреддин обещает содержать текинцев и сарыков под своим покровительством и ограждать их от набегов любого врага».
Старейшины Серахса приняли Афсалеллы как почетного гостя. От имени Каушут-хана было написано письмо Насреддину, в котором говорилось, что текинцы принимают условия шаха. Заручившись согласием в Серахсе, Афсалеллы отправился в Мары.
Когда все это дошло до слуха Ходжама Шукура, которого изгнали в свое время текинцы, и тот, затаив обиду, перебрался со своими родственниками в Карабурун, подальше от текинцев и сарыков, бывший хан Серахса поспешил известить Мядемина о состоявшейся сделке. Не преминул он добавить при этом, что главная роль в этой сделке с иранским шахом принадлежит Каушут-хану. С помощью Мядемина Ходжам Шукур намеревался отомстить своему кровному врагу Каушут-хану, опираясь на бежавших из Мары в Карабурун и ставших ненавистными сарыкам старейшин.
Был год барса. И Мядемин-хан был уверен, что в этом году его войско должно показать свою силу и отвагу, свойственные барсу. Поэтому, не сомневаясь в успехе, Мядемин собрал двадцатитысячное войско[75] и седьмого числа месяца рыбы[76], в среду, выступил из Хивы в сторону Мары. Народ Хивы еще никогда не видел такого скопления вооруженных людей. Женщины, старики и дети с обочин дороги с удивлением провожали взглядами проходившее войско. Было удивление, но была во многих взглядах и ненависть к Мядемин-хану. Уже много недель хивинец не мог спокойно сходить на базар, где рыскали нукеры хана, отбирали лошадей и верблюдов, предназначенных к продаже, а то и вовсе тех, на которых люди приехали на базар. Отбирали, не заплатив за животных ни гроша. Иначе откуда бы хану набрать чуть ли не пять тысяч верблюдов для перевозки продовольствия и почти столько же для бочек с водой. Груженый караван начал выступать из города на рассвете, а вышел за его стены только после обеда, — так он был длинен. Ждали появления Мядемин-хана, но хан не показался ни в начале, ни в конце шествия. Прошел слух, что Мядемин остается в Хиве, а руководить войском поручил Хорезму Казы и Мухамедмураду Махрему. Но это было не так. Хорезм Казы действительно шел в начале войска, а Мухамедмурад Махрем с пятьюстами всадниками еще раньше отправился в Ахал. По поручению Мядемина он должен был заранее подготовить и запугать ахальцев, чтобы они не вздумали помогать Серахсу. После того как все прошло, проехало и туча пыли, поднятая копытами, осела на землю, кругом наступила тишина. Шумные улицы стали мертвыми. И тут только показалась группа всадников. Впереди ехало четыре верховых в военном одеянии. Следом за ними на белом коне, разодетый так, что невозможно было определить цвет его одежды, ехал сам Мядемин. Лицо удрученное чем-то, глаза сощурены, будто хан не выспался. Мядемин был крепким, широкоплечим. И лошадь его была ему под стать, заметно отличалась от других. Вся ее сбруя вместе с уздечкой сверкала серебряными монетками, дорогими украшениями, как и полагалось ханской лошади. Другие кони, на которых гарцевали всадники из свиты Мядемина, тоже были украшены, но рядом с ханской лошадью напоминали красавиц, одетых в обноски. В непосредственной близости от хана ехали Бабаназар-аталык, Мухамедэмин-юзбаши, Халназар Бахадур. Бекмурад-теке и ближайший советник хана Мухамед Якуб Мятер. Как и сам Мядемин, они выглядели усталыми и угрюмыми. Ехали молча. Хотя толпа давно уже разошлась, с выездом хана люди снова стали собираться у дороги. Мядемин никак не отвечал на приветствия стариков, на поклоны детишек, проезжал мимо них, не меняя позы. И только Мухамед Якуб Мятер, словно стыдясь за хана, вертел головой, налево и направо отвешивая поклоны. Босоногий мальчишка, стоявший под ивой, неожиданно выскочил на дорогу, бросился к последней группе конников и пронзительно закричал: — Наша! Наша! — С криком схватился за узду гнедой лошади со звездочкой на лбу. От неожиданности лошадь вскинулась, и всадник, Бекмурад-теке, едва не вывалился из седла, но, удержавшись, натянул повод, привстал на стременах, во всю силу стеганул плетью узнавшего свою лошадь мальчишку. И тот, вскрикнув от боли, плашмя упал на пыльную дорогу. Бекмурад-теке даже не оглянулся, но когда до его ушей донесся тоненький голосок: «Ой, умираю!» — ханский прислужник пригладил усы и с улыбкой проговорил: — Туда тебе и дорога, щенок. Бекмурад-теке был одним из хваленых сотников Мядемин-хана, прославился своей необузданной жестокостью еще в Караябе. Говорят: «В каждом народе надо охотиться с его собаками». И Мядемин-хан в разбойных набегах на туркмен часто высылал вперед Бекмурада-теке, потому что тот, будучи туркменом, хорошо знал своих соплеменников и действовал по пословице: «Страну покоряет знающий страну». Когда была построена «Крепость ушей», Мядемин хотел послать туда Бекмурада-теке, но сотник отказался от этой чести, потому что был уверен, что сарыки и текинцы не дадут ему долго прожить. Они ненавидели и считали его хуже собаки. Бекмурад ждал часа, чтобы заплатить своим соплеменникам за их ненависть к нему. И этот час настал. Сегодня шел он с многотысячным войском проливать туркменскую кровь. Тяжело навьюченные верблюды уныло и почти незаметно продвигались вперед. После двадцатидвухдневного перехода было решено сделать основательный привал в Даяхатыне. Прибывший сюда на два дня раньше Мядемин издал приказ, который удивил все войско. Перед выходом из Даяхатына воины должны были разрушить старые дома и прихватить с собой по пяти кирпичей каждый. Хан решил по пути ставить кирпичные вышки или вехи. Люди и верблюды и без того были перегружены, но никто не посмел ослушаться ханского приказа, и из города было взято в дорогу сто тысяч кирпичей. Мядемин рассчитывал через неделю быть в Мары. День только еще начал накаляться. Начало каравана уже скрылось в пустыне, хвост его уже покинул Даяхатын, настал час и Мядемину собираться в дорогу. Уже в седле он вдруг взмахнул рукой в сторону белой палатки. — Птица! — вскрикнул он. Бекмурад-теке вмиг подскочил к Мядемину. — Хан-ага, — обратился он, заискивая, — вашу птицу отправили вместе с сундуком. Мядемин, не взглянув на него, сурово повторил: — Птицу! Бекмурад понял, что дальше лучше не спорить, вскочил на своего коня и полетел вслед за караваном, уже скрывшимся из виду. Хан не успел поставить ногу в стремя, как двое слуг тут же подхватили его и забросили в седло. Хан даже не заметил посторонней помощи, точно это сам аллах вознес его, тронул лошадь, и она не спеша понесла его вперед. А слуги, согнувшись пополам, кланялись, пока хан не отъехал на порядочное расстояние.
Через несколько дней Дангатар снова собрался сходить к ишану растолковать свою судьбу. Но как только он отошел от кибитки, уже и забыл, куда он хотел и зачем. Голова у него кружилась, казалось, ее изнутри ест какой-то червь, и когда этот червь там поворачивался, все перед глазами переворачивалось тоже. На что теперь ни смотрел старик, везде ему мерещились кровавые пятна, иногда они начинали расти, сливались в одну красную лужу, посреди которой плавал Ораз… Но иногда, наоборот, Дангатару казалось, что мальчик жив. Старик сватал его, приглашал на свадьбу гостей, радовался до тех пор, пока его не охватывало обычное состояние ужаса и тоски. Дул холодный ветер. Небо с одной стороны покрывалось темными, рваными тучами. Казалось, вот-вот пойдет дождь или снег. Дангатар шагал, подталкиваемый сзади ударами ветра, и угрюмо глядел под ноги. Вдруг он увидел перед собой высохший куст курая, иногда его называют «перекати-поле». Неизвестно, какие мысли возникли в голове старика, но он сперва остановился, смотрел некоторое время на этот отделившийся уже от своего корня сухой и легкий шар, а потом пошел прямо на него. Но тут налетел новый порыв ветра, и круглый куст курая дрогнул и, как живой, покатился вперед. Дангатар закричал: — Стой! Стой! Но колючка продолжала катиться. Тогда старик засунул за пояс обе полы своего старенького халата и бросился вдогонку. Перекати-поле цеплялось за кусты янтака, задерживалось, точно подпускало специально, играя с Дангатаром, но едва он подбегал, как тут же срывалось и укатывалось дальше. Наконец на пути курая оказалась небольшая ямка, шар скатился туда и уже не мог выбраться. «Ага, — пробормотал Дангатар. — Ну что, куда ты теперь побежишь?» Он приостановился и не спеша стал приближаться к шару. На краю ямы Дангатар стал, поглядел со злорадством на колючку, спрыгнул вниз и принялся, как маленький, топтать ее ногами. Когда на дне ямки осталась одна труха, Дангатар выбрался оттуда и стал засыпать песком останки перекати-поля. Скоро получилась маленькая могилка. Старик прочитал над ней короткую неразборчивую молитву, поднялся и пошел дальше. Он шел и напевал негромко:
Бедный соловей, бедный соловей, Ты там поплачь, а я тут поплачу. Погибший в горе бедный соловей, Ты там поплачь, а я тут поплачу.
Бедный соловей, больше слез не лей, Пожалей меня, я и так уж плачу. Утешитель мой, бедный соловей, Ты там поплачь, а я тут поплачу…
Впереди показался аул. Дангатар не мог сообразить, куда он попал. После, когда подошел поближе, узнал кибитку Пенди-бая, остановился и позвал: — Пенди-бай! Пенди-бай! Никто не откликался. Дангатар закричал снова: — Пенди-бай, ов! Пендиджан, ов! Наконец ширма откинулась, и из кибитки вылез Мя-лик. Вид у него был раздраженный. — Кому там надо Пенди-бая? Нет его, уехал в Горгор! Дангатар быстро пошел к Мялику. — А ты кто такой, родственник его? Как тебя зовут? Мялик узнал Дангатара и сильно смутился. Он слышал, что старик тронулся после того, что случилось, да это и ясно было, раз Дангатар не узнал его. Мялик решил подыграть старику, притвориться, что они в самом деле незнакомы, и почтительно ответил: — Я сын его, яшули. Меня зовут Мялик-бай. Если вам что надо, говорите. Но старик обрадованно закричал: — А, Мялик-бай, это ты! Что же я сразу не узнал! Саламалейкум, Мяликджан! Саламалейкум, Мялику-лиджан! Как живешь, Мяликджан? Мялику было в крайней степени не по себе. И он, не поднимая головы, ответил: — Саламалейкум, яшули. Хорошо живу, спасибо. — А дома как, все в порядке? — И дома в порядке. — Слава богу. И туйнук вашей кибитки тоже в порядке? Мялику уже лень было отвечать. — А кобыла ваша здорова? Мялик наконец не выдержал и зло закричал на старика: — Да какого тебе дьявола до нашей кобылы?! Но Дангатар как будто ничего и не расслышал. — И жеребеночек ее здоров, его ночью не зарезали? У Мялика внутри все задрожало. — Слушай, яшули, если тебе чего надо, говори и убирайся отсюда. Дангатар странно улыбнулся: — Говоришь, убирайся? — Да, убирайся. — А куда убирайся? Мялик махнул рукой, повернулся и хотел было идти, но старик ухватил его за рукав: — Эй, не уходи, подожди немного. Мялик остановился, какая-то сила приковывала его к старику и заставляла слушать его бред. — Если ты никому не скажешь, я тебе открою один секрет. Мялик молчал. — Только поклянись сначала. — Ну да, я клянусь. — А чем клянешься? — Чем хочешь. — Тогда поклянись навозом быка. — Хорошо, считай, что я поклялся. Дангатар притянул к себе Мялика и зашептал ему на ухо: — Так вот, вчера мне приснился сон. Ты Оразджана знаешь? Мялик с трудом ответил: — Нет, не знаю я никакого Оразджана. — Не знаешь?.. Ну все равно… Приходит ко мне Оразджан и говорит: «Папа, этой ночью меня зарезал Мяликджан!» Это правда, Мяликкули? У Мялика и руки и ноги сделались как ватные. Он был не в силах поднять голову и не знал, что делать. Турнуть отсюда этого старика или стоять столбом и смотреть на его страдания? И тут он услышал всхлипывания и поднял голову. Старик уже отошел в сторону, присел на сырую землю, скрестив под собой ноги. Он рыдал, и слезы лились из его единственного глаза. Мялик против своей воли подошел к старику и присел перед ним на корточки. Ему отчего-то безумно захотелось признаться в своем преступлении, но он не знал, с чего начать. И поэтому проговорил только: — Не плачь же, яшули! Дангатар протянул руки и положил их на плечи Мялика. — Кому же, как не мне, плакать, Мяликджан! Бог побил меня обеими руками, сынок. Моего сына убили! Единственного моего сына! Что мне теперь делать? Я уже и невесту ему нашел… А его убили. И меня убили. Мялик почувствовал, что не может больше скрывать тайну от старика, и открыл уже рот, но тут к ним подошла Огултач-эдже, услышавшая из кибитки странные речи. Увидев ее, Дангатар перестал улыбаться, — Огултач-эдже, саламалейкум! Мялик встал на ноги и опомнился, ему стало страшно, оттого что едва не выдал самого себя. Но теперь он сделался снова таким, как всегда, и не чувствовал уже ни малейшей жалости к несчастному старику. — Мама, это Дангатар, у которого убили сына. Старик перестал плакать и улыбнулся: — Саламалейкум, Огултач-эдже! Огултач хотела что-то сказать, но старик перебил ее: — Я завтра сына женю, невестка. Обещал сватам одну овечку. Если я не дам овечку, сваты уедут, не отведав шурпы[77]. Свадьба должна быть свадьбой, пусть сваты отведают нашей шурпы. Дай мне взаймы одну овечку, Огултач. Огултач-эдже сообразила, что старик не в своем уме, но не стала его огорчать. Ей хотелось хоть чем-то утешить несчастного. — Мяликджан, сходи в загон и приведи одну овцу. Мялик усмехнулся и пошел к загону. А Огултач-эдже присела рядом с Дангатаром. — Невестка, послушай, я тебе сейчас все расскажу. — Расскажите, Дангатар-ага, не бойтесь, расскажите. — Сына моего убили, Огултач-эдже. Что мне теперь делать? Кто отомстит за него? Я совсем один, я старый, и родственников у меня нет, некому за меня постоять, Огултач! У женщины на глазах заблестели слезы. — Ах, собака какая, чтобы руки у него отсохли, чтобы язык у него в болячках стал, чтобы жизни ему не было, этому убийце!.. Ах как мне жалко вас, Дангатар-ага!.. Мялик принес черного ягненка и опустил его на землю перед Дангатаром. Ягненок был совсем ручной и не пытался убежать, только заблеял жалобно: «Ме-е-е!» — и посмотрел с любопытством на старика. — Ай какой ягненок! Ты и блеешь еще! — Дангатар погладил его мордочку. — Вот подожди, вырастешь, большим бараном будешь. Дангатар вдруг оттолкнул ягненка, поднялся на ноги и, не говоря ни слова, пустился, как маленький, вприпрыжку. Он убегал прочь, а Огултач-эдже долго смотрела ему вслед, потом с тяжелым вздохом сказала: — Кто же этот проклятый убийца, чтоб ему пусто было! А проклятый убийца стоял рядом с опущенной головой и молча рассматривал носки своих чарык.
В середине пути к Мядемину подъехал мингбаши Абанур Ниязмахрем с молодым воином из ханского войска. Хан вопросительно уставился на своего мингбаши. Тот, низко поклонившись, доложил: — Хан-ага, этот юноша не хочет воевать. Что прикажете сделать с ним? Мядемин был зол, он не любил останавливаться в пути. Но тут преобразился вдруг, стал добрым, великодушным человеком. — Да? Не хочет воевать? — Хан сочувственно перевел глаза на юношу. — Что же, молодой человек, с тобой случилось? По родным заскучал? — Да и по родным тоже. Хан нарочито вздохнул: — Мама вспомнилась? — Да, вспомнилась. — А еще что тебе вспомнилось? — А еще я не хочу убивать бедняков, таких же, как мы сами. У меня, хан-ага, рука на них не поднимается. Мядемин покачал головой: — А ты случайно не мерин? — Нет, хан-ага, у меня два сына есть. — И ты уверен, что твои? Юноша молчал, не зная, что отвечать на это оскорбление. Вместо него ответил сам хан: — Да нет, навряд ли они твои, наверное, они твоего соседа. Юноша сжал кулаки и опустил голову. Как раз в эту минуту вернулся на взмыленном коне Бекмурад-теке, подал хану клетку с птицей и отъехал на два шага, ожидая нового приказания. Лицо хана на миг просветлело. Он поднес клетку к лицу, дунул в нее, перепелка затрепыхала крыльями и перепрыгнула из одного угла в другой. Хан не глядя протянул клетку назад, один из слуг тут же подлетел и бережно принял ее. — Хан-ага, так что делать с ним? — спросил снова Ниязмахрем. — Отправить его домой? — А мы спросим сейчас у теке. — Я готов служить, хан-ага, — тут же угодливо ответил Бекмурад. — Ну вот. Скажем, был бы ты третьим сыном Алла-кули-хана… — Лепбей[78], брат! — живо откликнулся Бекмурад, уже представивший себя младшим братом Мядемин, — …и ведешь ты, представь, целое войско. А один твой воин не хочет воевать, хочет вместо того, чтобы идти в Мары, возвращаться в Хиву… На полпути он струсил… Ну, и что бы ты сделал с ним? Бекмурад-теке взглянул на юношу и понял, что речь идет о нем. Теке не сразу сообразил, что ответить. На этого парня ему было наплевать, но он боялся, как бы ответ его не разочаровал хана и Мядемин бы не сказал: «Какой из тебя сын Аллакули-хана!» Но и заставлять ждать тоже было нельзя. С подобными вопросами хан обращался разве только к Мухамеду Якубу Мятеру, а уж с наемными сотниками, вроде Бекмурада, и здоровался даже не всегда, поэтому случая терять было нельзя. И Бекмурад-теке изобразил на своем лице негодование и воскликнул: — Был бы я младшим сыном Аллакули-хана, я бы сказал, что таких трусов надо живыми в землю зарывать. Мядемину ответ понравился, он кивнул головой, тряхнул поводом и, не добавляя больше ни слова, двинулся вперед. Бекмурад-теке тоже было тронулся вслед за ханом, но, проехав рядом некоторое расстояние, подумал, что может показаться Мядемину слишком назойливым, и попросил его позволения вернуться назад и проследить, как будет исполнен приказ «младшего сына Аллакули». Прямо на том месте, где состоялся суд, два человека уже рыли яму, поднимая облако пыли, а юноша стоял рядом и старался не глядеть на них, словно не он сейчас должен был лечь живым в эту яму без савана и отходной молитвы. Когда работа двух копальщиков уже приближалась к концу и всем стало ясно, что казнь вот-вот совершится, один из стариков, стоявших рядом, не выдержал и подошел к Абануру Ниязмахрему, который, как начальник непокорного воина, обязан был присутствовать при казни. — Ровесник, неужели этому бедняге так и погибать? Но ответил ему Бекмурад-теке: — На свете нет большего проступка, чем ослушаться ханского приказа! И если кто-то считает невиновным человека, названного ханом, то должен сам лезть в яму вместо него! И Ниязмахрему, в душе не желавшему смерти юноше, пришлось кивнуть головой, потому что он боялся, что, если будет спорить с Бекмурадом, тот донесет на него хану. Тем временем копальщики уже вылезли из ямы, воткнули в землю лопаты и принялись отряхивать с себя песок. Даже самый жестокий человек, казалось, не решился бы без всякой личной вражды закопать в землю другого, и Ниязмахрем все еще надеялся, что теке в конце концов сжалится над юношей и отменит свой приказ, ограничившись каким-нибудь более легким наказанием. Но Бекмурад молчал и всем своим видом показывал, что ждет исполнения приказа. Видя заминку в деле, он сам крикнул: — Возьмите у него ружье. Оно пригодится, когда будем сражаться с врагами. Всех поразило, что Бекмурад, будучи сам туркменом, так назвал своих соплеменников. Но никто не тронулся с места. Ниязмахрему пришлось приказать самому: — Сними ружье! Юноша снял его и приставил к только что насыпанному песчаному холмику. — А теперь лезь в яму. Все ждали, что парень теперь бросится в ноги начальнику и станет молить его о пощаде, но он даже не поднял глаз, сделал несколько шагов к яме и остановился в нерешительности. Тут прежний сердобольный старик снова подал голос: — Подождите, сынки! Старик был поваром мингбаши Ниязмахрема, и звали его Маруф-ага. Маруф подошел к Бекмураду и сложил руки как для молитвы. — Справедливый вождь! Я всю жизнь прослужил хану. Пожалейте его! Он мой сосед, единственный кормилец в семье, а у него двое детей. Бекмурад холодно смотрел на старика. — Вождь мой, я до самой смерти буду служить вам, не убивайте только этого юношу! Или уж закопайте вместо него меня! Я уже прожил большую часть жизни, а его года только начались! Бекмураду не верилось, что старик и вправду готов принять такое наказание вместо друга. Он подумал, что сам даже ради родного отца не полез бы в землю. А тут ради чужого человека!.. Теке прищурил глаза: — Ты и в самом деле готов лезть вместо него? Старик тут же горячо ответил: — Только прикажите, сделайте милость! Глаза его были полны мольбы, слезы катились по сморщенным щекам и мочили седую бороду. Бекмурад понял, что старик и вправду готов на смерть, но такой исход его не устраивал, ему хотелось до конца выслужиться перед ханом. Бекмурад-теке отвернул голову. — И козу подвешивают за свою ногу, повар, и барана. Старик закрыл лицо руками и отошел в сторону. А Бекмураду надоела эта возня, он повернулся к юноше и резко приказал: — Ну, тебе говорят, лезь в яму! Юноша не двигался с места. Он смотрел на черное дно могилы, а оттуда, казалось, поднимали к нему руки жена и двое его ребятишек и, плача, молили его: «Не бросай нас, не оставляй сиротами! Попроси пощады, они простят!» Но юноша был слишком горд, чтобы целовать подошвы чужеродному наемнику. Видя, что приказ его не выполняется, теке посмотрел зло на мингбаши, требуя, чтобы он, как начальник, распорядился. Ниязмахрему не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться воле Бекмурада. Он прекрасно понимал, что в противном случае его самого ждет наказание. Мингбаши видел: если просто отдать приказ, никто по своей воле не примет сейчас на себя роль палача. Поэтому он указал рукой на двух воинов: — Вы, двое, подите сюда. Те, кому было приказано, подошли. — Если не хотите попасть сами в эту же яму, свяжите ему руки и бросьте туда. Воины, стараясь не глядеть на окружающих, подошли к юноше и принялись исполнять свое дело. Юноша даже не сопротивлялся. От страха мучительной смерти он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Через минуту он был связан. Все вокруг замерли от ужаса, некоторые даже отвернулись, не в силах дальше смотреть на это. Сами воины, связавшие юношу, невольно попятились назад. Бекмурад-теке разъяренно закричал на Ниязмах-рема: — Мингбаши, ты кто у них, начальник или мальчишка на побегушках? Таким не у хана служить, лепешки печь! Ниязмахрем от этих слов тоже разъярился. — Ну, вы, туда же захотели? Бросайте его в яму! Двое воинов опять приблизились к осужденному. В последнее мгновение юноша поднял голову и крикнул: — Маруф-эке[79], только матери не говорите!.. Его толкнули в спину, и он, как колода, свалился на дно могилы. Лопаты заработали вовсю. Из ямы раздался глухой вопль. Но он длился недолго. После очередной лопаты стало снова тихо, и только слышались шлепки песка в уже засыпанную почти до самого верха яму.
От Пенди-бая Дангатар отправился в соседний аул, где жил Сейитмухамед-ишан. Как только он подошел к первой кибитке, женщины, занимавшиеся чем-то во дворе, торопливо всё побросали и вбежали в дом. Дангатар подошел к самой кибитке и толкнул дверь. Но она не поддавалась. Тогда он громко сказал: — Эссаламалейкум всем! Из кибитки не раздалось ни звука в ответ, как будто там никого и не было. Тогда старик начал отвечать себе сам. — Валейкум эссалам, Дангатар-хан! Как дела? — Благодарю, все у меня хорошо. — Входи в дом, хан-ага, будь гостем! — Ай, некогда мне по гостям рассиживать. Просто я должен вам сообщить одну вещь. — Говори, рады тебя слушать, Дангатар-ага. — Завтра я женю сына. Женщины, дети, старики, — всех прошу ко мне на свадьбу! — Желаем тебе удачи, Дангатар. Даст бог, обязательно придем. — Ну, я пошел тогда. И Дангатар пошел дальше. Следующая кибитка, возле которой он остановился, принадлежала Ширшеп-эдже. Сама старуха по обыкновению сидела возле порога и, потея, пила чай из огромного чайника, который стоял у ее ног. Появление Дангатара не слишком ее обрадовало, она уже слышала, что он сошел с ума, и поэтому разговаривать с ним было мало радости, но прятаться неповоротливой старухе было уже поздно. Когда она сообразила это, то решила, что лучше теперь не бежать, раз все равно не убежишь, а лишний раз выслужиться перед аллахом, и сама первая ласковым голосом поздоровалась со стариком: — Саламэлик, Дангатарджан, как дела, какздоровье? — Спасибо, у меня хорошо. А почему ты про детей не спрашиваешь, Ширшеп? — Как дети, здоровы ли, Дангатар? — Слава богу. А почему ты не пригласишь меня сесть рядом с тобой? — Сделай милость, садись, Дангатарджан! — А почему ты не предлагаешь мне чаю, Ширшеп? — Пей чай, Дангатарджан! — Нет, спасибо, не хочу. Теперь ты можешь меня спрашивать. Ширшеп не знала, про что спрашивать старика. Она оглядела его с ног до головы и заметила три небольшие дочиста обглоданные кости, подвешенные у него возле пояса на веревочном кушаке, и осторожно спросила: — А это что за украшения у тебя, Дангатарджан? Дангатар высокомерно посмотрел на нее: — А ты что, сама не видишь или они тебе слишком простыми кажутся? — Что ты? Нет совсем, Дангатарджан, только никак не пойму, что это такое? — Вот это стрела, видишь, вся в золоте, — показал Дангатар на первую кость. — А это кинжал, он мне достался от Кероглы-бека, а это кольчуга от Сапара-косе[80]. Ну, что еще тебе непонятно? — Нет, теперь все понятно, Дангатарджан. — Тогда я тебя буду спрашивать. — Спрашивай, Дангатарджан. — Ты мне отдашь вот эту кочергу? — он показал на закопченную кочергу, лежавшую возле порога кибитки. — Бери, ради бога, Дангатарджан! Я ведь ее специально для тебя и приготовила! Дангатар тут же вскочил на ноги, схватил кочергу и, как мальчишка, оседлал ее. — Похож мой конь на Кырата[81] Кероглы-бека? Ширшеп-эдже не так поняла вопрос Дангатара и ответила: — Да Кырат в подметки ему не годится! — Врешь! Это и есть Кырат, а лучше Кырата ничего на свете не может быть! — Да, прости, Дангатар, я ошиблась, правда, это и есть Кырат, я его сразу не признала. — Не признала? Как это можно не признать? Может, ты и есть та старуха, которая украла у Кероглы коня? — Да мне уж ни кони, ни ишаки больше не нужны, Дангатарджан… Дангатар теперь замолчал и, не слезая со своего «коня», сосредоточенно смотрел в одну точку. Ширшеп-эдже было страшно молчать с сумасшедшим, ей казалось, что когда он молчит, то готовится к чему-то нехорошему, и поэтому она снова решила завести разговор. — А тебе больше не хочется ничего у меня спросить, Дангатарджан? — Мне у тебя еще много чего спросить надо. — Ну, спроси тогда. — Скажи мне, сколько тебе лет? — Семьдесят три. — Значит, ты уже старше самого Мухамета-про-рока?[82] — Да, старше, выходит. — А когда ты умрешь? — Когда срок придет. — Ты уже и в прошлом году так говорила, где ж твой срок, чего он не приходит? — Это только один аллах может знать, Дангатарджан. — А ты знаешь, что я только что от него? Сам он отправился разбойничать к гаджарам, а меня послал к тебе. — Зачем же он послал тебя? — с испугом спросила Ширшеп-эдже. — Он сказал забрать душу у Ширшеп. Оказывается, он просто забыл, а твой срок еще в прошлый на-вруз настал. Значит, ты, грешница, уже лишнее живешь… Ширшеп, боявшаяся смерти пуще всего на свете, при этих словах задрожала, выронила из рук пиалу, вскочила и бросилась со всех ног в дом, хоть и была грузная и неповоротливая. Дангатар засмеялся, развернул «коня» и поскакал прочь. По дороге он подобрал кусок веревки и сделал из нее узду. Теперь он скакал к Сейитмухамед-ишану. Сейитмухамед на этот раз был дома. Дангатар оставил «коня» во дворе, вошел в кибитку и, не здороваясь, сел сразу напротив ишана. Оба некоторое время молчали. Потом Дангатар поднял голову и спросил: — Сейитмухамед-ишан, скажи мне, кто убил Ораза? Говорят, он спрятался на дне реки, правда это? Сейитмухамед, не желая противоречить старику, ответил: — Правда, Дангатар, правда. Он тебя боится, этот негодяй, и боится выйти оттуда. Дангатар снял с пояса одну из костей и поднял ее над головой. — Тогда, хозяин Сейитмухамед, дай мне напутствие! Благослови меня! Я изрублю его на куски прямо там, на дне, и отомщу за своего сына! Сейитмухамед с опаской поглядел на него, не зная, что ответить. Но Дангатар вдруг сказал: — Ай, мне и не нужно благословение такого ишана, как ты! Он быстро вскочил на ноги и выбежал из кибитки. Дангатар поскакал прямо к реке. У берега он остановился, отбросил в сторону кочергу и засучил рукава, точно готовясь к бою… Сейитмухамед уже бежал к нему и кричал на ходу: — Дангатар-ага, стойте! Дангатар-ага!.. Но было уже поздно. Дангатар разбежался и прыгнул головой вниз с береговой кручи. Сейитмухамед остановился, запыхавшись. Он глядел в воду с надеждой, что Дангатар выплывет, но тело старика не показывалось. Буйные подводные водовороты уже тащили его, вероятно, вниз по течению. Появление войска Мядемина в Мары первоначально не вызывало среди людей большого переполоха. Хитрый хан сговорился с наместником Ниязмухамед-баем, и около двухсот его слуг, мулл, старейшин, писарей заранее подготовили жителей Мары. Они распускали слухи о том, что хан собирается предпринять поход в целях укрепления мусульманства среди туркмен и защиты народа от дурного влияния и посягательств Бухары и Ирана. Поэтому люди встречали Мядемина чуть не хлебом-солью и лишь потом убеждались, какими «защитниками» являются на деле его воины. …Два всадника прискакали с восходом солнца на двор Ниязмухамед-бая. Хозяин сам выскочил навстречу, и ему было сообщено, что к вечеру Мядемин-хан прибывает в Мары. Ннязмухамед был уже давно готов к встрече хана, но близость его прихода заново взволновала угодливого бая, и он заметался по своему огромному двору, желая самолично проверить, все ли готово, все ли сделано как надо. Он взглянул на очаги, осмотрел огромные казаны, в которых должен был вариться плов, подергал каждый за медные ушки, точно проверяя, сумеют ли выдержать они свою тяжесть. Во дворе был возведен просторный навес для воинов Мядемина. Поскольку время стояло предвесеннее — ветреное и дождливое, навес был и с боков защищен камышом и кошмами. Под крышей в два ряда были расстелены новые чистые циновки, а в центре каждой стоял кальян. Если взглянуть сбоку, то эти кальяны напоминали ряд толстобрюхих, с тонкими шеями людей, усевшихся ради свершения какого-то обряда в одну линию. Ниязмухамед-бай постоял, оглядел все и покачал головой. Ему показалось, что циновок и кальянов было мало, но циновки-то еще можно было достать, а вот кальяны собрали все до последнего в округе. Сразу же за навесом стоял небольшой домик с терраской. Бай откинул штору и зашел внутрь, люди, сопровождавшие его, остановились, точно не смели переступить порог. Здесь должен был расположиться сам хан. Все стены были увешаны тут дорогими коврами, в углу была расстелена мягкая, широкая подстилка, которой выпала честь служить ложем самому Мухамеду Эмину Эпегу, или, иначе, хивинскому властителю Мядемин-хану. Ниязмухамед осторожно, словно тут уже лежал сам хан, ощупал это ложе, проверяя, нет ли где жесткого места. Но тут все вроде было в порядке. Однако вид ложа навел бая на другую мысль. Он высунулся наружу и крикнул: — Позовите Хасану! Вошла пожилая женщина, задернула поплотнее за собой штору и, готовая слушать, повернулась к баю. — Сколько всего? Вопрос был ясен Хасане. Главное, что готовил Ниязмухамед для встречи хана и его приближенных, были, конечно, не кушанья и дорогие ковры. Бай знал, что любят богатые люди, у которых и денег, и власти, и роскоши без того вдоволь. Тут можно было угодить только женщиной. «Если он мужчина, — так считал бай, — пусть ему даже за восьмой десяток перевалило, от молоденькой красавицы он никогда не откажется. Если даже сам съесть уже не сможет, так хоть понюхает!» И тут бай был прав. Зачастую решение самых важных вопросов зависело от женщины, предлагаемой хану. Если он оставался ею доволен, то и проситель получал благосклонный ответ. — Восемь всего, бай-ага, — ответила Хасана. Бай призадумался. — А что, больше не нашлось? — Сами знаете, бай-ага, кто пойдет на такое дело? И эти-то все старые. — Как? Почему? — Да потому, что в этих краях я, кажется, единственная и осталась! — усмехнулась Хасана. — Что ты говоришь?! Совсем обезумела! Какая из тебя женщина! Да твою женственность четверть века как по ветру разнесло! — А мне что теперь делать? — Что делать!.. Для Мядемина не такая, как ты, нужна, а богиня, пери!..[83] Ты хоть понимаешь, что это слово значит? — Понимаю, бай-ага… — Понимаешь!.. А толку-то что!.. Я думаю, может, пройтись по аулам потихоньку?.. — Нет, это не годится, бай-ага. Сарыки лучше сами в рабство пойдут, чем жену или дочь на денек одолжат. — Что ж, и кайтарма все передохли? Хасана со вздохом подняла глаза к небу, как бы призывая аллаха в свидетели, что она сделала все от нее зависящее, и если не удалось угодить баю, так это вина не ее, а проклятых сарыков. Бай мысленно представил тех восьмерых, о которых сказала Хасана. Все они мало устраивали Ниязмухаме-да. Большинству было уже под тридцать, и почти все они были известны как гулящие, проведшие свою молодость в Хиве и за ремесло свое оттуда изгнанные. — Ну, а для самого хана хоть кто-нибудь есть? Хасана снова вздохнула. Надо было что-то предпринимать. Иначе, Ниязмуха-мед чувствовал, ему придется несладко. Бай верил, что Мухамед Эмин в конце концов подчинит себе всех туркмен, а сам он рассчитывал с ханской помощью сделаться наместником в Серахсе, поэтому в нынешний приезд ему было необходимо особенно угодить Мядемину. «Да, — бормотал он про себя, — оказывается, не только соль, но и девушки бывают за редкость». Воображение рисовало ему стройных сарыкских красоток, застенчивых и юных, и он бы ничего сейчас не пожалел, чтобы найти хоть одну такую, но найти их, как прекрасно понимал бай, тем более за эти считанные часы, было невозможно. Ниязмухамед нахмурился и готов был уже совсем отчаяться, как вдруг внезапное решение пришло ему в голову. Он поднял глаза на Хасану и внимательно поглядел ей в лицо. — Хотите приказать что-то, бай-ага? — Приведи сюда Айсулув. Но запомни: если об этом узнает хоть одна живая душа, ходить вам всем без головы. Айсулув была дочерью самого Ниязмухамеда. Два месяца назад он отдал ее за сына Бекмурада-теке, а сейчас она была кайтарма, жила в отцовском доме. Через минуту перед баем появилась высокая и стройная, прекрасная лицом Айсулув. Она прикрыла одной рукой лицо и спросила: — Вы звали меня, отец? Бай сладко ей улыбнулся. — Звал, доченька, звал. Ты знаешь, что сегодня в дом твоего отца прибывает высокий гость — великий хан великой Хивы. А ты — дочь такого гостеприимного отца, в доме у которого сегодня будет много гостей… Ты должна быть этому рада, детка. — Я очень рада, отец. — Будь радостной и внимательной к гостям, дочка. Моя честь — это и твоя честь. А наша с тобой честь… Тут бай запнулся, он сообразил, что к дальнейшему разговору слова эти совсем не подходили. — Ну, в общем, мы отвечаем за весь марыйский народ. — Я это знаю, отец. — Так вот, сегодня ночью мы будем разговаривать с нашими высокими гостями до самого утреннего намаза. Пусть ослепнут завистники! У моего очага будет веселье. Весь народ подивится! И тебе, дочка, придется посидеть вместе с нами. Айсулув быстро подняла глаза на отца и тут же опустила. Бай путался, он никак не мог найти нужных слов, все-таки любому отцу было нелегко сказать собственной дочери, что она должна отдаться ради его выгод чужому человеку. И все же ничего другого баю не оставалось. — Да, тебе, дочка, придется побыть вместе с нами и поразвлекать высоких гостей, в особенности самого Мухамеда Эмин-хана… Тебе даже придется поднести ложку к его рту, если он тебя об этом попросит. Слова эти подтвердили подозрения, еще раньше пришедшие в голову Айсулув. И она твердо ответила: — Нет, отец, я не буду подносить ложку ко рту хана. — В этом нет, дочка, ничего зазорного. Каждый раз, когда твоя рука будет подниматься ко рту хана, и честь твоего отца будет подниматься все выше и выше… — Нет, отец, я не могу этого сделать. Вы уже отдали меня другому, чтобы я ему подносила ложку ко рту! И этого с меня достаточно. — А если я очень тебя попрошу об этом? Ответа не последовало. Айсулув повернулась и быстро вышла. А бай настолько был ошеломлен своеволием дочери, что сделал невольно несколько шагов назад и плюхнулся, обессиленный, на приготовленное хану ложе. Среди пятнадцати человек, отправившихся с караваном в Ахал, был и Курбан. Никогда в жизни он еще не участвовал в столь важном деле. Никогда в жизни он не бывал еще в столь далекой стороне. Он и радовался, и волновался, и старался изо всех сил не вызывать никаких нареканий Непес-муллы. Но в то же время на всем пути Курбан чувствовал в сердце неослабевающую тревогу. Тревога эта была связана с Каркарой. Курбан боялся, как бы без него девушку опять не выкрали, потому что и прежние несчастья случались, когда его не было в ауле. Первый раз Курбан ходил по какому-то делу к Пенди-баю, а во второй гостил у знакомых в Карабуруне. И теперь Курбану все мерещилось: возвращается он домой и слышит: «В тот же день, как вы ушли в Ахал, Каркару увезли». К тому же беспокоило Курбана и состояние Каркары. Гибель брата, а потом смерть отца тяжело подействовали на нее. С того самого дня, как Дангатар бросился в реку, Курбан ни разу не видел, чтобы глаза девушки были сухими. Сначала Каркара все еще надеялась, что отец как-нибудь спасся, что выплыл дальше на берег и Сейитмухамед-ишан просто не заметил его. Но через несколько дней человек, приехавший из Теджена, сообщил, что возле них река вынесла труп какого-то одноглазого дехканина, они и похоронили его на своем кладбище. Особенно Каркара страдала из-за того, что ее несчастный отец, столь много претерпевший в жизни, умер не своей смертью и похоронен в чужой земле без слез и молитвы родных. От всех бед Каркара и внешне даже изменилась, глаза ее потускнели, лицо похудело. О собственном счастье она больше и не думала; она казалась себе не девушкой-невестой, а глубокой старухой, узнавшей уже все горе, которое может выпасть на долю человека. Все дни она проводила рядом с Язсолтан, они вместе чинили одежду, вышивали. Язсолтан рассказывала ей разные истории, сказки, терпеливо пытаясь отвлечь девушку от ее несчастий, и Курбан был всей душой благодарен этой женщине за ее нежную заботу о его возлюбленной. За несколько дней до отправления в Ахал Курбану передали коня, на котором он должен был ехать. Это был дар от старейшин аула всеми любимому сироте. Курбан, не имевший никогда в жизни даже собственного ишака, не отходил теперь ни на шаг от своего сокровища. Собственно, это не был какой-нибудь тонконогий красавец скакун, вроде тех, что брали призы на скачках, нет, это была обыкновенная приземистая лошадка, да и масти не очень понятной, но для Курбана, поскольку она была теперь его собственной, лошадка эта стоила всех скакунов на свете. Перед самым отъездом Курбан повел ее купать в Теджене. Подскакав к реке, он увидел довольно далеко от себя девушку, сидящую на берегу. Хотя лица ее и не было видно, Курбан почувствовал, что это Каркара. Он испугался: не собралась ли она прыгать в воду вслед за отцом, развернул коня и поскакал в ее сторону. Каркара сидела неподвижно, смотрела в реку и, когда подскакал Курбан, лишь быстро подняла на него глаза и опустила их снова. Курбан соскочил с коня и подошел к ней. — Что ты тут делаешь, Каркара? — Я пришла посмотреть на своего кровопийцу. — Кто же твой кровопийца? — Вот эта река. — Река не виновата, Каркара. Это просто судьба у нас с тобой такая. У меня же, знаешь, тоже все умерли. — Ты мужчина, у тебя совсем другое дело. — Знаешь, пошли лучше домой, Каркара. Что люди скажут, если тебя тут увидят? Да и потом — берег пустой, мало ли кто может появиться. — Мне теперь нечего бояться. Если даже эта черная река живьем проглотит меня, то я была бы только счастлива. А до людей мне вообще дела нет, я их видеть не хочу! — Ты что, Каркара! Разве так можно про людей говорить! — Да пусть сдохнут эти люди! Если бы у них хоть капля совести была, они бы не приходили свататься на другой день после смерти отца! Курбан сразу изменился в лице. — За кого сватали? — Не знаю… Опять, наверное, за вдовца… — Нет, ты не пойдешь ни за кого! Курбан произнес это так горячо, что девушка испуганно подняла на него глаза. — Я ведь люблю тебя, Каркара. И я тебе клянусь, что не отдам тебя никому другому… Каркара вскочила на ноги. От радости и стыда глаза ее пылали. Она протянула руки к Курбану, словно хотела его обнять, но вдруг опомнилась, повернулась и побежала в сторону аула. А Курбан глядел ей вслед, и на душе у него было так радостно и легко, как никогда, наверное, не было в жизни.
Ниязмухамед-бай и его слуги чуть ли не на руках внесли Мядемина в его покой. Мядемин удобно уселся, отпустил кушак и принялся расспрашивать Ниязмухамеда о том, что делается в Мары. Бая было не узнать. Из грозного повелителя он превратился в раболепного слугу, голос его сделался мягким и заискивающим, и в его речах было гораздо больше лести хану, чем ответов по существу на задаваемые вопросы. Мядемин решил проверить, до каких же границ простирается байская преданность. — Нукеры соскучились в пути, — сказал он, — чем бы их поразвлечь, не знаешь, бай? Ннязмухамед ответил не задумываясь: — Пусть пойдут дозарабатывают на топор, хан-ага! Мядемин понял, о чем говорит бай. Нукеры, собиравшие налог для Хивинского ханства, обычно подходили к кибитке и, если дверь была закрыта, били топором с длинным топорищем по деревянному порогу, и ветхая кибитка бедняка вздрагивала от такого удара. Хозяин выходил наружу, а нукер говорил ему: «Заплати за топор!» И после этого брал все, что попадалось на глаза и привлекало его. Мядемин взял из миски две виноградины, широко открыл рот и ловко забросил их туда. — Знаешь что, бай, — сказал он, — вот видишь, эти ягоды попали мне в рот, потому что я забросил их точно. Так и слова и дела наши должны быть такими, чтобы туркмены попадали не по зубам, а прямо нам в рот. Поэтому без особой нужды трогать их пока не надо. Да и нукеров надо беречь. Сейчас, того и гляди, Бухара с нами поссорится, тогда и эти каждую свою болячку припомнят. Снюхались с Бухарой, теперь своих же собственных вождей ни во что не ставят! Но Ниязмухамед все-таки решил гнуть свое до конца: — Ай, хан-ага, туркмены трусливый народ! Кто ж на ваших нукеров руку поднимет! Им только топор показать, они сами последнее вынесут! Не то что сарыки, эти разбойники!.. — Посмотрим, посмотрим, бай, спешить нам некуда. В это время полог откинулся, из-за него показался высокий старик в потертом халате и запыленных ичигах. Мядемин вопросительно посмотрел на бая, как бы спрашивая: «Что это значит?» Вошедший человек поздоровался: — Саламалейкум. Ни бай, ни хан ему не ответили. Но старика это, кажется, не смутило. Он поклонился Мядемину. — Хан-ага, я хочу спросить, как дочь моя поживает? Ниязмухамед опередил хана: — Не беспокойся, Ягмур-ага, дочери твоей очень хорошо. Она живет прекрасно. — Кто это? — спросил Мядемин. — Это отец одной вашей девушки. — Как зовут? — Ее? Акджемал. Хан ласково улыбнулся старику: — Дочь твоя заболела холерой и умерла. Но можешь радоваться, я велел похоронить ее на самом большом кладбище. Слова хана так подействовали на старика, что он схватился за сердце и стал оседать на землю, но уже подоспевшие слуги бая схватили его под мышки и быстро выволокли прочь.
Караван Непес-муллы добрался до Геок-Тепе, пробыл там три дня, а на четвертый повернул обратно. Крепость Геок-Тепе стояла у подножья высокой черной горы, такой, какую Курбан не видел никогда в жизни. Крепость и сама была выше и больше Серахской, но все равно рядом с горой она казалась крошечной, чуть ли не игрушечной. Ораз-яглы не ошибся, ахальские яшули оказались в самом деле верными союзниками. За два дня они обшарили весь Ахал и передали Непес-мулле восемьдесят черных ружей, около ста восьмидесяти кривых шашек и нагрузили четыре верблюда боеприпасами. Напоследок они велели Непес-мулле передать Каушу-ту, что в случае войны он может смело рассчитывать на их поддержку. Обратный путь Непес-мулла собирался проделать за пять дней. Груженый караван шел медленнее, но все знали, как ждут оружия в Серахсе, и потому решили не делать никаких лишних остановок, идти днем и ночью. Курбан же торопился в Серахс больше всех. Мысли его были заняты Каркарой, и долгие пять дней казались ему пятью неделями, ему хотелось лететь назад во весь опор, но караван есть караван, он не мог двигаться быстрее, чем всегда. Когда караван проходил мимо аула Кеши, Непес-мулла подозвал к себе Курбана. — Сынок, каждый шаг пути — тоже путь. Я решил, что мы не будем останавливаться в Кеши, верблюды еще идут, а доберемся вон до той низины и там уже сделаем привал. Бери чайники, воду и иди вперед. Курбан тут же принялся исполнять приказание Непес-муллы. Он подскакал к Вали, повару каравана, человеку слегка придурковатому, но умевшему зато отлично готовить еду, перегрузил с верблюда все необходимое для обеда на свою и его лошадь, и вдвоем они поскакали вперед. Когда Курбан с Вали были уже на пути к урочищу, Курбан вдруг заметил впереди большую группу всадников, спускавшихся туда же, но с противоположной стороны. Нетрудно было догадаться, кто они такие. Курбан натянул поводья и свернул за куст, знаком приказал Вали сделать то же. Курбан быстро сообразил, что надо делать. Он повернулся к товарищу. — Скачи быстро назад, только вон той дорогой, чтобы тебя не видно было. Скажи мулле, пусть они поворачивают в горы. Понял? Скажи, нукеры Мядемина идут навстречу. А я обману их, постараюсь повернуть в другую сторону… Понял? В горы, скажи! Вали закивал головой, тут же развернул коня и поскакал обратно. А Курбан побросал под куст все лишнее, что у него было с собой, и не спеша тронулся вперед. В голове у него еще не было определенного плана, но ом чувствовал, что должен сделать что-то обязательно, в руках его была теперь судьба всего каравана. Скоро Курбана заметили, и один из нукеров, видимо старший, замахал рукой, приказывая подъехать. Курбан и сам направлялся в их сторону. Всадников было человек семьдесят, все сытые и хорошо вооруженные. Начальник, плотный человек с висячими усами, подозвал Курбана к себе. — Куда едешь, юноша, и откуда? — Из Кеши в Душак, отец. — Караван не попадался тебе с грузом случайно? — Попадался. Один из нукеров повернулся к усатому: — Ну что я говорил? Точно, они здесь где-то рядом должны быть. Усатый снова спросил Курбана: — А куда они шли? В какую сторону? — Я их обогнал как раз возле Кеши. Они-то медленно шли, а моя лошадь хоть с виду и не очень, зато ходит хорошо. — Я и сам вижу, какая у тебя лошадь. Ты скажи, куда они шли? Что они везли, видел? — Что везли? Мне показалось, что оружие, потому что из тюков ружья у них торчали. А вот куда шли, не знаю, мне самому интересно было, но я не спросил, побоялся. — Я не про то тебя спрашиваю! В какую сторону? Это ты видел? — В сторону вон ту. Я потом оглянулся, они туда поворачивали. — Курбан показал рукой направление. Усатый больше ничего не стал спрашивать. Он крикнул что-то своим нукерам, и весь отряд поскакал туда, куда показал Курбан.
Узнав о том, что нукеры хивинского хана уже пируют в доме Ниязмухамеда, Арнакурбан-сарык пришел в бешенство. Ему не сиделось дома, он вышел на улицу и поглядел по сторонам. Аул был тих, как будто ничего особенного и не происходило. Арнакурбану казалось, что сама земля должна взбудоражиться от такого бесчестья: ее враги веселятся на ней, как у себя дома. «Эх, собрать бы сейчас человек сорок джигитов, — думал Арнакурбан, — да разогнать их как следует. А самому баю — камень на шею — и в реку!» Но думы эти были неосуществимы, и сам Арнакурбан прекрасно понимал это. Он горестно вздохнул и присел возле своей кибитки, прислонясь спиной к ее камышовой стене. — Арнакурбан, о-ов! О чем задумался? — услышал он вдруг голос. Арнакурбан поднял голову и узнал своего односельчанина. — А, здравствуй, Анаал-ага!.. Вот сижу, о жизни нашей думаю. — Думай, думай, дорогой… Мядемин уже пришел. А где ж твои друзья с оружием, все еще не приехали? — Нет, не приехали. Я сам их жду. Должны вот-вот вернуться. — Ну да, вернутся, когда Мядемин уйдет. Я историю такую слышал. Один бедняк пришел к богатому соседу и просит: «Дай мне денег взаймы, поминки по отцу справить». А тот отвечает: «Сейчас денег нет, приходи дней через десять». Знаешь, что ему бедняк на это сказал? — Что? — Он сказал: «Через десять дней поминок уже не будет…» Вот так и твои друзья, вернутся, когда уже нас Мядемин раздавит всех, как козявок!.. — Что ж ты мне это говоришь? Я что, какой-то особый старик, не такой, как другие? Моей голове терпеть то же самое, что и остальным. — А зачем надо было на чужих рассчитывать? Зачем текинцев просить? Унижаться перед ними? — Такие уж мы, сарыки. И предки наши любили просить, даже если знали, что им откажут. Аннала эти слова рассердили. — У сарыков никогда предки не попрошайничали, Арнакурбан! И если кто-то говорит так, то пусть он ест навоз моего жеребца! — Тогда и отнеси навоз своего жеребца своему отцу. Потому что именно он нам рассказывал легенду о том, как сарыки стали попрошайками. — Что это за легенда? — недоверчиво спросил Ан-нал. Его отец был известным мастером рассказывать всякие случаи и истории. — А легенда такая, что один старый сарык еще давно-давно возвращался домой из Иолтани, проходил мимо бахчи, и вдруг захотелось ему очень дыни. Подошел он к хозяину и попросил. А хозяин был такой жадный, ну как тот богач, про которого ты говорил, и дыню ему не дал. И тогда старый сарык запел такую песенку:
Шел домой из Иолтани, Одну дыньку попросил. И не даст — ведь знал же сразу, А зачем-то попросил…
С тех пор сарыки стали попрошайками. Аннал-ага не нашелся что ответить, потому что не мог назвать ложью рассказ собственного отца, пробурчал только что-то невнятное, повернулся и пошел дальше своей дорогой. А Арнакурбан тоже встал со своего места, поглядел еще по сторонам и вошел в кибитку. Дверь он плотно закрыл за собой и накинул крючок. — Что это ты дверь запираешь? — спросила его жена. — Дай хоть на мир аллаха посмотреть! Но Арнакурбан прошел молча в угол и лег на подстилку, укрыв лицо доном. — Что с тобой, Арнакурбан? Арнакурбан злобно прорычал в ответ: — Поминки справляю. И ты справляй! Мысли Арнакурбана кружились все вокруг того же, но единственное, что ему оставалось, — ждать и ждать, самая худшая пытка, которая только выпадает на долю человека. И вдруг снаружи раздался стук конских копыт. Арнакурбан тут же вскочил на ноги и чуть не запрыгал от радости: он решил, что это прибыли гонцы из Серахса. Но радость его была преждевременной. Раздался сильный стук в дверь, а за ним голос: — Плати за топор! Это были нукеры Мядемина. Двое из них уже протиснулись в дверь, крючок с которой отлетел после первого же удара. Молодой нукер, видно еще не привыкший к такому ремеслу, был слегка смущен, зато другой громко закричал: — Ты что оглох, что ли? — Мы заплатим, только душу оставьте в покое. — Нужна нам твоя душа! Плати за топор! Арнакурбан оглядел внутренность кибитки, выбирая, чем бы полегче откупиться, сопротивляться этим громилам— он знал — пустое дело, все равно еще больше отберут. Но старший нукер не стал дожидаться, сам схватил первую попавшуюся на глаза вещь — небольшой, но красиво сотканный коврик, зажал его под мышкой и, подтолкнув младшего, вышел вслед за ним на улицу. Арнакурбан тоже чуть погодя высунулся из кибитки. На улице толклись штук тридцать верховых лошадей, со всадниками и без них, одни уже притачивали награбленное к седлам, другие еще только ломились в двери соседних кибиток. Отовсюду неслось: — Плати за топор! Плати за топор! После того как посланник Ирана Афсалеллы вернулся к шаху Насреддину, из Ирана пришло новое послание, теперь уже от имени визиря Садрыагзама. В послании говорилось, что туркмены, если они хотят получить помощь, должны выполнить немедленно одно из условий договора, а именно: отправить в качестве залога в Иран сорок своих семей. В Серахсе был день отправки этих семей. Стоял гомон, шум, и, хотя уезжало только сорок семей, казалось, что все текинцы покидают родину. Потому что почти все в Серахсе были какая-нибудь да родня друг другу, и провожать отъезжающих собралось почти все население округи. Тут и там валялись бурдюки с водой, заготовленная впрок провизия, подстилки, узлы… Одни тащили уки черных кибиток, другие привязывали их к верблюдам… В общем, все это напоминало большое племя скотоводов, сделавшее привал у колодца с водой. Ораз-яглы, Каушут-хан, Пенди-бай и Сейитмухамед-ишан стояли чуть в стороне и наблюдали за сборами. Со стороны к ним подскакал человек, спешился и подошел к Оразу-яглы. Это был его сын Сахит-хаи. — Звали, отец? Старик переложил посох из одной руки в другую. — Сынок, хан тебя звал, что-то он тебе сказать хочет. Сахит вопросительно уставился на Каушута. — Братишка, я хочу, чтобы ты тоже поехал в Иран. Поедете вдвоем с Мамедрахимом, — Каушут показал в сторону сына Непес-муллы, стоявшего тут же рядом, — и возьмете расписку о том, что сорок наших семей оставлены в залог. Оба вы грамотные, поэтому я вас и посылаю. — Я готов, хан… — неуверенно ответил Сахит. — Только как мы возьмем эту расписку? Разве нас пустят к шаху? — К шаху вам идти и не надо. Расписку вам даст его визирь Садрыагзам. А визиря вы легко найдете. В это время из-за холма Аджигам раздались ружейные выстрелы. Люди повернулись туда и увидели одинокого всадника на холме. — Да это же Ягмур! И лошадь его! — узнал кто-то. Ягмур был одним из тех, кто уехал с караваном. Очевидно, Непес-мулла выслал его вперед, чтобы оповестить людей о благополучном возвращении каравана. Выстрелы были знаком того, что экспедиция закончилась успешно. Несколько молодых парней уже вскочили на своих лошадей и поскакали навстречу Ягмуру. Как всегда, почуяв большое скопище народа, появился откуда-то Атаназар-слепец. Он пел все одну и ту же песню, которая вот уже несколько лет как не сходила с его уст. И люди, и даже верблюды оглядывались в его сторону. Впереди шел внук в черной взрослой папахе, и то ли от нее, то ли вправду так было — казалось, за прошедшие полгода он сильно повзрослел. Многие подходили к Атаназару и здоровались с ним, внук тоже, как большой, протягивал свою руку. — Атаназар, что слышно, о чем люди говорят? — спросил его Пенди-бай, как только слепой подошел к яшули. — Люди много о чем говорят. Но больше всего говорят о том, что в Мары пришел Мядемин-хан и хочет или сговориться с текинцами, или наказать их. — С чего ты взял, старик? — настороженно спросил Ораз-яглы. Атаназар повернул голову в его сторону, протер глаза, как будто они были зрячими, и ответил: — Люди так говорят, хан-ага. А то зачем бы ему войско такое за собой вести? Не иначе как воевать. Сейитмухамед поднял руки к небу: — Да поможет аллах текинцам! Пусть он сделает так, чтобы пуля Мядемина в него самого попала! Ничего! Мулла тоже не с пустыми руками идет. Найдется кому нас защитить!.. Теперь все ждали возвращения каравана, который вот-вот уже должен был появиться. Но в противоположной стороне на горизонте показались несколько всадников, быстро скакавших в сторону крепости. Когда они были уже довольно близко, переднего из них узнал Ораз-яглы. Это был Бабанияз-аталык. Два года назад Ораз-яглы видел его в Хиве среди приближенных Мядемина. «Видно, прав этот бродяга, — подумал про себя старый хан, — в самом деле Мядемин что-то затевает». Всадники подскакали прямо к яшули и перед ними остановились. Бабанияз соскочил с лошади, сначала подал руку Оразу-яглы, а потом и всем остальным. — Саламалейкум! Мы привезли письмо от Мухамеда Эмин-хана и хотим вам передать его. Бабанияз вынул из-за пазухи своего хивинского дона желтый бумажный свиток и протянул его Оразу-яглы, но старый хан не взял его, а указал в сторону Кау-шута: — Текинский хан Каушут-хан! Если у вас сообщение, говорите с ним. Бабанияз-аталык, хорошо умевший кланяться перед ханами, красиво склонил голову перед Каушутом, и его товарищи, все еще сидевшие на своих конях, повторили это же движение. Каушут взял свиток и повернулся к Сахит-хану: — Сахит, отведи в дом гостей. Пусть их накормят и дадут отдохнуть. Сахит кивнул и сделал прибывшим знак следовать за собой. После того как гонцы ушли, Каушут подозвал Ма-медрахима. Когда тот подошел, Каушут повернулся к Сейитмухамеду: — Ишан-ага, вы позволите прочитать, что нам прислали? Ишан кивнул, и Каушут протянул свиток Мамедра-химу. — «Каушут-хану. Низкий поклон народу Серахса от Мухамеда Эмин-хана, прибывшего в Мары со своим войском и боевым снаряжением. Каушут-хан, как только мои гонцы доберутся до вас, повелеваю с одним из них сразу же прибыть в Мары. Есть разговор. Хивинский хан Аллакули-хан оглы Мухамед Эмин». После того как послание было прочитано, некоторое время все молчали. Первым заговорил Ораз-яглы: — Что ж, видно, дело далеко заходит. Ты — хан, Каушут, ты и решай, что делать. Но если послушаешь нашего совета, то палка, Каушут-хан, о двух концах. Если ты не пойдешь к Мядемину, тогда Мядемин придет сюда. Но ты поедешь с одной головой, а Мядемин приведет тысячу голов. Чем позволять врагу приходить на твою землю, лучше самому отправиться на землю врага. Раз на твою долю выпало быть вождем народа, то ты и голову должен свою вперед других подставлять… Но я думаю, пока голове твоей ничего не грозит. Видимо, Мядемин в самом деле о чем-то хочет договориться. Если условия такие, что наш народ может их принять, лучше уступить пока. А уж если нет — что ж, увидим, что нам суждено увидеть. Каушут задумался на минуту. — Ты прав, яшули, надо мне идти. Другого выхода нет. — Если ты послушал, хан, один совет, послушай и второй. Идти лучше всего к Мядемину не раньше, чем отправится залог. Думаю, будет хорошо, если ты скажешь гонцам, что будешь через неделю. Такой срок Ораз-яглы назвал, потому что рассчитывал, что если заложники поспешат, то дней через шесть-семь уже будут в Мешхеде. А если пойти к Мядемину раньше, то слух об этом может добраться до шаха, и он подумает, что текинцы ведут двойную игру: сначала сговариваются с хивинским ханом, а потом отправляют людей к шаху. Да и с Мядемином легче будет разговаривать, когда иранский договор уже войдет в силу. Каушут-хан и во второй раз согласился с Оразом-яглы. Каушут отошел от яшули и принялся поторапливать отъезжающих. Вскоре нагруженные инеры тронулись в путь. Люди плакали, прощаясь друг с другом. Каушут старался ободрить их как мог, подходил, прощался с каждым отъезжающим. Люди постарше и сами, как им ни горько было покидать родную землю, успокаивали родных. Один бородатый яшули уговаривал женщину с ребенком на руках: — Перестань, невестка, не плачь, аллах поможет, и мы вернемся назад. Видно, уж нам суждено это! Баба-гаммар, ов! Гаммарбаба, ов! Когда мы с твоим отцом вернемся, ты уже будешь бородатым джигитом! А по лицу его самого катились слезы. Хан подошел к яшули, поздоровался с ним. Старик ответил на приветствие, но лицо отвернул, чтобы хан не видел, как он плачет. — Отец, мужайся! — сказал ему Каушут-хан. С неба закапал светлый весенний дождь. В другое время яшули погладил бы бороду и сказал: «Лей, дождик, лей, слава аллаху!» Но теперь ему казалось, что само небо плачет, глядя на то, как туркмены покидают родные места. На холме Аджигам показался наконец долгожданный караван. Непес-мулла вез ружья и боеприпасы, добытые в Ахале. Каушут-хан сразу же забыл обо всем остальном и, не в силах устоять на месте, сам пошел навстречу каравану. Он даже не замечал, что несет в руках свою папаху, а весенние капли падают на его лысую голову и стекают струйками по лицу.
Третьего марта 1855 года Каушут-хан прибыл в Мары. Сопровождал его Непес-мулла. Каушут привез с собой богатый шелковый халат — дар хивинскому хану от народа Серахса. Но Мядемин был сначала настолько разгневан его опозданием — а Каушут действительно, послушав совета Ораза-яглы, отправился в путь только спустя четыре дня, — что даже не встретил гостей, а принесенный подарок с досадой отбросил в сторону. Однако мудрый Мухамед Якуб Мятер посоветовал хану смирить бесполезный гнев и переговорить сперва с пришедшими, а халат он подобрал с пола, чтобы такое пренебрежение к их дару не обидело гостей, и сказал, что должен показать войску подарок, привезенный от туркмен «великому хану». Мядемин велел позвать гостей. Он небрежно с ними поздоровался и даже не предложил сесть. — Значит, правильно туркмены говорят: лучше поздно прийти, да на своих ногах. Спасибо, что наконец пожаловали. Впрочем, воля ваша, вы здесь хозяева. Хан чуть не прибавил «пока», и Каушут почувствовал это. — Хан-ага, мы виноваты перед вами. Но тут уж воля аллаха! Я хан у текинцев, и послать кого-нибудь вместо себя к такому великому вождю, как вы, посчитал недостойным… — А почему сам не мог сразу прийти? — На то есть причина, хай-ага. — Какая же, говори? — А если говорить, хан-ага, то в прошлую пятницу я справлял поминки по отцу. — Год исполнился? — Нет, семь лет. — А что, у вас все после семи лет справляют поминки? — Покойный отец мне перед смертью сказал: «И через семь лет устрой по мне поминки и отдай мулле мой хивинский дон». Мядемин теперь немного успокоился. Он подумал, что действительно нет смысла сразу ссориться с текинским ханом, раз уж все равно он пришел… — Ну ладно, хоп. Я согласен. — Хан хлопнул себя по ляжкам. — Теперь будем обедать. Хан позвал слуг и велел вносить еду. Появилось и несколько человек из приближенных Мядемина. За обедом хан окончательно смилостивился. Он сам предлагал Непесу и Каушуту кушанья, спрашивал, нравится ли им. Каушуту прислуживала молодая стройная женщина, она садилась то справа, то слева от него, клала прямо в рот виноград, пододвигала к нему фрукты… Но Каушут от этой заботы только чувствовал сильную неловкость и терпел лишь из-за того, что считал — гость должен подчиняться всем порядкам дома, в который пришел. Мядемин, желая приободрить его, сказал: — В нашем народе, Каушут-хан, самая прекрасная женщина прислуживает тому, кто ей больше всех понравился. Каушут не нашелся что ответить на это и на всякий случай решил похвалить угощение: — Повара у вас, хан-ага, замечательные! Так готовят, что ешь, ешь и оторваться не можешь. Дай вам аллах сто лет жизни! Но Мядемин на эту похвалу обратил мало внимания. Видно, на уме у него было что-то другое. — Хан, раньше мудрые люди, стоявшие во главе двух народов, для своего блага и для блага своих подданных объединялись родством. И потом уж не враждовали, а почитали друг друга. Тут только Каушут сообразил, что задумал хан, и ему стало от этого даже немного не по себе. Но ответить он постарался как можно вежливее. — Что ж, это верно, хан-ага, действительно мудрый обычай. Было бы мне лет на двадцать — тридцать поменьше, и я бы об этом подумал. Да теперь уж такие годы… — Ну нет, хан, не спеши себя стариком считать. Человек и в семьдесят еще жить не бросает. А тебе-то, наверное, всего еще пятьдесят. А что такое пятьдесят для мужчины? Тем более для хана? — Хан-ага, я взял себе одну жену. Мне ее пока вполне хватает. Хан насмешливо поглядел на Каушута, словно желая сказать: «А чья дочь твоя жена, чтобы ей такая честь была?» Но продолжать разговор о женитьбе больше не стал. Он и сам понял, что это глупо. После того как обед был закончен, все лишние удалились, и хан приступил к серьезному разговору. Начал хан с того, что напомнил о событиях, произошедших в Мары десять лет назад. Тогда он, Мядемин, мог перерезать всех туркмен до единого, но, как мусульманин, не сделал этого, пожалел туркменский народ. И теперь он хочет, чтобы люди понапрасну не лили свою кровь. Каушут в очень вежливых выражениях и стараясь не перечить хану отвечал, что сильным на то и дана сила от аллаха, чтобы они были мудрыми и справедливыми и не разоряли, а, наоборот, защищали более слабые народы. А о том, что случилось в Мары десять лет назад, он и сам очень жалеет и надеется, что этого больше не повторится. Ханские слуги внесли чай в красивой посуде и удалились. Мядемин взял пиалу, знаком предложил гостям сделать то же и продолжал: — Хан, давай говорить в открытую. Мы тебя пригласили совсем не для того, чтобы набиваться в родственники. Поскольку мы соседи, мы и жить должны в мире и согласии. А как это сделать — об этом я и хочу договориться. — Благодарю за вашу откровенность, хан, мы и раньше знали, что вы желаете нам добра. Это каждому человеку ясно, что нет ничего лучше, чем жить в мире и согласии. — А если ясно, хан, тогда надо помогать друг другу. — Мы и с этим согласны. Но только хорошо, когда помощь бывает взаимной. — Верно, хан. Положение ваше тяжелое, это ты должен знать не хуже меня. С одной стороны — Иран, с другой — Аймак… Если Хива не встанет на защиту туркмен, то все туркмены скоро переведутся. Но для того, чтобы защищать друг друга, нужно большое войско. — Это понятно, хан-ага. — И у нас такое войско уже есть. Но его надо кормить, одевать, где-то держать. Я думаю, то решение, к которому пришли наши мудрецы, и вас устроит. — Я слушаю вас, хан-ага, говорите. — А если говорить, — Мядемин пристально поглядел в глаза Каушуту, — мы решили, что серахские туркмены должны переехать в Мары. За спиной у туркмен должна стоять Хива, а не Иран. Каушут опешил от такого предложения. Он даже не мог сразу сообразить, что ответить, и минута прошла в молчании. — Так что же, согласны вы или нет? — Боюсь, что сделать сейчас мы этого не сможем. Дело в том, что в Мургабе воды мало… Надо сначала подумать об этом. Если только запруду поставить, но сперва надо выбрать место… Хан сощурил глаза: — Запруду, говоришь? Хан, я тебя слушаю, и мне начинает казаться, что ты хочешь мне сказку рассказать. Но в моем народе есть такие сказочники, что могут сорок дней подряд говорить и ни разу не повториться. Тут Непес-мулла, молчавший до этого времени, решил, что и ему пора вставить слово. — Хан-ага! Допустим, вы и правда хотите защитить теке. Но почему бы вам не сделать это на том месте, где они сейчас живут? Мядемин холодно поглядел на муллу, точно говоря: «А ты-то куда лезешь?» — Переселять теке в Мары — это все равно что толкать их к смерти. — Значит, вы в самом деле думаете, что я хочу уничтожить вас? Но я мог бы сделать это и без всякого переселения. Тут снова заговорил Каушут: — Хан-ага, даже если вы этого не хотите, все равно получается так. В самом деле, серахские туркмены не смогут прожить в Мары. — Почему? — Потому что воды Мургаба не хватает даже тем, кто живет в Мары. А если придут еще и другие, в реке не останется ни капли. Вы должны были подумать об этом. Мядемин об этом не думал. Но признаваться ему не хотелось, и поэтому он сказал: — Я и об этом подумал. Все равно, этого требует наша общая польза. — Но видите, так получается, что ваш план не может не вызвать у нас подозрений. — И все равно это необходимо. — В таком случае, хан-ага, дайте нам еще неделю подумать. Сразу мы не можем ответить вам. Мядемин, считавший, что сколько ни откладывай, а все равно текинцам придется выполнить его волю, согласился с Каушутом и дал ему еще неделю срока. Через неделю Каушут снова приехал в Мары, теперь уже с Сейитмухамед-ишаном. Долгих церемоний на сей раз не было, Мядемин сразу же провел их к себе и приступил к делу. Но разговор теперь начался с другого. Хан прослышал о сношениях Серахса с Ираном, и этот вопрос сильно интересовал его. — Хан, мы узнали, что вы получали письмо от шаха Насреддина. Это верно? — Верно, хан-ага. — И что же вам предлагает шах? Каушут пересказал хану содержание письма, пришедшего из Тегерана. Как только он закончил, хан хлопнул себя по колену: — Нет, так не должно быть! Вы нарушите этот договор! За спиной текинцев должна стоять Хива, а не Хорасан! Сейитмухамед почтительно, но твердо вставил: — Пусть аллах вольет в вашу душу терпеливость и снисходительность, хан-ага, но мы не можем нарушить договор. Мядемин удивленно раскрыл глаза. — Ишан говорит правду, хан-ага. Ведь у нас договор не только на словах. Во-первых, текинцы платят дань Хорасану — одну сороковую, а во-вторых, Иран взял у нас людей в залог. Мядемин надолго замолчал. Наконец он крикнул: — Чилим![84] Вошел кальянщик и поставил перед ханом дымящийся кальян. Хан глубоко затянулся. — Сколько семей? — Сорок. Хан снова запыхтел кальяном. Он и не подозревал, что сношения Серахса с Ираном зашли так далеко. Он злился на то, что иранский шах опередил его. Но, с другой стороны, теперь у Мядемина был прекрасный повод поссориться с Насреддином и развязать войну, на которую давно толкала его непомерно разросшаяся гордость. Хотя вилайет Хорасан и был намного больше Хорезма, но такого большого войска, как у Мядемина, он не имел. Поэтому хивинский хан не очень-то опасался Насреддина. — Хо-оп! Вот, значит, как!.. Ну и что вы думаете теперь делать? — Хан-ага, у нас в народе говорят: «Пусть аллах сам решит, что делать». Видно, что бог пошлет нам, то и будет. — Что же, аллах велит вам быть рабами Хорасана? — Мы не пророки, хан-ага, чтобы говорить за него. Но раз аллах поставил нас в такое положение, наверное, мы и должны подчиниться Хорасану. Мядемин отставил кальян в сторону и пошел на последний приступ. — Мухамедэмин пришел сюда, чтобы не спорить с вами. Мы пришли для того, чтобы породниться. Сейитмухамед склонил голову: — Туркмены тоже очень любят родниться, хан-ага. Мы были бы очень счастливы иметь такого большого родственника, как Хива. — Братья, не сосавшие молоко одной матери, становятся родными, когда помогают друг другу. Знаешь ли ты это, ишан? К Сейитмухамеду впервые за много лет обратились на «ты», но он сделал вид, что не обратил на это внимания. — Знаю, хан-ага. — А если знаете, текинцы, тогда не надо стараться удержать два арбуза в одной руке, надо разорвать с Насреддином, потому что для текинцев не может быть ближе родственника, чем Хива. — Хан-ага, но не выйдет ли как раз наоборот — за двумя зайцами погонимся и ни одного не поймаем? — Нет, не получится, потому что обоих зайцев вам заменит Хива. Прямо тебе говорю, Каушут-хан! Кроме добра, мы вам ничего не желаем. Поэтому и вы должны выполнить наше условие. — Какое же? — То, о котором мы говорили. — Чтобы текинцы перебрались в Мары? — Вот именно. — Хап-ага, это ваше условие Серахс выполнить не может. Мядемин ничего не ответил и продолжал смотреть на Каушута. — Хан-ага, мы уже с вами говорили об этом, теперь я посоветовался со старейшинами, и они сказали то же. Вы знаете, наверное, почему туркмены живут разрозненно. Может быть, сам аллах, желая избавить нас от охотников на наши земли, поселил нас в таких трудных местах. Об этом нам ничего не известно. Мы знаем только то, что жить нам приходится врозь, хотя мы и рады были бы жить вместе со своими родственниками-сарыками или родственниками-ахальцами. Но мы не можем перейти к ним: аллах дал каждому племени воды и земли ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Конечно, так нам труднее помогать друг другу, но и зла, слава богу, мы тоже не делаем. — Можешь дальше не говорить, мне все ясно. Толку в вашем славословии никакого нет. И вам все равно придется перебраться в Мары, хан. — Я уже ответил, что Серахс на это не согласен. — Это ваше последнее слово? — Туркмены отвечают за каждое свое слово, хан-ага. — Ну что ж, тогда вам придется ответить и за эти, но уже не в разговорах, а на поле боя. — Ай, хан-ага! Если другого выхода нет, то каждого коня вынесут свои копыта! На этом разговор закончился. На обратном пути Каушут и Сейитмухамед-ишан не могли никак успокоиться и забыть подробности этой словесной перипетии с Мядемином. — Да, отец ишан, — сказал Каушут по дороге, — когда ешь виноград, обязательно остаются косточки. — Как бы эти косточки не обошлись нам слишком дорого! — Вы знаете, отец, говорят и по-другому: если держишь щит, то сабля ударяется о щит, а если его нет, сабля сносит голову. Голыми руками они нас не возьмут. Еще посмотрим, чьи щиты крепче!.. Теперь уже не было никаких сомнений, что войны с Хивой не избежать. Собственно, и оснований-то не было никаких думать по-другому. Из самого приглашения Каушут-хана на переговоры, из того, как вел себя на них Мядемин, напрашивался только один вывод: он не просто ревнует туркмен к Ирану, а жаждет крови. Когда появляется такая жажда, тут уж ничто не поможет, как ни старайся. Для Каушут-хана оставался только один выход: встретить врага с гордо поднятой головой, показать ему свою силу и отвагу. А сделать это можно только в открытом бою. Каушут-хан прежде всего решил привести в порядок стены старой Серахской крепости, хотя для обороны эта крепость уже не могла иметь особого значения. Однако же, если в самых уязвимых местах поднять стены, а ворота закрыть щитами и колючей дерезой, все-таки будет лучше, чем оставаться просто в открытом поле. К началу сражения народ должен будет собраться в крепости. Каушут-хан разослал по аулам гонцов, чтобы собрать в Серахсе всех мужчин от пятнадцати до пятидесяти лет в среду, до восхода солнца. Ввиду особой важности предстоящего дела Каушут предупредил о строгом наказании, которому будут подвергнуты все, кто захочет уклониться от выполнения приказа. Хотя год считался теплым, утро назначенного дня было неслыханно холодным. Старики говорили, что зима припрятала один из своих дней и теперь, в разгар весны, выпустила его на свет. Каушут-хан не смог в эту ночь уснуть до самого рассвета. Он вышел рано, еще до утреннего намаза. Будучи уже в крепости, услышал голос Сейитмухамеда, только что начавшего читать утреннюю молитву «Алла-хи акбер». Еще звучали над крепостью слова азана[85], еще Каушут не окончил осмотр крепостных стен, а люди, кто верхом на лошади, кто на ишаке, кто пешком, уже начали стекаться со всех сторон к назначенному месту. Текинцы хорошо понимали, что опасность нависла над каждым из них, поэтому без особых уговоров, с усердием приступили к работе еще до восхода солнца. Когда оно взошло и загорелось на безоблачном небе, можно было подумать, если не смотреть на голую, еще покрытую коркой землю, что начинался жаркий день лета. На самом же деле была весна, и промозглый северный ветер заставлял людей ежиться от холода. С северной стороны подъехал на тощей кобыленке юноша, быстро соскочил на землю, нашел своих аульчан и взялся за работу. Каушут-хан заметил опоздавшего и велел позвать его. — А ну, пусть подойдет ко мне этот лентяй! Вид у хана был грозный, голос его выражал гнев. Юноша воткнул лопату в землю и робко подошел к хану. — Саламалейкум, хан-ага! — Валейкум, — нехотя ответил хан Каушут, и было ясно, что ничего хорошего ждать от него в эту минуту нельзя. — Кто тебе позволил опаздывать? Юноша опустил голову. — Хан-ага, я тысячу раз виноват перед тобой. Искуплю свою вину работой. — Разве до тебя не дошел приказ хана? — Дошел, хан-ага. — Значит, ты лучше всех тех, кто начал работу до восхода солнца? — Не лучше, хан-ага. Так получилось, я тысячу раз виноват, хан-ага. — А раз виноват, придется наказать тебя за нарушение нашего приказа. — Хан-ага, солнце только что поднялось, я успею… — Ты опаздываешь, ты нарушаешь приказ хана и еще огрызаешься? Снимай свой дон! Юноша поколебался немного, но тут же понял, что хан разгневался не на шутку. Он стал снимать свой халат, но делал это с насилием над собой, без охоты. Нет, он не боялся холода, он стыдился, что люди увидят грубые заплаты и прорехи на его нищенской рубашке. Каушут-хан подошел к провинившемуся, вырвал дон и отшвырнул его в сторону. Юноша, не попадая зуб на зуб от холода, спросил с дрожью в голосе: — Долго мне так стоять, хан-ага? — До тех пор, пока не сможешь в следующий раз нарушать приказ хана. Я сам скажу, когда одеваться. Когда Каушут-хан проходил мимо людей, кто-то бросил ему вслед: — Хан, вместо того чтобы привязывать на холоде парня, заставь лучше его попотеть с лопатой. — Я сам знаю, что лучше. Каушут-хан ушел прочь. — Это уж слишком! — сказал кто-то. — Зачем же мучить так человека! — Мы-то думали, что из всех ханов он самый добрый. — Где это видел ты добрых ханов? Юноша оказался тихим и послушным, и после ухода хана он не посмел даже изменить позы, стоял как привязанный. А ветер все напирал с северной стороны, и юноша уже дрожал всем телом. Никто из людей не одобрял жестокости хана, но никто и не попытался просить у него прощения за бедного юношу. За работой у северной стены присматривал Тач-гок сердар. Когда он явился и заметил раздетого на лютом холоде юношу, спросил с недоумением: — Что это значит, люди? Люди с возмущением отвечали: — Это новая выходка хана, сердар. — Он наказал парня за опоздание. — Разве можно так наказывать за опоздание! Каушут-хан оглянулся издали, увидел сердара, разговаривающего с людьми, повернул назад. Он и не предполагал, что сердар может его осудить. Но Тач-гок, как только Каушут приблизился, спросил; — Хан, как все это понимать? — Наверное, тебе уже объяснили? — Если это так, то мы не хотим иметь с тобой никаких дел, хан. Лицо Каушут-хана посуровело. Не успев еще ответить сердару, он вдруг понял, что говорит совсем не то. Но слова сами вырвались из его уст: — Вот такой я человек, сердар! Сердар также не ожидал подобного ответа, но решил не уступать. Он поднес руку к ножнам, выхватил саблю. — В таком случае, хан, вот тебе сабля. Хочешь, берись за эфес, хочешь — за лезвие. Каушут-хан вспыхнул. Не было ничего удивительного в поведении Тач-гок сердара, хотя он дрожал от гнева. В эти короткие минуты Каушут-хан успел подумать, что сердар разгневался неспроста. Продолжая считать себя правым, Каушут-хан все же решил уступить Тач-гоку. — Эх, сердар, если бы это не ты… А потому оставь свою саблю на месте. Каушут-хан поднял с земли дон и бросил его дрожавшему юноше. Тач-гок после этого понемногу стал успокаиваться. Чтобы не слышали окружавшие их люди, сердар сказал тихо, почти шепотом: — Хан, не обижай невинных, накажи, если можешь, виновных, накажи тех, кто снимает головы безвинным твоим подчиненным. От того, что ты привяжешь на холоде бедного юношу, ни ты, ни твои люди ничего не выиграют. Каушут-хан понял, о чем говорил сердар. Он и сам уже задумывался над этим. Но суматоха последних дней мешала ему заняться поисками убийцы Ораза.
Весь Карабурун был в страшной панике. А Ходжам Шукур поднял на ноги своих родственников, озабоченный только тем, как бы лучше встретить Мядемина. Узнав от гонца из Караяба, что Мядемин-хан намеревается сделать остановку в Карабуруне, Ходжам Шукур не в силах был усидеть на месте, словно наступил на горящий уголек. Уже закончены были все приготовления для встречи, и все же Ходжаму Шукуру казалось, что чего-то еще не хватает. А не хватало девушек для Мядемина. Но потом он вспомнил, что Мядемин никогда не отправляется в путь без этого добра, понемногу успокоился. Одиннадцатого марта 1855 года, во второй половине дня, войска Мядемина подошли к окрестностям Карабу-руна. Как только со сторожевой вышки заметили черные точки приближавшегося войска, Ходжам Шукур в окружении свиты приближенных к нему людей сел на коня и выехал навстречу высокому гостю. Одна лошадь в свите шла без всадника, к ее седлу был приторочен белоснежный баран. Заметив впереди конной группы ханскую лошадь и на ней самого Мядемина, Ходжам Шукур сделал знак сопровождавшим его всадникам остановиться. Ханская свита пришла в изумление перед необычным поступком Мядемина. Никогда еще она не была свидетелем такого унижения хивинского хана. Шагах в десяти от встречавших хана Мядемин остановил коня, сошел на землю, отдал повод Мухамеду Якубу Мятеру и пешком пошел навстречу Ходжаму Шукуру. Ходжам Шукур, глядя на идущего к нему хана, подумал, что ему снится сон. Растерявшись, он не мог выскользнувшую из стремени ногу вернуть тотчас же на место и поэтому неуклюже сполз с лошади и бросился к Мядемину. Не добежав двух шагов, остановился как вкопанный и не знал, как поступать дальше. Преодолеть последние два шага и заключить хана в объятия? А вдруг это не понравится ему и он придет в негодование от такого неслыханного вольнодумства? Ходжам Шукур стоял в нерешительности. И тут произошло неожиданное, о чем Ходжам Шукур не мог подумать даже во сне. Хан ханов, всемогущий Мядемин сам распахнул для него объятия. Оказавшись в ханских руках, тщедушный Ходжам Шукур на миг позабыл обо всем на свете. На глаза его навернулись слезы. К горлу подступил комок, и Ходжам Шукур не мог произнести ни слова. Такого почета он не видел за всю прожитую жизнь и, разумеется, никогда уже не увидит за всю оставшуюся. Наконец он пришел в себя, вынул из-за пазухи богатого дона два гулача[86] шелковой ткани и повязал ее вокруг пояса хана. В ту же минуту молодой джигит, держа в поводу лошадь с белоснежным бараном, подъехал к хану и остановился перед ним. Быстро отвязал и сбросил барана на землю. Парню не доводилось раньше видеть так близко великого хана. Сделав свое дело, он опустил голову, не смея взглянуть на высокого гостя. Потом, собрав все свое мужество, громко сказал: — Хан-ага, саламалейкум! Вместо ответа Мядемин слегка улыбнулся, кивнул головой. Это была первая улыбка Мядемина за последние шесть дней. Ходжам Шукур выдернул из-за пояса нож и протянул его хану. — Хан-ага, — сказал он, — если вы собственной рукой прирежете овцу, это будет большой милостью для нас. Мядемин несколько удивился, но, подумав, что имеет дело с обычаем туркмен, принял нож. Нет, это не было обычаем туркмен, это была выдумка Ходжама Шукура, которому очень хотелось угодить хану. Мядемин наклонился над связанным бараном и острым ножом перехватил горло. — Вот так, не мучая, режут скотину только добрые люди! — угодливо воскликнул Ходжам Шукур, глядя на вздрагивающего в предсмертных судорогах белоснежного барана. Юноша снова поднял в седло еще не остывшую тушу и помчался в аул. В Карабуруне, когда въехали туда хан и его свита, Ходжам Шукур приказал дать несколько ружейных залпов. Люди выстроились в два ряда по всей улице, разглядывая Мядемина, красовавшегося на богато убранном коне. Ребятишки, не понимавшие, что за птица этот хан и зачем он пожаловал к ним в аул, горланили свою песенку, которую они часто распевали во время своих забав:
Ходжам Шукур — наш хан, Степная трава — наш хлеб. Если высохнет трава, Что же мы будем есть.
Ходжам Шукур, вне себя от радости, не прислушивался к песенке детворы и не понимал, что поют они о нем самом. Когда подъезжали к белой кибитке, поставленной в стороне от других кибиток, откуда-то взялась пятнистая собака и бросилась облаивать восседавшего на разукрашенном коне Мядемина. Она не знала, что нельзя лаять на великого хана, но ее привлекло исключительное великолепие одежды Мядемина и ослепительно сверкавшая сбруя ханской лошади. Она не прекратила отчаянного лая и после того, как всадники спешились перед белой кибиткой. Ходжам Шукур помог хану слезть с лошади, потом взял у одного из нукеров черное ружье и выстрелил в неразумного пса. Пуля вошла между глаз, собака с визгом отпрянула назад, чтобы вовремя удрать, но было поздно, смерть настигла ее. Мядемин оглянулся от дверей кибитки, посмотрел на вытянувшегося мертвого пса и с деланной улыбкой спросил: — Это тоже обычай вашего народа? Ходжам Шукур, возвращая ружье хозяину, мужественно ответил: — Да, хан-ага, в нашем народе так поступают с собаками, которые лают на тех, на кого не имеют права лаять. Мядемин остался доволен ответом и на этот раз улыбнулся от души.
Вода еще не успела прогреться, к тому же с севера дул холодный ветер. Келхан Кепеле вошел в реку, засучив штаны до колен, не успел простоять и минуты, как ему уже захотелось выскочить на берег. Но он посмотрел по сторонам, где женщины и девушки наполняли кувшины, не боясь холодной воды, и застыдился. — Лови! — крикнул он Курбану, стоявшему на берегу с верблюдом. Келхан Кепеле бросил кувшин и стал набирать воду в бурдюк. Вода набиралась медленно, булькая в узком горлышке. А тем временем кувшин, брошенный Курбану, не долетев, снова скатился с песчаной насыпи прямо к ногам своего хозяина. Схватив кувшин, Келхан сверкнул глазами в сторону Курбана, а тот, улыбнувшись, крикнул: — Снова бросай, Келхан-ага! — Ну и что будет, если ты поймать не можешь?! — Все-таки раскачал кувшин и сделал более сильный бросок. Сосуд пролетел над головой Курбана, угодил в боковую стенку деревянного седла и раскололся на две части. От неожиданного удара верблюд вскрикнул и с укоризной посмотрел на Келхана. Курбан смотрел то на две эти половинки кувшина, то на Келхана Кепеле. — Зачем же так бросать? — наконец сказал он. — Что-то сегодня никак не могу тебе угодить, брат. Тихо бросаю — ты не ловишь, сильно бросаю — опять не можешь поймать. Что же мне остается делать? — Ладно, Келхан-ага, подумаешь, кувшин раскололи! — Ты прав, стоит ли расстраиваться из-за черепка. — Келхан Кепеле поднял полный бурдюк и вынес его на берег. Подошли девушки с кувшинами за спиной. Среди них была и Каркара. — Что, Келхан-ага, разбили кувшин? — спросила одна из девушек вместо приветствия. Келхан, волочивший к верблюду бурдюк, ответил: — Если кувшин разбился, значит, он хочет стать новым. — Потом расправил спину, пожаловался на боль в пояснице и прибавил: — Приходит срок, и человек умирает, дорогая. — Что, Каушут-хан и вас заставил воду носить? — спросил Курбан у девушек. Каркара на людях все еще стеснялась Курбана, но тут подняла на него глаза и ответила за всех: — Нет, Курбан, Каушут-ага не посылал нас, но дело такое, что и мы не можем сидеть дома сложа руки. — Даст бог, и ваша помощь сгодится нам, — сказал Келхан Кепеле. — Если Мядемин пришел посмотреть на слезы наших детей, мы сами заставим его плакать. Даст бог, свернем ему шею. — Мядемин воевать пришел, Келхан-ага? — Нет, сестренки, он пришел мира просить, — пошутил Курбан. — Просто он давно не виделся с Келханом-ага, прибыл поздороваться. Келхан прислонил бурдюк к верблюду, которого Курбан усадил на песок, подул на захолодевшие пальцы. — Конечно, — сказал он, — не со мной повидаться пришел Мядемин и не с миром пришел, зачем бы тогда Каушут-хан велел в один день притащить тысячу бурдюков воды. На запад одна за другой проходили отары овец. Келхан Кепеле слушал блеяние овец, гортанные крики чабанов, смотрел на легкую пыль, поднимавшуюся над отарами. Каркара спросила: — Келхан-ага, куда их гонят? — Скот перегоняют в Каррыбент. — Зачем, Келхан-ага? — Если не перегнать овец, от них останутся рожки да ножки, когда придет Мядемин. — А далеко этот Каррыбент? — Каррыбент — это Теджен. Услыхав про Теджен, Каркара вспомнила отца, погрустнела. — Если хорошо пойдут, завтра будут на месте, — проговорил Келхан Кепеле. Вдоль речного берега торопливой рысцой ехал всадник. Келхан узнал в нем Сахит-хана. — Далеко путь держишь, хан? — спросил он, когда всадник поравнялся. — Каушут-хан послал к гаджарам. Келхан Кепеле понял все без дальнейших расспросов. Сахит-хан ехал в Иран с письмом Каушута, в котором он просил помощи от шаха, потому что Мядемин уже был на подступах к Серахсу. — Вчера и в Ахал отправились гонцы, — сказала Каркара. Келхан Кепеле тяжело вздохнул и начал грузить на верблюда бурдюки с водой. — Да, — сказал он, — надо собирать своих людей в одно место. По тропинке, ведущей от реки к крепости, ни на минуту не прекращалось движение. В крепость шли лошади, верблюды, ишаки, нагруженные бурдюками с водой, от крепости к реке спешили другие с пустыми бурдюками. Каушут-хан считал, что схватка с Мядемином может растянуться на целый месяц, и на этот срок он решил запастись водой. Еще вчера он велел гонцам, разосланным по аулам, передать приказ о сборе людей в крепости сегодня, до послеобеденного намаза. С самого утра со всех сторон стекались люди, вокруг крепости образовался еще до полудня большой лагерь. Каушут-хан, надвинув на затылок плоскую папаху, ходил по краю старой траншеи, которую углубляли прибывшие люди. Кел-хана Кепеле он встретил улыбкой. — Скажи, Келхан, — спросил он, подходя к верблюду, — с двумя бурдюками воды можешь прожить месяц? Люди повернули головы в сторону Келхана. Вид у него был довольно смешной. Несмотря на холодный день, чекмень свой Келхан перекинул через плечо, косоворотка его была расстегнута и обнажала голую грудь. Засученные до колен штаны он тоже забыл опустить. — Ай, хан-ага, — ответил он из-под верблюжьей головы, — я и с одним бурдюком проживу месяц, могу и совсем не пить. Из траншеи кто-то выкрикнул писклявым голосом: — Да ты просто верблюд, Келхан! Молодец! — А ты что, не знал, — весело отозвался Келхан, — Келхан давно уже инер! Люди дружно рассмеялись. Сегодня им нужна была шутка, и они весело смеялись и шутили, словно ожидал их не тяжелый бой, а веселый праздник. — Хан-ага, — окликнул Каушута из траншеи какой-то парень, — мы дошли уже до воды, можно брать ее и в траншее. — Слава аллаху! — воскликнул хан и, опершись руками о край траншеи, спрыгнул на дно. — Дай-ка, сынок, лопату. Каушут привычно вскапывал и отбрасывал глину, прошел шагов десять — двенадцать, оставляя за собой канавку с жидкой зеленоватой грязью, потом распрямился и воткнул лопату. Ичиг его левой ноги до самой бахромы ушел в зеленоватую жижу. Каушут удивленно огляделся вокруг. Ребята молча последовали его примеру, дружно взялись за лопаты. И работа вскоре была закончена. Довольный хан вылез из траншеи, стряхнул с себя глину и направился к воротам крепости. У самого входа его нагнал всадник, резко остановил загнанную лошадь. — В чем дело, джигит? Взмыленная лошадь раздувала ноздри, юноша также не мог отдышаться, словно все время бежал вместе с лошадью. — Хан-ага, Мядемин идет. Как овцы идут, пыль стоит. Видно, до заката солнца у нас будут. Хан молча кивнул головой и вошел в крепость. На глаза ему попался подросток. — Ты что тут бездельничаешь? — строго спросил хан. Опустив голову, паренек робко ответил: — Мы бурдюки прислоняли, больше делать нечего. — Если нечего делать, тогда седлай коня и к реке, всех в крепость, немедленно.
 Мальчишка мигом вскочил на чью-то уже заседланную лошадь и вихрем вылетел из ворот. Каушут-хан подошел к группе людей, укрывавших неглубокие ямы, корпечи[87]. Вырытые со скосом в сторону, эти корпечи теперь предназначались уже не новорожденным ягнятам, а новорожденным детям. Дно корпечи было выстлано ветками и поверху накрыто кошмой. Убежище теплое и удобное для маленьких детей, вчера еще в таких ямах держали неокрепших ягнят.
— Как дела продвигаются, сердар? — обратился Каушут-хан к Тач-гоку, который руководил подготовкой корпечи.
— Последнюю накрываем, хан.
Каушут поблагодарил сердара, он был доволен, что работа везде ладилась и уже подходила к концу.
Посередине крепостного двора Непес-мулла раздавал ребятам оружие, привезенное из Ахала.
Хан посмотрел на ребят, разбиравших оружие, ответил на их приветствие и, чтобы подбодрить всех, сказал:
— Если аллах на нашей стороне, мулла, то, бог даст, мы быстро накроем голову Мядемина его серой палаткой.
Непес-мулла, занятый серьезным делом, не ответил хану на его слова.
Мальчишка мигом вскочил на чью-то уже заседланную лошадь и вихрем вылетел из ворот. Каушут-хан подошел к группе людей, укрывавших неглубокие ямы, корпечи[87]. Вырытые со скосом в сторону, эти корпечи теперь предназначались уже не новорожденным ягнятам, а новорожденным детям. Дно корпечи было выстлано ветками и поверху накрыто кошмой. Убежище теплое и удобное для маленьких детей, вчера еще в таких ямах держали неокрепших ягнят.
— Как дела продвигаются, сердар? — обратился Каушут-хан к Тач-гоку, который руководил подготовкой корпечи.
— Последнюю накрываем, хан.
Каушут поблагодарил сердара, он был доволен, что работа везде ладилась и уже подходила к концу.
Посередине крепостного двора Непес-мулла раздавал ребятам оружие, привезенное из Ахала.
Хан посмотрел на ребят, разбиравших оружие, ответил на их приветствие и, чтобы подбодрить всех, сказал:
— Если аллах на нашей стороне, мулла, то, бог даст, мы быстро накроем голову Мядемина его серой палаткой.
Непес-мулла, занятый серьезным делом, не ответил хану на его слова.
Четырнадцатого марта тысяча восемьсот пятьдесят пятого года, после полудня, войска Мядемина подошли к Серахсу. Не успев остановиться, хан заметил, как закрылись ворота Серахской крепости. Он повернул голову к Мухамеду Якубу Мятеру, показал на закрывшуюся крепость и надменно усмехнулся. Мухамед Якуб Мятер безошибочно понял значение ханской усмешки и ответил ему той же усмешкой. Мядемин снова посмотрел в глаза своему военачальнику. — Как может комар, — сказал он, — защититься от конского копыта, Мятер? Военачальник значительно промолчал. Но Мядемин не удовлетворился молчанием Мятера и снова обратился к нему: — Или ты считаешь, что умный конь не унизится, чтобы лягать комара? Мятер подумал, что дальше отмалчиваться уже неприлично и опасно. Два вопроса хана, а его усмешка и взгляд означали и третий вопрос, дальше оставлять без ответа было рискованно, хан может понять как неуважение к своей персоне и разгневаться. По мнению Мядемина, малочисленное туркменское войско было не сильнее комара, конем же, разумеется, он считал себя. Его усмешка, когда они подъезжали к крепости, означала то, что, если бы туркмены вместо ворот из дерева и колючей дерезы поставили бы железные, все равно смешно было думать, чтобы они смогли устоять перед Мядемином. Но для чего тогда Мядемин взял с собой двадцать пушек и назначил командовать артиллерией своего тезку, сотника Мухамедэмина! Для туркмен, никогда не видевших пушек, достаточно будет холостого выстрела или чтобы снаряд упал в стороне от крепости, чтобы эти жалкие пастухи потеряли головы. И тогда их безмозглые вожаки — Каушут-хан и Сейитмухамед-ишан — сами своими руками откроют ворота. Догадываясь о подобных размышлениях Мядемина, Мятер обдумывал ответ, чтобы угодить хану. И он сказал: — Если комар жалит, конь должен раздавить его, хан-ага. Мядемину понравился ответ Мятера, и он решил продолжить приятный для него разговор. — Но разве от комариного укуса может подохнуть конь? — спросил хан. — Даже от змеиного укуса, если не суждено, человек не умирает, хан-ага. Но мусульманину отпускаются все грехи, если он хотя бы в семь лет убьет одну змею. — Гм-гм, — промычал Мядемин, показывая этим, что он доволен. …Согласно намеченному плану войско Мядемина должно расположиться с южной стороны крепости, на восточном берегу реки Теджен. Для этого были свои причины. Мядемин решил таким образом преградить путь гаджарам, к которым конечно же должны были обратиться за помощью текинцы. Но еще до перехода иранских войск через горы Мядемин намеревался встретить их и посеять среди гаджар панику. Военачальники Мядемина полагали, что, как только они станут лагерем на юге Серахса, должны будут произвести небольшой налет на крепость, чтобы запугать текинцев, лишить их покоя. Но пока подтягивались отставшие части огромного войска, стало вечереть. Мядемин подумал, что для налета будет слишком поздний час и что сначала надо посоветоваться со своими помощниками. После вечернего намаза он решил пораньше лечь спать, чтобы как следует отдохнуть перед делом. Назавтра хан весь день провел на охоте. Промаявшись, он сумел застрелить всего лишь двух красных петухов. Бой был назначен на вторник, и люди, окружавшие хана, немало этому удивились, потому что знали: вторник был самым нелюбимым днем суеверного Мядемина. В этот день хан даже по надобности ходил с большой неохотой, все ему чудилось что-то по вторникам. И то, что он назначил бой на вторник, свидетельствовало о его непоколебимой вере в свои силы. После утреннего намаза Мядемин дал распоряжение Довлетяр-аталыку и Абануру Ниязмахрему отправиться с двумя тысячами воинов в горы, пробыть там до тех пор, пока не покажутся иранцы, перехватить их и разгромить на месте. Чтобы войска Насреддина не прошли незамеченными, двухтысячный отряд Мядемина тремя группами расположился в окрестностях Акдербента, Маз-дурана и Кизыл-Кая. Мядемин надеялся взять Серахс, не вступая в бой с его защитниками. Поэтому в первый вечер он не стал обстреливать крепость, а лег спокойно спать, а следующий день провел в погоне за двумя несчастными петухами. Текинцы должны были через амбразуры стен увидеть направленные на них жерла черных орудий и, естественно, прийти в ужас. К тому же несколько тысяч текинцев, запершись в крепости, не смогут продержаться и трех-четырех дней. Несколько колодцев, которые могут оказаться в крепости, будут вычерпаны в течение одних, от силы двух суток. Народ же, у которого кончится вода, вопреки воле Каушут-хана сам выйдет из крепости и встанет на колени перед Мядемином. Но вот прошло два дня. Черные дула пушек угрожающе смотрели в сторону крепости, однако ворота не открывались. И вообще было похоже, что там, за стенами, не было ни одного человека. Проводив Довлетяр-аталыка и Абанура Ниязмахре-ма, Мядемин удалился в свою палатку и долго из нее не появлялся. Халназар Бахадур, Мухамедэмин-юзбаши, Бекмурад-теке, Мухамед Якуб Мятер, Хорезм Казы и еще несколько приближенных Мядемина стояли перед входом в палатку, ждали хана. Среди них был и Ходжам Шукур, примкнувший к Мядемину со своими четырьмястами воинами. Он жаждал мести, с нетерпением ждал минуты, когда увидит голову Каушута, вывешенную на воротах крепости. Наконец из палатки вышел в полном боевом снаряжении Мядемин. Вид у него был внушительный, даже устрашающий. Все склонили головы в низком поклоне. То ли от хорошего расположения духа, то ли оттого, что хотел размять спину, хан тоже сложил на груди руки и низко поклонился. При этом его доспехи, набранные из металлических монет, издали звон. Выпрямившись, Мядемин положил левую руку на рукоять сабли, стал отдавать распоряжения. Первое касалось его палатки. Ее необходимо было перенести на другое место. На какое, хан не сказал. Мухамед Якуб Мятер, осмотревшись по сторонам и поразмыслив, определил новое место. В окрестностях Серахса было несколько холмов, все они имели названия. Аламан-гепе, Аджигам-тепе, Куй-руклы-тепе, Херик-тепе, Яглы-тепе и так далее. С каждого из них хорошо просматривалась местность. Военачальник и советник хана Мятер выбрал Аджигам-тепе. На этой возвышенности Мядемин оказывался в самом центре своих войск, к тому нее Аджигам-тепе имел самую большую площадку, где можно было разместить наибольшее количество вооруженных людей. А это отвечало самому главному условию — как зеницу ока хранить жизнь хана. Не дождавшись от текинцев добровольной сдачи крепости, около одиннадцати часов утра хан двинул вперед пушки. Перед пушкарями ехал конный отряд в пятьсот сабель. Сам Мядемин в боевом одеянии, на разряженном коне, со свитой, ехал вслед за пушкарями. На расстоянии полета ядра пушки остановились, идущие впереди конники отвернули вправо. К ним присоединилась и конная группа Мядемина, хан и его свита остановились в ожидании интересного зрелища. Пушкари, знавшие о том, что за ними наблюдает сам хан, делали свое дело быстро и старательно. Вскоре сотник Мухамедэмин, командовавший артиллерией, направился к хану доложить о готовности открыть огонь. Мядемин поднял руку, жестом остановил приближавшегося Мухамедэмина. Он не торопился, смотрел в сторону крепости, как будто все время ждал чего-то. Никто не смел спросить хана, почему он медлит с приказом. И вдруг на крепостной стене появился человек. Мядемин не удержался, воскликнул: — Видите, как действуют на них пушки! Все стали ждать, что человек закричит со стены: «Не стреляйте, Каушут-хан хочет говорить с вами!» Однако ничего подобного человек не сказал, а спрыгнул со стены, потом спустился в траншею, окружавшую крепость, и долго не показывался. Хан и свита ждали. Когда наконец текинец стал выбираться из траншеи, на стене появился новый. Но он не спустился со стены, как первый, а, опершись о что-то, — видно, в руках его было ружье, — спокойно смотрел в сторону врага. — Что бы это значило? — спросил Мядемин. Ему не успели ответить, потому что человек, выбравшийся из траншеи, весь вымазанный в глине, бросился бежать навстречу пушкам. В ту же минуту человек на стене поднял ружье, прицелился и выстрелил. Беглец упал лицом вниз, как скошенный. Человек с ружьем исчез за крепостной стеной. Стрелявший по беглецу был Тач-гок сердар. Беглецом был Кичи-кел. Мядемин мстительно сощурил глаза и тихо, будто самому себе, сказал: — Если до выстрелов из пушек свалился только один из вас, после выстрелов вы свалитесь все, мордой в землю. — Пушкам стрелять! Развалить крепость! — закричал он в сторону все еще стоявшего в ожидании приказа Мухамедэмина. Грохнул залп из двадцати пушек. Черные клубы дыма окутали пушки и пушкарей. В наступившей затем тишине из крепости донеслись крики, стоны и плач детей. Когда рассеялся дым, пушкари стали готовиться ко второму залпу. — Не тратить снаряды! Отвести пушки назад! — приказал Мядемин. Часть южной стены рухнула, местами в ней зияли пробоины. Мядемин, довольный удачным началом, направил коня в сторону Аджигам-тепе, где белела его походная палатка. Снаряд, угодивший в черную кибитку, стоявшую недалеко от стены, стал причиной гибели старика и женщины с младенцем. Плач родственников разрывал сердце Каушут-хана. Уже было за полночь, а Каушут-хан не мог успокоиться, сон не шел к нему, и все же в тяжелых думах о спасении людей он задремал. Его разбудил Тач-гок сердар. В руках он держал лопату. — Что хочешь сказать, мерген?[88] — Иногда Каушут и так обращался к сердару. — Хан, скажи, чтобы мне открыли ворота. — Куда же ты собрался среди ночи? — Разве ты не знаешь, что собаку закапывает тот, кто ее убил. Надо похоронить вчерашнего беглеца, пока он не протух. — Не страшно одному идти? — Хан, как же Тач-гок пойдет на живого врага, если будет бояться мертвого?! Каушут-хан поднялся, вывел за ворота Тач-гока и вернулся назад. Он шел по крепости, заложив руки за спину. Люди давно уже спали. Вдруг полог одной кибитки откинулся, и оттуда вышел старик с посохом в руках. Увидев Каушут-хана, старик в испуге повернул назад, скрылся в кибитке. «Э, как старики боятся за свою жизнь», — подумал Каушут-хан и окликнул бородача: — Яшули, саламалейкум! По-моему, еще рановато для намаза! Старик выглянул из-за полога. — Валейкум эссалам! — отозвался он. — Какой уж тут намаз, я по малой нужде вышел. Каушут взглянул на небо и сказал: — Вон уж и Зохре взошла, так что и для намаза пора вставать. Старик ответил напрямик: — Это ты, сынок, можешь еще думать о намазе, а у меня… — Простыл, что ли, яшули? — Да, сынок, когда тебя окружает тысячное войско, простудишься… — Но между тобой и войском врага такая крепость стоит. — Перед бедой не устоит никакая крепость, сынок. — Но говорят же старики, что со всем народом и горе полбеды. Или это придумал текинец от нечего делать? — Похоже на то, что нам и умереть спокойно не дадут, как людям. Видно, дьявол управляет разумом тех, кто собрал нас на погибель. Будем считать, что умрем шехитами[89]. Слова старика сильно задели Каушута, голова которого и без того разламывалась от тяжелых дум. — Одному аллаху известно, кому погибнуть, а кому жить. И вообще, таким старикам, как ты, пожившим и много повидавшим, надо бы, наоборот, поднимать дух молодым, напутствовать и благословлять их на победу. Старик промолчал. Но Каушут не мог молчать. — Отец, — спросил он, — кто же этот человек, который бросил людей на погибель? — Кто он может быть, когда есть хан? — Слава богу, ханов у нас немало, неужели все они толкают людей на острие кинжала? — Если бы ханом остался Ходжам Кара, разве люди кисли бы в этой крепости? Никогда. Теперь появился какой-то Каушут. Два раза ездил в Хиву и ничего не добился. И вот натравил на нас Мядемина. Никак крови не напьется. Вместо того чтобы договориться с Мядеми-ном, он заключил нас в крепость. С гаджарами же он сошелся, мог бы сойтись и с Мядемином. Каушут решил не препираться со стариком, а дать ему понять, с кем тот имеет дело. — Отец, я не хочу быть лолы[90], которая содержит двух мужей. Отдай половину добра гаджарам, другую — Хиве, а самому что — землю грызть, да? Голос старика дрогнул. — Сынок, ты не сказал, кто ты такой. — Меня зовут Каушут-хан. Старик опешил. Каушут-хан, отдаляясь от старика, сказал: — Не волнуйся, отец. — И пошел своей дорогой. У западной стены в длинный ряд стояли и лежали лошади. Заслышав шаги, они насторожились, опасливо всхрапнули. В крепости было спокойно. Даже ребятишки не хныкали, угомонились давно, а их было тут не меньше тысячи. Взрослые тоже погрузились в сладкий сон. Каушут думал об этих людях, и ему казалось, что во всей крепости не спят сейчас только два человека: он сам и Тач-гок сердар, одиноко рывший могилу для предателя. Но хан ошибался. В крепости многие не спали. Непес-мулла, лежа на спине, смотрел сквозь отверстие туйнука на звезды и тоже размышлял о судьбах людских. В левом углу кибитки, обняв собственные колени, лежал Сейитмухамед-ишан и призывал на помощь всех святых, каких только мог вспомнить. Отойдя от лошадей, Каушут заметил темные фигурки людей, которые шли навстречу, согнувшись от груза, взваленного на спины. Хан остановил переднего. — Что за люди, куда направляетесь? Человек с мешком за спиной сдавленным голосом ответил: — Ай, идем кормить скотину. — Скотину? — Да, корм несем, хан-ага. — А ну-ка опустите свои чувалы. Люди сняли тяжелые мешки и облегченно вздохнули. — Кто велел кормить лошадей? Человек, стоявший впереди других, подошел к хану. — Мулла Непес, — сказал он, — велел нам перед утренним намазом кормить лошадей. — Сам ты кто такой? — Я — конюх, хан-ага. Сердар приставил меня к лошадям и дал в помощь двадцать парней. И то не управляемся. Легче пересчитать, хан-ага, деревья и щепки от них, чем лошадей, собранных в крепости. — Теперь скажи, — заговорил хан, — что легче потушить при пожаре — солому или умолот? Конюх рассмеялся: — Как понять, хан-ага, в шутку вы или всерьез? — Я всерьез спрашиваю. — Если так, скажу. Умолот сообща можно спасти от пожара, легче потушить, но когда загорится солома, что делать? Можно позвать на помощь аллаха, а самим поскорей удрать от огня. И хан сказал: — Раз уж вы такие понятливые ребята, немедленно отнесите назад чувалы с зерном, а лошадям давайте только сено. Пока не скормите все, не давать ни горсти зерна, даже Дулдулу[91], если кто прискачет на нем. Конюхи взвалили мешки и поплелись назад, а хан, заметив в стороне костерок, пошел на огонь. Тут сидели парни и громко смеялись. Их занимал чем-то Келхаи Кепеле. Он проворно поднялся перед ханом, поздоровался. — Потешаешь ребят сказками? — спросил Каушут. — Так, хан-ага, рассказываю о женитьбе одногб старого вдовца, как я сам. — Келхан-ага, — вставил один из парней, — рассказывает о том, как Кичи-кел поймал однажды шакала, хан-ага. — Это интересней любой сказки, — сказал Кау-шут-хан. Ребята снова рассмеялись. На смех выскочил из кибитки Сейитмухамед-ишан, увидев хана, испуганно спросил: — Что случилось, хан? — Пока ничего, ишан-ага. — Каушут хотел что-то еще сказать, но ему помешали. К костру подошли два человека — Тач-гок сердар и гонец по имени Чары, который был послан четыре дня назад в Ахал. Каушут-хан встревожился тем, что гонец, а их было двое, вернулся один, да еще в такой неурочный час. Ответив на приветствие, Каушут подошел поближе к Чары, который, кажется, плакал. — Дурные вести привез, парень? — спросил Каушут-хан. Чары не ответил, а продолжал всхлипывать. Потом, оправившись, обратился к Сейитмухамед-ишану: — Ишан-ага, прочитайте аят. Покойный Ходжам-кул… — слезы не дали ему договорить. — Войдите в дом, люди, — сказал Сейитмухамед, направляясь в кибитку. Откинул полог и оттуда прибавил: — Нехорошо, когда мужчина плачет, мужайся, сынок. После аята Чары немного успокоился и рассказал, что случилось с ним в дороге. Когда они вчетвером уже подъезжали к Геок-тепе, их встретила группа вооруженных всадников. Это были нукеры Мухамедмурада Мах-рема, которых Мядемин направил в Ахал. Нукеры бросились за гонцами, Чары и Ходжам сумели оторваться, но пуля угодила в голову Ходжама. Обливаясь кровью, он успел сказать на ходу: «Не думай обо мне, Чары, я умираю, главное, скажи Каушут-хану, что до Ахала мы не добрались». Проговорил и свалился с лошади. Шестнадцатого марта, сразу же после завтрака, в крепости поднялся шум. Сторожевые посты с наблюдательных вышек сообщили, что Мядемин двинул на крепость чуть ли не все свои войска. Об этом же говорили раздиравшие душу звуки зурны, доносившиеся из лагеря Мядемина. Каушут-хан сидел на старом пне, который приволок кто-то на песчаный холм посреди крепости. Выглядел хан усталым, измученным бессонной ночью и тяжелыми думами. Закутанная в халат, к нему подошла жена. — Что тебе еще надо? — глухо спросил Каушут. Язсолтан молча приподняла край паранджи, показала миску с едой. Каушут плотно сжал губы и с тяжелым вздохом покосился на жену. Язсолтан без слов поняла, что означает и этот взгляд, и этот вздох. Она сразу же повернула назад. Хан поднялся и уже хотел спуститься вниз, когда к нему на холм взобрался Тач-гок сердар. — Хан, — сказал он, — разреши мне взять этот пенек и поднять на стену. Каушут-хан, плохо понимая, о чем его просит сердар, смотрел то на этот черный пенек, то на Тач-гок сердара. — Я хочу залечь за этим пнем, и тогда мои пули без промаха будут попадать в цель. Может быть, мне посчастливится увидеть Бекмурада. Чтобы он попался мне на глаза, я принес в жертву аллаху одного барана. Я счастлив буду умереть, если только пуля моя продырявит голову этому шакалу. — Тут Келхан Кепеле тоже молил аллаха, чтобы его пуля нашла Бекмурада. Не ты один думаешь об этом. — Даст бог, я опережу Келхана. — Тогда забирай пенек, и бог тебе в помощь. Тач-гок дал знак, и дюжие парни поднялись на холм, скатили черный пень, потом подняли на руки и понесли туда, куда приказал им сердар. Вызванный ханом глашатай Джаллы взобрался на холм и объявил приказ Каушута. — Эй, люди. Прячьте побыстрее детей в корпечи, хо-ов! Прячьте детей, хо-ов! Таков приказ Каушут-хана, ов! В крепости поднялась суета. Ржали лошади, кричали женщины с детьми на руках, мужчины с черными ружьями бежали к крепостным стенам. Каушут, направляясь к воротам, остановился перед одним из корпечи. Тут вовсю орудовал Келхан Кепеле. Никогда не имевший детей, он с особой нежностью принимал малюток от женщин и бережно передавал их кому-то вниз, в укрытие. С необычной для него расторойностыо Келхан занимался ребятишками и даже покрикивал на кого-то из взрослых: «Шевелись, шевелись, не спи на ходу!» Обычно женщины перед мужчинами старательно натягивали паранджу, тут же они забыли о приличиях, забыли и про свои яшмаки. Не стеснялись даже перед ханом. Одна из них попыталась вместе с ребенком пробраться в корпечи. Но Келхан остановил ее: — Это же не крепость, женщина. Ты займешь место десятерых детей. — Сколько ты оставляешь женщин при детях? — спросил Каушут-хан. — В корпечи я оставляю четырех матерей, хан. — А детей? — Детей? — переспросил Келхан, потом нагнулся, спросил внизу у кого-то. — Без трех сорок, хан. — Управятся ли четыре женщины? — На десять нукеров Мядемина приходится по одному текинцу, хан. Если мы справимся, то справятся и наши женщины с четырьмя десятками детей. В суматохе одна молодая мать перед тем, как передать своего ребенка Келхану, вынула грудь и стала кормить младенца. Келхан Кепеле возмутился: — Хан, ты погляди на нее! Нашла время!
 Молодая мать покраснела до ушей, спрятала грудь и передала свое чадо Келхану. Младенец, уже почуявший запах молока, но не получив его, протянул ручонки к матери и расплакался. Каушут-хан стал успокаивать мать:
— Потерпи, не расстраивайся, разделаемся с врагом, тогда досыта накормишь своего джигита. Такая наша судьба, надо терпеть.
Мать покорно кивнула хану и удалилась. Келхан выбрался из корпечи, отряхнул от глины халат. Вслед за ним выскочил Курбан, помогавший внизу Келхану Кепеле. Юноша поздоровался с ханом, и лицо его расплылось в улыбке. Келхан, как бы извиняя Курбана, сказал:
— Молодой, что с него возьмешь? Улыбается, как будто время сейчас для улыбок.
— Пусть, — возразил Каушут-хан, — пусть среди нас будут и улыбающиеся.
У ворот, куда незаметно подошел Каушут-хан, толпились люди, выглядывая через решетку, забитую колючей дерезой. Кто-то, глядя в степь, на полчища врага, вдруг закричал:
— Люди, Каушут-хан с ума сошел! Разве можно устоять перед этой тьмой?! Он хочет, чтобы мы все положили свои головы! Надо было поладить с Мядеми-ном. Глядите, люди, земля сдвинулась с места! Тут и сам Искандер[92] не смог бы устоять! А как нашего хана зовут? Не Искандер же!
Кричавшему парню никто не ответил. Каушут-хан также хотел было пройти мимо, но не удержался. Подошел к парню, потянул его за халат. Тот повернулся и как ни в чем не бывало расплылся в улыбке.
— Хан-ага, саламалейкум!
Хан слегка улыбнулся.
— Валейкум эссалам, сынок. Значит, ты не знаешь имени Каушут-хана?
— Я пошутил, хан-ага.
— Не время сейчас для таких шуток. Однако у твоего хана есть еще другое имя. Разве ты не слыхал?
— Нет, не слыхал.
— Так вот слушай, мое второе имя — Пилкус. Ты хоть знаешь, кто такой Пилкус?
— Нет, не знаю, хан-ага.
— Тогда знай. Пилкус — это отец Искандера. И еще прошу тебя запомнить. Если хочешь сражаться с врагом, напавшим на тебя, сражайся; если не хочешь, тогда лучше не болтай глупости от трусости. Придержи язык за зубами. Хочешь уйти, ребята откроют тебе ворота, уходи и стань на колени перед Мядемином.
Кто-то засмеялся и перебил хана:
— Хан-ага, он не успеет упасть на колени, если вы отпустите его, он простится с жизнью раньше, как предатель Кичи, едва только выберется из траншеи. Видите вон того человека?
Каушут-хан посмотрел на северную стену, там, за черным пнем, лежал Тач-гок сердар. В каждой руке он держал по ружью.
Каушут по ступенькам поднялся наверх. Противник был виден отсюда как на ладони. Основные силы Мядемина двигались на крепость с северной стороны. С южной стороны войско было поменьше, но более грозное, тут были пушки. На белой лошади, выделяясь из свиты, вслед за пушками ехал сам Мядемин.
Каушут-хан спустился на ступеньку ниже и сказал толпившимся у ворот людям:
— Кто там полегче на ногу?! Быстро к южной стене, передайте приказ всем перейти на северную стену.
Несколько юношей бросились исполнять приказ Кау-шут-хана.
Снаряды Мядемина, пробивая крепостную стену, падали тут же, шага за три-четыре от стены, и Каушут сообразил, что, если люди перейдут в северную часть крепости, пушечный огонь не сможет причинить им никакого вреда.
Внизу собралась группа воинов о белыми повязками на рукавах. Во главе их был Непес-мулла. Он крикнул Каушуту:
— Хан, мы разделили людей на сотни и назначили сотников. Говори, что делать, мы готовы.
— Сколько подняли наверх? — спросил хан.
— Как ты велел, тысячу.
Каушут-хан, глядя на южную часть Мядеминова войска, взмахнул рукой:
— Поднимайтесь ко мне!
Когда все поднялись на стену, Каушут-хан протянул руку в сторону пушек.
— Видите, на сером коне сам Мядемин, а слева от него в черной папахе Бекмурад-теке.
— О! Как он охраняет тень Мядемина! — покачал головой Непес-мулла.
Каушут улыбнулся:
— Узнает об этом Тач-гок сердар, непременно вернется на южную стену.
— Почему, хан? — спросил Непес-мулла.
— Потому что Тач-гок только и мечтает увидеть Бекмурада. Он говорит, если не уложит этого шакала собственной рукой, будет считать свою жизнь напрасной.
Тем временем звуки зурны сменились громом пушечных выстрелов. Все смешалось в этом грохоте, крики женщин и плач детей. Ревели ишаки, испуганно ржали лошади, брехали всполошенные собаки, и какой-то пес, задрав голову к небу, выл жутко и отчаянно. Во всей этой суматохе только мужчины были спокойны, каждый из них делал свое дело.
Снаряды заметно порушили часть южной стены, но и оттуда люди не уходили, даже раненые не оставляли своих ружей и вели огонь по наступавшему врагу.
На северной стене шуму было не меньше, хотя стена тут стояла нетронутой. Были и тут раненые, враги достали их из ружей.
Каушут-хан следил за всем ходом сражения. Он заметил, что воины южной стены стали сдавать.
— Мулла! — крикнул хан, но никто ему не ответил, потому что Непес-мулла и Келхан Кепеле сами бросились на помощь дрогнувшим воинам.
У ворот люди не сделали еще ни одного выстрела, они ждали, когда враг подойдет поближе.
Северную стену охраняли Эсен Оглан Пальван и джигиты Пенди-бая, их было свыше шестисот человек. Каушут решил перебросить их в южную часть крепости. Пенди-бай накрывал своим доном парня, лежавшего на краю стены.
— Что с ним? — спросил поднявшийся Каушут-хан.
— Пуля угодила ему в голову, хан.
— Бай, — сказал Каушут-хан, — веди своих парней на южную стену, там плохо.
— Иду, — ответил Пенди-бай.
Снова заговорили пушки, затихшие на короткое время. Снова поднялась суматоха, крики и стоны раненых. Когда хан проходил мимо корпечи, он услышал старческий голос Сейитмухамеда-ишана:
— Хан, остановись!
— Слушаю вас, ишан-ага!
Сейитмухамед дрожал от страха. Он быстро-быстро говорил хану:
— Кажется, наступает конец света, хан. Неужели мы будем смотреть, как гибнет наш народ? Неужели нет никакого выхода? Нельзя ли все приостановить? Может, пойти на переговоры? Должны же они пожалеть хотя бы наших детей?
— Ишан-ага, мы должны выстоять, — проговорил хан и заспешил к южной стене. Пушечный снаряд пролетел мимо хана и попал в голову верблюда. Инер свалился на бок, вытянув длинные ноги. Но Каушут с любопытством посмотрел не на верблюда, а на ядро. Он первый раз в жизни видел пушечный снаряд. Каушут подумал, что их делают из черного горного камня. Поднимаясь по ступенькам, он представлял себе дюжих людей, которые распиливали черный камень, а рядом уже лежала гора точно таких же ядер, которым был убит на его глазах верблюд.
На стене первым попался Каушут-хану Курбан. Он только что выстрелил из ружья и, видно, попал в цель, потому что встал и улыбнулся хану.
Каушут увидел со стены, как спокойно пушкари в третий раз заряжали свои пушки, и вот снова заревели орудия. Раненых стаскивали вниз, к подножию стены. Там с лекарской сумкой суетился Табиб Ме-ледже.
Хан понимал, что положение становилось все тяжелее. За грохотом пушек не слышно было человеческого голоса, и хан, подобравшись к Непес-мулле, который лежал рядом с Курбаном, закричал ему в ухо:
— Что будем делать, мулла? Ребята начинают сдавать!
— Дать небольшой отдых, хан! — в ответ прокричал мулла.
Каушут-хан и сам подумал об этом. Его люди, никогда не видевшие пушек, как ни старались храбриться, все же робели перед пушками, надо сделать хотя бы короткую передышку, дать успокоиться воинам, прийти в себя.
Каушут-хан снял папаху и замахал ею, обратясь в ту сторону, где стоял Мядемин.
— Аха-ха-а-ав! Аха-ха-а-ав!
Крик Каушута утонул в грохоте. Но враг, хотя и не слышал голоса Каушут-хана, видел, как он размахивал папахой. Когда развеялся дым, показался высокий бунчук. Каушут снова повторил свое движение.
Грохот прекратился, пушки замолчали, и теперь стало видно, что они натворили. В руинах стонали раненые, плакали в голос родственники убитых.
— Ой, братишка!
— Вай, сыночек мой!
Повсюду раздавались возгласы несчастных.
Молодая мать покраснела до ушей, спрятала грудь и передала свое чадо Келхану. Младенец, уже почуявший запах молока, но не получив его, протянул ручонки к матери и расплакался. Каушут-хан стал успокаивать мать:
— Потерпи, не расстраивайся, разделаемся с врагом, тогда досыта накормишь своего джигита. Такая наша судьба, надо терпеть.
Мать покорно кивнула хану и удалилась. Келхан выбрался из корпечи, отряхнул от глины халат. Вслед за ним выскочил Курбан, помогавший внизу Келхану Кепеле. Юноша поздоровался с ханом, и лицо его расплылось в улыбке. Келхан, как бы извиняя Курбана, сказал:
— Молодой, что с него возьмешь? Улыбается, как будто время сейчас для улыбок.
— Пусть, — возразил Каушут-хан, — пусть среди нас будут и улыбающиеся.
У ворот, куда незаметно подошел Каушут-хан, толпились люди, выглядывая через решетку, забитую колючей дерезой. Кто-то, глядя в степь, на полчища врага, вдруг закричал:
— Люди, Каушут-хан с ума сошел! Разве можно устоять перед этой тьмой?! Он хочет, чтобы мы все положили свои головы! Надо было поладить с Мядеми-ном. Глядите, люди, земля сдвинулась с места! Тут и сам Искандер[92] не смог бы устоять! А как нашего хана зовут? Не Искандер же!
Кричавшему парню никто не ответил. Каушут-хан также хотел было пройти мимо, но не удержался. Подошел к парню, потянул его за халат. Тот повернулся и как ни в чем не бывало расплылся в улыбке.
— Хан-ага, саламалейкум!
Хан слегка улыбнулся.
— Валейкум эссалам, сынок. Значит, ты не знаешь имени Каушут-хана?
— Я пошутил, хан-ага.
— Не время сейчас для таких шуток. Однако у твоего хана есть еще другое имя. Разве ты не слыхал?
— Нет, не слыхал.
— Так вот слушай, мое второе имя — Пилкус. Ты хоть знаешь, кто такой Пилкус?
— Нет, не знаю, хан-ага.
— Тогда знай. Пилкус — это отец Искандера. И еще прошу тебя запомнить. Если хочешь сражаться с врагом, напавшим на тебя, сражайся; если не хочешь, тогда лучше не болтай глупости от трусости. Придержи язык за зубами. Хочешь уйти, ребята откроют тебе ворота, уходи и стань на колени перед Мядемином.
Кто-то засмеялся и перебил хана:
— Хан-ага, он не успеет упасть на колени, если вы отпустите его, он простится с жизнью раньше, как предатель Кичи, едва только выберется из траншеи. Видите вон того человека?
Каушут-хан посмотрел на северную стену, там, за черным пнем, лежал Тач-гок сердар. В каждой руке он держал по ружью.
Каушут по ступенькам поднялся наверх. Противник был виден отсюда как на ладони. Основные силы Мядемина двигались на крепость с северной стороны. С южной стороны войско было поменьше, но более грозное, тут были пушки. На белой лошади, выделяясь из свиты, вслед за пушками ехал сам Мядемин.
Каушут-хан спустился на ступеньку ниже и сказал толпившимся у ворот людям:
— Кто там полегче на ногу?! Быстро к южной стене, передайте приказ всем перейти на северную стену.
Несколько юношей бросились исполнять приказ Кау-шут-хана.
Снаряды Мядемина, пробивая крепостную стену, падали тут же, шага за три-четыре от стены, и Каушут сообразил, что, если люди перейдут в северную часть крепости, пушечный огонь не сможет причинить им никакого вреда.
Внизу собралась группа воинов о белыми повязками на рукавах. Во главе их был Непес-мулла. Он крикнул Каушуту:
— Хан, мы разделили людей на сотни и назначили сотников. Говори, что делать, мы готовы.
— Сколько подняли наверх? — спросил хан.
— Как ты велел, тысячу.
Каушут-хан, глядя на южную часть Мядеминова войска, взмахнул рукой:
— Поднимайтесь ко мне!
Когда все поднялись на стену, Каушут-хан протянул руку в сторону пушек.
— Видите, на сером коне сам Мядемин, а слева от него в черной папахе Бекмурад-теке.
— О! Как он охраняет тень Мядемина! — покачал головой Непес-мулла.
Каушут улыбнулся:
— Узнает об этом Тач-гок сердар, непременно вернется на южную стену.
— Почему, хан? — спросил Непес-мулла.
— Потому что Тач-гок только и мечтает увидеть Бекмурада. Он говорит, если не уложит этого шакала собственной рукой, будет считать свою жизнь напрасной.
Тем временем звуки зурны сменились громом пушечных выстрелов. Все смешалось в этом грохоте, крики женщин и плач детей. Ревели ишаки, испуганно ржали лошади, брехали всполошенные собаки, и какой-то пес, задрав голову к небу, выл жутко и отчаянно. Во всей этой суматохе только мужчины были спокойны, каждый из них делал свое дело.
Снаряды заметно порушили часть южной стены, но и оттуда люди не уходили, даже раненые не оставляли своих ружей и вели огонь по наступавшему врагу.
На северной стене шуму было не меньше, хотя стена тут стояла нетронутой. Были и тут раненые, враги достали их из ружей.
Каушут-хан следил за всем ходом сражения. Он заметил, что воины южной стены стали сдавать.
— Мулла! — крикнул хан, но никто ему не ответил, потому что Непес-мулла и Келхан Кепеле сами бросились на помощь дрогнувшим воинам.
У ворот люди не сделали еще ни одного выстрела, они ждали, когда враг подойдет поближе.
Северную стену охраняли Эсен Оглан Пальван и джигиты Пенди-бая, их было свыше шестисот человек. Каушут решил перебросить их в южную часть крепости. Пенди-бай накрывал своим доном парня, лежавшего на краю стены.
— Что с ним? — спросил поднявшийся Каушут-хан.
— Пуля угодила ему в голову, хан.
— Бай, — сказал Каушут-хан, — веди своих парней на южную стену, там плохо.
— Иду, — ответил Пенди-бай.
Снова заговорили пушки, затихшие на короткое время. Снова поднялась суматоха, крики и стоны раненых. Когда хан проходил мимо корпечи, он услышал старческий голос Сейитмухамеда-ишана:
— Хан, остановись!
— Слушаю вас, ишан-ага!
Сейитмухамед дрожал от страха. Он быстро-быстро говорил хану:
— Кажется, наступает конец света, хан. Неужели мы будем смотреть, как гибнет наш народ? Неужели нет никакого выхода? Нельзя ли все приостановить? Может, пойти на переговоры? Должны же они пожалеть хотя бы наших детей?
— Ишан-ага, мы должны выстоять, — проговорил хан и заспешил к южной стене. Пушечный снаряд пролетел мимо хана и попал в голову верблюда. Инер свалился на бок, вытянув длинные ноги. Но Каушут с любопытством посмотрел не на верблюда, а на ядро. Он первый раз в жизни видел пушечный снаряд. Каушут подумал, что их делают из черного горного камня. Поднимаясь по ступенькам, он представлял себе дюжих людей, которые распиливали черный камень, а рядом уже лежала гора точно таких же ядер, которым был убит на его глазах верблюд.
На стене первым попался Каушут-хану Курбан. Он только что выстрелил из ружья и, видно, попал в цель, потому что встал и улыбнулся хану.
Каушут увидел со стены, как спокойно пушкари в третий раз заряжали свои пушки, и вот снова заревели орудия. Раненых стаскивали вниз, к подножию стены. Там с лекарской сумкой суетился Табиб Ме-ледже.
Хан понимал, что положение становилось все тяжелее. За грохотом пушек не слышно было человеческого голоса, и хан, подобравшись к Непес-мулле, который лежал рядом с Курбаном, закричал ему в ухо:
— Что будем делать, мулла? Ребята начинают сдавать!
— Дать небольшой отдых, хан! — в ответ прокричал мулла.
Каушут-хан и сам подумал об этом. Его люди, никогда не видевшие пушек, как ни старались храбриться, все же робели перед пушками, надо сделать хотя бы короткую передышку, дать успокоиться воинам, прийти в себя.
Каушут-хан снял папаху и замахал ею, обратясь в ту сторону, где стоял Мядемин.
— Аха-ха-а-ав! Аха-ха-а-ав!
Крик Каушута утонул в грохоте. Но враг, хотя и не слышал голоса Каушут-хана, видел, как он размахивал папахой. Когда развеялся дым, показался высокий бунчук. Каушут снова повторил свое движение.
Грохот прекратился, пушки замолчали, и теперь стало видно, что они натворили. В руинах стонали раненые, плакали в голос родственники убитых.
— Ой, братишка!
— Вай, сыночек мой!
Повсюду раздавались возгласы несчастных.
Мядемин, как только увидел на стене Каушут-хана с поднятой шапкой в руке, решил, что тяжелые пушки сделали свое дело. Он подозвал сотника Мухамедэмина, велел откатить артиллерию, хорошо угостить пушкарей, сделать им богатый плов и отвести войско. Сам же, довольный сегодняшним днем, в хорошем расположении духа, пришпорил коня, направляясь к Аджигам-тепе. По дороге обратился к Мухамеду Якубу Мятеру: — Не сразиться ли нам сегодня в шахматы? Мятеру не хотелось портить настроение хану, и он сказал слова, которых тут же устыдился, потому что в душе у него не было этих слов: — Хан-ага, еще не родился тот человек, который мог бы обыграть вас! Мядемин от души рассмеялся. — Не хочешь ли ты сказать, что, подобно Каушут-хану, после трех залпов из пушек мой противник начнет махать шапкой? — Именно это я и хотел сказать, хан-ага. Настроение Мядемина поднялось еще выше. Он взмахнул плетью с серебряной рукояткой. — Эй, теке! — крикнул он Бекмураду. — Сегодня мы видели, как воюют текинцы, посмотреть бы, как они играют в шахматы! Бекмурад-теке, хотя и грузен был, в одно мгновение оказался возле хана. — Хан-ага, я не из тех текинцев. И зовут меня не Каушут-теке, а Бекмурад-теке. — Говорят, большие и малые змеи одинаково ядовиты. Ты не исключение. Если хочешь, поставим фигуры на доску! Бекмурад угодливо потер руки. — Ай, хан-ага, раз уж на то ваша воля, можно и поставить, хотя куда мне против вас. — Это почему же? — Весь Хорезм знает, как вы играете! Настроение хана подскочило еще выше. — Ну, коли так, занимайся своими делами. — Он положил руку на плечо Мухамеду Якубу Мятеру. — Как думаешь, Мятер, когда они приползут с повинной? — Не сегодня, так завтра, — ответил Мятер, немного подумав для вида. — Но почему завтра? — Пока они приберут убитых и раненых, может пройти день. — Гм. Значит, не так уж много убито у них? — Мядемин вдруг нахмурился, посерьезнел. — А как у нас, есть убитые? Мухамед Якуб Мятер уже получил сведения. Он ответил сразу: — Убитых тридцать семь. О раненых пока точно не известно. — Тридцать семь? Кто посмел убить столько наших людей? — У текинцев, хан-ага, тоже есть меткие стрелки. Ответ разозлил Мядемина. Голос его изменился. — Ты врешь, Мятер! У текинцев не может быть метких стрелков! Мухамед Якуб, испугавшись ханского гнева, стал выкручиваться. — Что поделаешь, хан-ага. Своим рабам аллах посылает разную смерть. Одним суждено умереть в Хорасане, другим в Серахсе. Это немного успокоило Мядемина, и он вошел в свою походную палатку.
К одиннадцати часам утра семнадцатого марта стало известно, что из крепости едет к Мядемину посол от текинцев. Встретил его Мухамед Якуб Мятер, и они вместе отправились к хану. Войдя в палатку, Мятер начал докладывать, но хан выставленной ладонью подал знак: «Тише!» Его внимание было приковано к клетке с перепелкой. Он наслаждался верещанием перепелки. «Быт-был-лык, быт-был-лык», — захлебывалась птица, и хан замирал от удовольствия. Обернувшись к послу, Мухамед Якуб Мятер прошептал: — Немного подождите. Сейитмухамед-ишан попятился к выходу и там, за пологом, стал терпеливо ждать приглашения. Лицо ишана, недосыпавшего много ночей, было бледным, воспаленные глаза глубоко запали. Невдалеке от палатки нукер Мядемина держал под уздцы лошадь ишана. Вокруг сновали вооруженные люди, бегали повара, занятые приготовлением обеда для хана, и никто из них не обращал внимания на ишана. Сейитмухамед-ишан видел все. И здоровенных парней из личной охраны Мядемина и его поваров, и гончих собак, слонявшихся по площадке, и даже кованые расписные сундуки возле палатки. Особенно его внимание привлекла желтая пушка с черным дулом и круглые ядра возле нее. Ему показались эти ядра гораздо крупнее тех, что падали вчера в крепость. Пока он рассматривал эту пушку с ядрами, откуда-то явился толстобрюхий мужчина со смоляными усами. Краем глаза взглянул он на ишана и начал старой тряпкой протирать дуло пушки. Движения его были неторопливыми, и толстое брюхо явно свидетельствовало о том, что он презирает всякую работу. И говорил толстяк с каким-то пренебрежением, в нос. — Эй, теке, что ты тут выставился? Хотя это был лагерь врага, который пришел уничтожить крепость Серахс вместе с людьми, но Сейитмуха-мед не мог и во вражеском лагере позволить подобное к себе обращение. Он сказал: — Я отвечу тебе, ленивец. Мы не «эй». Мы — ишан текинцев, и мы — не теке, а эрсары[93], и потом, если посчитать годы, твой отец может оказаться моложе меня. Сказавши все это, Сейитмухамед-ишан был уверен, что чистивший пушку человек тотчас же извинится и скажет: «Ишан-ага, я не знал, простите меня». Однако черноусый пузан рассмеялся. — Для этой желтой пушки, старик, все равны. И ишаны, и муллы. Если поставить перед ней самого пророка и выстрелить, она и пророка разнесет в клочья. — Эстгапыралла! Эстгапыралла![94] — невольно вырвалось у Сейитмухамеда-ишана. — Не богохульствуй, хан. Великий аллах может так сделать, что твоя желтая пушка заглохнет навсегда. — Эта не заглохнет, — отмахнулся толстяк. — Это царская пушка. Не из тех, что били вчера по вашей крепости. Ей не надо ходить к стене, она и отсюда достанет. Сейитмухамед-ишан потер пальцы, кашлянул и отвернулся от царской пушки. Он долго смотрел на север. А когда снова повернулся к пушке, там стоял с ветошью в руках уже другой нукер, такой же толстяк, как и первый. — Теке, — сказал он, — считайте, что вы ничего не слышали, когда говорил вам этот Махмуд. Махмуд — просто враль и болтун. Эта царская пушка ничем не отличается от других. Если выстрелить из нее, ядро не пролетит и половины пути до вашей крепости. Нукер еще хотел что-то сказать, но тут откинулся полог палатки и вышел Мухамед Якуб Мятер. — Ишан, они разрешают, входите. — Саламалейкум! — сказал Сейитмухамед-ишан, войдя вслед за Мятером в палатку. Скрестив ноги, Мядемин сидел посередине палатки на перине. Несмотря на то что он был моложе ишана чуть ли не на два десятка лет, он не только не поздоровался с Сейитмухамедом-ишаном, но даже не ответил на его приветствие. На левом колене хана стояла уже знакомая ишану клетка. Перепелка не пела уже, но хан держал клетку, чтобы выразить полное равнодушие к послу. Сейитмухамед стоял у самого входа, не смея пройти дальше, и был похож на провинившегося мальчишку. На помощь ему пришел советник, у которого еще теплилось что-то от человеческой доброты. — Ишан-ага, не стойте у двери, проходите, — пригласил он. Это не понравилось, однако, самому Мядемину. Он посмотрел поверх головы Мухамеда Йкуба и надменно спросил: — Мятер, ты говорил, что я сегодня буду есть плов? Ни вчера, ни сегодня хан даже не намекал своему советнику, что хочет плова. И у самого хана не было и в мыслях никакого плова. Его вопрос надо было понимать как намек на то, чтобы Мятер оставил его наедине с послом. Мятер понял этот намек. Сейитмухамед-ишан, оставшись один на один с ханом, как непринятый гость, присел прямо на том месте, на котором стоял. Стал ждать, когда заговорит хан. Однако не было никаких признаков, что тот собирается говорить. И тогда сказал первые слова ишан: — Хан-ага, нас направили к вам… Мядемин, не отрывая глаз от перепелки, ответил: — Оказывается, вы и без приглашения ходите в гости. Сейитмухамед-ишану ничего не оставалось, как проглотить унижение. — Нас привели к вам, — сказал он, — слезы наших детей, хан-ага. Мядемин покосился на посла: — А пять дней назад вы не знали, что у вас есть дети? — Знали, но не думали, что могучий хан может подвергнуть нас такому ужасному обстрелу. — Может, вы и того не знали, что Мядемин является потомком Чингисхана?[95] — Хоть мы и знали, но никогда не думали, что мусульмане могут нападать на мусульман. — Текинцы не могут быть мусульманами, ишан. Когда текинцы чувствуют свою силу, они становятся хуже капыра[96]. Надеясь на Насреддина, вы плюнули в лицо Хиве. — Нет, хан-ага, мы не плевали в лицо Хиве и хотели бы жить с ней в ладу. — А коль собираешься жить, ишан, то и говори свои условия. У меня нет времени препираться с вами. — Наше предложение, хан-ага, будет таким: если уберете свои пушки и уйдете в Караяб, спасете от гибели наших детей, Каушут-хан согласен платить вам сороковую часть от скота и урожая. Мядемин понизил голос: — А в Мары не согласны переехать? — В Мары не согласны. Причина в том… — Я не хочу знать причины, ишан. Не переберетесь в Мары, не внесете залог, я залью кровью крепость Ка-ушут-хана. Это и передайте ему. Мядемин говорил решительно, Сейитмухамед понял, что умолять его бесполезно, и тем не менее спросил: — Хан-ага, вчера у нас погибло сто тринадцать человек. Ради милости аллаха дайте возможность отнести их на кладбище и по-человечески похоронить. Мядемин кивнул головой. И вдруг ехидно улыбнулся, словно бы пожалел о своем согласии. — Ишан, — сказал он, — неужели и Каушут-хан пойдет на кладбище хоронить погибших по его собственной вине? — Этого я не знаю, хан-ага. Видно, пойдет. — Хоп! Хорошо! И еще условие. Похоронная процессия пойдет без оружия. Если хоть один нарушит это условие, никто не вернется с кладбища живым. Придется рыть могилы и для себя. Сейитмухамед принял это условие. Но Мядемин продолжал говорить: — И вообще, ишан, если не захотите перебираться в Мары, можете сразу же отправляться на кладбище, все до одного. Завтра я пойду на вашу крепость в последний раз. И если сами, своими ногами не отправитесь на кладбище, хоронить вас будет некому. Кровь ударила в голову Сейитмухамеду. Про себя он подумал: «О аллах! Пошли нам умных и мудрых соседей, избавь от таких, как эти!» Ему хотелось сказать вслух что-нибудь в этом роде, но он сдержался, вспомнив совет Каушут-хана: «Ишан-ага, что бы там ни было, а посол не должен горячиться». — Хан-ага, если аллах с нами, он не отдаст на погибель наших детей, — только и вымолвил ишан. Мядемин снова улыбнулся с ехидцей: — Пускай с вами аллах, если ему так хочется, — и, махнув рукой, прибавил: — Но и кладбище «Верблюжья шея» тоже будет с вами. Сейитмухамед подумал, что теперь орудия Мядемина не будут стрелять по крепости, а если и будут, то снаряды полетят в них самих, если они посмели оскорбить и аллаха, и кладбище «Верблюжья шея». — Хан-ага, если позволите, я уйду, — сказал ишан. — Иди, ишан. И передай Каушут-хану, попадется мне в руки, я зарою его в землю живым. Сейитмухамед молча встал с места. Когда он дошел до порога палатки, услышал властный окрик хана: — Остановись! Обернувшись, ишан увидел улыбающегося Мядемина. В его душе мелькнула надежда, что хан подумал о детях и сжалился над ними. — Ишан, у меня есть еще один разговор. Если текинцы пойдут навстречу, я спасу их от гибели. Сейитмухамед ничего хорошего не мог ждать от Мядемина, тем не менее согласился выслушать. — Говорите, будем слушать. — Пусть Каушут-хан принесет нам сорок белых кибиток. Ишан согласно кивнул головой: — Каушут-хан выполнит это условие. — А в каждой белой кибитке по одной шестнадцатилетней текинской девушке. Мороз прошел по коже ишана. — Хан, я не смогу передать это Каушут-хану. Разрешите мне уйти. — Разрешаю, ишан, разрешаю. Подумайте над моим предложением. Ярко светило солнце. Перед Сейитмухамедом-ишаном, который стоял на вершине Аджигам-тепе, Серахская равнина лежала как на ладони. И горько было думать, что вся она теперь занята войсками Мядемина. По ней то и дело проносились чужие всадники, клубились чужие дымки над очагами. Вдали, как бы прижимаясь к этой равнине, лежала в развалинах старая крепость. Вокруг нее все было мертво. Только за полуразрушенными стенами поднимались к небу дымы. И это говорило о том, что в крепости были люди. Ишан подошел к нукерам, прислуживающим хану в палатке. Ему хотелось перед уходом повидаться с Мухамедом Якубом Мятером, чтобы попросить у него сопровождающего. — Люди, — обратился он к слугам, — помогите мне найти Мухамеда Якуба Мягера. — Видите толпу? — сказал один из слуг хана, показав на собравшихся людей у подножия Аджигам-тепе. — Идите, он там. — Можно ли нам пройти туда? — спросил ишан. Слуга понял, что хотел сказать ишан. — У нас все знают, что вы прибыли послом. Идите, никто не тронет вас. С вязанкой хвороста мимо проходил уже знакомый ишану усатый толстяк. — Эй, хаммал![97] Проводи этого человека к Мятеру! — крикнул старший над слугами. Хаммал отнес хворост к очагу, вырытому позади ханской палатки, вернулся, склонил голову перед приказавшим и молча шагнул к ишану. Он шел впереди Сейитму-хамеда по склону холма и без умолку болтал, выхваляясь перед послом текинцев. Он говорил о бесконечных праздниках, которые сопровождали их в походе от самой Хивы до Серахса, о том, что в каждом ауле он проводил время в обществе молоденьких девушек, что Мядемин назначил его к поварам не хаммалом, а самым доверенным лицом, которое должно следить, чтобы не отравили обед хану, и что вообще ничего нет лучшего, как находиться в войсках Мядемина, где каждый день происходит что-нибудь интересное, и вот сегодня они идут как раз туда, где можно будет посмотреть на интересное зрелище, сейчас там будут травить собаками ослушника, который обматерил самого Мядемина. Ишан слушал и не верил своим ушам. — Сынок, неужели ты говоришь правду? Разве можно отдать человека на растерзание собакам? Разве это предусмотрено шариатом? Хаммал прямо-таки удивился. — А разве, — сказал он, — бросать оскорбление матери такого великого хана, как Мядемин, влезает в рамки шариата? — Если человек допустил это, он будет наказан на том свете. — Верно говоришь, теке. Он понесет наказание на том свете, но и на этом свете он должен получить свою долю. — Не знаю, сынок, что и сказать на это. — Зато мы знаем, если вы не знаете, — уверенно сказал хаммал. — Надо шкуру снимать с того, кто осмеливается задевать честь хана. Когда они дошли до толпы, Сенитмухамед-ишан воочию убедился, что хаммал говорил правду. Посреди толпы стоял раздетый догола мужчина, еще совсем не старый. К нему вышел крепыш с отвислыми усами и заорал во всю глотку: — Тогто Абдулла оглы отдается собакам за то, что грязными словами обозвал нашего мудрейшего и величайшего хана Мядемина. И это будет с каждым, кто осмелится поднять хотя бы язык свой на великого Мядемина! Человек, прочитавший эти слова с листа, вернулся на свое место, и в ту же минуту были спущены полдесятка огромных собак. С диким рычанием они бросились на несчастного. То ли сам человек упал, то ли сбили его разъяренные псы, но он вмиг оказался распластанным на земле, и собаки уже рвали его тело клыками, подстегиваемые душераздирающими криками несчастного. Человек кричал из последних сил, но собаки беспощадно делали свое дело. Одна из них впилась в его щеку и вырвала половину лица. Через несколько минут окровавленный мужчина затих. Собаки катали по земле истерзанное тело, в котором уже нельзя было узнать человека. У Сейитмухамеда потемнело в глазах, голова закружилась, и он опустился на землю. Ишан теперь окончательно понял, что никакие дети не могут разжалобить Мядемина, пощады от него ждать глупо и бесполезно. Он протянул с трудом руку, потеребил край халата стоявшего перед ним юноши. — Сынок, — попросил он, — поищи-ка Якуба Мятера.
Сейитмухамед-ишан к полудню вернулся в крепость. Люди дожидались его, нетерпеливо выглядывая на дорогу. Вид у ишана был такой горестный и несчастный, что Каушут-хан без слов понял, что переговоры ничего хорошего не дали, и попытался немного утешить старика. Он вымученно улыбнулся и сказал: — Ишан-ага, видно, никогда нам не договориться с Мядемином. Потерпим. Посмотрим, что будет дальше. Сейитмухамед вошел в кибитку, за ним последовали Каушут-хан, Тач-гок сердар и Непес-мулла. Ишан-ага сел на ковровую подушку, ладонями стиснул голову и не мог вымолвить ни слова. Непес-мулла прервал молчание. — Ишан-ага, — спросил он, — не передавал ли нам привета Бекмурад-теке? Сейитмухамед-ишан не в состоянии был воспринять шутку Непес-муллы. Он ответил вполне серьезно: — Бекмурада-теке я не видел, мулла, но видел, как за малую провинность Мядемин отдал человека на растерзание собакам. Ишан подробно рассказал обо всем, что видел. Но слушавшие его были заняты другими мыслями, и их почти не задевал рассказ о царской пушке и даже о травле человека собаками. И тогда ишан закончил такими словами: — Если аллах постоит за нас и за нами будет стоять кладбище «Верблюжья шея», мы не умрем под копытами конницы Мядемина. — Это верно, — тяжело вздохнул Каушут-хан. — А что скажет нам ишан-ага по поводу похорон наших людей на кладбище? Сейитмухамед-ишан пристально посмотрел на Кау-шута. — Хан, если вы позволите, я выскажу вам свое мнение. — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Люди поймут вас и не обидятся, но вам и всем здесь сидящим нельзя быть на кладбище. Сердце мое чует, что Мядемин задумал недоброе. Совет ишана был принят, на прощанье он сказал: — Аллах за вас, теперь сами решайте, что вам делать дальше.
«Завтра я пойду на вашу крепость в последний раз», — сказал тогда Мядемин. И восемнадцатого марта, рано утром, он действительно выступил, чтобы окончательно разрушить крепость и уничтожить ее защитников. На этот раз Мядемин не стал делить войско на части, а пошел всеми силами со всех сторон одновременно. Минувшей ночью Каушут-хан не спал вовсе. Может быть, его и сломил бы сон, но в самый глухой час вернулся из Ирана Сахит-хан. Он привез добрую весть. Но эта добрая весть пока еще оставалась только вестью. Двадцать тысяч хорошо вооруженных воинов шаха под предводительством Ферудина Мирзы должны были, согласно обещанию хана, достигнуть крепости еще до восхода солнца. Каушут-хан остаток ночи провел в ожидании, прислушивался к каждому звуку, но вот и солнце взошло над Серахсом, а на иранской стороне по-прежнему было тихо. Вместо подкрепления из Ирана на крепость двинулись войска Мядемина. Снова внутри крепости засуетилось, задвигалось, детей укрывали в корпечи, женщины и ребятишки повзрослей прятались в кибитках, воины занимали свои места, лекари готовили свои лекарства. И снова шум и грохот оглашали крепость. Но теперь ружейный огонь был сильнее, чем в прошлые дни. Защитники отстреливались со стен, там же оставались лежать убитые и раненые, не управлялись стаскивать их на крепостной двор. Каушут-хан понимал, что его сидение в запертых стенах только придает храбрости врагу, но у защитников крепости не было возможности выйти из ворот и сражаться с Мядемином открыто, баш на баш. В душе Каушут-хан надеялся отыскать слабое место во вражеском строю, прорваться сквозь него на простор. Он наблюдал за вражеским войском из укрытого места. Пушки Мядемина, а за ними и сам Мядемин подтягивались к своей вчерашней позиции. После двух залпов в расположении артиллеристов возникло какое-то замешательство. К орудиям подвели пять-шесть новых лошадей. Каушут-хан решил, что противник намеревается подтянуть тяжелые орудия поближе к стенам, но лошади потащили две пушки куда-то в сторону. Вскоре их установили перед западной стеной. Туда же переместилось до пятисот воинов на конях. Каушут-хан кликнул к себе Непес-муллу, ишана и Тач-гок сердара. — Ишан-ага, — обратился он к Сейитмухамеду, — благословите нас, мы выйдем из крепости. Ишан протянул дрожащие руки и прочитал молитву. Каушут-хан после этого сказал сердару и Непес-мулле: — А вы, мой друг сердар и мой друг мулла, простите меня, если что было не так между нами, если же мы не вернемся, возьмете на себя нужды людей. Тач-гок сердар и Непес-мулла не обиделись на хана, который не брал их с собой, они понимали, что Каушут надеется на них и оказывает им большое доверие. Две сотни конников, подобранных заранее Каушут-ханом, выстроились перед воротами. Сейитмухамед-ишан протянул к ним руку и сказал: — Эншалла, благополучно вернетесь назад, с нами аллах и священные могилы наших предков. — Ворота! — крикнул Каушут-хан и легко взлетел на коня.
 Две сотни застоявшихся в крепости коней одним порывом вылетели за ворота. Сверкнули обнаженные сабли. Лошади, словно выпущенные для скачек, опережая друг друга, устремились к тем двум пушкам, которые были установлены у западной стены. Не успели закрыться ворота, как передовые всадники уже достигли цели.
За орудиями стоял командир артиллеристов Эмир Мухамед-хан. Он выхватил из ножен саблю и отдал приказ задержать текинцев, не допустить их до пушек. С Мухамед-ханом был и Бекмурад-теке.
Еще на подходе Каушут заметил его и крикнул скакавшему рядом Пенди-баю:
— Бай-ага, видишь Бекмурада?!
— Вижу шакала! — крикнул в ответ Пенди-бай.
Словно в ответ ему, мимо уха Каушут-хаиа просвистела пуля, и тут же кто-то сзади вскрикнул. Каушут оглянулся и увидел, как один из его парней сорвался с лошади.
Конники Мядемина и Каушут-хана врезались друг в друга, стрелять было невозможно, в ход пошли сабли. Раздались первые крики раненых, звон сабель и ржание разгоряченных лошадей. Каушут не спускал глаз с двух человек — Эмира Мухамед-хана и Бекмурада-теке. Он подлетел к Мухамед-хану и занес шашку над его головой, но опустить ее не успел. Голова эмира вдруг дернулась и сорвалась с туловища. Каушут не успел заметить, кто опередил его, сразив Мухамед-хана.
Бекмурад-теке рубился в стороне. Каушут рванулся к нему. Когда расстояние между ними уменьшилось до пяти-шести шагов, Каушута ослепил блеск вражеской сабли, и ему показалось, что удар пришелся в ногу и ноги у него уже нет. Он не сразу понял, что произошло, когда обнаружил себя лежащим на земле. Нет, он был цел и невредим, это лошадь его с разрубленной ногой свалилась на бок.
— Хан, поднимайся! — крикнул с седла Пенди-бай. Каушута поразило лицо бая, залитое кровью.
Нукеры, узнавшие о том, что их предводитель Муха-мед-хан убит, стали удирать с поля боя. Вскочив на ноги, Каушут-хан успел настигнуть Бекмурада-теке и, размахнувшись, разрубил ему правую руку. Сабля Бекмурада, падая на землю, задела Каушута и оставила заметный след на его лбу. Но вгорячах хан ничего не почувствовал. Он занес саблю над свалившимся с лошади Бекмурадом и крикнул:
— Молись аллаху или садись в седло!
Бекмурад, боясь тут же лишиться головы, забыл даже о своей руке.
— Я сейчас, сейчас, хан-ага, — лепетал Бекмурад, цепляясь одной рукой за седло своей лошади, которая стояла как вкопанная на месте.
Текинцы гнали впереди себя полсотни обезоруженных нукеров, тащили на лошадях отбитые пушки. Они не успели собрать погибших в бою, оставили их среди валявшихся вражеских трупов. Каушут-хан знал, что Мядемин немедленно бросит на выручку своим нукерам новые силы. И поэтому приказал торопиться. Помощь Мядемина не успела прибыть к месту, как ворота крепости еще раз открылись и еще раз снова закрылись.
Хотя Каушут-хан потерял около семи десятков своих парней, цель свою он считал достигнутой. Он хотел заполучить пушки. Они теперь были у него. И вторым, главным его желанием было ободрить, поднять дух отчаявшихся в крепости людей. К тому же, захватив в плен близких к Мядемину людей, Каушут мог рассчитывать на большую покладистость его при возможных переговорах.
Как только вступили в крепость, навстречу бросились лекари, стали принимать раненых. Вокруг пушек сразу образовалась толпа. Трогали еще не успевшие остыть стволы. Кто-то кричал:
— Не трогай, выстрелит! — И люди испуганно отдергивали руки.
Каушут подошел к Пенди-баю, который сидел в сторонке и ковырял щепкой землю. Голова его была перевязана.
— Куда ранен, бай-ага? — спросил он.
Налитые кровью глаза бая прослезились.
— Они отняли у меня левое ухо, шакалы.
Откуда-то взялась старуха, вцепилась в полу халата.
— Где мой сын? Там оставил сына моего, ха-ан! Оста-а-вил!
Каушут не знал, что ответить старухе, молча опустил голову. Ему некуда было деться от людского горя. Куда бы он ни шел, всюду слышалось: «Ты сына моего оставил, ха-ан». Да, за стенами крепости оставались лежать неподобранные трупы убитых текинцев.
Табибы перевязали руку Бекмураду-теке, и он был выставлен перед народом посреди крепостного двора. Но в толпе еще ходили слухи, что в плен захвачен сам Мя-демин и сейчас начнется его казнь. Для многих текинцев пленение Бекмурада было не меньшим событием, чем если бы в плен был захвачен Мядемин-хан. Знавшие Бекмурада ненавидели его больше, чем Мядемина.
Бекмурад сидел в окружении толпы, опустив голову. Он знал, что будет жестоко наказан, но не верил в свою немедленную смерть, не допускал мысли, что туркмены могут убить его, потому что сам он был туркменом.
Каушут-хан обратился к толпе, но его голос был услышан немногими из-за возбужденного людского гомона. Хан говорил текинцам о предателе Бекмураде, причинившем много зла своему народу. Когда закончил свою речь и отошел в сторону, на середину вышел Тач-гок сердар.
— Люди! — зычно крикнул он. — Люди, я никогда не был головорезом, но эту голову, — он показал на сидевшего Бекмурада, — я срублю без всяких колебаний. — И обнажил саблю. Но не успел занести ее над головой предателя, как хлопнул выстрел, и Бекмурад завалился на бок. С его лба хлестала кровь. Тач-гок сердар огляделся вокруг себя и заметил, как Сахит-хан опустил ружье вниз стволом, из которого тоненько струился дымок.
— Сердар, — сказал Сахитнияз-хан, — прости мою вину, я кажется, опередил тебя.
Сердар вложил саблю в ножны.
— Эх, Сахитнияз, ты оставил в сердце моем рану незакрытой.
Смерть Бекмурада никого не поразила, люди понагляделись за эти дни всякого и поэтому быстро разошлись по своим местам.
Каушут-хан подошел к группе молодых парней. Они дружно, в один голос поприветствовали его и, думая, что хан подошел к ним неспроста, ждали слов. Каушут улыбнулся, любуясь бравым видом парней.
— Ребята, — сказал он, — кто бы из вас решился пойти сейчас к Мядемину? Поздороваться с ним.
Самый бойкий из парней округлил от удивления глаза и спросил:
— Как? Одному идти?
— Да, — ответил хан. — Идти послом.
Парень весело рассмеялся:
— Какие же из нас послы?
— Мы-то считали, — сказал другой, — что послами могут быть только бородатые старики.
— Вот мы и решили изменить правилу и послать безбородого посла.
Ребята призадумались. Никто не решился в первую минуту вызваться на такое необычное для них дело. Наконец выступил вперед высокий худощавый юноша.
— Хан-ага, может, мне доверите? Говорите, я слушаю.
Каушут-хан осмотрел юношу с головы до ног.
— Сынок, ты кто будешь?
— Сапармамед, родом из Амаши, хан-ага.
— Тогда идем со мной, а вы, ребята, пошлите Непес-муллу к Сейитмухамед-ишану.
В кибитке было много народу. Родственники погибших пришли просить, чтобы тот прочитал аят по покойникам. Были тут и Пенди-бай с Оразом-яглы. Посередине кибитки на коленях стоял Сейитмухамед-ишан и читал молитву.
— …Аллхам рахим! — закончил ишан.
Каушут-хан, присевший у порога, вместе со всеми воздел руки горб. Ораз-яглы оглядел всех и сказал:
— Люди, по велению бога наши ребята полегли в этом бою. Но вместе с умершими нельзя умирать всем. Будьте мужественными до конца!
Сейитмухамед-ишан согласно покачал головой:
— Говорят, смерть никого не минует. И лить напрасные слезы не надо, крепитесь душой, люди. А те, кто умер не своей смертью, обретут счастье в раю.
Люди качали расходиться. Остались двое — Сейитмухамед-ишан и Ораз-яглы. Тогда Каушут-хан перешел на кошму к ишану.
— Хан, — спросил Ораз-яглы, — с кем собираешься вести переговоры?
— Ас кем еще, кроме Мухамеда Якуба Мятера, можно из них разговаривать? — ответил хан вопросом на вопрос.
Вошли Непес-мулла с Сапармамедом. Каушут ответил на приветствие поэта, спросил ишана:
— Что будем писать Мядемину, ишан-ага?
— Хан, мы затрудняемся сказать, как лучше писать этому человеку. Он коварен и странно ведет себя в разговоре. Другое дело, если бы сила была на нашей стороне.
— Мне кажется, — вмешался Ораз-яглы, — будет лучше, если мы прикинемся простачками, хан, наивными людьми. Во всяком случае, нам надо помнить об учтивости.
Сейитмухамед-ишан открыл свой сундучок, достал оттуда перо и лист бумаги и протянул Непес-мулле.
— Мулла, ты уж постарайся написать покрасивее. Пиши, — сказал Каушут-хан. — «Эй, Мядемин-хан, от нас вам привет! У нас две ваши пушки и много ваших людей в плену. Просим вас направить к нам для переговоров умного визиря Мухамеда Якуба Мятера. Клянемся солью, что посол ваш будет возвращен вам в полном здравии. Текинский хан Каушут-хан».
Каушут-хан взял из рук муллы письмо, пробежал его глазами и протянул обеими руками Сапармамеду.
— Иди, сынок, пусть светлым будет твой путь! Если согласится, спроси, когда ждать посла.
Встреча была назначена на четверг, в одиннадцать утра. Мядемин приказал Мухамеду Якубу Мятеру выйти к старому арыку у западной стены крепости и там ждать Каушут-хана. Хотя туркмены и поклялись солью, Мядемин запретил своему советнику идти прямо в крепость.
В назначенный час сторожевые заметили спускавшегося с Аджигам-тепе человека, он шел к западной стене.
Каушут-хан от Сейитмухамед-ишана отправился к воротам. По пути встретил Келхана Кепеле, опухшего, но бодрого и даже веселого.
— Что с тобой, Келхан? Лицо опухло, а сам сияешь, как молодой месяц? Не курил ли ты анашу?
— Хан, — весело сказал Келхан Кепеле, — трое суток я не смыкал глаз, а сегодня отоспался за все. И сон же мне приснился!
— Голодной куме всё пироги на уме! Хочешь, растолкую твой сон?
— Нет, хан, не трудись зря. Три человека уже сказали, что сон мой к женитьбе.
— Я сказал бы то же самое. Ты бы хоть помылся по этому случаю, или только радуешься своему сну, как нищий, который нашел золото?
Келхан стыдливо опустил голову:
— Нет, хан, не получается у меня с этим делом.
— Успокойся, все будет так, как я говорю.
— Да услышит аллах твои слова, хан.
— Считай, что он уже их услышал. Эншалла, только вот покончим с врагом. Я сам позабочусь о твоей женитьбе.
Келхан заулыбался. Он уже видел себя в объятиях молодой вдовицы, глаза его засветились счастьем.
Каушут при виде сияющего Келхана вспомнил пословицу:
— Все ты умираешь, все умираешь, а скажи тебе о женитьбе, сразу оживаешь.
— Что же, хан, ты считаешь меня умирающим? А мне ведь только пятьдесят.
— Ай Келхан, не время сейчас думать о возрасте.
Каушут-хан хотел отшутиться, но Келхан Кепеле, у которого бродили кое-какие мысли, принимал слова хана за чистую монету. Он посмотрел на Каушута, и взгляд его задержался на кушаке, за которым прятался нож.
— Это в подарок послу, — сказал Каушут. — Из дамасской стали.
— Не надо думать так, хан. Ты еще договоришься с Мядемином. Мы везучие. И потом, говорят, что доброе намерение — уже половина дела.
— Тоже верно, Келхан. Вот я и отправляюсь к Якубу Мятеру с добрыми намерениями.
Сказав это, Каушут зашагал к воротам. Келхан Кепеле крикнул вдогонку:
— Желаю удачи, хан!
— Молись, и бог даст!
Почти перед самыми воротами, в песке, валялись брошенные кем-то кривые сабли и ружья. Их было так много, что сразу и не пересчитать. Хан с удивлением остановился перед брошенным оружием, задавал себе вопросы и не мог найти ответа.
— Хан-ага! — крикнул караульный. —Посол подходит к старому арыку!
— Сейчас выхожу! — ответил Каушут, не отрывая глаз от этих сабель и ружей в песке. — Что тут творится? Почему не подберете, у нас же не хватает оружия!
Ответ караульного был прямым:
— Если бы оружия не хватало, хан-ага, его не побросали бы в песок.
Каушут-хан не поверил своим ушам.
— Что ты сказал, парень? Побросали и ушли?
— Так, хан-ага. Побросали и ушли. Люди Горгора сговорились не ходить больше в бой, Каушут-хан, говорят, толкает нас на верную смерть. Хотят послать к вам аксакала, хотят открыть ворота, идти на поклон к Мядемину. — Караульный проговорил все это и отвернулся к старому арыку, как будто был и сам обижен на хана.
Все было ясно без дальнейших расспросов, Каушут тяжело вздохнул и заспешил к парням, стоявшим на охране ворот, приказал немедленно собрать оружие и вышел из крепости.
«Алла-хи акбер! Алла-хи акбер!»
Этот тревожный день двадцать девятого марта тысяча восемьсот пятьдесят пятого года начинался в осажденной крепости Серахс точно так же, как и все предшествующие. Но закончиться должен был совсем по-другому. Возможно, что текинцы уже не увидят начала следующего дня, не услышат больше звуков утреннего азана и новое солнце взойдет уже без них. Попытка переговоров Каушут-хана с Мухамедом Якубом Матером ни к чему не привела. Мядемин настаивал на своих условиях. И двадцать девятого марта выступил в последний бой. По его расчетам, штурм должен был закончиться к полудню. Войско готовилось смешать крепость с землей и отобедать после полного разгрома текинцев.
Мядемин неспроста считал этот бой последним. Войска под предводительством Эрниязы Махрема и Довлет-нияз-аталыка благополучно вернулись из Кизыл-Кая и Акдербента вечером минувшего дня, они привели пленников и много скота.
Накануне вечером сумел пробиться в крепость с неполной сотней гаджар Сафарак. Он сообщил, что двенадцать тысяч воинов Ферудина Мирзы остановились в Акдербенте и ждут там боя.
Каушут-хан ничего не сказал Сафараку. Он понимал теперь, как Иран собирается помочь текинцам. Вместо обещанных двадцати тысяч шах послал двенадцать, да и те стоят в Акдербенте, далеко от Серахса, и могут поспеть в крепость после полного ее разгрома.
Уже вечером, накануне последнего боя, Каушут-хан ясно представлял себе безвыходность своего положения. Он ходил из стороны в сторону по крепостному двору и мучительно искал выхода из сложившейся обстановки. Час сна еще не наступил, но в крепости стояла какая-то странная тишина, и это еще больше тревожило хана. Ему казалось, что люди молча раздумывают сейчас о приближающейся смерти. Иранский шах предал их, и ждать от него помощи было бесполезно. Напрасно ждать ее и от Ахала. Каушут подумал было послать еще одного гонца в Ахал, но тут же отказался от этой мысли. Было поздно. Оставалось рассчитывать только на свои силы. А их было так мало, что серьезно думать о спасении людей от неминуемой гибели уже не приходилось. Но вставать перед Мядемином на колени тоже не хотелось, к тому же и в этом случае конец будет только один — смерть.
Среди тысячи мучивших Каушут-хана мыслей мелькнула и задержалась в голове еще одна. Пойти на хитрость. А вдруг повезет?! Он послал за Курбаном. Тот незамедлительно явился.
— Вы звали, хан-ага?
— Да, — сказал Каушут, кладя руку на плечо юноши. — Ты уже оказал своему народу великую услугу, сынок. Об этом знает весь Серахс. Пришел час для новой услуги.
— Говорите, хан-ага. Говорите, если я гожусь на что-то.
— Сейчас скажу, Курбан. — Хан убрал руку и стал говорить.
Еще до того, как люди отойдут ко сну, Курбан должен был отправиться к Мядемину. О тайном замысле не должен знать никто, кроме двух человек, идущего и посылающего. Но Курбан не мог покинуть крепость, не поделившись своей тайной с третьим человеком, с Кар-карой.
Девушка еще не спала. Она вспоминала дни тяжких испытаний, которые обрушила на нее судьба. И в страшной веренице дней был один-единственный светлый лучик, это — Курбан. Она повторяла слова, которые когда-то у реки проронил Курбан, и надежда снова затеплилась в ее душе.
Девушка все эти дни не переставала думать о Курбане, об их возможном счастье, потому что всем сердцем любила его, но, привыкшая с рождения видеть одни преграды и страдания, плохо верила в благополучный исход своих мечтаний. А теперь, когда крепость обступали враги, она и вовсе потеряла всякую надежду.
Погруженная в эти размышления, Каркара вздрогнула, услышав свое имя. Она узнала голос Курбана. И в эту минуту уже не помнила ни опасности, нависавшей над крепостью, ни о тех бедствиях, которые угнетали всех и днем и ночью. Курбан был для нее тем отважным молодцем, о которых она знала только по сказкам. Ведь о нем говорили люди повсюду после возвращения из Ахала. И в этот тяжкий час он не забыл о ней, вспомнил, пришел, ведь это же его голос слышит она сейчас. На людях Каркара, гордясь Курбаном, старалась скрыть от других свою радость, но от себя скрыть не могла. Она думала о нем постоянно, он снился ей во сне. Когда она первый раз услышала рассказ о подвиге Курбана, он приснился ей, но не в бедном своем одеянии, а в дорогом убранстве, что привозят из Хивы да Ирана, на прекрасном, богато убранном скакуне, в седле, напоминавшем крылья ласточки. Вокруг него много людей, но он, сойдя с коня, подходит именно к ней, стоящей в кругу девушек, и два раза целует ее в щеку.
На цыпочках, чтобы не разбудить спящих, Каркара вышла из кибитки и, увидев Курбана, который держал в поводу заседланную лошадь, почувствовала тревогу. Смутившись, тут же подумала, что не время сейчас для стеснения, и первый раз после встречи у реки заговорила спокойно:
— Ты, Курбан? Куда собрался на ночь?
Курбан ответил шепотом:
— Этого не должен знать никто, кроме нас с тобой, Каркара. Хан посылает меня к Мядемину.
«Кроме нас двоих», — сказал Курбан. Значит, для него нет никого ближе во всем Серахсе. Сердце ее сжалось от счастья и от тревоги за любимого человека, который глухой ночью отправляется в логово врага.
— К страшному врагу? Зачем, Курбан?
Курбан ответил с достоинством человека, которому оказал такое доверие хан:
— Потом узнаешь, Каркара.
— Не дай бог, — сказала девушка и прикусила язык, как будто он отнялся у нее от страха.
— Ничего со мной не случится, — успокоил он Кар-кару. — Просто я зашел повидаться с тобой перед дорогой.
Не видевшая уже много дней Курбана, Каркара хотела сказать ему, что она тоже соскучилась по нем, но только начала говорить и тут же остановилась, не в силах была продолжать дальше.
— Я тоже…
— Просто я решил повидаться с тобой перед дорогой, — повторил Курбан, закладывая ногу в стремя.
— Возвращайся целым и поскорей, — сказала Каркара.
Поднявшись в седло, Курбан скоро растворился со своей черной лошадью в темноте. Уже не было видно его, а Каркара все смотрела во тьму.
У ворот его встретил Каушут-хан. Взявшись за луку седла, он напутствовал Курбана:
— Держись, сынок. Если удастся наша затея, мы не будем растоптаны чужими копытами. Да поможет нам аллах!
Открыли ворота. Курбан стегнул своего коня и скрылся в ночи.
До Аджигам-тепе Курбан добрался без всяких препятствий, но был схвачен караульными, как только поднялся на холм. Нукерам он ничего не сказал. Схвативший Курбана подумал, что парень неспроста покинул крепость в такой неурочный час, и бегом кинулся к палатке хана.
Мядемин не спал еще, сидел в кругу своих советников. Не сомневаясь в своей завтрашней победе, они говорили о том, как им не упустить Каушут-хана и взять его живым.
Мядемин был в приподнятом настроении, потому что оставалось немного часов, когда над развалинами крепости взовьется его знамя. Толком не дослушав караульного, он коротко приказал:
— Пусть войдет!
Курбан вошел в палатку, поздоровался сквозь слезы и опустил голову.
Мухамед Якуб Мятер спросил:
— Говори нам, что тебя привело сюда, парень?
Курбан сжал со всей силой камчу.
— Мои старшие братья, — сказал он. — Я пришел к вам просить защиты. Отомстите за меня.
И снова спросил вместо хана советник:
— За что мы должны мстить и кому?
— Каушут-хан отнял у меня нареченную и собирается на ней жениться. Завтра собирается играть свадьбу. Я сирота, у меня нет ни одного родича.
Сидевшие переглянулись. Наконец подал голос Мядемин. Он сказал:
— Разве Каушут-хан не знает, что завтра он будет лежать не в объятиях молодой девушки, а в развалинах Своей крепости?
Курбан стал говорить увереннее:
— Нет, хан-ага. Он думает только о своей свадьбе, об остальном ничего не хочет знать.
Мядемин удивился:
— Что же, он ум потерял?
Сообщением Курбана заинтересовались, и он окончательно успокоился.
— Только что из Тегерана, — сказал он, — прибыли гонцы, сотня верховых. Насреддин-шах послал на помощь Каушут-хану двадцать пять тысяч воинов, они стоят уже в Кизыл-Кая. К полудню обещали быть в Серахсе.
Мядемин не хотел верить своим ушам, вопросительно посмотрел на Мухамеда Якуба Мятера. Мятер хлопнул в ладоши. В палатку вошел нукер.
— Позвать разведчика!
В один миг высокий худощавый нукер был вызван и уже стоял перед советниками и ханом. Вид его был испуганным.
— Сколько ты насчитал нукеров, которые прошли в крепость? — спросил Мятер.
Вопрос не таил никакой опасности, и разведчик просветлел лицом.
— В темноте, — сказал он, — не так хорошо видно, но, по-моему, их было от восьми до девяти десятков.
Якуб Мятер обменялся взглядом с Мядемином и отпустил разведчика. Мядемин обратился к Курбану:
— Ты, парень, можешь спокойно жить среди моих воинов. Завтра к вечеру твоя нареченная будет с тобой. А мы накажем Каушут-хана. Ты не первый текинец, кто жаждет крови Каушут-хана. Ходжам Шукур только и мечтает об этом.
Курбан, как учил его Каушут, низко поклонился и вышел из палатки.
Две сотни застоявшихся в крепости коней одним порывом вылетели за ворота. Сверкнули обнаженные сабли. Лошади, словно выпущенные для скачек, опережая друг друга, устремились к тем двум пушкам, которые были установлены у западной стены. Не успели закрыться ворота, как передовые всадники уже достигли цели.
За орудиями стоял командир артиллеристов Эмир Мухамед-хан. Он выхватил из ножен саблю и отдал приказ задержать текинцев, не допустить их до пушек. С Мухамед-ханом был и Бекмурад-теке.
Еще на подходе Каушут заметил его и крикнул скакавшему рядом Пенди-баю:
— Бай-ага, видишь Бекмурада?!
— Вижу шакала! — крикнул в ответ Пенди-бай.
Словно в ответ ему, мимо уха Каушут-хаиа просвистела пуля, и тут же кто-то сзади вскрикнул. Каушут оглянулся и увидел, как один из его парней сорвался с лошади.
Конники Мядемина и Каушут-хана врезались друг в друга, стрелять было невозможно, в ход пошли сабли. Раздались первые крики раненых, звон сабель и ржание разгоряченных лошадей. Каушут не спускал глаз с двух человек — Эмира Мухамед-хана и Бекмурада-теке. Он подлетел к Мухамед-хану и занес шашку над его головой, но опустить ее не успел. Голова эмира вдруг дернулась и сорвалась с туловища. Каушут не успел заметить, кто опередил его, сразив Мухамед-хана.
Бекмурад-теке рубился в стороне. Каушут рванулся к нему. Когда расстояние между ними уменьшилось до пяти-шести шагов, Каушута ослепил блеск вражеской сабли, и ему показалось, что удар пришелся в ногу и ноги у него уже нет. Он не сразу понял, что произошло, когда обнаружил себя лежащим на земле. Нет, он был цел и невредим, это лошадь его с разрубленной ногой свалилась на бок.
— Хан, поднимайся! — крикнул с седла Пенди-бай. Каушута поразило лицо бая, залитое кровью.
Нукеры, узнавшие о том, что их предводитель Муха-мед-хан убит, стали удирать с поля боя. Вскочив на ноги, Каушут-хан успел настигнуть Бекмурада-теке и, размахнувшись, разрубил ему правую руку. Сабля Бекмурада, падая на землю, задела Каушута и оставила заметный след на его лбу. Но вгорячах хан ничего не почувствовал. Он занес саблю над свалившимся с лошади Бекмурадом и крикнул:
— Молись аллаху или садись в седло!
Бекмурад, боясь тут же лишиться головы, забыл даже о своей руке.
— Я сейчас, сейчас, хан-ага, — лепетал Бекмурад, цепляясь одной рукой за седло своей лошади, которая стояла как вкопанная на месте.
Текинцы гнали впереди себя полсотни обезоруженных нукеров, тащили на лошадях отбитые пушки. Они не успели собрать погибших в бою, оставили их среди валявшихся вражеских трупов. Каушут-хан знал, что Мядемин немедленно бросит на выручку своим нукерам новые силы. И поэтому приказал торопиться. Помощь Мядемина не успела прибыть к месту, как ворота крепости еще раз открылись и еще раз снова закрылись.
Хотя Каушут-хан потерял около семи десятков своих парней, цель свою он считал достигнутой. Он хотел заполучить пушки. Они теперь были у него. И вторым, главным его желанием было ободрить, поднять дух отчаявшихся в крепости людей. К тому же, захватив в плен близких к Мядемину людей, Каушут мог рассчитывать на большую покладистость его при возможных переговорах.
Как только вступили в крепость, навстречу бросились лекари, стали принимать раненых. Вокруг пушек сразу образовалась толпа. Трогали еще не успевшие остыть стволы. Кто-то кричал:
— Не трогай, выстрелит! — И люди испуганно отдергивали руки.
Каушут подошел к Пенди-баю, который сидел в сторонке и ковырял щепкой землю. Голова его была перевязана.
— Куда ранен, бай-ага? — спросил он.
Налитые кровью глаза бая прослезились.
— Они отняли у меня левое ухо, шакалы.
Откуда-то взялась старуха, вцепилась в полу халата.
— Где мой сын? Там оставил сына моего, ха-ан! Оста-а-вил!
Каушут не знал, что ответить старухе, молча опустил голову. Ему некуда было деться от людского горя. Куда бы он ни шел, всюду слышалось: «Ты сына моего оставил, ха-ан». Да, за стенами крепости оставались лежать неподобранные трупы убитых текинцев.
Табибы перевязали руку Бекмураду-теке, и он был выставлен перед народом посреди крепостного двора. Но в толпе еще ходили слухи, что в плен захвачен сам Мя-демин и сейчас начнется его казнь. Для многих текинцев пленение Бекмурада было не меньшим событием, чем если бы в плен был захвачен Мядемин-хан. Знавшие Бекмурада ненавидели его больше, чем Мядемина.
Бекмурад сидел в окружении толпы, опустив голову. Он знал, что будет жестоко наказан, но не верил в свою немедленную смерть, не допускал мысли, что туркмены могут убить его, потому что сам он был туркменом.
Каушут-хан обратился к толпе, но его голос был услышан немногими из-за возбужденного людского гомона. Хан говорил текинцам о предателе Бекмураде, причинившем много зла своему народу. Когда закончил свою речь и отошел в сторону, на середину вышел Тач-гок сердар.
— Люди! — зычно крикнул он. — Люди, я никогда не был головорезом, но эту голову, — он показал на сидевшего Бекмурада, — я срублю без всяких колебаний. — И обнажил саблю. Но не успел занести ее над головой предателя, как хлопнул выстрел, и Бекмурад завалился на бок. С его лба хлестала кровь. Тач-гок сердар огляделся вокруг себя и заметил, как Сахит-хан опустил ружье вниз стволом, из которого тоненько струился дымок.
— Сердар, — сказал Сахитнияз-хан, — прости мою вину, я кажется, опередил тебя.
Сердар вложил саблю в ножны.
— Эх, Сахитнияз, ты оставил в сердце моем рану незакрытой.
Смерть Бекмурада никого не поразила, люди понагляделись за эти дни всякого и поэтому быстро разошлись по своим местам.
Каушут-хан подошел к группе молодых парней. Они дружно, в один голос поприветствовали его и, думая, что хан подошел к ним неспроста, ждали слов. Каушут улыбнулся, любуясь бравым видом парней.
— Ребята, — сказал он, — кто бы из вас решился пойти сейчас к Мядемину? Поздороваться с ним.
Самый бойкий из парней округлил от удивления глаза и спросил:
— Как? Одному идти?
— Да, — ответил хан. — Идти послом.
Парень весело рассмеялся:
— Какие же из нас послы?
— Мы-то считали, — сказал другой, — что послами могут быть только бородатые старики.
— Вот мы и решили изменить правилу и послать безбородого посла.
Ребята призадумались. Никто не решился в первую минуту вызваться на такое необычное для них дело. Наконец выступил вперед высокий худощавый юноша.
— Хан-ага, может, мне доверите? Говорите, я слушаю.
Каушут-хан осмотрел юношу с головы до ног.
— Сынок, ты кто будешь?
— Сапармамед, родом из Амаши, хан-ага.
— Тогда идем со мной, а вы, ребята, пошлите Непес-муллу к Сейитмухамед-ишану.
В кибитке было много народу. Родственники погибших пришли просить, чтобы тот прочитал аят по покойникам. Были тут и Пенди-бай с Оразом-яглы. Посередине кибитки на коленях стоял Сейитмухамед-ишан и читал молитву.
— …Аллхам рахим! — закончил ишан.
Каушут-хан, присевший у порога, вместе со всеми воздел руки горб. Ораз-яглы оглядел всех и сказал:
— Люди, по велению бога наши ребята полегли в этом бою. Но вместе с умершими нельзя умирать всем. Будьте мужественными до конца!
Сейитмухамед-ишан согласно покачал головой:
— Говорят, смерть никого не минует. И лить напрасные слезы не надо, крепитесь душой, люди. А те, кто умер не своей смертью, обретут счастье в раю.
Люди качали расходиться. Остались двое — Сейитмухамед-ишан и Ораз-яглы. Тогда Каушут-хан перешел на кошму к ишану.
— Хан, — спросил Ораз-яглы, — с кем собираешься вести переговоры?
— Ас кем еще, кроме Мухамеда Якуба Мятера, можно из них разговаривать? — ответил хан вопросом на вопрос.
Вошли Непес-мулла с Сапармамедом. Каушут ответил на приветствие поэта, спросил ишана:
— Что будем писать Мядемину, ишан-ага?
— Хан, мы затрудняемся сказать, как лучше писать этому человеку. Он коварен и странно ведет себя в разговоре. Другое дело, если бы сила была на нашей стороне.
— Мне кажется, — вмешался Ораз-яглы, — будет лучше, если мы прикинемся простачками, хан, наивными людьми. Во всяком случае, нам надо помнить об учтивости.
Сейитмухамед-ишан открыл свой сундучок, достал оттуда перо и лист бумаги и протянул Непес-мулле.
— Мулла, ты уж постарайся написать покрасивее. Пиши, — сказал Каушут-хан. — «Эй, Мядемин-хан, от нас вам привет! У нас две ваши пушки и много ваших людей в плену. Просим вас направить к нам для переговоров умного визиря Мухамеда Якуба Мятера. Клянемся солью, что посол ваш будет возвращен вам в полном здравии. Текинский хан Каушут-хан».
Каушут-хан взял из рук муллы письмо, пробежал его глазами и протянул обеими руками Сапармамеду.
— Иди, сынок, пусть светлым будет твой путь! Если согласится, спроси, когда ждать посла.
Встреча была назначена на четверг, в одиннадцать утра. Мядемин приказал Мухамеду Якубу Мятеру выйти к старому арыку у западной стены крепости и там ждать Каушут-хана. Хотя туркмены и поклялись солью, Мядемин запретил своему советнику идти прямо в крепость.
В назначенный час сторожевые заметили спускавшегося с Аджигам-тепе человека, он шел к западной стене.
Каушут-хан от Сейитмухамед-ишана отправился к воротам. По пути встретил Келхана Кепеле, опухшего, но бодрого и даже веселого.
— Что с тобой, Келхан? Лицо опухло, а сам сияешь, как молодой месяц? Не курил ли ты анашу?
— Хан, — весело сказал Келхан Кепеле, — трое суток я не смыкал глаз, а сегодня отоспался за все. И сон же мне приснился!
— Голодной куме всё пироги на уме! Хочешь, растолкую твой сон?
— Нет, хан, не трудись зря. Три человека уже сказали, что сон мой к женитьбе.
— Я сказал бы то же самое. Ты бы хоть помылся по этому случаю, или только радуешься своему сну, как нищий, который нашел золото?
Келхан стыдливо опустил голову:
— Нет, хан, не получается у меня с этим делом.
— Успокойся, все будет так, как я говорю.
— Да услышит аллах твои слова, хан.
— Считай, что он уже их услышал. Эншалла, только вот покончим с врагом. Я сам позабочусь о твоей женитьбе.
Келхан заулыбался. Он уже видел себя в объятиях молодой вдовицы, глаза его засветились счастьем.
Каушут при виде сияющего Келхана вспомнил пословицу:
— Все ты умираешь, все умираешь, а скажи тебе о женитьбе, сразу оживаешь.
— Что же, хан, ты считаешь меня умирающим? А мне ведь только пятьдесят.
— Ай Келхан, не время сейчас думать о возрасте.
Каушут-хан хотел отшутиться, но Келхан Кепеле, у которого бродили кое-какие мысли, принимал слова хана за чистую монету. Он посмотрел на Каушута, и взгляд его задержался на кушаке, за которым прятался нож.
— Это в подарок послу, — сказал Каушут. — Из дамасской стали.
— Не надо думать так, хан. Ты еще договоришься с Мядемином. Мы везучие. И потом, говорят, что доброе намерение — уже половина дела.
— Тоже верно, Келхан. Вот я и отправляюсь к Якубу Мятеру с добрыми намерениями.
Сказав это, Каушут зашагал к воротам. Келхан Кепеле крикнул вдогонку:
— Желаю удачи, хан!
— Молись, и бог даст!
Почти перед самыми воротами, в песке, валялись брошенные кем-то кривые сабли и ружья. Их было так много, что сразу и не пересчитать. Хан с удивлением остановился перед брошенным оружием, задавал себе вопросы и не мог найти ответа.
— Хан-ага! — крикнул караульный. —Посол подходит к старому арыку!
— Сейчас выхожу! — ответил Каушут, не отрывая глаз от этих сабель и ружей в песке. — Что тут творится? Почему не подберете, у нас же не хватает оружия!
Ответ караульного был прямым:
— Если бы оружия не хватало, хан-ага, его не побросали бы в песок.
Каушут-хан не поверил своим ушам.
— Что ты сказал, парень? Побросали и ушли?
— Так, хан-ага. Побросали и ушли. Люди Горгора сговорились не ходить больше в бой, Каушут-хан, говорят, толкает нас на верную смерть. Хотят послать к вам аксакала, хотят открыть ворота, идти на поклон к Мядемину. — Караульный проговорил все это и отвернулся к старому арыку, как будто был и сам обижен на хана.
Все было ясно без дальнейших расспросов, Каушут тяжело вздохнул и заспешил к парням, стоявшим на охране ворот, приказал немедленно собрать оружие и вышел из крепости.
«Алла-хи акбер! Алла-хи акбер!»
Этот тревожный день двадцать девятого марта тысяча восемьсот пятьдесят пятого года начинался в осажденной крепости Серахс точно так же, как и все предшествующие. Но закончиться должен был совсем по-другому. Возможно, что текинцы уже не увидят начала следующего дня, не услышат больше звуков утреннего азана и новое солнце взойдет уже без них. Попытка переговоров Каушут-хана с Мухамедом Якубом Матером ни к чему не привела. Мядемин настаивал на своих условиях. И двадцать девятого марта выступил в последний бой. По его расчетам, штурм должен был закончиться к полудню. Войско готовилось смешать крепость с землей и отобедать после полного разгрома текинцев.
Мядемин неспроста считал этот бой последним. Войска под предводительством Эрниязы Махрема и Довлет-нияз-аталыка благополучно вернулись из Кизыл-Кая и Акдербента вечером минувшего дня, они привели пленников и много скота.
Накануне вечером сумел пробиться в крепость с неполной сотней гаджар Сафарак. Он сообщил, что двенадцать тысяч воинов Ферудина Мирзы остановились в Акдербенте и ждут там боя.
Каушут-хан ничего не сказал Сафараку. Он понимал теперь, как Иран собирается помочь текинцам. Вместо обещанных двадцати тысяч шах послал двенадцать, да и те стоят в Акдербенте, далеко от Серахса, и могут поспеть в крепость после полного ее разгрома.
Уже вечером, накануне последнего боя, Каушут-хан ясно представлял себе безвыходность своего положения. Он ходил из стороны в сторону по крепостному двору и мучительно искал выхода из сложившейся обстановки. Час сна еще не наступил, но в крепости стояла какая-то странная тишина, и это еще больше тревожило хана. Ему казалось, что люди молча раздумывают сейчас о приближающейся смерти. Иранский шах предал их, и ждать от него помощи было бесполезно. Напрасно ждать ее и от Ахала. Каушут подумал было послать еще одного гонца в Ахал, но тут же отказался от этой мысли. Было поздно. Оставалось рассчитывать только на свои силы. А их было так мало, что серьезно думать о спасении людей от неминуемой гибели уже не приходилось. Но вставать перед Мядемином на колени тоже не хотелось, к тому же и в этом случае конец будет только один — смерть.
Среди тысячи мучивших Каушут-хана мыслей мелькнула и задержалась в голове еще одна. Пойти на хитрость. А вдруг повезет?! Он послал за Курбаном. Тот незамедлительно явился.
— Вы звали, хан-ага?
— Да, — сказал Каушут, кладя руку на плечо юноши. — Ты уже оказал своему народу великую услугу, сынок. Об этом знает весь Серахс. Пришел час для новой услуги.
— Говорите, хан-ага. Говорите, если я гожусь на что-то.
— Сейчас скажу, Курбан. — Хан убрал руку и стал говорить.
Еще до того, как люди отойдут ко сну, Курбан должен был отправиться к Мядемину. О тайном замысле не должен знать никто, кроме двух человек, идущего и посылающего. Но Курбан не мог покинуть крепость, не поделившись своей тайной с третьим человеком, с Кар-карой.
Девушка еще не спала. Она вспоминала дни тяжких испытаний, которые обрушила на нее судьба. И в страшной веренице дней был один-единственный светлый лучик, это — Курбан. Она повторяла слова, которые когда-то у реки проронил Курбан, и надежда снова затеплилась в ее душе.
Девушка все эти дни не переставала думать о Курбане, об их возможном счастье, потому что всем сердцем любила его, но, привыкшая с рождения видеть одни преграды и страдания, плохо верила в благополучный исход своих мечтаний. А теперь, когда крепость обступали враги, она и вовсе потеряла всякую надежду.
Погруженная в эти размышления, Каркара вздрогнула, услышав свое имя. Она узнала голос Курбана. И в эту минуту уже не помнила ни опасности, нависавшей над крепостью, ни о тех бедствиях, которые угнетали всех и днем и ночью. Курбан был для нее тем отважным молодцем, о которых она знала только по сказкам. Ведь о нем говорили люди повсюду после возвращения из Ахала. И в этот тяжкий час он не забыл о ней, вспомнил, пришел, ведь это же его голос слышит она сейчас. На людях Каркара, гордясь Курбаном, старалась скрыть от других свою радость, но от себя скрыть не могла. Она думала о нем постоянно, он снился ей во сне. Когда она первый раз услышала рассказ о подвиге Курбана, он приснился ей, но не в бедном своем одеянии, а в дорогом убранстве, что привозят из Хивы да Ирана, на прекрасном, богато убранном скакуне, в седле, напоминавшем крылья ласточки. Вокруг него много людей, но он, сойдя с коня, подходит именно к ней, стоящей в кругу девушек, и два раза целует ее в щеку.
На цыпочках, чтобы не разбудить спящих, Каркара вышла из кибитки и, увидев Курбана, который держал в поводу заседланную лошадь, почувствовала тревогу. Смутившись, тут же подумала, что не время сейчас для стеснения, и первый раз после встречи у реки заговорила спокойно:
— Ты, Курбан? Куда собрался на ночь?
Курбан ответил шепотом:
— Этого не должен знать никто, кроме нас с тобой, Каркара. Хан посылает меня к Мядемину.
«Кроме нас двоих», — сказал Курбан. Значит, для него нет никого ближе во всем Серахсе. Сердце ее сжалось от счастья и от тревоги за любимого человека, который глухой ночью отправляется в логово врага.
— К страшному врагу? Зачем, Курбан?
Курбан ответил с достоинством человека, которому оказал такое доверие хан:
— Потом узнаешь, Каркара.
— Не дай бог, — сказала девушка и прикусила язык, как будто он отнялся у нее от страха.
— Ничего со мной не случится, — успокоил он Кар-кару. — Просто я зашел повидаться с тобой перед дорогой.
Не видевшая уже много дней Курбана, Каркара хотела сказать ему, что она тоже соскучилась по нем, но только начала говорить и тут же остановилась, не в силах была продолжать дальше.
— Я тоже…
— Просто я решил повидаться с тобой перед дорогой, — повторил Курбан, закладывая ногу в стремя.
— Возвращайся целым и поскорей, — сказала Каркара.
Поднявшись в седло, Курбан скоро растворился со своей черной лошадью в темноте. Уже не было видно его, а Каркара все смотрела во тьму.
У ворот его встретил Каушут-хан. Взявшись за луку седла, он напутствовал Курбана:
— Держись, сынок. Если удастся наша затея, мы не будем растоптаны чужими копытами. Да поможет нам аллах!
Открыли ворота. Курбан стегнул своего коня и скрылся в ночи.
До Аджигам-тепе Курбан добрался без всяких препятствий, но был схвачен караульными, как только поднялся на холм. Нукерам он ничего не сказал. Схвативший Курбана подумал, что парень неспроста покинул крепость в такой неурочный час, и бегом кинулся к палатке хана.
Мядемин не спал еще, сидел в кругу своих советников. Не сомневаясь в своей завтрашней победе, они говорили о том, как им не упустить Каушут-хана и взять его живым.
Мядемин был в приподнятом настроении, потому что оставалось немного часов, когда над развалинами крепости взовьется его знамя. Толком не дослушав караульного, он коротко приказал:
— Пусть войдет!
Курбан вошел в палатку, поздоровался сквозь слезы и опустил голову.
Мухамед Якуб Мятер спросил:
— Говори нам, что тебя привело сюда, парень?
Курбан сжал со всей силой камчу.
— Мои старшие братья, — сказал он. — Я пришел к вам просить защиты. Отомстите за меня.
И снова спросил вместо хана советник:
— За что мы должны мстить и кому?
— Каушут-хан отнял у меня нареченную и собирается на ней жениться. Завтра собирается играть свадьбу. Я сирота, у меня нет ни одного родича.
Сидевшие переглянулись. Наконец подал голос Мядемин. Он сказал:
— Разве Каушут-хан не знает, что завтра он будет лежать не в объятиях молодой девушки, а в развалинах Своей крепости?
Курбан стал говорить увереннее:
— Нет, хан-ага. Он думает только о своей свадьбе, об остальном ничего не хочет знать.
Мядемин удивился:
— Что же, он ум потерял?
Сообщением Курбана заинтересовались, и он окончательно успокоился.
— Только что из Тегерана, — сказал он, — прибыли гонцы, сотня верховых. Насреддин-шах послал на помощь Каушут-хану двадцать пять тысяч воинов, они стоят уже в Кизыл-Кая. К полудню обещали быть в Серахсе.
Мядемин не хотел верить своим ушам, вопросительно посмотрел на Мухамеда Якуба Мятера. Мятер хлопнул в ладоши. В палатку вошел нукер.
— Позвать разведчика!
В один миг высокий худощавый нукер был вызван и уже стоял перед советниками и ханом. Вид его был испуганным.
— Сколько ты насчитал нукеров, которые прошли в крепость? — спросил Мятер.
Вопрос не таил никакой опасности, и разведчик просветлел лицом.
— В темноте, — сказал он, — не так хорошо видно, но, по-моему, их было от восьми до девяти десятков.
Якуб Мятер обменялся взглядом с Мядемином и отпустил разведчика. Мядемин обратился к Курбану:
— Ты, парень, можешь спокойно жить среди моих воинов. Завтра к вечеру твоя нареченная будет с тобой. А мы накажем Каушут-хана. Ты не первый текинец, кто жаждет крови Каушут-хана. Ходжам Шукур только и мечтает об этом.
Курбан, как учил его Каушут, низко поклонился и вышел из палатки.
На рассвете караульный спешно подошел к расхаживавшему в одиночестве Каушут-хану и стал что-то шептать ему на ухо. Хан быстрым шагом направился к воротам. Поднявшись на ступеньки, Каушут-хан не поверил своим глазам. В предрассветной мгле, напоминая стадо баранов, непрерывным потоком продвигались на юг хивинские войска. Как ни хорохорился Мядемин-хан, все же он побаивался иранского шаха. Оставив при себе войско, достаточное, по его расчетам, для разгрома крепости, остальные силы он направил в Кизыл-Кая, чтобы задержать там и уничтожить шахский отряд, посланный на помощь текинцам. Радости Каушута не было предела. Пусть впереди еще тяжелые бои, но он считал, что уже победил Мядемина. Каушут спустился вниз, хотел было на радостях разбудить Ораза-яглы и Непес-муллу, но раздумал, люди устали, пусть отдохнут как следует. Он снова поднялся на ступени ворот. Вражеское войско поспешно уходило на юг. Последние всадники пронеслись мимо крепости. Теперь можно было поднять на ноги своих помощников. Только подумал об этом, как увидел новый конный отряд, человек пятьсот, который спускался с холма Аджигам-тепе. Они, должно быть, отстали от основного войска и теперь должны были нагнать его. Но всадники, вдруг развернувшись, пошли прямо на крепость, к крепостным воротам. — Приготовить оружие! — крикнул Каушут, оглянувшись во двор. Под западной стеной стояли возле своих коней вооруженные защитники крепости и ждали приказа Каушут-хана. Они были готовы вступить в бой. Тем временем пятьсот всадников на всем скаку приближались к крепости. Вот они остановились невдалеке, один из них отделился и подъехал к самим воротам. Каушут-хан узнал в нем Курбана. — Откройте ворота и позовите хана-ага! — крикнул Курбан. Каушут вышел из крепости. — Что за всадники, сынок? — спросил он юношу. Курбан спрыгнул с лошади. — Каушут-ага, это люди Ходжама Шукура. Они не хотят выступать против нас, своих братьев, сговорились и удрали. Разрешите им войти в крепость. Каушут похлопал Курбана по спине, потом помахал папахой стоявшим в стороне всадникам. Пришпорив лошадей, они влились в открытые ворота.
До восхода солнца Каушут-хан успел сделать обход крепости. Картина была безрадостной. Переполненные отхожие ямы, конский навоз, моча, пищевые отбросы распространяли труднопереносимую вонь. Запас питьевой воды был на исходе. Люди, а их насчитывались здесь тысячи, могли продержаться в крепости не больше трех дней. Слабые духом впадали в панику и нытье. Все больше появлялось людей, которые вслух обвиняли Каушута. Умножались сторонники жителей аула Гор-гор, которые отказывались выступать против Мядемина, собирались идти к нему на поклон, что особенно беспокоило Каушут-хана. Как только взошло солнце, он созвал своих ближайших помощников в кибитке Сейитмухамед-ишана. — Люди, — обратился к собравшимся ишан, — от нас с вами зависит судьба нашего народа. Соберите все свое мужество и свой разум, мы ждем вашего слова. Говорите. Люди молчали. Что они могли сказать? Либо встать на колени перед Мядемином и просить пощады, либо сражаться до конца. Третьего не дано. Ишан окинул всех взглядом, но увидел только опущенные головы. И тогда прервал тягостное молчание Не-пес-мулла. Он сказал: — Ишан-ага, хотелось бы услышать ваше мнение. Сейитмухамед-ишан, как от внезапного резкого света, заморгал глазами. Четки в его сухих пальцах издали нервный треск. — Мулла, — сказал он, — есть ханы, есть мергены, наше мнение совпадает с их мнением. — И все же нам хотелось бы услышать ваше, — поддержал Непес-муллу Ораз-яглы. — Ну, если сказать, люди, то мы считаем, что лучше не проливать зря людскую кровь, а снова послать послов к Мядемину и просить милости. Все равно нам не одолеть его. — Но ведь мы уже просили, ишан-ага, — возразил Не-пес-мулла. — Ничего не вышло, а на условия Мядемина мы не пойдем. — Что делать, мулла, если нет другого выхода. Каушут-хан не согласился с этим. — Ишан-ага, этот совет ваш мы не можем принять. Если мы снова пойдем к Мядемину, он поймет, что текинцы уже сдаются, и поставит новые условия, еще более трудные. Хватит ли совести жить, если собственными руками отдадим наших девушек в объятья Мядемину, а наш народ ему в рабство? Лучше умереть, я считаю. — Умрете вы или нет, хан, дурной человек все равно не откажется от своих дурных намерений. — Если мы умрем в бою, мы будем счастливы, ишан-ага, — сказал Непес-мулла. Ишан зло сверкнул глазами в сторону муллы. — И все же, мулла, нельзя поступать по пословице: «Лишь бы глаза мои не видели, и пусть волки едят мой зад». Каушут-хан принял решительный вид и уже не думал, что может обидеть ишана. — К тому же, — сказал Непес-мулла, — и туркмены, и Мядемин созданы одним аллахом. И если аллах поможет нам, то победит не численность войск, а отвага. Эти слова пришлись по душе Каушут-хану, и он решил не затягивать разговор. — Ишан-ага, не обижайтесь на нас, а лучше благословите перед боем. Тем более что много войск Мядеми-на ушло в Кизыл-Кай. Сейитмухамед-ишан собрался было сказать что-то в ответ, но ему помешал вошедший воин. — Хан-ага, — обратился он к Каушуту, — Мядемин со всем войском идет на крепость! — Со всем войском он не может идти, — сказал Каушут-хан. — Его десять тысяч ушли в горы. А с остатком мы попробуем справиться. Каушут-хан улыбнулся. И все почувствовали некоторое облегчение. Как только человек вышел, тут же откинулся полог и вслед за тем вошли шесть седобородых аксакалов. Самый крепкий из них нашел глазами Каушута. — Хан, — сказал он, — мы пришли к тебе. — Это хорошо, что вы пришли ко мне. Проходите, садитесь. — Нет, хан, мы не будем садиться. — Тогда говорите, с чем пришли. — Мы, хан, люди Горгора. Пришли от имени двоих людей. Из нашего аула уже погибло двадцать человек. — Никто, отец, не вышел из воды сухим. Когда нападает враг, приходится и убивать, и самому умирать в бою. — Хан, нам не хочется вслед за тобой отдать свои головы, открой нам ворота, мы вернемся в аул. В разговор вмешался Непес-мулла: — Если хан и разрешит вам открыть ворота, как вы пройдете через войско врага? Яшули решительно возразил: — Если не наступать на хвост лежачей собаки, она не укусит, мулла. Мы найдем общий язык с Мядемином. Он тоже человек. А человек поймет язык другого человека. Мы хотим жить с ним в ладу. Сейитмухамед-ишан несколько раз выразительно посмотрел на Каушут-хана, как бы говоря; «Вот видишь, хан, есть и другие люди, которые не хотят воевать». Яшули ждал ответа от хана. Однако Каушут молчал, он не знал, что сказать аксакалам. — Хан, говори что хочешь, только не томи людей, — сказал Ораз-яглы. Каушут сурово взглянул на аксакалов: — Вы все из Горгора? Старики вразнобой закивали головами. — Мы все из одного аула, — ответил самый крепкий из них. — Если это так, — сказал Каушут-хан, вставая с кошмы, — я отпускаю всех шестерых. Светлый путь, можете идти! — Нет, хан, мы не собираемся идти вшестером. Мы хотим увести из крепости всех жителей Горгора. — С ними я буду сам говорить, — ответил хан, направляясь к выходу. — Если они захотят последовать за вами, я отпущу их. Мы не будем задерживать тех, кто хочет покинуть нас. Каушут вышел из кибитки. Там стояли в ожидании еще несколько человек, пришедших с аксакалами. Хан не остановился перед ними и, не сказав ни слова, направился к воротам. Еще на подходе он увидел через решетку надвигавшегося врага. Взбираясь по ступенькам, Каушут громко сказал, чтобы подбодрить защитников крепости: — Пускай идут! С нами аллах! Хотя враг был еще не так близко, Каушут заметил, что на последний штурм Мядемин собрал все, что оставалось у него в лагере. На вершине Аджигам-тепе, кроме палатки хана, не видно было никого. Все живое двигалось в сторону крепости. Каушут спустился вниз и спокойно, как будто ничего особенного не происходило, осмотрелся вокруг и загадочно, как бы отвечая на какие-то свои мысли, улыбнулся. — Ребята, — обратился он к защитникам крепостных ворот, — если я открою вход в крепость, сможете устоять перед псами Мядемина? — Устоим, хан-ага! — Мы горло им перегрызем! — За голову голову снимем, хан-ага! — Надеюсь на вас, — сказал хан, — Даст аллах, мы подвесим сегодня на воротах голову Мядемина. Обходя крепость, Каушут-хан заметил шумную толпу женщин и подошел к ним. Обычно в присутствии мужчин они говорили только шепотом. На этот раз, несмотря на то что среди них находилось несколько мужчин и даже несмотря на то что к ним подошел хан, они продолжали говорить полным голосом и даже перебрасываться шутками. Одни тащили откуда-то длинные шесты, другие к этим шестам приматывали шерстяной пряжей овечьи ножницы. Ба! Да это же пики, настоящие пики! Каушут взял одну из этих самодельных пик, подергал за пружинное кольцо ножниц, и они легко сорвались с места, сползли вниз по шесту. Полная сорокалетняя женщина, стоявшая возле хана и наблюдавшая за ним, густо покраснела. — Таким оружием много не навоюешь, — сказал хан, и женщина покраснела еще сильней. Не глядя на нее, Каушут протянул руку: — Подай гарус. Женщина подала хану моток пряжи, и он сам принялся закреплять ножницы. Примотал их не в двух местах, а в трех. Попробовал. Ножницы держались крепко. Каушут поднял копье в боевой изготовке и улыбнулся. Душа его переполнилась нежностью к своим соотечественницам. — Вот так надо, славные мои воины! Перевязывайте в трех местах. — И протянул женщине пику-самоделку. — Спасибо, хан-ага, — сказала она со странным и сложным чувством благодарности и незнакомой радости оттого, что первый раз в жизни стоит перед чужим мужчиной, перед самим ханом, без паранджи и даже разговаривает с ним. А он, как свой, как близкий человек, совсем не замечает этого. Совсем уже осмелев, она сказала: — Хан-ага, разрешите и нам выйти за ворота. Стрелять мы не умеем, но руки наши могут держать вот это, — она также подняла пику над собой. — Есть и такие среди нас, что могут и коня оседлать. Разрешите… Каушут колебался минуту, потом ответил: — Я пошлю к вам Непес-муллу. Что он скажет, то и будете делать. — Каушут повернулся и ушел прочь. Он шел по крепости, слушал возбужденные перед скорым боем голоса, лязг и бряцанье оружия, топот ног, какие-то удары и стуки, но думал о женщинах. Впервые он думал о них не так, как привык думать всегда. Что-то незнакомое и неожиданное открыла ему эта полная с милым лицом и западающими в душу глазами женщина, затея с самодельными пиками, желание выйти рядом с мужчинами в бой на врага. От этих мыслей отвлекло его брошенное и собранное теперь в одну кучу оружие. Он вспомнил об аксакалах из аула Горгор, и брови его нахмурились. Старики и сопровождавшие их аульчане все еще стояли перед кибиткой Сейитмухамед-ишана в ожидании хана. Каушут подошел к ним и сказал с вызовом: — Если есть среди вас мужчины, пусть соберутся возле брошенного оружия! Крепкий аксакал, что разговаривал с ханом, с обидой в голосе ответил: — Ты, хан, не зови наших мужчин к оружию, нам оно ни к чему, ты лучше открой ворота, и мы уйдем. Каушуту пришлось повысить голос: — Пока не соберете оружие, ворота будут закрыты! Старики вынуждены были повиноваться и уйти, чтобы выполнить приказ. — Келхан! Собери сюда женщин и девушек! — крикнул все тем же рассерженным голосом. — Зачем они понадобились тебе, хан? — Поменьше спрашивай, Келхан, делай, что сказано. Пока собирались женщины, подошли и собранные стариками люди из Горгора. Большинство из них были крепкими молодыми парнями. Вслед за ними уже знакомый седобородый яшули привел сюда же своих женщин и девушек. — Хан, — сказал старик, — это наши жены и дочери. — Пусть они встанут к ним, — приказал Каушут, кивнув в сторону других женщин. Люди стояли в ожидании чего-то необычного и далее на минуту забыли о том, что враг вот-вот подойдет к самой крепости. Каушут-хан заговорил громко, чтобы слышали все. — Народ! — возвысил он голос до крика. — Наступил тяжкий час, за нашими воротами смертельный враг! Мядемин пришел, чтобы опорочить наших жен и дочерей. Кто не хочет этого позора, пусть берет в руки оружие и следует за мной. А эти вот парни из Горгора хотят покинуть нас, сохранить свои головы в обмен на наших сестер, жен и дочерей. И крик из толпы: — Врешь, хан-ага! Каушут повернулся на голос. Вперед выступил высокий парень. — Хан-ага, — сказал он, — нашу честь порочит не Мядемин, а ты, хан! — Чем же я опорочил вашу честь? Говори! Парень взглянул на женщин и опустил голову. — Ты опозорил нас перед женщинами. На помощь первому выступил второй парень: — Хан-ага, не считай нас трусами. За свою честь мы положим свои головы. Женщины из Горгора зашептались между собой. Каушут насмешливо улыбнулся: — Тогда скажите, отважные парни, кто же это побросал вон то оружие? В считанные минуты на земле не осталось ни одного ружья, ни одной сабли. Горгорцы бросились к своим коням. Каушут поискал глазами аксакалов, но их и след простыл, они растворились в толпе, подальше от глаз Каушута. Келхан Кепеле подошел к хану и потянулся к его уху: — Если не веришь, пойдем со мной, хан-ага. — Потерпи, Келхан, я сам проверю. — Один? — Зачем? С Пенди-баем. Бай-ага! — крикнул Каушут. — Теперь к тебе дело. Аксакалы! Приглашаю на интересное представление! Пенди-бай был так удивлен, что ни о чем не спросил хана, а молча последовал за ним. У кибитки сидели Огултач-эдже, Язсолтан, невестка Огултач-эдже и четвертая женщина в парандже. Язсолтан заволновалась перед входящим мужем и сопровождавшими его людьми. Растерялась и Огултач-эдже, заметив среди вошедших самого Сейитмухамед-ишана. Каушут-хан с нахмуренным лицом подошел к невесткам, вернее, к той, которая казалась здоровее и покрепче телом, и, не говоря ни слова, сорвал с нее паранджу. Вместе с головным убором она отлетела в сторону. И все ахнули. Здоровой невесткой оказался сын Пенди-бая Мялик. Перерядившись в женскую одежду, он хотел отсидеться здесь, когда мужчины отправятся в бой. Знали об этом только жена Мялика и его мать Огултач-эдже. Она хотела спасти единственного сына от смерти, не могла себе представить, как труп его принесут в крепость, завернутый в кошму. Боясь гнева Пенди-бая, она даже ему не сказала о своем намерении спасти сына. У Пенди-бая, как только была сорвана с сына паранджа, потемнело в глазах, на лбу выступил от стыда холодный пот. Он схватился за рукоятку кинжала, выхватил его из ножен и бросился на сына. Мялик с ужасом закрыл лицо руками. Каушут-хан успел схватить за руку Пенди-бая. Тот был старше хана лет на пятнадцать, но в эту минуту с налитыми кровью глазами обратился к Каушуту, как к старшему: — Хан-ага! Ты хоть не держи меня! Каушут не пожалел Пенди-бая, вывернул ему руку и отнял кинжал. — Убивать мертвого — слабость, бай. Эти слова еще больнее задели Пенди-бая, чем предательство сына. Он заплакал, слезы позора падали на его седую бороду. Словно увидев уже труп сына, бай обхватил руками голову и взвыл. — Охо-хо-ов! — И упал в ноги Каушут-хану… Первые выстрелы пушек Мядемина уже сотрясали воздух. Люди успели привыкнуть к орудийным залпам и теперь уже не так болезненно отзывались на эту пальбу. Непес-мулла выстраивал свое воинство с пиками-самоделками. Под его началом было более двухсот женщин. Каушут, оставив на стене Тач-гок сердара и Келхана Кепеле, спустился вниз к Оразу-яглы, у которого уже не было сил для нового боя, но его сабля была при нем. — Что это вид у тебя невеселый, хан? — спросил Ораз-яглы. — А ты не видишь, какая сила идет на нас?! — У тебя, хан, тоже немало парией, слава аллаху, — Ораз-яглы окинул взглядом крепость. — И эти еще, иранцы. — Ораз-яглы показал на группу верховых, выделявшихся своей особой одеждой. — Да, — отозвался Каушут. — Хорошо, хоть этих послал, и на том спасибо. Но сирота, говорят, сам себе перерезает пуповину. Нечего надеяться на других. Крепко держи свою кривую саблю и призывай на помощь аллаха. Спустившийся со стены Тач-гок сердар обратился к Оразу-яглы: — Я считаю, хан-ага, Каушут-хан прав, а паков будет ваш совет? — Что-то, мерген, я не пойму, о чем ты говоришь. — Каушут-хан вот что говорит. Надо открыть ворота и пустить на Мядемина пять-шесть сотен всадников. Потом еще один отряд. Ораз-яглы, только теперь понявший замысел Каушу-та, ответил с достоинством: — Ты правильно понял, сердар. Но если пойдет на Мядемина только два отряда, враг может подумать, что больше у нас нет сил, и будет лезть напролом. Надо через какое-то время выпустить еще два отряда, один послать на левый край, другой — на правый, в обхват. И тогда враг не устоит. Каушут-хан согласился с Оразом-яглы. Времени для разговоров не оставалось, перестрелка за стенами усилилась, и Каушут быстрым шагом направился к своему войску. Первую группу в пятьсот сабель возглавил Тач-гок сердар, вторую, такой же численности, — Каушут-хан. Конники столпились у ворот. Непес-мулла подъехал к Каушуту и доложил, что его воинство готово к сражению. Сотня женщин уже сидела на конях, и тьма пеших стояла за всадницами с поднятыми пиками, а кому не хватило овечьих ножниц, держали в руках косы, вилы и грабли. — Хорошо, мулла. Только не лезь на рожон, а заходи двумя группами слева и справа, — второпях ответил Каушут. Лошадь под Непес-муллой дико заржала и встала на дыбы. Мулла стукнул ее по шее. — Потерпи, милая, потерпи. Каушут-хан крикнул вышедшему на порог кибитки Сейитмухамед-ишану: — Ишан-ага! Если можете, благословите нас! Ишану не понравились женщины с овечьими ножницами на концах шестов. О аллах, и они туда же! Но ишан понимал, что, если он не даст благословения, все равно все уйдут и без его молитвы. Его слова: «Светлый путь! Пусть каждый из вас стоит тысячи!» — потонули в общем шуме. Ворота медленно раскрылись. — О аллах! — Будьте мужественны! — За голову — голову! — Чув! Ржали кони. Ножницы, сталкиваясь с ножницами над головами женщин, издавали странный звон. Пыль тучами поднималась к небу. Ничего подобного не ожидали ни Мядемин, ни его военачальники, ни их нукеры. Да и все они были уже не те, что в первые дни, когда двумя пушечными выстрелами приводили в ужас текинцев. И все-таки они ломились вперед в полной уверенности, что крепость сегодня падет перед их натиском. Уверенно шли кони под ними, пронзительней, чем прежде, пела зурна.
Каушут-хан с полусотней верных джигитов тронулся к востоку. И в ту же минуту показались из-за холма нукеры Мядемина. На рысях мчались они, размахивая саблями, навстречу. Во главе полусотни сарыков, ехавших с Каушут-ханом, был Арнакурбан, прибывший из Мары и сегодня впервые вступавший в бой. Он низко склонился к гриве, положив между ушами лошади длинный лук. Распластавшись над конской гривой, Арнакурбан то и дело повторял со вздохом: «О, аллах! За голову — по голове!» Лошади противников, как стрелы, летели друг другу навстречу. Тревожно всхрапывали, чуя близкую смерть, и перед смычкой замедляли бег. Как и людям, сидевшим в седлах, им не хотелось торопиться к смерти, то одна, то другая тяжело вскидывались, вставали на дыбы, как бы готовясь повернуть назад. Наконец столкнулись кони с конями, и вот уже утробное ржание слилось с холодным лязгом скрещенных сабель. В эти звуки вплетались первые стоны раненых и разгоряченные боем голоса: «Ийя, аллах, ийя, Шахимер-дан!» Кто-то кричал: — Справа заходи, справа! Кто-то подбадривал друга гортанными криками. Но никто ничего не слышал и не обращал внимания на слова и крики. Слышал только сам говоривший или кричавший. Каждый был занят своим делом, не думал ни о страхе, ни о смерти. Рубили друг друга, кололи саблями, сбрасывали с седел на землю. Люди напоминали диких зверей в смертельной схватке. Бой понемногу стал затихать, и можно было уже оглядеться по сторонам. Арнакурбан не давал отдыха своему луку. Пущенная сарыком стрела вошла в живот налетевшему на него нукеру. Тот обнял ее руками и свалился с лошади. Арнакурбан и не подумал вырвать стрелу обратно, резко свернул коня и схватился за саблю. Лошади, потерявшие всадников, носились по полю без всякой дели. Их становилось все больше и больше. Каушут-хан со своей группой сражался на левом фланге и никак не мог понять, в чью пользу развертывается бой. Он должен был встретиться с группой Келха-на Кепеле, рубившейся справа. Но время шло, а Келхан все еще не выходил на соединение. Зато Каушут пробился к бойцам Непес-муллы, которые вместе с сарыками действовали в центре. Скопление всадников заметно стало редеть, но не потому, что многие были убиты, а потому, что войско рассредоточилось по всему полю. Теперь уже противникам надо было гоняться друг за другом. Но кто за кем гонялся, все еще нельзя было разобрать. Каушут приметил мечущегося Арнакурбана. — Держись, сарык! Аллах на нашей стороне! — крикнул он храброму сарыку. — Хорошо, хан-ага! Теперь я могу и умереть спокойно, — отозвался Арнакурбан. Когда всадники Каушут-хана сошлись наконец со всадниками Келхана Кепеле, обстановка изменилась еще сильнее. Хивинский отряд был рассечен на две половины, и можно было увидеть самого Мядемина, который сидел на своем сером коне позади своих нукеров и наблюдал за ходом боя. Арнакурбан стремительно преследовал убегавшего воина и не видел, как за его спиной неслись два хивинца. Но Каушут заметил это и бросился наметом выручать храброго сарыка. Не успел он настигнуть врага, как над головой Арнакурбана взблеснула сабля нукера. — Арнакурбан! — крикнул Каушут-хан. Но сарык, увлеченный преследованием врага, не расслышал. Сабля поиграла над его головой, но, не успев свершить свое страшное дело, отлетела в сторону, а безрукий нукер вслед за саблей вылетел из седла. Второй нукер испуганно повернул своего коня назад. Только тут Каушут заметил юного Курбана, который в общей суматохе успел вымахнуть наперерез скакавшим нукерам и спасти от верной смерти Арнакурбана.
Воинам Мядемина казалось, что потоку текинцев, вырвавшихся из крепостных ворот, не будет конца. Сначала бросились им навстречу два отряда конницы, потом еще отряд. Первые две группы ударились в сторону Аджигам-тепе, где Мядемин оставил всего лишь одну свою сотню. Стремительный бег ахалтекинских коней поразил хивинцев. Прошло какое-то время, и из ворот выступили женщины. Сначала на конях, потом пешие с пиками, вслед за ними с вилами и серпами. Вся эта туча, гремящая ножницами, сразу же начала раздваиваться, одна часть заходила на левый край, другая — на правый. Первым прорвался сквозь вражеское скопление Тач-гок сердар и устремился к Аджигам-тепе. Каушуту со своей группой было легче пройти через образовавшийся пролом. Сквозь шум боя он слышал стон раненых, выброшенных из седла. Но он весь был собран для броска к Аджигам-тепе, молил бога, чтобы не слететь с коня раньше, чем он настигнет самого Мядемина. Ему и в голову не приходило, что его могут опередить, что другие так же, как и он, жаждали крови этого человека. Для Ходжама Шукура, который по утрам приходил приветствовать хана, наступил сегодня конец света. Он только утром узнал, что его нукеры, в том числе и ближайшие родственники, предали его и присоединились к Каушуту. Когда он узнал об этом, за минуту перед утренним посещением хана, сердце его остановилось. Он опустил голову, стыдясь перед человеком, принесшим страшную весть, собрал в пучок редкую бороденку, сунул ее в рот и стал жевать. Чувство заброшенности и одиночества сковало его. И все же он не мог отказаться от своей мечты отомстить ненавистному Каушут-хану, а заодно теперь и тем, кто предал его. Жуя жалкую свою бороденку, он думал о том, что после падения крепости текинцы, оставшиеся в живых, должны будут покинуть родные края, они построят новую крепость на берегу Мургаба. Он назовет ее Ходжамкада и станет в ней ханом, единственным повелителем. Вот когда он заплатит нечестивцам за все и сполна. Изгнанный когда-то из Серахса хан вынул изо рта бороду и поднял голову. Все поле перед крепостью занимали войска Мядемина. А там вернутся с победой те, кто сражается сейчас под Кизыл-Кая, и войску Мядемина не будет числа. Сердце Ходжама Шукура понемногу успокоилось. Ведь войско Мядемина было его войском, потому что у них был один общий враг — Кау-шут-хан. Окинув взглядом тучу Мядеминовых воинов, Ходжам Шукур уже не так переживал предательство. Были с ним его нукеры или их не было сейчас — какая разница! Все равно сегодня хивинцы снесут голову Каушуту, А больше Ходжаму Шукуру ничего и не нужно. К тому же вряд ли Мядемин знает о бегстве его людей, а если и знает уже, то пять-шесть сотен нукеров не могут изменить исход боя. Вырядив себя и своего коня, Мядемин последовал за своим войском. Его сопровождали шестьсот отборных воинов. Каждый из них заглядывал в рот Мядеми-ну, чтобы немедленно броситься исполнять любое его повеление. Хан заметил Ходжама Шукура в общем воинском строю. Он взмахнул плетью и дал знак приблизиться. Беспокойство охватило Ходжама Шукура. Бешено работала его мысль. Он отыскивал слова, которыми ответит на вопрос хана: «Так-то отважные твои парни защищают Мядемин-хана?» Ответив на приветствие Ходжама Шукура, хан не задал ожидаемого вопроса, а сказал: — Не на своем месте идешь, хан. Голос Ходжама Шукура стал писклявым. — Разве место воина не в общем строю, хан-ага? — Твое место, хан, среди вождей. У Ходжама Шукура чуть не выросли крылья за спиной. Он так растерялся от радости, что забыл поблагодарить хана и стегнул лошадь плетью. Конь рванулся в ту сторону, где находились предводители войск. Заговорили пушки, и над ними поднялись черные клубочки дыма. Потом в закипевшем шуме сражения все настойчивей стали выделяться воинственные звуки зурны. Напряжение боя усиливалось. В задних рядах войска трудно было разобраться, что происходит в передних. Однако Ходжам Шукур почувствовал, что в крепости произошли какие-то перемены. Он не предполагал, что крепостные ворота могут открыться и оттуда хлынут боевые отряды текинцев, но на всякий случай вынул из ножен свою саблю. И тут же заметил, как из открытых ворот начали выступать отряд за отрядом конники Каушут-хана. По спине Ходжама прошел мороз. Предводители войск засуетились. Они бросились в разные стороны, поближе к своим подразделениям, но, возможно, и для того, чтобы лучше определиться в случае преследования противника, а также и в случае бегства от него. Нукеры, окружавшие предводителей войск, были самыми верными и отважными воинами и конниками Кау-шута, нелегко было сломить их сопротивление. Прорубившись сквозь строй нукеров, Каушут заметил Ходжама Шукура. — За мной, ребята! — крикнул он и повернул коня в сторону хивинских военачальников, не успевших рассредоточиться. Ходжам Шукур тоже узнал в переднем всаднике Каушут-хана и вылетел ему навстречу. Он первым занес саблю над Каушутом, но тот ловко отбил удар и грозно закричал: — Проси о милости, хан! Ходжам Шукур взвизгнул: — Ии-и! От сукина сына милости?! Ввот! — И снова скрестил свою саблю с саблей Каушута, но, как и в первый раз, был отброшен назад. Каушут поднялся на стременах, с занесенной саблей навис над Ходжамом. — Проси о милости, хан! И снова их сабли скрестились со звоном. Это повторилось еще и еще раз. Кто-то из текинцев крикнул над ухом: — Хан-ага, они удирают! Каушут-хан, не видевший и не замечавший, кто убит и кого убивают, слышал этот крик, но не придал ему никакого значения. Лошадь Ходжама Шукура встала свечой и отчаянно заржала. Ее передние ноги еще были в воздухе, когда Каушут, приподнявшись на стременах, занес свою саблю для нового удара. Он не заметил, куда пришелся его удар, но тотчас же лошадь противника подломила ноги и рухнула мордой в землю. Через ее голову перевалился Ходжам и отскочил в сторону. Быстро подобрал выпавшую саблю и встал на ноги. — Последний раз говорю, проси пощады! Ходжам Шукур бросился на Каушута. — Не дождешься, гяур! Каушут схватился за луку седла и поднял саблю. — Ну, тогда прощайся с жизнью, хан! — И-ах! — вскрикнул Ходжам Шукур и вмиг оказался распластанным на земле. Его сабля, еще не успевшая омыться кровью, лежала рядом. Рот поверженного оставался открытым, не успев выкрикнуть последнего слова. А глаза, которые так жаждали увидеть в развалинах крепость Серахс, так и остались смотреть в бездонное голубое небо. Каушут-хан осмотрелся по сторонам, рядом не было ни его людей, ни нукеров Мядемина. На самой вершине Аджигам-тепе кипел бой. Каушут подумал, что это его парни сражаются с охранниками Мядемина, и бросился туда. Уже на самом подходе на него налетели шестеро нукеров. Они окружили хана со всех сторон и сабли их замахивались на него то слева, то справа. Каушут думал только о том, чтобы не вылететь из седла, не расстаться с жизнью до срока, ведь он не встретился еще с главным своим врагом, с Мядемином. И, призвав на помощь аллаха, изо всех сил пришпорил коня. Лошадь вынесла его из кольца обступивших его нукеров. Но кто-то уже обходил его, вот уже вырвался вперед и преградил дорогу. Каушут уперся глазами в ожесточенное лицо с черными пышными усами. В один миг грузный усач рванул повод и налетел на выброшенную вперед саблю Каушута. Нукер тяжело сполз с седла. Не взглянув на свалившегося нукера, Каушут понесся к походной палатке Мядемина. Но Мядемин был уже далеко от своего стана. С полсотней телохранителей, со своими приближенными, среди которых были Мухамед Якуб Мятер, Хорезм Казы, Абдулла Махрем и Бегджан Дивана-беги, он спускался с холма и, не веря своим глазам, смотрел на беспорядочно отступавшее войско. — Кто объяснит мне, что это значит?! — зло спросил Мядемин-хан. — Наши бегут, — не постеснялся ответить Якуб Мятер. Мядемин выхватил саблю с серебряным эфесом и заорал во всю глотку: — Остановить! Повернуть назад! Нукеры бросились было исполнять приказ хана, но в это время наперерез Мядемину зашли текинцы во главе с Тач-гок сердаром и нукеры вернулись спасать повелителя. А Мядемин, развернув коня, устремился назад, к своей палатке. Предводитель иранской группы гаджар Сафарак заметил удирающего Мядемина, решил собственноручно схватить его и таким образом выйти в герои. — Джигиты! — крикнул Тач-гок сердар. — Опередить его! Курбан и Сахитнияз вырвались вперед. Мядемин-хан, надеясь на свою силу, повторил приказ нукерам, и те ушли останавливать бегущих. Вместо них вывернулись из-за холма около трех сотен хивинских всадников и встали на защиту своего хана. На самой вершине холма началась сеча. Сотни сабель схлестнулись с невиданным ожесточением из-за одной ханской головы. Гаджар Сафарак пробился к Мядемину, и хан, увидев перед собой его озверевшее лицо, испуганно заорал: — Уберите этого капыра! Но тут со стороны зашел Курбан. Приподнявшись на стременах, он с криком «О аллах!» полоснул саблей по лицу Мядемина, раздробив ему челюсть. Резкая боль достала до самого сердца, и Мядемин вывалился из седла. Нукеры, увидев, как на их глазах рухнул повелитель, бросились врассыпную спасать собственные головы. Текинцы с Тач-гок сердаром на разгоряченных конях ушли преследовать бегущих. Но Сахитнияз спрыгнул с лошади, подошел к умирающему Мядемину, с размаху опустил саблю. И голова кровожадного хана отделилась от туловища. Гаджар Сафарак, не долго раздумывая, поднял ханскую голову и ускакал с нею в крепость. Голова Мядемина, еще час тому назад пытавшегося поставить на колени туркмен, навести страх на весь Хорасан, принесла тысячам людей, ожидавшим смерти в крепости Серахс, долгожданную свободу. — Алла-хи акбер! Алла-хи акбер!
Начинался день тридцатого марта 1855 года, который, по замыслам обезглавленного теперь Мядемина, не должен был начаться для жителей крепости Серахс. Тот же голос, что и прежде, будил их к утренней молитве, но сегодня те, что остались живы, совершали азан и встречали солнце свободными. Каушут-хан стоял у открытых ворот крепости и со смешанным чувством радости и печали смотрел на поле брани, покинутое минувшей ночью отказавшимися от своих злых намерений хивинцами. Новый хан, заменивший Мядемина, направил в крепость письмо. Каушут пробежал его глазами, сдержанно улыбнулся. «Каушут-хану, туркменскому хану! От имени повергнутых войск Хивы я направляю вам это прошение. Если будет на то ваша воля, мы останемся здесь до утреннего азана и вместе с тем заверяем вас, что на рассвете, после молитвы, еще до восхода солнца мы покидаем вашу землю и оставляем вам все наши богатства. С почтением — внукАбдыллы-хана Гул Мурат». Вокруг Каушута собрались его помощники и боевые соратники. — Не скажете ли вы, люди, что мы обманулись? — не без ехидства спросил хан. Непес-мулла с перевязанной куском бязи головой улыбнулся. — Хан, — сказал он, — пусть мы всегда будем обманываться так, как в этот раз… Весна только начиналась, но солнце уже палило с самого утра. Люди, измученные долгими днями осады и жаждой, поднимались на ноги. Женщины и девушки с кувшинами в руках выходили из крепости и направлялись к реке Теджен. Курбан приметил среди девушек Каркару, и сердце его забилось от радости. Ему казалось, что они не виделись много лет. Преодолевая смущение, он остановил ее и сказал: — Каркара, разве думали мы, что доживем до этого дня? Вот и на Теджен можно сходить и никого не бояться. Каушут-хан услышал слова Курбана, повернулся к нему, посмотрел на повеселевших женщин и тяжело вздохнул. — Это не все, сынок, — сказал он, положив руку на плечо Курбану. — Пока еще ни реку Теджен, ни туркмен не можем мы считать свободными…
Чужой (повесть)
Помоги мне в беде, пророк! Сжал мне горло убийца-рок. Трупы, трупы в пыли дорог… Пребывает мой дух в кручине.
Плачет месяц во тьме ночей. Ад бушует в стране моей. У дорог табуны коней, Я хромой — без коня в пустыне.
Злые муки тебя сожгли, Собеседники прочь ушли, Плачь, несчастный Махтумкули, Называйся Фраги отныне.
Махтумкули.Перевод А. Тарковского
Перевод Ю. Тешкина14 июня 1860 года, развернув знамя с изображением золотого льва, многотысячное войско персов начало в районе Серахса переход через пограничную реку Теджен. Белесое небо уже с утра плавилось, как олово. Но скоро вихри песка и пыли из-под тысячи копыт, подхваченные раскаленным ветром, закрыли небо непроницаемой тучей, и в ней, словно тени, угадывались лишь смутные колонны полков. Храпели лошади, резко кричали ослы, верблюды с натугой тащили вброд тяжелые пушки, на разные голоса передавались приказы, щелкали бичи погонщиков, и уже где-то далеко впереди играли боевые трубы. Пространство, которое расстилалось перед войском, наполненное вихрями пыли, смутным гулом, привлекало, как бездна. Возбуждение, подобное туче пыли, уже с утра закрывшей солнце над войском, не проходило, наоборот — все больше охватывало людей, густело, накалялось. Сбывались вожделенные мечты — перед ними лежала Туркмения, богатая, доступная. О здешних мастерах ходили легенды, ювелиры, кюлалы-горшечники в тех легендах были настоящими кудесниками. И ведь действительно — туркменский кувшин неправдоподобно долго сохранял упоительный чал[98] прохладным, а каурму — свежей в течение многих лет.
 Командующий войском принц Хамза-Мирза — в красном плаще, на белом карабаире — переправился со свитой через Теджен одним из первых. Племяннику иранского шаха было лет двадцать пять — двадцать семь, он был худощав, смугл, с щеголеватой бородкой, за которой не забывал ухаживать и в походе. Пять телохранителей неотступно следовали за принцем, похожие друг на друга не только темными одеждами, но и угрюмо-сонными, какими-то бездумными глазами. Несколько военачальников образовывали как бы второй круг вокруг принца. Далее шли писарь, лекарь, астролог. А еще в свите был светлоглазый человек лет тридцати с длинными, сильно выгоревшими бакенбардами — француз Гулибеф де Блоквил. По договору с персидским шахом Насреддином инженер Гулибеф де Блоквил принял участие в военной экспедиции для того, чтобы составить для шаха карту земель Мары. Шах обещал щедро вознаградить за это.
Небрежным взмахом плети подозвав слугу, принц сквозь зубы приказал собрать военачальников. «Вон там», — и плетью показал на северо-запад, где среди светло-коричневых плавных отрогов Хорасанского хребта один из холмов показался ему почти настоящей вершиной, достойной, чтобы с ходу взлететь на нее на своем любимом карабаире. И, плетью взбодрив слегка коня, он поскакал, легко давя и дикий лук, и елмик, уже пожелтевший, разбрасывая, валя налево и направо твердую осоку, похожую на густую сабельную рать. Скорость освежала разгоряченное лицо, ветер сладко пел в ушах, ликование молодым вином будоражило душу. Принц Хамза-Мирза уже дважды, несмотря на молодость, водил войско на подавление восставших курдов. И шах Насред-дин был им доволен. Но это ведь было там, в Персии. Покорять чужие страны приходилось впервые. Кроме того, в Персии не забыто жестокое поражение от туркмен. При Кара-Кале пять лет тому назад. Пять лет позора! Ну что ж, принц Хамза-Мирза смоет этот позор. Он покажет этим полудиким племенам, что такое цивилизованная страна, что такое регулярное войско. Покорив Мары огнем и мечом, он останется ханом на этих землях. Он будет твердым властителем, он будет умным, справедливым. Это решено и обдумано во всех деталях за три месяца похода. Это же государственная большая политика! Это же начало совсем другой жизни для этого невежественного народа, начало той самой жизни, за которую со временем ему — принцу Хамза-Мирзе — еще и спасибо скажут. Так что намерения его вполне серьезны: это не обычный набег, не вылазка с целью пленить десяток туркмен. Нет, принц идет сюда с новым порядком. Принц прекратит вражду между племенами, принц заставит их всех работать. Вода будет в его руках — это главное! Вот зачем взяли этого белокурого французика, дядя-шах просил быть с ним поаккуратнее — все же Европа. И учен, университет какой-то вроде кончил… А не мешало бы… Принц плеткою взмахнул — карабаир под ним прибавил ходу. Да-да, умен француз, взгляд острый, не сразу и глаза опустит в землю, принц к этому не привык. А в глазах— даром что голубы да водянисты — усмешечка прячется. Или это уж кажется принцу? А-а… ладно, там посмотрим— были бы карты этих необъятных земель хорошо составлены, а уж он — принц Хамза-Мирза — сумеет превратить эти земли в нескончаемый ручей серебра и золота, каракуля и ковров, драгоценных украшений и конечно же знаменитых на весь мир ахалтекинских скакунов. Принц давно мечтал о таком же, как у шаха, прекрасном ахалтекинце. Перед сном забираясь в походном шатре на высокое, покрытое коврами ложе, принц с грустью вспоминал далеко оставленный гарем, любимых жен… а снился почти каждую ночь горячий, быстрый ахалтекинец, еще более прекрасный, чем у дяди-шаха, прямо наваждение какое-то! О, зачем аллах такого прекрасного коня подарил этим недостойным туркменам!
Позавчера войско, перевалив последний перевал Муз-деран, вышло к пограничному Теджену, и теперь с вершины, наверное, уже можно будет рассмотреть стрельчатый купол мавзолея в Серахсе. Девственная земля Мары теперь лежала перед принцем, травы этой земли покорно склонялись под копытами его коня, восторженному сердцу тесно было в груди. Принц скакал и скакал, нахлестывая уже уставшего коня, прикидывал, за сколько дней дойдет он до Мары.
Скоро десятка два всадников на холм взобрались к принцу. Двое из них — Махмуд Мирза Аштиани и генерал Хасан Али — командовали небольшими армиями. Эти двое подъехали поближе к принцу. Другие же остановились в нескольких шагах: как раз так, чтоб и выразить свою почтительность к принцу, и не пропустить ни единого слова его.
Генерал Хасан Али, более известный под прозвищем Кара-сертип, был ростом невысок, но плотен и силен, шрамы на лице говорили о том, что он смел, а желтизна и злые складки по краям жесткого рта о том, что суровый генерал любит терьяк. Кара-сертип часто приходил в ярость, и тогда шрамы синели, наливались, широкое лицо становилось страшным.
Француз Гулибеф де Блоквил поотстал от других, засмотрелся на черного грифа, парящего в горячем небе. И теперь, настегивая пегую свою кобылку, спешил. А принц, с усмешкою поигрывая плеточкой, ждал, когда ж француз подъедет. Но тот, вместо того чтобы, как все, остановиться возле принца с почтительностью, на холм взобравшись, не остановился, а вперед проехал, стал в сторону смотреть, шумно дышать полной грудью. Как будто его ничего тут не касалось, как будто он здесь один. Принц только улыбнулся и сказал: «Господин, ты, кажется, излишне откормил свою кобылу?»
— Ваша правда, — учтиво, однако же и не собираясь исправлять оплошности, согласился француз, — что-то она у меня никак на месте стоять не хочет.
— Надо просто покрепче поводья подтянуть — и никуда не денется, подчинится, — принц улыбаться перестал, — а если ж нет, — он плетку приподнял, на стременах привстав, но тут же опустился и, к Кара-сертипу повернувшись, приказал: — Эту ночь здесь проведем, теперь до самого Карабуруна воды не будет, и пока мы от реки не удалились…
— Но пустая посуда, мой властелин, уже давно наполнена водой Теджена, — осмелился перебить принца Кара-сертип, который отвечал за оружие и за все продовольствие войска.
Но тут принц, начавший было сердиться, увидел острыми глазами две кибитки вдали у холма, две высокие Вехи торчали по бокам кибиток, увидел и отару овец, мягко катящую с зеленого холма к кибиткам этим, и весело взмахнул плетью в ту сторону:
— А что, если нам проверить жирность туркменских овец?
Все повернулись в сторону кибиток, раздались голоса:
— Хорошо!
— Лепбей!
— Умные слова — действительно, проверим-ка жирность туркменских овец!
— Тогда не будем медлить! — и принц пришпорил коня, все устремились за ним.
Француз, пожав слегка плечами, последним поскакал. Дразнить опасно принца, это ж не в Тегеране, где договор с печатью, где французское посольство. И Гулибеф де Блоквил лишь вздохнул, черный гриф кружил над ним в горячечно-белесом небе, с тяжелым чувством скакал он за всеми к отаре овец.
Отару гнали старик и мальчик лет десяти в сандалиях на босу ногу, насвистывающий простенькую мелодию. А старику было, пожалуй, под семьдесят, борода бела, как соль солончаков, кожа на лице и руках, как древний пергамент, лишь глаза, вроде ножа за поясом, по-прежнему остры. Он издали заметил всадников, отправил мальчика с отарой, сам же остался стоять, опираясь на посох.
Он слышал, конечно, что из Персии на туркмен надвигается большая опасность. Но день был таким обычным и все вокруг в этот знойный июньский день было таким привычным, что не хотелось верить ни в какую опасность. День прожит, и, слава богу, неплохо. Травы нынче хороши, овцы тяжелеют не по дням, а по часам, вон как весело домой бегут. А дома все в порядке, старший сын, из колодца вылезая, скажет: «Отец, не беспокойтесь, човлук[99] в порядке!» Учтиво склонившись, позовет к ужину невестка, юная Огульджерен. И она день прожила ненапрасно. Кажется, скоро она подарит ему внука. О аллах, что еще нужно для счастья! Нет, не верилось в опасность. И все же старик не спускал глаз с приближающихся всадников, поправил папаху и опустил рукава. Всадники, подскакав, не поздоровались, хоть и годились в сыновья и внуки старику. И тот вздохнул: «Приветствие, видно, действительно право лишь аллаха». А вслух старик сказал:
— Салам-алейкум, божьи странники!
Но и тут старику никто не ответил, подтвердив смуту, что холодком все сильнее сдавливала грудь. И ничего не оставалось, как, опершись на крепкий посох, самому разглядывать непрошеных гостей. Столько в долгой жизни было всякого, что устали глаза удивляться. И все же, увидев на пегой кобылке сидящего белокурого чужестранца, поразился старик, рот у него приоткрылся, обнажив желтоватые от никотина еще крепкие зубы. Это не осталось незамеченным, принц Хамза-Мирза усмехнулся
и разжал тонкие губы:
— Пытаешься узнать, чабан, что за человек перед тобой? Видал ли ты в жизни таких?
— Впервые в жизни вижу, — сказал старик, разглядывая диковинные длинные сапоги француза, нарядную кобуру короткоствольного пистолета, украшенную какими-то серебряными бубенчиками, рукава сюртука с необыкновенными пуговицами. И все ж более всего сапоги заинтересовали: «Как же он их надевает? Или их сшили ему прямо на ногах?.. Но тогда как же он их снимает на ночь?»
Неподдельное изумление понравилось вдруг принцу, он покачал с улыбкой головой. «Эти туземцы ну как дети!»— подумал, почти физически ощущая груз той нелегкой миссии, которой теперь облечен. Да, придется много затратить усилий, чтоб что-то путное сделать с этим неразвитым народом, принц будет строг, но он будет и справедлив. И, вздохнув, скучающим голосом принц стал объяснять чабану:
— Человека, что ты видишь, чабан, зовут Блоквил, очень далеко от ваших краев есть страна одна — Перен[100]. Ты хоть слыхал, чабан, про такую страну — Перен?
— Перен? — приставив руку к уху, быстро переспросил старик. — Перенистан? Слыхал, слыхал, а как же, конечно, слыхал…
— Ну, а если слыхал, то это человек оттуда, Перенг-ли — из Перена.
— Перенгли! — старик обрадовался:, узун-кулак— большое ухо — беспроволочная почта уже донесла, что с армией персов едет большой ученый, который знает все науки, Перенгли. — Знаю, знаю: Перенгли — ученый человек, — повторял он обрадованно.
Принц хмыкнул и спросил:
— Твой ли дом, чабан, виднеется там вдали? И овцы, что ты гонишь, твои ли?
— Дом мой, — старик ответил кратко, — овцы бая.
— Говорят, туркмены народ гостеприимный, — усмехнулся принц. — Что скажешь на это, чабан? Или врут люди?
— Туркмены гостеприимны, — старик пристально на них взглянул, — только к очагу приглашают… после приветствий. — И, тяжко вздохнув, ответа не дожидаясь, зашагал, опираясь на посох, к своим кибиткам.
А всадники, весело переговариваясь, — за ним. Когда ж приблизились к кибиткам, из правой вышел стройный юноша и почтительно поздоровался с гостями.
— Сын? — вскинув брови, поинтересовался принц.
— Старшенький… Мамед-джан.
Из левой кибитки с молочником в руках вдруг молодая женщина появилась. Увидав же незнакомцев, быстро юркнула обратно.
— М-м-м… — глядя вслед ей, произнес принц, успев, однако, разглядеть и белые руки юной женщины, и чистые, по-утреннему влажные ее глаза, и то, как метнулась она, словно молодая лань, в свою кибитку, — и принц, чуть сморщив нос, словно бы с осуждением строго поглядел на старика. А тот и правда почувствовал вдруг неясную вину и торопливо заговорил:
— Это невестка, невестка, она вернулась недавно из отчего дома… после кайтармы… мы тоже, если даст аллах, может, дождемся внука перед смертью…
— Вот как, — произнес в раздумье принц, соскакивая с коня, и, глядя в землю, медленно повторил, — значит, вот как…
И тут же, словно только что разглядел старшего сына чабана, стоящего перед ним, принц порывисто протянул юноше руку. Мамед обрадовался: до этого ведь никогда не приходилось здороваться с такими нарядными, красивыми людьми. Юноша доверчиво протянул обе руки, и они тут же скрылись в огромных, цепких ладонях принца. После этого принц долго пребывал как бы в задумчивости, а все в молчаливой почтительности ждали. И старик чабан, и стройный красавец Мамед, и свита… А принц стал расхаживать вокруг коня, стал напевать и, зная, что нет у него ни голоса, ни слуха, напевал все громче. Напевая, к колодцу подошел и, придерживаясь за ветку борджака, в колодец заглянул. И, словно заглядывая в колодец впервые в жизни, долго качал головой, не то удивляясь, не то осуждая… а все стояли и молчали. Потом, закусив нижнюю губу, долго кибитки разглядывал. Все это выглядело не очень естественно, как-то неискренне. И старик задумался. Обычно в подобных ситуациях он, дав сыну поручения, сам вел гостей в дом. Теперь он думал о том, как бы благополучно спровадить незваных гостей. Не нравились они ему. Особенно после того, как невестка не вовремя выглянула из своей кибитки. И на невестку он теперь сетовал: «Нашла время, когда выглядывать!» И на сына сетовал, который крутился тут же, беды не чуял, спрашивал в нетерпении: «Что надо делать, отец, как гостей встречать будем?» Сам себе старик не нравился, он видел теперь, что все вокруг ведет не к добру. И то, что овцы далеко разбрелись от брошенного колодца, — не к добру. Даже то, что насвистывает так беззаботно младший сын, — это тоже не к добру.
Вот и не поворачивался у него язык пригласить гостей в дом. А вместо этого вспомнил старый чабан сегодняшний сон. Сон был тоже нехорош, но старик сейчас пытался как-то растолковать сон этот самому себе, чтоб уяснить, чем же именно он нехорош. Во сне он видел свою старуху, которая десять лет тому назад умерла. «Старик, — будто бы спрашивает она его, — отчего ты так грустен?» — «Ай, — отвечает будто бы он ей, — вечно ты что-нибудь придумаешь, старая. Отчего это я должен быть грустен, если у меня все есть. Есть еда и питье, есть кибитки, которые укроют в случае непогоды. Есть два сына и невестка. Скоро родится внук, и на всем свете не будет тогда человека счастливее меня… Плохо, что нет тебя, а то порадовалась бы вместе с нами». Но старуха только головой покачала, усмехнулась, и с каким-то обидным сомнением в глазах исчезла.
Рано утром, закончив чтение намаза, старик тайком наблюдал за невесткой, занятой своими делами. Да, невестка заметно округлилась, живот явно выпирал, месяцев через пять у него будет внук, и будет тогда старик самым счастливым человеком! Отчего ж во сне старуха так грустно качала головой?! Пытаясь сейчас отогнать мрачные подозрения, он прошептал: «Во сне все наоборот». Но это не помогло, страшные мысли не покидали его. Общее молчание как-то затянулось, старик хотел уже нарушить его, уже подбирал первую фразу. Но тут принц вдруг решительно направился к кибиткам. Остальные пошли за ним. Мамед не увидел ничего дурного в том, что гость без приглашения направился к дому, старик же задрожал всем телом, рука сама по себе потянулась к ножу, но тут же схватил себя за ухо, чтоб как-то дрожь унять, колотившую его все сильнее. Принц, краем глаза следящий за стариком, замедлил шаг, чтобы сказать:
— Меня зовут, чабан, Хамза-Мирза. Знакомо ли это имя тебе? По тому, как ты побледнел, вижу, что знакомо. А это мои славные командиры. Это — Махмуд Мирза Аштиани, а это — Кара-сертип, его подвиги, надеюсь, известны всем туркменам, я прибыл сюда с огромным войском, так что… — принц покачался слегка на носках перед старым чабаном и закончил: — так что тебе придется… расстаться с половиной отары.
Командующий войском принц Хамза-Мирза — в красном плаще, на белом карабаире — переправился со свитой через Теджен одним из первых. Племяннику иранского шаха было лет двадцать пять — двадцать семь, он был худощав, смугл, с щеголеватой бородкой, за которой не забывал ухаживать и в походе. Пять телохранителей неотступно следовали за принцем, похожие друг на друга не только темными одеждами, но и угрюмо-сонными, какими-то бездумными глазами. Несколько военачальников образовывали как бы второй круг вокруг принца. Далее шли писарь, лекарь, астролог. А еще в свите был светлоглазый человек лет тридцати с длинными, сильно выгоревшими бакенбардами — француз Гулибеф де Блоквил. По договору с персидским шахом Насреддином инженер Гулибеф де Блоквил принял участие в военной экспедиции для того, чтобы составить для шаха карту земель Мары. Шах обещал щедро вознаградить за это.
Небрежным взмахом плети подозвав слугу, принц сквозь зубы приказал собрать военачальников. «Вон там», — и плетью показал на северо-запад, где среди светло-коричневых плавных отрогов Хорасанского хребта один из холмов показался ему почти настоящей вершиной, достойной, чтобы с ходу взлететь на нее на своем любимом карабаире. И, плетью взбодрив слегка коня, он поскакал, легко давя и дикий лук, и елмик, уже пожелтевший, разбрасывая, валя налево и направо твердую осоку, похожую на густую сабельную рать. Скорость освежала разгоряченное лицо, ветер сладко пел в ушах, ликование молодым вином будоражило душу. Принц Хамза-Мирза уже дважды, несмотря на молодость, водил войско на подавление восставших курдов. И шах Насред-дин был им доволен. Но это ведь было там, в Персии. Покорять чужие страны приходилось впервые. Кроме того, в Персии не забыто жестокое поражение от туркмен. При Кара-Кале пять лет тому назад. Пять лет позора! Ну что ж, принц Хамза-Мирза смоет этот позор. Он покажет этим полудиким племенам, что такое цивилизованная страна, что такое регулярное войско. Покорив Мары огнем и мечом, он останется ханом на этих землях. Он будет твердым властителем, он будет умным, справедливым. Это решено и обдумано во всех деталях за три месяца похода. Это же государственная большая политика! Это же начало совсем другой жизни для этого невежественного народа, начало той самой жизни, за которую со временем ему — принцу Хамза-Мирзе — еще и спасибо скажут. Так что намерения его вполне серьезны: это не обычный набег, не вылазка с целью пленить десяток туркмен. Нет, принц идет сюда с новым порядком. Принц прекратит вражду между племенами, принц заставит их всех работать. Вода будет в его руках — это главное! Вот зачем взяли этого белокурого французика, дядя-шах просил быть с ним поаккуратнее — все же Европа. И учен, университет какой-то вроде кончил… А не мешало бы… Принц плеткою взмахнул — карабаир под ним прибавил ходу. Да-да, умен француз, взгляд острый, не сразу и глаза опустит в землю, принц к этому не привык. А в глазах— даром что голубы да водянисты — усмешечка прячется. Или это уж кажется принцу? А-а… ладно, там посмотрим— были бы карты этих необъятных земель хорошо составлены, а уж он — принц Хамза-Мирза — сумеет превратить эти земли в нескончаемый ручей серебра и золота, каракуля и ковров, драгоценных украшений и конечно же знаменитых на весь мир ахалтекинских скакунов. Принц давно мечтал о таком же, как у шаха, прекрасном ахалтекинце. Перед сном забираясь в походном шатре на высокое, покрытое коврами ложе, принц с грустью вспоминал далеко оставленный гарем, любимых жен… а снился почти каждую ночь горячий, быстрый ахалтекинец, еще более прекрасный, чем у дяди-шаха, прямо наваждение какое-то! О, зачем аллах такого прекрасного коня подарил этим недостойным туркменам!
Позавчера войско, перевалив последний перевал Муз-деран, вышло к пограничному Теджену, и теперь с вершины, наверное, уже можно будет рассмотреть стрельчатый купол мавзолея в Серахсе. Девственная земля Мары теперь лежала перед принцем, травы этой земли покорно склонялись под копытами его коня, восторженному сердцу тесно было в груди. Принц скакал и скакал, нахлестывая уже уставшего коня, прикидывал, за сколько дней дойдет он до Мары.
Скоро десятка два всадников на холм взобрались к принцу. Двое из них — Махмуд Мирза Аштиани и генерал Хасан Али — командовали небольшими армиями. Эти двое подъехали поближе к принцу. Другие же остановились в нескольких шагах: как раз так, чтоб и выразить свою почтительность к принцу, и не пропустить ни единого слова его.
Генерал Хасан Али, более известный под прозвищем Кара-сертип, был ростом невысок, но плотен и силен, шрамы на лице говорили о том, что он смел, а желтизна и злые складки по краям жесткого рта о том, что суровый генерал любит терьяк. Кара-сертип часто приходил в ярость, и тогда шрамы синели, наливались, широкое лицо становилось страшным.
Француз Гулибеф де Блоквил поотстал от других, засмотрелся на черного грифа, парящего в горячем небе. И теперь, настегивая пегую свою кобылку, спешил. А принц, с усмешкою поигрывая плеточкой, ждал, когда ж француз подъедет. Но тот, вместо того чтобы, как все, остановиться возле принца с почтительностью, на холм взобравшись, не остановился, а вперед проехал, стал в сторону смотреть, шумно дышать полной грудью. Как будто его ничего тут не касалось, как будто он здесь один. Принц только улыбнулся и сказал: «Господин, ты, кажется, излишне откормил свою кобылу?»
— Ваша правда, — учтиво, однако же и не собираясь исправлять оплошности, согласился француз, — что-то она у меня никак на месте стоять не хочет.
— Надо просто покрепче поводья подтянуть — и никуда не денется, подчинится, — принц улыбаться перестал, — а если ж нет, — он плетку приподнял, на стременах привстав, но тут же опустился и, к Кара-сертипу повернувшись, приказал: — Эту ночь здесь проведем, теперь до самого Карабуруна воды не будет, и пока мы от реки не удалились…
— Но пустая посуда, мой властелин, уже давно наполнена водой Теджена, — осмелился перебить принца Кара-сертип, который отвечал за оружие и за все продовольствие войска.
Но тут принц, начавший было сердиться, увидел острыми глазами две кибитки вдали у холма, две высокие Вехи торчали по бокам кибиток, увидел и отару овец, мягко катящую с зеленого холма к кибиткам этим, и весело взмахнул плетью в ту сторону:
— А что, если нам проверить жирность туркменских овец?
Все повернулись в сторону кибиток, раздались голоса:
— Хорошо!
— Лепбей!
— Умные слова — действительно, проверим-ка жирность туркменских овец!
— Тогда не будем медлить! — и принц пришпорил коня, все устремились за ним.
Француз, пожав слегка плечами, последним поскакал. Дразнить опасно принца, это ж не в Тегеране, где договор с печатью, где французское посольство. И Гулибеф де Блоквил лишь вздохнул, черный гриф кружил над ним в горячечно-белесом небе, с тяжелым чувством скакал он за всеми к отаре овец.
Отару гнали старик и мальчик лет десяти в сандалиях на босу ногу, насвистывающий простенькую мелодию. А старику было, пожалуй, под семьдесят, борода бела, как соль солончаков, кожа на лице и руках, как древний пергамент, лишь глаза, вроде ножа за поясом, по-прежнему остры. Он издали заметил всадников, отправил мальчика с отарой, сам же остался стоять, опираясь на посох.
Он слышал, конечно, что из Персии на туркмен надвигается большая опасность. Но день был таким обычным и все вокруг в этот знойный июньский день было таким привычным, что не хотелось верить ни в какую опасность. День прожит, и, слава богу, неплохо. Травы нынче хороши, овцы тяжелеют не по дням, а по часам, вон как весело домой бегут. А дома все в порядке, старший сын, из колодца вылезая, скажет: «Отец, не беспокойтесь, човлук[99] в порядке!» Учтиво склонившись, позовет к ужину невестка, юная Огульджерен. И она день прожила ненапрасно. Кажется, скоро она подарит ему внука. О аллах, что еще нужно для счастья! Нет, не верилось в опасность. И все же старик не спускал глаз с приближающихся всадников, поправил папаху и опустил рукава. Всадники, подскакав, не поздоровались, хоть и годились в сыновья и внуки старику. И тот вздохнул: «Приветствие, видно, действительно право лишь аллаха». А вслух старик сказал:
— Салам-алейкум, божьи странники!
Но и тут старику никто не ответил, подтвердив смуту, что холодком все сильнее сдавливала грудь. И ничего не оставалось, как, опершись на крепкий посох, самому разглядывать непрошеных гостей. Столько в долгой жизни было всякого, что устали глаза удивляться. И все же, увидев на пегой кобылке сидящего белокурого чужестранца, поразился старик, рот у него приоткрылся, обнажив желтоватые от никотина еще крепкие зубы. Это не осталось незамеченным, принц Хамза-Мирза усмехнулся
и разжал тонкие губы:
— Пытаешься узнать, чабан, что за человек перед тобой? Видал ли ты в жизни таких?
— Впервые в жизни вижу, — сказал старик, разглядывая диковинные длинные сапоги француза, нарядную кобуру короткоствольного пистолета, украшенную какими-то серебряными бубенчиками, рукава сюртука с необыкновенными пуговицами. И все ж более всего сапоги заинтересовали: «Как же он их надевает? Или их сшили ему прямо на ногах?.. Но тогда как же он их снимает на ночь?»
Неподдельное изумление понравилось вдруг принцу, он покачал с улыбкой головой. «Эти туземцы ну как дети!»— подумал, почти физически ощущая груз той нелегкой миссии, которой теперь облечен. Да, придется много затратить усилий, чтоб что-то путное сделать с этим неразвитым народом, принц будет строг, но он будет и справедлив. И, вздохнув, скучающим голосом принц стал объяснять чабану:
— Человека, что ты видишь, чабан, зовут Блоквил, очень далеко от ваших краев есть страна одна — Перен[100]. Ты хоть слыхал, чабан, про такую страну — Перен?
— Перен? — приставив руку к уху, быстро переспросил старик. — Перенистан? Слыхал, слыхал, а как же, конечно, слыхал…
— Ну, а если слыхал, то это человек оттуда, Перенг-ли — из Перена.
— Перенгли! — старик обрадовался:, узун-кулак— большое ухо — беспроволочная почта уже донесла, что с армией персов едет большой ученый, который знает все науки, Перенгли. — Знаю, знаю: Перенгли — ученый человек, — повторял он обрадованно.
Принц хмыкнул и спросил:
— Твой ли дом, чабан, виднеется там вдали? И овцы, что ты гонишь, твои ли?
— Дом мой, — старик ответил кратко, — овцы бая.
— Говорят, туркмены народ гостеприимный, — усмехнулся принц. — Что скажешь на это, чабан? Или врут люди?
— Туркмены гостеприимны, — старик пристально на них взглянул, — только к очагу приглашают… после приветствий. — И, тяжко вздохнув, ответа не дожидаясь, зашагал, опираясь на посох, к своим кибиткам.
А всадники, весело переговариваясь, — за ним. Когда ж приблизились к кибиткам, из правой вышел стройный юноша и почтительно поздоровался с гостями.
— Сын? — вскинув брови, поинтересовался принц.
— Старшенький… Мамед-джан.
Из левой кибитки с молочником в руках вдруг молодая женщина появилась. Увидав же незнакомцев, быстро юркнула обратно.
— М-м-м… — глядя вслед ей, произнес принц, успев, однако, разглядеть и белые руки юной женщины, и чистые, по-утреннему влажные ее глаза, и то, как метнулась она, словно молодая лань, в свою кибитку, — и принц, чуть сморщив нос, словно бы с осуждением строго поглядел на старика. А тот и правда почувствовал вдруг неясную вину и торопливо заговорил:
— Это невестка, невестка, она вернулась недавно из отчего дома… после кайтармы… мы тоже, если даст аллах, может, дождемся внука перед смертью…
— Вот как, — произнес в раздумье принц, соскакивая с коня, и, глядя в землю, медленно повторил, — значит, вот как…
И тут же, словно только что разглядел старшего сына чабана, стоящего перед ним, принц порывисто протянул юноше руку. Мамед обрадовался: до этого ведь никогда не приходилось здороваться с такими нарядными, красивыми людьми. Юноша доверчиво протянул обе руки, и они тут же скрылись в огромных, цепких ладонях принца. После этого принц долго пребывал как бы в задумчивости, а все в молчаливой почтительности ждали. И старик чабан, и стройный красавец Мамед, и свита… А принц стал расхаживать вокруг коня, стал напевать и, зная, что нет у него ни голоса, ни слуха, напевал все громче. Напевая, к колодцу подошел и, придерживаясь за ветку борджака, в колодец заглянул. И, словно заглядывая в колодец впервые в жизни, долго качал головой, не то удивляясь, не то осуждая… а все стояли и молчали. Потом, закусив нижнюю губу, долго кибитки разглядывал. Все это выглядело не очень естественно, как-то неискренне. И старик задумался. Обычно в подобных ситуациях он, дав сыну поручения, сам вел гостей в дом. Теперь он думал о том, как бы благополучно спровадить незваных гостей. Не нравились они ему. Особенно после того, как невестка не вовремя выглянула из своей кибитки. И на невестку он теперь сетовал: «Нашла время, когда выглядывать!» И на сына сетовал, который крутился тут же, беды не чуял, спрашивал в нетерпении: «Что надо делать, отец, как гостей встречать будем?» Сам себе старик не нравился, он видел теперь, что все вокруг ведет не к добру. И то, что овцы далеко разбрелись от брошенного колодца, — не к добру. Даже то, что насвистывает так беззаботно младший сын, — это тоже не к добру.
Вот и не поворачивался у него язык пригласить гостей в дом. А вместо этого вспомнил старый чабан сегодняшний сон. Сон был тоже нехорош, но старик сейчас пытался как-то растолковать сон этот самому себе, чтоб уяснить, чем же именно он нехорош. Во сне он видел свою старуху, которая десять лет тому назад умерла. «Старик, — будто бы спрашивает она его, — отчего ты так грустен?» — «Ай, — отвечает будто бы он ей, — вечно ты что-нибудь придумаешь, старая. Отчего это я должен быть грустен, если у меня все есть. Есть еда и питье, есть кибитки, которые укроют в случае непогоды. Есть два сына и невестка. Скоро родится внук, и на всем свете не будет тогда человека счастливее меня… Плохо, что нет тебя, а то порадовалась бы вместе с нами». Но старуха только головой покачала, усмехнулась, и с каким-то обидным сомнением в глазах исчезла.
Рано утром, закончив чтение намаза, старик тайком наблюдал за невесткой, занятой своими делами. Да, невестка заметно округлилась, живот явно выпирал, месяцев через пять у него будет внук, и будет тогда старик самым счастливым человеком! Отчего ж во сне старуха так грустно качала головой?! Пытаясь сейчас отогнать мрачные подозрения, он прошептал: «Во сне все наоборот». Но это не помогло, страшные мысли не покидали его. Общее молчание как-то затянулось, старик хотел уже нарушить его, уже подбирал первую фразу. Но тут принц вдруг решительно направился к кибиткам. Остальные пошли за ним. Мамед не увидел ничего дурного в том, что гость без приглашения направился к дому, старик же задрожал всем телом, рука сама по себе потянулась к ножу, но тут же схватил себя за ухо, чтоб как-то дрожь унять, колотившую его все сильнее. Принц, краем глаза следящий за стариком, замедлил шаг, чтобы сказать:
— Меня зовут, чабан, Хамза-Мирза. Знакомо ли это имя тебе? По тому, как ты побледнел, вижу, что знакомо. А это мои славные командиры. Это — Махмуд Мирза Аштиани, а это — Кара-сертип, его подвиги, надеюсь, известны всем туркменам, я прибыл сюда с огромным войском, так что… — принц покачался слегка на носках перед старым чабаном и закончил: — так что тебе придется… расстаться с половиной отары.
 Старику показалось, что принц хотел сказать что-то другое, совсем не про овец, и, моля судьбу, чтоб речь шла действительно лишь об отаре, затягивая непроизвольно страшный разговор, переспросил:
— Говоришь, половина отары?
— Да, — высокомерно отвечал принц, — именно так — половина.
— Если аллах позволит, то можно съесть и всю отару.
— Вон как? — принц вскинул тонкие брови: — Ну, а если аллах не позволит?
— Это один аллах знает, — старик сложил смиренно руки.
— Ну, а если это знает лишь аллах, — принц зевнул, решив, что пора кончать комедию, — тогда давай, чабан, войдем в дом.
— Пошли, угостим чем богаты, — и чабан гостеприимно показал на правую кибитку.
— Ах, старик, старик, разве ж ты забыл туркменскую пословицу: «Справа — заминка, слева — радость!» И мы, прибывшие сюда на большое дело, разумеется, предпочтем из этих двух впервые встретившихся нам на туркменской земле домов конечно же левый! Пусть нам сопутствует удача, а? Старик? Долой сомнения, не так ли!
— Сомнения лишают веры, о гость достопочтенный! — воскликнул старик, уже не очень соображая в лихорадочной смуте, душу охватившей. — Но там, где гостя принимают от чистого сердца, даже дурные мысли добром оборачиваются.
— Вот как, — принц прищурился, и легкая усмешка тронула бескровные губы, — что ж, верные слова, старик… тебе зачтется, — и решительно протянул руку к пологу левой кибитки.
— Да нет же, нет! — старик суетливо забежал вперед и встал перед принцем. — Мы не потому не приглашаем дорогих гостей в эту кибитку, что «справа — заминка», а лишь потому, что эта кибитка у нас женская, и… нехорошо заходить в дом, где находится женщина, хан-ага… — голос старика задрожал.
А голос принца, наоборот, словно окаменел, был строг и громок.
— Да ты что, старик! — Поддержав его за локоть, внезапно ласковым голосом заговорил тут принц: — Я не нуждаюсь в твоем богатстве… У меня, поверь, хватает своего. Да мне стоит лишь чихнуть — и сорок таких кибиток будут здесь стоять, да что там сорок — сотня, тысяча! Мы… мы просто хотим зайти, поздороваться, кибитку осмотреть… и все.
И старик успокоился, благодарил уже аллаха, удержавшего его руку, потянувшуюся к ножу. А о ноже все же помнил: тут он, за поясом. Дай, аллах, чтоб и дальше так все кончалось хорошо… а уж он накормит славным ужином гостей, барана не пожалеет!
И полог был откинут, и вошли. Невестка переоделась, в углу сидела в старом платье, накрывшись паранджой. Накрылась хорошо, но все же немного была видна нога, тряпье лишь подчеркивало упругость, юность белого тела. Принц задышал заметно и, сделав шаг вперед, слегка нагнувшись, быстро сказал:
— Лицо, лицо хочу увидеть.
— Увидеть лицо никак нельзя, — спокойно произнес Мамед, ничего не подозревающий еще.
— А что, если мы это сделаем, у тебя не спросив? — ласковым голосом произнес принц, оборачиваясь с жесткой усмешкою на губах к Мамеду и от этого становясь очень похожим на кошку, играющую с пойманной мышкой в смертельную игру.
Старик, беду на пороге чуя, сильно оттолкнул сына и торопливо заговорил:
— Конечно же можно, не обращайте, хан-ага, внимания, юноша погорячился, уж простите его как-нибудь. Да, туркмены до самого возвращения невестки заворачивают ее в бархат, такой уж обычай наших отцов, и не нам его менять. Но друзья-товарищи парня все же могут смотреть лицо невестки. Так что будем считать, что вы тоже товарищи моего сына Мамеда.
— Отец! — воскликнул Мамед.
Но старик, внимания на него не обращая, к невестке обратился.
— Детка, повернись сюда и… покажи дорогим гостям свое лицо. Повернись, повернись, моя хорошая, — ласково уговаривал он, — а я даже и не взгляну на твое лицо, повернись! — Мольба и стыд были в его словах, он чувствовал себя самым несчастным на свете человеком, наверняка не было среди туркмен свекра, обратившегося о такой позорной просьбой к своей невестке.
И она — невестка, — забившись в угол, теперь не знала, что и делать. Женщина, ни разу в жизни не заставившая себя просить дважды, не знала, что ей делать, разрываясь между свекром и мужем и в то же время женским чутьем понимая, что свекор прав.
— Да она у тебя никак глухая! — захохотал, желая принцу угодить, Кара-сертип.
Принц кивком головы одобрил грубую шутку и сделал еще полшага к невестке. Но тут Мамед стремительно нырнул под руку отца и оказался между женой и принцем. Туда же, в угол, ринулись телохранители, но их опередил старик, быстрее всех там оказался, коротко крякнул, размахнувшись (принц в страхе отшатнулся), но старый чабан ударил сына и со слезами в голосе воскликнул:
— Огульджерен, невестка моя, твой свекор не думает о твоем позоре, сделай так, как я говорю, сделай, сделай, заклинаю тебя во имя аллаха! — он трясся перед ней как в лихорадке.
Сын в изумлении стоял, все еще держась за щеку. И Огульджерен все поняла, откинула паранджу. Старик, схватившись за пояс, запрыгал от позора на его седую голову: думал ли он когда-нибудь дожить до такого? Тут вскрикнула Огульджерен, принц уже тянулся к ней руками. Мамед бросился на помощь к жене и тут же грузно стал оседать. Телохранитель был начеку, играючи свалил Мамеда, в висок ударив точно. Вот и забыл обо всем старик, выхватил свой верный нож, чтоб детей защитить. Да только силы с годами уж не те, и проворен не так, лет двадцать — тридцать скинуть бы, а так… ку-у-да… В глазах потемнело, а когда очнулся — лежит рядом с сыном. Принц держит правую руку на весу, с руки медленными каплями стекает кровь. Какая-то сонная улыбка бродила на тонких губах принца, внимательно разглядывавшего свою руку. Вокруг стояла гробовая тишина. Тех, что оставались снаружи, и привлекла эта внезапная тишина, они стали подходить к решетке, заглядывать внутрь. Среди подошедших был и француз.
Заглянув в кибитку, он поражен был красотой Огульджерен. Забившись в угол, она совсем забыла про открытое лицо, большие влажные глаза ее сверкали, она порывисто дышала, черные волосы оттеняли прекрасную бледность щек, на нижней губе осталась капля крови. И, эту каплю вдруг разглядев, принц внезапно почувствовал настоящее удушье.
— Постой же, сучка, — зубы его стучали, как в ознобе, — я превращу твои пухлые губки в пасть собаки, лизавшей с благодарностью кровь своего хозяина!
Мамед весь дернулся от этих слов, вскочить пытался, но острый кинжал, упершись в бок, остановил его. Движение юноши не прошло незамеченным.
— Привяжите обоих к тяриму[101]! — приказал принц. — Пусть-ка посмотрят спектакль, который дают настоящие принцы.
— Что это за спектакль принцев? — спросил француз генерала Кара-сертипа, стоящего рядом. — Я что-то никак не пойму.
— Если еще не понял, — с непонятным французу восторгом отвечал генерал, — сейчас поймешь, сейчас все-о-о поймешь. — Кара-сертип потирал в возбуждении руки. — Гляди, гляди, ну, гляди же, — чуть не плача шептал он в самое ухо французу, приподнимаясь на носки, чтобы получше разглядеть то, что делалось в кибитке.
А там отца и сына поставили по углам, заломили руки и крепко привязали к тяриму. После этого принц стал расхаживать между привязанными мужчинами и забившейся в угол дрожащей Огульджерен, ходил и смотрел себе сосредоточенно под ноги. Потом вдруг быстро подошел к старику и сильно дернул его за бороду. Что может быть позорнее для туркменского яшули![102] Старый чабан заплакал и стал просить аллаха о смерти, но аллах не слышал, и старику пришлось испить чашу позора до конца.
По знаку принца дюжие телохранители, похохатывая, подталкивая друг друга, засучили рукава и пошли в угол, где, скорчившись, дрожащая, готовая уменьшиться до невидимых размеров, сидела Огульджерен.
— Проклятые изверги! — пронзительно закричала она. — Если вам меня не жаль, пожалейте хотя бы ребенка, который еще не родился!
Первый раз за всю жизнь старик услышал крик своей невестки. И в этом крике не было стыда, в нем боль за его будущего внука. Старику показалось, вместе с матерью кричит сам младенец. Месяца три, месяца четыре ему всего-то, и вот — он должен умереть, так и не узнав, чей же он внук. Умереть, еще не родившись. А самые близкие ему люди стоят привязанные к тяриму и ничем помочь не могут. Никогда не услышит старый чабан желанное слово «дедушка». И дрогнуло мужественное его сердце. Словно ртуть поднялась, замутила голову. Застонал старик:
— Алла-ах, аллах-джан! О милостивейший аллах! Пожалей хотя бы невинного младенца, джан-аллах…
Стены кибитки задрожали, казалось, от этого стона стены готовы были развалиться. И только человек не сжалился над человеком. Рука черноусого нукера уже опять тянулась к Огульджерен. Старик закрыл глаза. Но рука не успела коснуться, молодая женщина с такой силой толкнула черноусого, что тот отпрянул, зашатался. Принц Хамза-Мирза, увидев это, зло рассмеялся: «А ну, попробуй с другой стороны!»
Черноусый бросился на Огульджерен с другой стороны, сейчас уж он ей покажет, отомстит за позор, за то, что так зло смеется над ним его повелитель. Но и опять он цели не достиг, отброшен был в угол кибитки и долго не мог в себя прийти. Ведь на этот раз его толкнула не женская рука, а пнул Мамед — защитник, муж. Собрал все силы и пнул, когда черноусый оказался вблизи. Другой слуга ударил плетью Мамеда по лицу, еще хотел ударить, но принц знаком приказал — не надо.
Теперь за дело взялись двое слуг. Один слева, другой справа кинулись на Огульджерен разом. И как она ни отбивалась, одному из слуг удалось схватить ее за волосы. Теперь, словно верблюдица, отдавшая свои поводья, она была вынуждена склониться в ту сторону, куда ее сильно тянули за волосы…
Гулибеф де Блоквил, как истинный парижанин, ринулся было в благородном порыве на помощь, но тут же и поник. У шаха Насреддина осталась бумага, запрещавшая ему вмешиваться в любые действия персов. И все же не бумага его сейчас остановила. И без бумаги понимал Блоквил: ворвись сейчас со своим красивым пистолетом в кибитку, слетит ведь его русая голова, не задумываясь, срубит ее черноусый нукер-телохранитель. И, вздохнув, Блоквил взял под руку генерала:
— Пойдемте, генерал, прогуляемся немного.
Тот выдернул руку и странно поглядел на француза: мол, с ума ты, что ли, сошел, тут сейчас столько интересного будет, а ты!
Голубые глаза генерала, с жадностью смотрящие внутрь кибитки, подернулись масленой пленкой, усы топорщились, дрожали от удовольствия. Сам он привстал на цыпочки, все тянулся, тянулся, уже почти парил… он уже был там, в кибитке… Тогда француз изменил тактику и сказал:
— А как вы думаете, понравилось бы господину командующему, если бы он вдруг увидел, что мы подсматриваем за ним?
— Почему же подсматриваем? — грубовато переспросил Кара-сертип. — Мы же просто смотрим.
Но чувствовалось, что Кара-сертип не уверен, и француз продолжал:
— Да, конечно, мы просто смотрим, но ведь если бы принц пожелал, то пригласил бы нас в кибитку, а так… получается, что подсматриваем.
— Да, — пробормотал генерал, и на его низком, чуть сплющенном по бокам лбу появилась одинокая морщина.
Он почти не сопротивлялся французу, крепко держащему его за локоть. Как только они отошли от кибитки, Блоквил спросил с серьезной деловитостью:
— Как там насчет пороха, генерал? Его, надеюсь, у нас достаточно?
— Хватит, — угрюмо отвечал Кара-сертип, вытирая с лица обильный пот, выступивший от волнения.
— Ну, а все-таки? — не отступал француз. — Нельзя ли поточнее узнать, сколько верблюдов загружено порохом?
— Больше тысячи.
— А-а… поточнее нельзя ли, мой генерал?
— Поточнее? Сегодня у нас что?
— Пятница.
— Пятница? Очень хорошо. Так вот, количества пороха хватит от этой пятницы до следующей пятницы, если мы будем непрерывно стрелять днем и ночью из всех тридцати трех наших пушек! Да что нам ломать голову из-за этого? Ты, господин, хоть и много учился, туркмен не знаешь, и потому лишь кажется тебе, что идешь на опасный бой. Да чтобы поставить на колени Мары, совсем нет необходимости вот так ломать голову, — и Кара-сертип оглянулся на кибитку, из которой доносился шум борьбы, крики мужчин, визг и вой несчастной женщины.
Потом грозный окрик принца: «С женщиной справиться не можете — что же будет с вами, когда встретятся мужчины!» И снова шум, крики, протяжный женский вой, от которого Кара-сертип задрожал в возбуждении, а Блоквил, увлекая его все дальше, говорил:
— А я ведь и в самом деле думал, что мы идем на опасный бой.
Генерал покривился в досаде:
— Да говорю же тебе, ты ошибаешься — племя туркмен не знает, что такое настоящая война, что такое железная дисциплина, не знает тактики, а тем более стратегии современного боя.
— А почему?
— Почему? — генерал с усмешкой поглядел на француза. — Да ты сам подумай, откуда у народа, у которого нет ни одного генерала, будет разумение о таких высоких материях, как тактика, как стратегия. Нет ни одного генерала, — и Кара-сертип многозначительно покачал пальцем перед носом француза, — а тем более нет и быть не может полководцев, подобных нашему принцу Хамза-Мирзе.
— Ну, хорошо, и все-таки я не могу понять, чего же добивается шах Насреддин, ставя Мары на колени?
— И не поймешь, — самодовольно ухмыльнулся Кара-сертип, — потому что не перс, а француз, француз, не испытавший подлых ударов от этих нечестивых туркмен. Да ведь они же чуть ли не каждый день нападают на нас, грабят аулы, увозят наших женщин.
— Итак, за отдельные пограничные набеги, которые сплошь и рядом случаются на любой границе, причем, заметь, мой генерал, набеги как стой, так и с другой стороны, не правда ли? И вот за это теперь надо покорять навсегда целый народ? Может быть, лучше бы провести переговоры?
— Ха! Переговоры! Переговоры с туркменами! Дипломатия! — презрительно скривил губы Кара-сертип. — Бей, жги, уничтожай — вот лучшая дипломатия! И Мары будет на коленях. Ты еще, француз, не знаешь туркмен — это ж темные, трусливые людишки, да если бы мне дали всего две желтые бомбы и тысячу, да нет, пятьсот всего солдат, я бы и с ними стер Мары с лица земли, да я бы…
Тут из кибитки донесся крик, мало похожий на человеческий, и генерал на полуслове оборвал себя. Губы его расплылись в улыбке, глаза стали маслеными, он всей душой был там, в кибитке, с принцем заодно, заодно с насильниками-телохранителями. Это так явственно было написано на его лице, что небезопасное желание дразнить и дальше генерала и тем хоть как-то наказать его за соучастие — пусть лишь в душе — в страшном преступлении— это желание усилилось в Блоквиле, стало почти нестерпимым. Он жестко произнес;
— А как же несколько лет тому назад эти темные, трусливые туркмены разбили огромное хивинское войско? А за год до этого у Кара-Кала разбили самих персов, а? Неужели господин генерал забыл об этом?
Кара-сертип не знал, что ответить, он стал оглядываться по сторонам, словно там искал ответа, и, увидев мальчика с ножницами в руках, грозно крикнул: «Эй, как тебя зовут?»
— Иламан.
Кара-сертип хитро взглянул на француза и многозначительно, как будто в этом и скрыт был ответ на коварный вопрос, произнес с расстановкой;
— Оказывается, этого маленького туркмена зовут просто — Иламан.
Французу осталось лишь с легкой улыбкою пожать плечами. А когда они вернулись, из кибитки уже выходили запыхавшиеся, раскрасневшиеся, но весьма довольные собою и вообще окружающею жизнью принц и его верные телохранители. Принц, встретившись глазами с французом, не опустил своих, лишь прищурил надменно:
— Господин, как нравится тебе воздух Туркмении и вообще…
— Хороший воздух, — сдержанно отвечал Блоквил, — если б еще вода, то это был бы рай на земле.
— Поэтому мы и ждем от тебя, Гулибеф де Блоквил, подробнейшей карты всех здешних колодцев, арыков, источников воды, здесь родит не земля, а вода! Тебе обещано за это солидное вознаграждение, и я думаю…
— Если позволите, я отвяжу этих… несчастных.
— Освободи, освободи, — усмехнулся принц и, похлестывая слегка плетью по голенищу сапога, вразвалочку направился к отаре жирных овец, которую уже начали делить.
Быстро темнело, и Блоквил, зайдя в кибитку, не сразу разглядел людей. Бесформенной, изломанной грудой белело поруганное тело несчастной Огульджерен. Француз разыскал лохмотья платья и немного прикрыл наготу. Потом подошел к старику и перерезал веревки. Старый чабан закачался и, чтоб не упасть, схватился за решетку тярима. Француз хотел помочь, но старик с ненавистью выдернул руку и прохрипел проклятье.
— Я не виноват… — пробормотал Блоквил, направляясь к Мамеду.
Перерезая веревку, чувствовал тяжесть на сердце, ибо перед ним было не лицо, а черная маска. Но Блоквил никак не мог и предположить, что же произойдет дальше, а стоило лишь освободить человека от пут, как стал он падать, и Блоквил не успел удержать. Когда же нагнулся, пощупал пульс, все стало ясно — сердце не выдержало позора.
Блоквил, выйдя из кибитки, огляделся. Над Хорасанским хребтом зажглась вечерняя звезда, тишина с небес опустилась, густели прохладные тени. Предчувствие истины, которая где-то совсем рядом, охватило Блоквила. Он замер, вслушиваясь с напряжением в себя, всматриваясь в себя, но ничего, кроме страстного желания жить, жить, жить… в себе не обнаружил… Принц с приближенными скакал к белому шатру, раскинутому на самой вершине холма. Его красный плащ в сумерках сделался черным. Такая же черная смута переполняла все существо француза. Совсем не таким представлялось начало военной экспедиции там, в Тегеране.
Когда в середине апреля торжественно выступили из Шах-Севента, Блоквил часа на три задержался в посольстве и потом нагонял армию уже один. Дорога была пустынна, небо высокое, прохладное. И в то же время словно бы какое-то напряжение было явственно разлито вокруг. Или всему причиною была дорога, бегущая перед ним, еще не оправившаяся после только что прошедших по ней многих тысяч людей. Попадались часто то тряпка, то подкова, лужи мочи, обрывки ремней. Но вот то вдали, то вблизи из кустов стали выходить на пустынную дорогу простые дехкане с мотыгами на плече. Спрашивали несмело, вся ли армия уже прошла или будет еще идти. И тут увидел Блоквил, что простой народ боится собственной армии, грабящей без разбора и чужих, и своих. Невеселый этот эпизод позабылся было во время похода, где все впервые было для француза. И вот… вспыхнул подобно вечерней звезде над Хорасанским хребтом… А над хребтом уже зажглась звезда, вторая, третья вспыхнула за ней… за сумерками ночь спешила. От колодца с ножницами в руках шел к дому маленький Иламан. Чтоб не услышать детского крика, который непременно раздастся, как только Иламан войдет в кибитку, Блоквил вскочил в седло, пришпорил лошадь. Показалось и этого мало, он сильно хлестнул плеткой, но крик догнал его и еще долго-долго потом стоял в ушах.
Хорошо отдохнув и оставив часть провианта у развалин Порсугала, персидское войско налегке стало быстро продвигаться в глубь страны и уже шестого июля 1860 года оказалось на левом берегу Мургаба в самой непосредственной близости от крепости Мары. Дул афганец, и в течение тринадцати дней, кроме легкой перестрелки, военных действий не было. В ночь же на 19 июля туркмены покинули вдруг крепость, и принц Хамза-Мирза, поставив впереди войска многочисленных музыкантов, развернув боевое знамя, торжественно вошел в город. Этот день решено было отныне считать днем поражения непокорного Мары, и многие вилайеты Персии с пышной торжественностью отметили победу.
Правда, основные силы туркмен, покинув город, ушли без потерь на запад, в пески, и следы их затерялись в барханах. Так что шах Насреддин вряд ли будет доволен захватом пустого города. Это хорошо понимал принц Хамза-Мирза, но предпринимать какие-то действия не спешил.
Сорок тысяч человек ело, пило, играло в кости, нарды, а в основном бездельничало. О какой-то санитарии никто при этом не заботился, так что вскоре жить в крепости стало невмоготу. Принц приказал перенести свой шатер в самый центр загородного военного лагеря, расположенного на небольшой песчаной возвышенности.
Огромного количества еды требовали и многие тысячи лошадей, ослов, верблюдов, мулов. Потравив ближайшие пастбища, они уходили все дальше от лагеря и… многие не возвращались. Может быть, становились легкой добычей туркмен. Хотя самих туркмен пока и не было видно. Где они? Возможно, далеко, а возможно, и за соседним барханом. Что там в сумерках померещилось тебе, воин? Черная колючка — саксаул — или туркмен со своим мушкетом? Что там катится бесшумно в неверном лунном свете — перекати-поле или смерть твоя, войн, в образе босоногого туркмена с кривым кинжалом? Персы вели праздный образ жизни, устраивали состязания бордов, петушиные бои, но тоскливая враждебность песков навевала все больший ужас, и все чаще по ночам во сне кричали те, кому приснилась смерть. И вскоре стало худшее сбываться.
Дело в том, что леса вдоль Мургаба уже сильно поредели, завоеватели вырубили их на дрова. И теперь приходилось уходить все дальше за дровами — карагачом, саксаулом. И вот тут-то окружали внезапно туркмены незадачливых дровосеков, брали в плен, а если те оказывали сопротивление, рубили головы. Кара-сертип, разумеется, знал об этом, но рассказывать принцу, до сих пор пребывающему в каком-то легко возбужденном, этаком воздушно-голубом состоянии, отнюдь не собирался. Кара-сертип лишь распорядился увеличить отряд дровосеков до двадцати человек и дал ему две пушки. Но туркмены окружили и этот отряд, наголову разбили, а пушки уволокли с собой в пески. На этот раз пришлось поставить в известность принца. Кара-сертип пережил неприятные мгновения, левое веко принца стало дрожать, подергиваться от гнева, но он сдержал себя прй французе, который по утрам возобновил с принцем легкие занятия французским языком. Принц с кислою улыбкою пожал плечами.
— Но ведь туркмены не умеют стрелять из пушек, зачем же им они?
Через месяц уже и лагерь за городом из-за нечистот представлял нечто ужасное. Зловонье, усугубленное невероятною жарою, вызывало тошноту даже у бывалого Кара-сертипа, что ж говорить о бедном французе! Ему — выпускнику Сорбонны, изящному ценителю Шелли и Монтескье, любителю путешествовать в мягком дилижансе по культурным странам Европы, вся эта азиатская экзотика теперь казалась несусветной чушью. Обещанная награда после окончания экспедиции уже не представлялась столь привлекательной, как там, в Париже. Да и начало не предвещало ничего хорошего. И совсем непонятно было, о чем думает принц. Ведь уже три месяца, как вышли из Шах-Севента, уже месяц, как они здесь, на земле Мары — и непонятно: победили все-таки они или нет.
Потянулись дни, однообразные, как марыйские пески, казалось, нет и никогда не будет просвета в их унылой жизни, казалось, свежий ветер никогда не разгонит тошнотворных испарений, которыми пропитан лагерь. Но однажды ранним утром француза разбудил странный шум в южной части лагеря. Юг был почти не укреплен, туркмен ведь ждали с запада. И вот на юге возник этот странный шум, разбудивший Блоквила, шум нарастал, уже доносились крики, вопли, стоны. И когда Блоквил выскочил из палатки, расположенной неподалеку от шатра принца, поразительная картина предстала перед ним. Продолжением сна — не иначе — воспринимал он то, что увидел. Четыре всадника вскидывали и опускали сверкающие сабли — и перед ними налево и направо, словно порубленный камыш, валились персы. Чтобы получше видеть, Блоквил взбежал на холм повыше, к самому шатру. Да, да, он не ошибся — то был не сон! Четыре человека напали на многочисленное войско и косили оцепеневших людей. Казалось, оторопь всех охватила перед такой, ни на что не похожей, прямо-таки нечеловеческой отвагой — вчетвером напасть на целое войско! И Блоквил следил как завороженный…
А уже слышны были их возгласы: «О аллах!» — с которыми рубили смельчаки своих врагов. «О аллах!» — шептали умирающие. «О аллах!» — воскликнул появившийся рядом Кара-сертип. Ноздри его раздувались, усы топорщились, в глазах загорелась ярость, тяжелые руки сжимались и разжимались, старый вояка с чувством повторял:
— Прекрасно! Вот это удар! В самую душу. Ах, какой удар — разрубил доседла! Э-э-эх!!!
Ему бы коня сейчас, он бы им показал! Но всадники вдруг изменили направление, резко свернули на юго-запад. И кажется, уже близки были к цели — уйдут к своим, в пески, уйдут безнаказанными, как пришли, погуляв с сабельками, потешив душу, повергнув в изумление и оцепенение своих врагов. Уходили! Без единой царапины! Чистокровные ахалтекинцы уносили их словно на крыльях! Это было фантастическое зрелище. Кара-сертип за долгую жизнь, которую провел в боях и сражениях, впервые видел такое! Он жаждал встречи с такими рубаками, он, может быть, всю жизнь мечтал помериться силами с такими богатырями, он махал им вслед рукой, мол, сюда, сюда, и все повторял:
— Прекрасно! Ах как прекрасно!
Тут за спиной у него раздалось:
— Это еще что такое? — принц Хамза-Мирза, потягиваясь после сна, вышел на шум из своего шатра.
— Эссалам алейкум! — согнулся сразу Кара-сертип в низком поклоне, и голос его стал одновременно и сладок, и пискляв. — Эссалам алейкум, господин принц.
— Нет, я спрашиваю, — капризно показал пальцем принц на отдаляющихся четырех смельчаков, — что это такое, генерал?
— Мой господин! Сторожа остались в неведении… — забормотал бессвязно Кара-сертип, — вы же знаете, мы ждали с запада, они напали с юга… Всего три-четыре каких-то туркмена…
— Каких-то! — закричал принц, взмахнув широкими рукавами атласного халата.
Кара-сертип отшатнулся, показалось, что принц бросится душить его, спина покрылась потом, а ноги отказывались повиноваться. Но тут конь одного из смельчаков вдруг споткнулся, ударился о землю, сбросил седока. Трое же других, беды не заметив, прорвались через лагерь и вскоре исчезли, словно их и не было. Принц тяжелым взглядом посмотрел на своего генерала, покачал головой, но не сказал ни слова. Подхватив полы халата, поспешил принц с холма вниз, туда, где не его воины, а провидение, не иначе, остановило все же смельчака. Кара-сертип поплелся за принцем как побитый.
Человеку, которому так обидно, в двух шагах от спасения, не повезло, было около шестидесяти лет, но черная его борода только-только начала седеть. Был он высок и с виду грузен, трудно было поверить, что так легко махал он кривой саблей, сея смерть и ужас вокруг. Но это было так. Блоквил тому свидетель. Да и сейчас этот богатырь-туркмен в ярости метался вокруг поверженного коня, размахивая саблей, никого не подпуская. Взять живым такого — мудрено. Круг нападающих то почти смыкался вокруг него, то вновь он всех разгонял своей верной саблей. И уже многих задел. Стонали жалобно, когда подошел принц и шага на три от него отставший и испуганный Кара-сертип.
Туркмен как раз стоял в кругу, тяжело опираясь на саблю. Он устал, дышал тяжко, пот градом катился по лицу, но глаза сверкали по-прежнему дерзко. Теперь Кара-сертип за все унижения, за все страхи готов был разорвать туркмена. Вокруг настала тишина, и стало слышно, как тяжело дышит отважный воин, да конь его со сломанной ногой лишь жалобно стонал.
— Как звать тебя? — спросил принц.
— Келхан Кепеле.
— Хочется жить тебе на белом свете?
— Потому и пришел сюда туркмен с этой саблей, — и он устало приподнял клинок, — что очень жить хочется туркмену на белом свете!
— Тогда отдай свою саблю, — и принц, не сходя с места, протянул руку, ладонью вверх.
— Саблю отдам только вместе с рукой!
— Какой мужественный человек, — шепнул Блоквил Кара-сертипу на ухо.
— Мужественный враг хорош мертвый! — буркнул в ответ генерал и дал знак воинам.
Те стали таскать сухие кусты, селме, сыркана и саксаула, окружили высоким завалом смельчака и подожгли в нескольких местах. «Сейчас мы осмалим тебя! — грубо захохотал Кара-сертип. — Никуда не денешься!» Повалил густой дым, слышно было, как тяжко хрипел в дыму конь, как посылал сквозь стиснутые зубы проклятья своим врагам отважный Келхан Кепеле. И все ж не выдержал батыр, предпочел погибнуть в бою, чем задохнуться в дыму, и выскочил, размахивая верной саблей. Но глаза ничего не видели от едкого дыма, неверными были взмахи сабли, одолеть его было нетрудно.
— Ну, — ухмыльнулся Кара-сертип, когда подвели связанного по рукам и ногам смельчака, — теперь будешь говорить?
Келхан Кепеле глядел, не отвечая, на разгорающийся завал и горько качал головой.
— Коня спасите, — сказал он, — тогда буду говорить.
Коня спасли, растащив завал, а Келхан Кепеле подвели к принцу.
— Кто были твои товарищи? — спросил принц.
— Мои товарищи — свободные туркмены.
— Мы это знаем, — принц усмехнулся, добавив про себя: «пока свободные», — но имена, я хочу знать их имена! Чтобы запомнить!
— Ну что ж, — рассмеялся пленник, — запоминай, запоминай покрепче! Один из них Тачгок-сердар, другой Нуры-сиротка, третий Каушут-хан, ну, а четвертый — вот он — я.
— Каушут-хан? — в задумчивости переспросил принц. — Так вот оно что-о… Каушут-хан, — повторил задумчиво принц имя командующего всеми туркменскими войсками. — А знаешь, туркмен, я пощажу тебя… но для этого тебе придется вернуться к своему хану и передать наше повеление.
— Что за повеление?
— Сдать все оружие, всех лошадей…
— Остаться без оружия, остаться без коня?
— Если не хочешь без головы остаться, — ласково и ядовито перебил принц, — и если любишь голову своего хана, тебе придется передать такое повеление.
— Но голова у Каушут-хана, как вы только что видели, крепко сидит у него на шее, он сам к вам сегодня пожаловал — и вы ничего не смогли с ним поделать! Вот какой наш Каушут-хан! Он — первый хан на свете!
— Вы, туркмены, скотоводы, — вкрадчиво заговорил вдруг принц, — вы еще не знаете настоящих ханов, но вы еще узнаете их… когда покатятся ваши головы от наших сабель!
— Кто за собственную голову не возьмет одной вражеской головы — тот не человек!
Дерзость пленника не знала предела, словами с ним, видно, не справиться, и принц, затая досаду, махнул рукой: мол, делайте с ним что хотите, сам же к шатру пошел. Разговор утомил его и даже небольшой подъем к белоснежному шатру раздражал. Следуя мимо Кара-сертипа, принц нагнулся к его уху и, улыбаясь, сказал страшные слова: «А тебя за все это надо бы к лошадям привязать и…» — не докончил, лишь яростно взмахнул руками, воздух разрывая красным атласом, словно кровью плеснул в лицо дрожащему от страха генералу. И, не оглядываясь, зашагал к шатру.
На этот раз пронесло, но при мысли о столь страшной казни язык у Кара-сертипа на какое-то время отнялся, ноги к земле приросли, а в глазах туман стоял, похожий на красный атлас. Но вот туман рассеялся. Кара-сертип с трудом как бы стал узнавать все вокруг. И тут увидел он виновника всего этого неслыханного ужаса. Тот спокойно стоял перед ним и как бы даже усмехался, словно бы слышал все, что с ласковой улыбкой пообещал принц своему генералу: «Ну, так прежде же я тебя самого протащу, привязав к лошадям!» И Кара-сертип закричал страшным голосом, чтобы крепкие тащили веревки, что-бы коней вели поскорее. Да коней чтоб посильнее! Сам в нетерпении бросился пленника к тем коням могучим привязывать. Потом опомнился — все ж генерал он, веревки побросал, ругался, плетью командовал, слуг торопил.
И вот за ноги привязали бедного Келхан Кепеле между двух коней и разом ударили плетьми, рванулись сильные кони в разные стороны, и у Блоквила волосы встали на голове, разум у него помутился от страшного зрелища человеческой жестокости и человеческого мужества, а ноги держать отказались, и рухнул француз на каменистую, прожженную безжалостным солнцем чужую землю.
Дня через три после этого Кара-сертип захватил в плен шестерых туркмен. Убивать их ему не было смысла. Ведь, по самым скромным его подсчетам, около двухсот персов теперь находилось в плену у туркмен. И Кара-сертип надеялся эту шестерку обменять на своих людей.
Пленников не били, даже не ругали, но лучше бы их убили сразу. Кара-сертип придумал свой собственный «королевский спектакль». По его приказу всем шестерым обрили головы, бороды и усы. Брили тупой бритвой, и что вытерпели эти несчастные, одному аллаху известно. После этого, связав их всех одной веревкой, посадили на высоком берегу Мургаба, на самом солнцепеке. На солончаке, чтоб посильнее припекало!
Блоквил, кроме несчастной семьи чабана, еще не видел вблизи туркмен. Среди воинов была поговорка: «Если тебе встретится туркмен и злой дракон — убей сперва туркмена!» В Тегеране он слышал сам, как персидские матери пугали детей: «Спи, а то туркмен придет!» Людьми неполноценными во всех отношениях многие считали туркмен, людьми второго сорта.
Блоквил решил разглядеть их получше. Он пошел к Мургабу и увидел страшную картину. Трудно было поверить, чтоб человек так мог истязать человека. Солнце палило нещадно, бритые головы уже не кровоточили, покрылись кусками засохшей крови, по ранам ползали большие мухи. Спрятаться несчастным людям было некуда, они и пошевелиться-то могли с трудом — так крепко их связали. Воздух вокруг дрожал от нестерпимого зноя. Даже через солнцезащитный шлем Блоквил чувствовал, как жгло солнце. У него над бровями скапливались капельки пота, вены вздулись на висках, он слышал, как в них пульсировала кровь. Что же говорить об этих несчастных, которых он жадно разглядывал?!
Сначала все они, одинаково выбритые, казались неразличимо похожими. Приглядевшись же, он увидел, что один из них уже пожилой человек, четверо среднего возраста, а один совсем юноша, с чистым лбом и доверчивыми глазами. Обнаженные до пояса люди уже давно сидели под немилосердно палящим солнцем, но ни капли пота не выступило на их телах: все было выжжено смертоносными лучами, и жажда все сильнее донимала их. Спекшиеся губы шевелились, просили воды, глаза напряженно пожирали полноводные струи Мургаба, который плескался в десяти шагах.
Это были стойкие люди. Но вертикальные лучи все-прожигающими иглами вонзались в голые черепа, и до того, как помутится рассудок, было уже недалеко. Это ясно понимал Блоквил. Он сунул руку в карман и нащупал нож. Перерезать веревки было минутным делом, а дальше им только переплыть Мургаб, и они у своих.
Но два нукера маячили неподалеку, и Блоквил сдержал свой порыв, стал думать: «Конечно, я мог бы их освободить, хотя и сильно рискую. Я обещал не вмешиваться ни во что, и это официально записано в бумаге. И все же, постаравшись, я смог бы их освободить. Ведь матушка мне часто говорила: «Всегда помоги несчастному — это зачтется!» И я освободил бы их, но кто поручится, что завтра, напав на нас, один из них не снимет, глазом не моргнув, голову мою с плеч!» Пока он так раздумывал, два нукера подтащили к несчастным истерзанный труп мужественного Келхан Кепеле. Юноша-туркмен, лишь глянув, сильно побледнел и закрыл глаза. Блоквил заорал:
— Остановитесь, что вы делаете! Уберите, уберите это отсюда!
— Не имеем права, — несколько опешившие от крика воины отвечали Блоквилу, — Кара-сертип приказал — так будет с каждым туркменом!
Неужто с каждым?! Но за что? За что должны так страдать эти люди?! Стойкость их все больше поражала француза. «Какие это гордые, красивые люди! Особенно юноша, — подумал он. — Какие умные глаза у старика, как он подбадривает своих товарищей: отпускает шуточки, и те улыбаются, позабыв на минуту о страшных страданиях». Старик начал наизусть читать какие-то возвышенные стихи. «А говорили: какие темные эти туркмены!» Старик читал стихи, а остальные внимали с почтением и грустью. А солнце так жгло, что у Блоквила в глазах уже плясали миражи: шестерка связанных полуобнаженных, обгоревших людей порой уже казалась связкой сваренных в кипятке красных раков. Но это же были живые люди. Блоквил решительно направился к Кара-сертипу.
Но уже было время послеобеденного намаза, и теперь во всем войске не было человека, который не встал бы на намазлык. Блоквил знал, что послеобеденный намаз продлится долго, и повернул обратно к пленникам. Опасаться было некого. Но он торопился, боясь, что опоздает и будет поздно. К счастью, все шестеро были живы. Старик туркмен, едва открывая опаленный рот, пел какую-то мужественную песню, в такт песни покачивались его товарищи, связанные одной веревкой. Их лица, несмотря на невероятные страдания, были сосредоточены и ясно выражали, что лучше они умрут в жестоких мучениях, чем пойдут на поклон к врагу.
Блоквил быстро перерезал веревку, и совершенно обессиленные туркмены ползком, извиваясь, полезли к реке. Блоквил вернулся в свою палатку, лег на койку, словно ничего не произошло. Сердце так билось, словно вот-вот выскочит. А намаз еще продолжался.
Принц Хамза-Мирза, по-прежнему не предпринимая военных действий, развлекался скачками, охотой на фазанов, вечерами при свете костров устраивались состязания борцов. Когда же затихал лагерь и наступала ночь, из черных песков ползли босоногие туркмены. Вязали персов сонных, утаскивали в пески, а тех, кто не вовремя проснулся, резали, как овец. За два месяца около тысячи человек потеряли персы, но что такое тысяча из сорока! Войско по-прежнему было огромным, и принц ждал, когда туркмены сдадутся сами. Разобщенные племена туркмен, даже самые крупные, не могли собрать более двух-трех тысяч воинов. Где ж им было тягаться с сорокатысячной армией! Тактика персов была проста — истреблять племена поодиночке, одновременно натравливая их одно на другое. Принц Хамза-Мирза ждал своего часа.
Но в начале сентября в старую крепость на правом берегу Мургаба, где укрепился Каушут-хан, стали съезжаться командующие отдельными племенами: теке, сарыков, салоров.
Решено было покончить с собственной враждой, по крайней мере до тех пор, пока на туркменской земле будет хоть один перс. Общими силами укрепили старую крепость, мало того — выстроили повыше на берегу новые укрепления, с таким расчетом, чтобы вражеские пушки не смогли достать.
На совещании у Каушут-хана был разработан в деталях план военных действий против захватчиков. Все горели желанием немедленно сразиться с неприятелем и все же, хоть и не надеясь на благоприятный исход, решили послать принцу Хамза-Мирзе посла: может, сам уйдет подобру-поздорову, зачем кровь проливать понапрасну. Пахать, сеять, скот пасти надо, а тут воевать приходится. Долго спорили, кто отвезет принцу письмо Каушут-хана, кто добровольно отдаст себя в лапы беспощадного Кара-сертипа. О кровожадности первого генерала принца ходили среди туркмен легенды.
— Я передам! — сказал бесстрашный Тачгок-сердар, старинный друг Каушут-хана, не раз плечом к плечу сражавшийся вместе с ним и с хивинцами, и с бухарцами.
Да, совсем недавно, с месяц тому назад, снова вместе — с такими же бесстрашными Нуры-сироткой и Кел-хан Кепеле — напали они ранним утром на многотысячное войско захватчиков и много голов порубили. Потеряли батыра Келхан Кепеле, жаль до слез Каушут-хану батыра, все головы персов нечестивых не стоят его одной головы. И вот теперь приходится отпускать Тачгок-сер-дара, придется ль еще свидеться, аллах один знает. Каушут-хан вздохнул:
— Поезжай, больше некому! Письмо письмом, а когда к письму еще такой батыр, как Тачгок-сердар, весомее письмо будет. Наверное, еще не забыли, какая могучая рука у Тачгок-сердара, какая в этой руке сабля острая, какой конь под ним крылатый! Поезжай!
И 14 сентября к шатру принца, собравшегося как раз на охоту за зайцами в пески Попушгум, подвели высокого худощавого туркмена, в черной мерлушковой шапке, длиннополом синем халате, подпоясанном пуховым кушаком.
— Эссалам алейкум, хан-ага! — приветствовал пришелец. — Я посол Каушут-хана, зовут меня Тачгок-сердар.
— Знаю, знаю, — ласково ответил принц, распорядившись, что охота на сей раз отменяется, — я думал, посол, что ты придешь еще месяц назад.
«Он же как раз месяц тому назад и приходил сюда с товарищами», — усмехнулся Блоквил. Француз внимательно следил за принцем, не мог же на самом деле он забыть о том позоре, когда четверка смельчаков повергла в трусливую растерянность его войско! Но принц был ласков, светел лицом, казалось, излучал саму доброжелательность. Как же! Его тактика выжидания наконец дала свои плоды.
— Ты хочешь сказать, посол, что Каушут-хан образумился и понял, что мы сильнее?
— Читай, — не отвечая на вопрос, посол протянул письмо.
Принц осторожно взял свиток и передал генералу. Кара-сертип развернул его, откашлялся и стал читать:
— «СООБЩЕНИЕ ОТ ЯЗЫКА И СЛОВ КАУШУТ-ХАНА. О ХАМЗА-МИРЗА, О КАРА-СЕРТИП, О ВСЕ ПРИНЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ!
ВЫ ВОЗГЛАВИЛИ ВОЙСКО ШАХА НАСРЕДДИНА И ПРИБЫЛИ СЮДА С БОЛЬШИМ СНАРЯЖЕНИЕМ, НЕ ПЕРЕДАВАЯ НАМ НИКАКИХ ИЗВЕСТИИ, ЧЕМ ВЫ В ТЕЧЕНИЕ ПОЧТИ МЕСЯЦА ЗАНИМАЕТЕСЬ В СТАРЫХ РАЗВАЛИНАХ. ЕСЛИ ВЫ НАМЕРЕНЫ ДРАТЬСЯ, ТО ПРИХОДИТЕ, БУДЕМ ДРАТЬСЯ. НО ЕСЛИ ВЫ ПРИБЫЛИ В СТАРЫЕ РАЗВАЛИНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПАСТИ СВОИХ МУЛОВ, ТО НЕ РАЗОРЯЙТЕ НАШИ МАРЫЙСКИЕ КРАЯ И ПОСКОРЕЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НАЗАД! РАЗВЕ ДЛЯ ПАСТЬБЫ МУЛОВ В ВАШИХ КРАЯХ МАЛО СТАРЫХ РАЗВАЛИН?»
По мере чтения улыбка покидала лицо принца, а голос Кара-сертипа угасал. Бравый генерал думал, что принц не выдержит такого позора, тут же прикажет отрубить голову послу, а заодно и ему, за то что вслух при всем народе такое прочитал письмо. Да еще и с выражением! Да еще так громогласно! Но принц сдержался и на этот раз, эти туркмены — крепкий орешек, подумал, дядя-шах предупреждал его в Тегеране, ну что ж, тем почетнее будет победа.
— Хорошо, — медленно произнес он, — скажи своему хану, будем драться! И тогда уж пощады не ждите!
— Каушут-хан уже два месяца к бою готов!
— Вон как! Ну, а если готов, то ждите! Я, принц Хам-за-Мирза, покажу ему! О, да поможет нам аллах!
— Мы тоже к аллаху взываем, хан-ага!
— Слава аллаху!
— Воистину, слава аллаху!
Француз смотрел во все глаза, слушал во все уши — смертельные враги взывали к одному аллаху и серьезно верили, что один лишь он им поможет разбить врага. Кому же все-таки аллах поможет?! Хотел бы это знать француз Блоквил, ведь, собственно, от этого теперь зависело не только его благополучие: домик на берегу моря, добрая жена-хозяйка, розы, которые он мечтал выращивать. От этого теперь зависела сама жизнь его. Но аллах-то один!
Принц решил выглядеть благородным, посла отпустили с миром и стали срочно готовиться к выступлению. А через два дня, то есть уже 16 сентября, в Мары не осталось ни одного человека. Люди, животные, повозки, пушки — огромная армада, неостановимая, несокрушимая, стала двигаться на запад по берегу Мургаба. Играли трубы, развевались знамена, ржали кони и танцевали под всадниками, всем надоело сидение, смрад надоел, душа жаждала хоть каких-то перемен.
Человек двести, с музыкантами, знаменами, двигалось чуть впереди основного войска. Настроение у всех было приподнятое, с утра было прохладно, воздух был чист, искрился синевой. Впереди сражение — эта мысль и бодрила, и будоражила. Конь под принцем так и ходил ходуном, словно бы чуял настроение хозяина. А принца и самого тянуло пришпорить коня, дать ему волю да проскакать галопом впереди всех. Тянуло на мелкие проказы. Да и остальные из свиты, принцу под стать, вели себя как расшалившиеся дети.
Проезжая оставленные туркменами аулы, стреляли по чугунным казанам. Звук был неправдоподобно гулким, каким-то подземным, и это всех радовало. Или заключали пари, кто на полном скаку продырявит висящий на дереве бурдюк с кислым молоком. Кара-сертип прямо-таки не находил себе места, словно предчувствовал что-то ужасное, руки у него так и чесались: даже мимо виноградника не мог спокойно проехать — рубил лозу налево и направо. Когда увидел собаку на пригорке, очень обрадовался.
— Господин, — окликнул он француза, видишь собаку на пригорке? А можешь ли одной пулей уложить ее, чтоб и не взвизгнула?
— Зачем же убивать безвинную тварь? Это ж не враг.
— Даже собака врага — наш враг! — многозначительно произнес генерал Кара-сертип. — А потом… мне просто хочется ее ухлопать!
И опять француз с горечью вынужден был признать, что душа азиата как была для него потемки, так и останется, и, вздохнув, он решил не вмешиваться И Кара-сертип выстрелил, пуля попала в хвост, собака пронзительно взвизгнула, волчком завертелась на месте, потом кубарем скатилась с холма, ударилась о ноги коня Кара-сертипа. Конь шарахнулся в сторону, да так резко, что Кара-сертип от неожиданности вывалился из седла. И тут, уже лежа, с проклятьями вторым выстрелом добил собаку. Все постарались сделать вид, что ничего такого не произошло, генералу подвели другого коня, он уселся, но дальше ехал в угрюмом молчании.
Укрепление туркмен на правом берегу Мургаба было действительно вполне готово к бою. Это было ясно даже французу. Выше старого укрепления возведено добротное новое, две желтые пушки, недавно отбитые туркменами, поблескивая на солнце стволами, теперь направлены были на персов. Все еще было жаль невинно загубленную собаку, и Блоквил сказал негромко Кара-сертипу:
— Теперь туркмены будут стрелять по персам из их же пушек.
— Даже если мы отдадим оставшуюся у нас тридцать одну пушку, — презрительно сказал Кара-сертип, — то и тогда ни один волос не слетит с нашей головы, туркмен же никогда не сумеет воспользоваться пушками, он же просто не знает, темный туркмен, с какого конца ее заряжать.
Тут обе пушки выстрелили, и мулу, что стоял метрах в двадцати от них, оторвало голову.
— Пожалуй, — спокойно произнес француз, — следующий залп будет наш.
— Я сейчас им покажу залп! — Кара-сертип выругался и приказал стрелять из всех орудий.
Дымом и пылью заволокло все вокруг, а когда канонада смолкла и воздух прояснился, стало ясно, что позиции туркмен находятся в более выгодном положении — гораздо выше — и поэтому почти не пострадали. Приунывшие персы стали рыть окопы. Туркмены же, численностью около тысячи, вышли из крепости и, разделившись на две группы, стали спускаться к реке.
День был такой славный, умеренно жаркий, белые тучки текли над хребтом, жаворонок распевал, а на правом берегу спокойно, словно мирным делом занимаясь, туркмены вязали камыш, несли бревна из крепости — быстро строили переправу.
В полукилометре ниже по течению вторую переправу из одного камыша стал возводить второй отряд. Закинув за спину свои хырлы — ружья, туркмены серпами срезали высокий камыш, вязали снопы, укладывали снопы внахлестку, крепко увязывали, а когда переправа была готова, сотни три стрелков перешли по ней, почему-то отправились на юг и быстро исчезли за барханами.
Не верилось, что в этот день произойдет что-либо ужасное. И в то же время Блоквил понимал, что все идет к тому, его поражало, что военачальники со странным равнодушием взирали на все действия туркмен. Разумеется, все можно объяснить азиатской невозмутимостью, но не видеть надвигающейся опасности было никак нельзя. С другой стороны, персов в десять раз больше — и напасть на них вот так, среди бела дня, было бы безумием. Так думал Блоквил, оправдывая невозмутимость принца и его генералов. И в то же время все время помнил, как всего лишь вчетвером эти непостижимые люди напали на целое войско. Короче, Блоквилу казалось, что он чего-то не понимает, что на самом деле происходит что-то другое.
Но, к сожалению, все оказалось до примитивности просто. Часа через три переправа была готова, окопы же персы вырыли лишь наполовину. И по мосту всадники-туркмены среди бела дня пошли в атаку. Пожалуй, к этому был не готов не только Блоквил. Правда, кто-то успел вскочить на коня, кто-то воткнул треногу, успел прицелиться из шемхала, даже пулю пустить в мчащуюся лавину туркмен. Но это как укус комара. Атака джигитов средь бела дня была дерзка и неожиданна, начался рукопашный бой, и тут уж тот уцелел, кто проворней был, у кого сабля быстрей в руке мелькала, у кого конь настоящий.
Налетели джигиты, ударили — и тут же назад отступили, увлекая персов за собой. И еще раз налетели, и еще, кусая, как оса. И когда персы за ними потянулись, по-настоящему ввязались в бой, второй отряд перешел ниже по течению и по знаку из крепости с тыла ударил.
Кара-сертип кричал своим, чтобы вернулись, он видел сверху, от шатра принца, как второй отряд, сабель в триста, ударил с тыла. Но было поздно отходить, ведь тут и первый отряд туркмен, подмогу почуя, поднасел, навалился и так, зажав персов с двух сторон, стал их на юг оттеснять. Как раз туда, где залегло сотни две стрелков. Кара-сертип как увидел это, закричал, чтоб пушки поскорее повернули на второй отряд, проход для своих расчистить. Пушки повернуть успели, но тут же откуда-то сверху, с барханов, защелкали частые выстрелы. У туркмен ведь по двое на одно ружье — один заряжает, другой стреляет. Вот почему такой густой был огонь. Орудийная прислуга была перебита, а тут и отряд с гиканьем налетел. Ну и пошла потеха!
Кара-сертип схватил знамя и во главе отборного отряда личной гвардии — таких же, как и он, головорезов — бросился в самую гущу на помощь. Дело в том, что долина, где бой начался, была узка для многочисленного персидского войска, большая часть которого просто не могла в этой тесноте принять участие в сражении и была вынуждена, как Блоквил, лишь наблюдать. И туркмены хорошо понимали это, тактика их была проста и рациональна: по частям рассекать персов и уничтожать.
Когда Кара-сертип ворвался в самую гущу боя со своим отрядом, кажется, чаша весов стала клониться к персам. Их яростные крики усилились, но не дрогнули туркменские батыры, с грозным уханьем рубили врагов. Стонали раненые, трещали, как детские хлопушки, пистолеты, там и тут раздавались возгласы, призывающие аллаха, звон боевой трубы, лязг сабель — все это смешалось в одну смертельную кутерьму. Носились обезумевшие лошади, потерявшие своих седоков, ревели мулы, скользко было от дымящейся крови. И лишь мертвые были спокойны.
Как ни старался Блоквил, не мог разобрать: кто же побеждает? Кроме того, приходилось все время быть начеку. Ведь даже здесь, у шатра принца под главным знаменем, в окружении отборных воинов, никак нельзя было до конца спокойным быть. То слева, то справа прорывались сюда смельчаки туркмены в необоримой жажде завладеть главным знаменем, а может быть, и силою помериться с самим принцем. Их, конечно, безжалостно рубили, шелковое знамя развевалось, но смельчаков не убывало. В основном все — безрассудные, молодые джигиты, совсем юноши, Блоквилу было жаль их, таких молодых и горячих. И в то же время он понимал: прорвись они сюда, не поздоровилось бы не только принцу, но и ему, в сущности-то ничего плохого не сделавшему туркменам. И от этого под сердцем у него все время возникал сосущий холодок.
Каушут-хан со стены видел все как на ладони. У него был последний резерв — человек двести испытанных воинов. Отряд в томительном напряжении ждал, отряд рвался в бой на выручку своим. Каушут-хан ждал. Проиграть сражение он не мог. И, словно понимая это, все женщины в крепости молили аллаха о победе. Но молитва молитвою, и, помолившись, женщины в чугунных казанах плавили свинец, отливали пули для своих мужей и братьев, их дети не отходили от них весь день — тоже помогали. И все поглядывали на Каушут-хана: чего ж он ждет? Уже темнело, и стрелки, залегшие в засаде, могли так и пролежать без дела, а персов все никак не удавалось на юг оттеснить. И Каушут-хан понял: пора! Сам вскочил на коня, повел за собой отряд. И ударил по самому центру, и смял центр персов, и тут уж не рукопашный бой начался, а свалка, убитые не сразу падали — так тесно было, — и многие, отбросив сабли, схватились за ножи. И вот потихоньку, шаг за шагом стали теснить на юг персов, туда, где залегли стрелки. Дождались и те своего часа.
Но конца боя досмотреть Блоквилу не удалось, в одной из свалок возле шатра удар прикладом ли, копыта ли коня повергли в беспамятство француза. Когда ж очнулся, все кончилось уже. «Жив я, ну и ладно», — радостно подумал он, приподнимая тяжелую голову. Холм был завален трупами, и сначала Блоквил их принял за бревна. Что денег он не заработает в этой военной экспедиции, то было ясно. Авантюра эта была военная, а не какая-то экспедиция! В Париж бы живым вернуться! — вот о чем думать надо французу.
Старику показалось, что принц хотел сказать что-то другое, совсем не про овец, и, моля судьбу, чтоб речь шла действительно лишь об отаре, затягивая непроизвольно страшный разговор, переспросил:
— Говоришь, половина отары?
— Да, — высокомерно отвечал принц, — именно так — половина.
— Если аллах позволит, то можно съесть и всю отару.
— Вон как? — принц вскинул тонкие брови: — Ну, а если аллах не позволит?
— Это один аллах знает, — старик сложил смиренно руки.
— Ну, а если это знает лишь аллах, — принц зевнул, решив, что пора кончать комедию, — тогда давай, чабан, войдем в дом.
— Пошли, угостим чем богаты, — и чабан гостеприимно показал на правую кибитку.
— Ах, старик, старик, разве ж ты забыл туркменскую пословицу: «Справа — заминка, слева — радость!» И мы, прибывшие сюда на большое дело, разумеется, предпочтем из этих двух впервые встретившихся нам на туркменской земле домов конечно же левый! Пусть нам сопутствует удача, а? Старик? Долой сомнения, не так ли!
— Сомнения лишают веры, о гость достопочтенный! — воскликнул старик, уже не очень соображая в лихорадочной смуте, душу охватившей. — Но там, где гостя принимают от чистого сердца, даже дурные мысли добром оборачиваются.
— Вот как, — принц прищурился, и легкая усмешка тронула бескровные губы, — что ж, верные слова, старик… тебе зачтется, — и решительно протянул руку к пологу левой кибитки.
— Да нет же, нет! — старик суетливо забежал вперед и встал перед принцем. — Мы не потому не приглашаем дорогих гостей в эту кибитку, что «справа — заминка», а лишь потому, что эта кибитка у нас женская, и… нехорошо заходить в дом, где находится женщина, хан-ага… — голос старика задрожал.
А голос принца, наоборот, словно окаменел, был строг и громок.
— Да ты что, старик! — Поддержав его за локоть, внезапно ласковым голосом заговорил тут принц: — Я не нуждаюсь в твоем богатстве… У меня, поверь, хватает своего. Да мне стоит лишь чихнуть — и сорок таких кибиток будут здесь стоять, да что там сорок — сотня, тысяча! Мы… мы просто хотим зайти, поздороваться, кибитку осмотреть… и все.
И старик успокоился, благодарил уже аллаха, удержавшего его руку, потянувшуюся к ножу. А о ноже все же помнил: тут он, за поясом. Дай, аллах, чтоб и дальше так все кончалось хорошо… а уж он накормит славным ужином гостей, барана не пожалеет!
И полог был откинут, и вошли. Невестка переоделась, в углу сидела в старом платье, накрывшись паранджой. Накрылась хорошо, но все же немного была видна нога, тряпье лишь подчеркивало упругость, юность белого тела. Принц задышал заметно и, сделав шаг вперед, слегка нагнувшись, быстро сказал:
— Лицо, лицо хочу увидеть.
— Увидеть лицо никак нельзя, — спокойно произнес Мамед, ничего не подозревающий еще.
— А что, если мы это сделаем, у тебя не спросив? — ласковым голосом произнес принц, оборачиваясь с жесткой усмешкою на губах к Мамеду и от этого становясь очень похожим на кошку, играющую с пойманной мышкой в смертельную игру.
Старик, беду на пороге чуя, сильно оттолкнул сына и торопливо заговорил:
— Конечно же можно, не обращайте, хан-ага, внимания, юноша погорячился, уж простите его как-нибудь. Да, туркмены до самого возвращения невестки заворачивают ее в бархат, такой уж обычай наших отцов, и не нам его менять. Но друзья-товарищи парня все же могут смотреть лицо невестки. Так что будем считать, что вы тоже товарищи моего сына Мамеда.
— Отец! — воскликнул Мамед.
Но старик, внимания на него не обращая, к невестке обратился.
— Детка, повернись сюда и… покажи дорогим гостям свое лицо. Повернись, повернись, моя хорошая, — ласково уговаривал он, — а я даже и не взгляну на твое лицо, повернись! — Мольба и стыд были в его словах, он чувствовал себя самым несчастным на свете человеком, наверняка не было среди туркмен свекра, обратившегося о такой позорной просьбой к своей невестке.
И она — невестка, — забившись в угол, теперь не знала, что и делать. Женщина, ни разу в жизни не заставившая себя просить дважды, не знала, что ей делать, разрываясь между свекром и мужем и в то же время женским чутьем понимая, что свекор прав.
— Да она у тебя никак глухая! — захохотал, желая принцу угодить, Кара-сертип.
Принц кивком головы одобрил грубую шутку и сделал еще полшага к невестке. Но тут Мамед стремительно нырнул под руку отца и оказался между женой и принцем. Туда же, в угол, ринулись телохранители, но их опередил старик, быстрее всех там оказался, коротко крякнул, размахнувшись (принц в страхе отшатнулся), но старый чабан ударил сына и со слезами в голосе воскликнул:
— Огульджерен, невестка моя, твой свекор не думает о твоем позоре, сделай так, как я говорю, сделай, сделай, заклинаю тебя во имя аллаха! — он трясся перед ней как в лихорадке.
Сын в изумлении стоял, все еще держась за щеку. И Огульджерен все поняла, откинула паранджу. Старик, схватившись за пояс, запрыгал от позора на его седую голову: думал ли он когда-нибудь дожить до такого? Тут вскрикнула Огульджерен, принц уже тянулся к ней руками. Мамед бросился на помощь к жене и тут же грузно стал оседать. Телохранитель был начеку, играючи свалил Мамеда, в висок ударив точно. Вот и забыл обо всем старик, выхватил свой верный нож, чтоб детей защитить. Да только силы с годами уж не те, и проворен не так, лет двадцать — тридцать скинуть бы, а так… ку-у-да… В глазах потемнело, а когда очнулся — лежит рядом с сыном. Принц держит правую руку на весу, с руки медленными каплями стекает кровь. Какая-то сонная улыбка бродила на тонких губах принца, внимательно разглядывавшего свою руку. Вокруг стояла гробовая тишина. Тех, что оставались снаружи, и привлекла эта внезапная тишина, они стали подходить к решетке, заглядывать внутрь. Среди подошедших был и француз.
Заглянув в кибитку, он поражен был красотой Огульджерен. Забившись в угол, она совсем забыла про открытое лицо, большие влажные глаза ее сверкали, она порывисто дышала, черные волосы оттеняли прекрасную бледность щек, на нижней губе осталась капля крови. И, эту каплю вдруг разглядев, принц внезапно почувствовал настоящее удушье.
— Постой же, сучка, — зубы его стучали, как в ознобе, — я превращу твои пухлые губки в пасть собаки, лизавшей с благодарностью кровь своего хозяина!
Мамед весь дернулся от этих слов, вскочить пытался, но острый кинжал, упершись в бок, остановил его. Движение юноши не прошло незамеченным.
— Привяжите обоих к тяриму[101]! — приказал принц. — Пусть-ка посмотрят спектакль, который дают настоящие принцы.
— Что это за спектакль принцев? — спросил француз генерала Кара-сертипа, стоящего рядом. — Я что-то никак не пойму.
— Если еще не понял, — с непонятным французу восторгом отвечал генерал, — сейчас поймешь, сейчас все-о-о поймешь. — Кара-сертип потирал в возбуждении руки. — Гляди, гляди, ну, гляди же, — чуть не плача шептал он в самое ухо французу, приподнимаясь на носки, чтобы получше разглядеть то, что делалось в кибитке.
А там отца и сына поставили по углам, заломили руки и крепко привязали к тяриму. После этого принц стал расхаживать между привязанными мужчинами и забившейся в угол дрожащей Огульджерен, ходил и смотрел себе сосредоточенно под ноги. Потом вдруг быстро подошел к старику и сильно дернул его за бороду. Что может быть позорнее для туркменского яшули![102] Старый чабан заплакал и стал просить аллаха о смерти, но аллах не слышал, и старику пришлось испить чашу позора до конца.
По знаку принца дюжие телохранители, похохатывая, подталкивая друг друга, засучили рукава и пошли в угол, где, скорчившись, дрожащая, готовая уменьшиться до невидимых размеров, сидела Огульджерен.
— Проклятые изверги! — пронзительно закричала она. — Если вам меня не жаль, пожалейте хотя бы ребенка, который еще не родился!
Первый раз за всю жизнь старик услышал крик своей невестки. И в этом крике не было стыда, в нем боль за его будущего внука. Старику показалось, вместе с матерью кричит сам младенец. Месяца три, месяца четыре ему всего-то, и вот — он должен умереть, так и не узнав, чей же он внук. Умереть, еще не родившись. А самые близкие ему люди стоят привязанные к тяриму и ничем помочь не могут. Никогда не услышит старый чабан желанное слово «дедушка». И дрогнуло мужественное его сердце. Словно ртуть поднялась, замутила голову. Застонал старик:
— Алла-ах, аллах-джан! О милостивейший аллах! Пожалей хотя бы невинного младенца, джан-аллах…
Стены кибитки задрожали, казалось, от этого стона стены готовы были развалиться. И только человек не сжалился над человеком. Рука черноусого нукера уже опять тянулась к Огульджерен. Старик закрыл глаза. Но рука не успела коснуться, молодая женщина с такой силой толкнула черноусого, что тот отпрянул, зашатался. Принц Хамза-Мирза, увидев это, зло рассмеялся: «А ну, попробуй с другой стороны!»
Черноусый бросился на Огульджерен с другой стороны, сейчас уж он ей покажет, отомстит за позор, за то, что так зло смеется над ним его повелитель. Но и опять он цели не достиг, отброшен был в угол кибитки и долго не мог в себя прийти. Ведь на этот раз его толкнула не женская рука, а пнул Мамед — защитник, муж. Собрал все силы и пнул, когда черноусый оказался вблизи. Другой слуга ударил плетью Мамеда по лицу, еще хотел ударить, но принц знаком приказал — не надо.
Теперь за дело взялись двое слуг. Один слева, другой справа кинулись на Огульджерен разом. И как она ни отбивалась, одному из слуг удалось схватить ее за волосы. Теперь, словно верблюдица, отдавшая свои поводья, она была вынуждена склониться в ту сторону, куда ее сильно тянули за волосы…
Гулибеф де Блоквил, как истинный парижанин, ринулся было в благородном порыве на помощь, но тут же и поник. У шаха Насреддина осталась бумага, запрещавшая ему вмешиваться в любые действия персов. И все же не бумага его сейчас остановила. И без бумаги понимал Блоквил: ворвись сейчас со своим красивым пистолетом в кибитку, слетит ведь его русая голова, не задумываясь, срубит ее черноусый нукер-телохранитель. И, вздохнув, Блоквил взял под руку генерала:
— Пойдемте, генерал, прогуляемся немного.
Тот выдернул руку и странно поглядел на француза: мол, с ума ты, что ли, сошел, тут сейчас столько интересного будет, а ты!
Голубые глаза генерала, с жадностью смотрящие внутрь кибитки, подернулись масленой пленкой, усы топорщились, дрожали от удовольствия. Сам он привстал на цыпочки, все тянулся, тянулся, уже почти парил… он уже был там, в кибитке… Тогда француз изменил тактику и сказал:
— А как вы думаете, понравилось бы господину командующему, если бы он вдруг увидел, что мы подсматриваем за ним?
— Почему же подсматриваем? — грубовато переспросил Кара-сертип. — Мы же просто смотрим.
Но чувствовалось, что Кара-сертип не уверен, и француз продолжал:
— Да, конечно, мы просто смотрим, но ведь если бы принц пожелал, то пригласил бы нас в кибитку, а так… получается, что подсматриваем.
— Да, — пробормотал генерал, и на его низком, чуть сплющенном по бокам лбу появилась одинокая морщина.
Он почти не сопротивлялся французу, крепко держащему его за локоть. Как только они отошли от кибитки, Блоквил спросил с серьезной деловитостью:
— Как там насчет пороха, генерал? Его, надеюсь, у нас достаточно?
— Хватит, — угрюмо отвечал Кара-сертип, вытирая с лица обильный пот, выступивший от волнения.
— Ну, а все-таки? — не отступал француз. — Нельзя ли поточнее узнать, сколько верблюдов загружено порохом?
— Больше тысячи.
— А-а… поточнее нельзя ли, мой генерал?
— Поточнее? Сегодня у нас что?
— Пятница.
— Пятница? Очень хорошо. Так вот, количества пороха хватит от этой пятницы до следующей пятницы, если мы будем непрерывно стрелять днем и ночью из всех тридцати трех наших пушек! Да что нам ломать голову из-за этого? Ты, господин, хоть и много учился, туркмен не знаешь, и потому лишь кажется тебе, что идешь на опасный бой. Да чтобы поставить на колени Мары, совсем нет необходимости вот так ломать голову, — и Кара-сертип оглянулся на кибитку, из которой доносился шум борьбы, крики мужчин, визг и вой несчастной женщины.
Потом грозный окрик принца: «С женщиной справиться не можете — что же будет с вами, когда встретятся мужчины!» И снова шум, крики, протяжный женский вой, от которого Кара-сертип задрожал в возбуждении, а Блоквил, увлекая его все дальше, говорил:
— А я ведь и в самом деле думал, что мы идем на опасный бой.
Генерал покривился в досаде:
— Да говорю же тебе, ты ошибаешься — племя туркмен не знает, что такое настоящая война, что такое железная дисциплина, не знает тактики, а тем более стратегии современного боя.
— А почему?
— Почему? — генерал с усмешкой поглядел на француза. — Да ты сам подумай, откуда у народа, у которого нет ни одного генерала, будет разумение о таких высоких материях, как тактика, как стратегия. Нет ни одного генерала, — и Кара-сертип многозначительно покачал пальцем перед носом француза, — а тем более нет и быть не может полководцев, подобных нашему принцу Хамза-Мирзе.
— Ну, хорошо, и все-таки я не могу понять, чего же добивается шах Насреддин, ставя Мары на колени?
— И не поймешь, — самодовольно ухмыльнулся Кара-сертип, — потому что не перс, а француз, француз, не испытавший подлых ударов от этих нечестивых туркмен. Да ведь они же чуть ли не каждый день нападают на нас, грабят аулы, увозят наших женщин.
— Итак, за отдельные пограничные набеги, которые сплошь и рядом случаются на любой границе, причем, заметь, мой генерал, набеги как стой, так и с другой стороны, не правда ли? И вот за это теперь надо покорять навсегда целый народ? Может быть, лучше бы провести переговоры?
— Ха! Переговоры! Переговоры с туркменами! Дипломатия! — презрительно скривил губы Кара-сертип. — Бей, жги, уничтожай — вот лучшая дипломатия! И Мары будет на коленях. Ты еще, француз, не знаешь туркмен — это ж темные, трусливые людишки, да если бы мне дали всего две желтые бомбы и тысячу, да нет, пятьсот всего солдат, я бы и с ними стер Мары с лица земли, да я бы…
Тут из кибитки донесся крик, мало похожий на человеческий, и генерал на полуслове оборвал себя. Губы его расплылись в улыбке, глаза стали маслеными, он всей душой был там, в кибитке, с принцем заодно, заодно с насильниками-телохранителями. Это так явственно было написано на его лице, что небезопасное желание дразнить и дальше генерала и тем хоть как-то наказать его за соучастие — пусть лишь в душе — в страшном преступлении— это желание усилилось в Блоквиле, стало почти нестерпимым. Он жестко произнес;
— А как же несколько лет тому назад эти темные, трусливые туркмены разбили огромное хивинское войско? А за год до этого у Кара-Кала разбили самих персов, а? Неужели господин генерал забыл об этом?
Кара-сертип не знал, что ответить, он стал оглядываться по сторонам, словно там искал ответа, и, увидев мальчика с ножницами в руках, грозно крикнул: «Эй, как тебя зовут?»
— Иламан.
Кара-сертип хитро взглянул на француза и многозначительно, как будто в этом и скрыт был ответ на коварный вопрос, произнес с расстановкой;
— Оказывается, этого маленького туркмена зовут просто — Иламан.
Французу осталось лишь с легкой улыбкою пожать плечами. А когда они вернулись, из кибитки уже выходили запыхавшиеся, раскрасневшиеся, но весьма довольные собою и вообще окружающею жизнью принц и его верные телохранители. Принц, встретившись глазами с французом, не опустил своих, лишь прищурил надменно:
— Господин, как нравится тебе воздух Туркмении и вообще…
— Хороший воздух, — сдержанно отвечал Блоквил, — если б еще вода, то это был бы рай на земле.
— Поэтому мы и ждем от тебя, Гулибеф де Блоквил, подробнейшей карты всех здешних колодцев, арыков, источников воды, здесь родит не земля, а вода! Тебе обещано за это солидное вознаграждение, и я думаю…
— Если позволите, я отвяжу этих… несчастных.
— Освободи, освободи, — усмехнулся принц и, похлестывая слегка плетью по голенищу сапога, вразвалочку направился к отаре жирных овец, которую уже начали делить.
Быстро темнело, и Блоквил, зайдя в кибитку, не сразу разглядел людей. Бесформенной, изломанной грудой белело поруганное тело несчастной Огульджерен. Француз разыскал лохмотья платья и немного прикрыл наготу. Потом подошел к старику и перерезал веревки. Старый чабан закачался и, чтоб не упасть, схватился за решетку тярима. Француз хотел помочь, но старик с ненавистью выдернул руку и прохрипел проклятье.
— Я не виноват… — пробормотал Блоквил, направляясь к Мамеду.
Перерезая веревку, чувствовал тяжесть на сердце, ибо перед ним было не лицо, а черная маска. Но Блоквил никак не мог и предположить, что же произойдет дальше, а стоило лишь освободить человека от пут, как стал он падать, и Блоквил не успел удержать. Когда же нагнулся, пощупал пульс, все стало ясно — сердце не выдержало позора.
Блоквил, выйдя из кибитки, огляделся. Над Хорасанским хребтом зажглась вечерняя звезда, тишина с небес опустилась, густели прохладные тени. Предчувствие истины, которая где-то совсем рядом, охватило Блоквила. Он замер, вслушиваясь с напряжением в себя, всматриваясь в себя, но ничего, кроме страстного желания жить, жить, жить… в себе не обнаружил… Принц с приближенными скакал к белому шатру, раскинутому на самой вершине холма. Его красный плащ в сумерках сделался черным. Такая же черная смута переполняла все существо француза. Совсем не таким представлялось начало военной экспедиции там, в Тегеране.
Когда в середине апреля торжественно выступили из Шах-Севента, Блоквил часа на три задержался в посольстве и потом нагонял армию уже один. Дорога была пустынна, небо высокое, прохладное. И в то же время словно бы какое-то напряжение было явственно разлито вокруг. Или всему причиною была дорога, бегущая перед ним, еще не оправившаяся после только что прошедших по ней многих тысяч людей. Попадались часто то тряпка, то подкова, лужи мочи, обрывки ремней. Но вот то вдали, то вблизи из кустов стали выходить на пустынную дорогу простые дехкане с мотыгами на плече. Спрашивали несмело, вся ли армия уже прошла или будет еще идти. И тут увидел Блоквил, что простой народ боится собственной армии, грабящей без разбора и чужих, и своих. Невеселый этот эпизод позабылся было во время похода, где все впервые было для француза. И вот… вспыхнул подобно вечерней звезде над Хорасанским хребтом… А над хребтом уже зажглась звезда, вторая, третья вспыхнула за ней… за сумерками ночь спешила. От колодца с ножницами в руках шел к дому маленький Иламан. Чтоб не услышать детского крика, который непременно раздастся, как только Иламан войдет в кибитку, Блоквил вскочил в седло, пришпорил лошадь. Показалось и этого мало, он сильно хлестнул плеткой, но крик догнал его и еще долго-долго потом стоял в ушах.
Хорошо отдохнув и оставив часть провианта у развалин Порсугала, персидское войско налегке стало быстро продвигаться в глубь страны и уже шестого июля 1860 года оказалось на левом берегу Мургаба в самой непосредственной близости от крепости Мары. Дул афганец, и в течение тринадцати дней, кроме легкой перестрелки, военных действий не было. В ночь же на 19 июля туркмены покинули вдруг крепость, и принц Хамза-Мирза, поставив впереди войска многочисленных музыкантов, развернув боевое знамя, торжественно вошел в город. Этот день решено было отныне считать днем поражения непокорного Мары, и многие вилайеты Персии с пышной торжественностью отметили победу.
Правда, основные силы туркмен, покинув город, ушли без потерь на запад, в пески, и следы их затерялись в барханах. Так что шах Насреддин вряд ли будет доволен захватом пустого города. Это хорошо понимал принц Хамза-Мирза, но предпринимать какие-то действия не спешил.
Сорок тысяч человек ело, пило, играло в кости, нарды, а в основном бездельничало. О какой-то санитарии никто при этом не заботился, так что вскоре жить в крепости стало невмоготу. Принц приказал перенести свой шатер в самый центр загородного военного лагеря, расположенного на небольшой песчаной возвышенности.
Огромного количества еды требовали и многие тысячи лошадей, ослов, верблюдов, мулов. Потравив ближайшие пастбища, они уходили все дальше от лагеря и… многие не возвращались. Может быть, становились легкой добычей туркмен. Хотя самих туркмен пока и не было видно. Где они? Возможно, далеко, а возможно, и за соседним барханом. Что там в сумерках померещилось тебе, воин? Черная колючка — саксаул — или туркмен со своим мушкетом? Что там катится бесшумно в неверном лунном свете — перекати-поле или смерть твоя, войн, в образе босоногого туркмена с кривым кинжалом? Персы вели праздный образ жизни, устраивали состязания бордов, петушиные бои, но тоскливая враждебность песков навевала все больший ужас, и все чаще по ночам во сне кричали те, кому приснилась смерть. И вскоре стало худшее сбываться.
Дело в том, что леса вдоль Мургаба уже сильно поредели, завоеватели вырубили их на дрова. И теперь приходилось уходить все дальше за дровами — карагачом, саксаулом. И вот тут-то окружали внезапно туркмены незадачливых дровосеков, брали в плен, а если те оказывали сопротивление, рубили головы. Кара-сертип, разумеется, знал об этом, но рассказывать принцу, до сих пор пребывающему в каком-то легко возбужденном, этаком воздушно-голубом состоянии, отнюдь не собирался. Кара-сертип лишь распорядился увеличить отряд дровосеков до двадцати человек и дал ему две пушки. Но туркмены окружили и этот отряд, наголову разбили, а пушки уволокли с собой в пески. На этот раз пришлось поставить в известность принца. Кара-сертип пережил неприятные мгновения, левое веко принца стало дрожать, подергиваться от гнева, но он сдержал себя прй французе, который по утрам возобновил с принцем легкие занятия французским языком. Принц с кислою улыбкою пожал плечами.
— Но ведь туркмены не умеют стрелять из пушек, зачем же им они?
Через месяц уже и лагерь за городом из-за нечистот представлял нечто ужасное. Зловонье, усугубленное невероятною жарою, вызывало тошноту даже у бывалого Кара-сертипа, что ж говорить о бедном французе! Ему — выпускнику Сорбонны, изящному ценителю Шелли и Монтескье, любителю путешествовать в мягком дилижансе по культурным странам Европы, вся эта азиатская экзотика теперь казалась несусветной чушью. Обещанная награда после окончания экспедиции уже не представлялась столь привлекательной, как там, в Париже. Да и начало не предвещало ничего хорошего. И совсем непонятно было, о чем думает принц. Ведь уже три месяца, как вышли из Шах-Севента, уже месяц, как они здесь, на земле Мары — и непонятно: победили все-таки они или нет.
Потянулись дни, однообразные, как марыйские пески, казалось, нет и никогда не будет просвета в их унылой жизни, казалось, свежий ветер никогда не разгонит тошнотворных испарений, которыми пропитан лагерь. Но однажды ранним утром француза разбудил странный шум в южной части лагеря. Юг был почти не укреплен, туркмен ведь ждали с запада. И вот на юге возник этот странный шум, разбудивший Блоквила, шум нарастал, уже доносились крики, вопли, стоны. И когда Блоквил выскочил из палатки, расположенной неподалеку от шатра принца, поразительная картина предстала перед ним. Продолжением сна — не иначе — воспринимал он то, что увидел. Четыре всадника вскидывали и опускали сверкающие сабли — и перед ними налево и направо, словно порубленный камыш, валились персы. Чтобы получше видеть, Блоквил взбежал на холм повыше, к самому шатру. Да, да, он не ошибся — то был не сон! Четыре человека напали на многочисленное войско и косили оцепеневших людей. Казалось, оторопь всех охватила перед такой, ни на что не похожей, прямо-таки нечеловеческой отвагой — вчетвером напасть на целое войско! И Блоквил следил как завороженный…
А уже слышны были их возгласы: «О аллах!» — с которыми рубили смельчаки своих врагов. «О аллах!» — шептали умирающие. «О аллах!» — воскликнул появившийся рядом Кара-сертип. Ноздри его раздувались, усы топорщились, в глазах загорелась ярость, тяжелые руки сжимались и разжимались, старый вояка с чувством повторял:
— Прекрасно! Вот это удар! В самую душу. Ах, какой удар — разрубил доседла! Э-э-эх!!!
Ему бы коня сейчас, он бы им показал! Но всадники вдруг изменили направление, резко свернули на юго-запад. И кажется, уже близки были к цели — уйдут к своим, в пески, уйдут безнаказанными, как пришли, погуляв с сабельками, потешив душу, повергнув в изумление и оцепенение своих врагов. Уходили! Без единой царапины! Чистокровные ахалтекинцы уносили их словно на крыльях! Это было фантастическое зрелище. Кара-сертип за долгую жизнь, которую провел в боях и сражениях, впервые видел такое! Он жаждал встречи с такими рубаками, он, может быть, всю жизнь мечтал помериться силами с такими богатырями, он махал им вслед рукой, мол, сюда, сюда, и все повторял:
— Прекрасно! Ах как прекрасно!
Тут за спиной у него раздалось:
— Это еще что такое? — принц Хамза-Мирза, потягиваясь после сна, вышел на шум из своего шатра.
— Эссалам алейкум! — согнулся сразу Кара-сертип в низком поклоне, и голос его стал одновременно и сладок, и пискляв. — Эссалам алейкум, господин принц.
— Нет, я спрашиваю, — капризно показал пальцем принц на отдаляющихся четырех смельчаков, — что это такое, генерал?
— Мой господин! Сторожа остались в неведении… — забормотал бессвязно Кара-сертип, — вы же знаете, мы ждали с запада, они напали с юга… Всего три-четыре каких-то туркмена…
— Каких-то! — закричал принц, взмахнув широкими рукавами атласного халата.
Кара-сертип отшатнулся, показалось, что принц бросится душить его, спина покрылась потом, а ноги отказывались повиноваться. Но тут конь одного из смельчаков вдруг споткнулся, ударился о землю, сбросил седока. Трое же других, беды не заметив, прорвались через лагерь и вскоре исчезли, словно их и не было. Принц тяжелым взглядом посмотрел на своего генерала, покачал головой, но не сказал ни слова. Подхватив полы халата, поспешил принц с холма вниз, туда, где не его воины, а провидение, не иначе, остановило все же смельчака. Кара-сертип поплелся за принцем как побитый.
Человеку, которому так обидно, в двух шагах от спасения, не повезло, было около шестидесяти лет, но черная его борода только-только начала седеть. Был он высок и с виду грузен, трудно было поверить, что так легко махал он кривой саблей, сея смерть и ужас вокруг. Но это было так. Блоквил тому свидетель. Да и сейчас этот богатырь-туркмен в ярости метался вокруг поверженного коня, размахивая саблей, никого не подпуская. Взять живым такого — мудрено. Круг нападающих то почти смыкался вокруг него, то вновь он всех разгонял своей верной саблей. И уже многих задел. Стонали жалобно, когда подошел принц и шага на три от него отставший и испуганный Кара-сертип.
Туркмен как раз стоял в кругу, тяжело опираясь на саблю. Он устал, дышал тяжко, пот градом катился по лицу, но глаза сверкали по-прежнему дерзко. Теперь Кара-сертип за все унижения, за все страхи готов был разорвать туркмена. Вокруг настала тишина, и стало слышно, как тяжело дышит отважный воин, да конь его со сломанной ногой лишь жалобно стонал.
— Как звать тебя? — спросил принц.
— Келхан Кепеле.
— Хочется жить тебе на белом свете?
— Потому и пришел сюда туркмен с этой саблей, — и он устало приподнял клинок, — что очень жить хочется туркмену на белом свете!
— Тогда отдай свою саблю, — и принц, не сходя с места, протянул руку, ладонью вверх.
— Саблю отдам только вместе с рукой!
— Какой мужественный человек, — шепнул Блоквил Кара-сертипу на ухо.
— Мужественный враг хорош мертвый! — буркнул в ответ генерал и дал знак воинам.
Те стали таскать сухие кусты, селме, сыркана и саксаула, окружили высоким завалом смельчака и подожгли в нескольких местах. «Сейчас мы осмалим тебя! — грубо захохотал Кара-сертип. — Никуда не денешься!» Повалил густой дым, слышно было, как тяжко хрипел в дыму конь, как посылал сквозь стиснутые зубы проклятья своим врагам отважный Келхан Кепеле. И все ж не выдержал батыр, предпочел погибнуть в бою, чем задохнуться в дыму, и выскочил, размахивая верной саблей. Но глаза ничего не видели от едкого дыма, неверными были взмахи сабли, одолеть его было нетрудно.
— Ну, — ухмыльнулся Кара-сертип, когда подвели связанного по рукам и ногам смельчака, — теперь будешь говорить?
Келхан Кепеле глядел, не отвечая, на разгорающийся завал и горько качал головой.
— Коня спасите, — сказал он, — тогда буду говорить.
Коня спасли, растащив завал, а Келхан Кепеле подвели к принцу.
— Кто были твои товарищи? — спросил принц.
— Мои товарищи — свободные туркмены.
— Мы это знаем, — принц усмехнулся, добавив про себя: «пока свободные», — но имена, я хочу знать их имена! Чтобы запомнить!
— Ну что ж, — рассмеялся пленник, — запоминай, запоминай покрепче! Один из них Тачгок-сердар, другой Нуры-сиротка, третий Каушут-хан, ну, а четвертый — вот он — я.
— Каушут-хан? — в задумчивости переспросил принц. — Так вот оно что-о… Каушут-хан, — повторил задумчиво принц имя командующего всеми туркменскими войсками. — А знаешь, туркмен, я пощажу тебя… но для этого тебе придется вернуться к своему хану и передать наше повеление.
— Что за повеление?
— Сдать все оружие, всех лошадей…
— Остаться без оружия, остаться без коня?
— Если не хочешь без головы остаться, — ласково и ядовито перебил принц, — и если любишь голову своего хана, тебе придется передать такое повеление.
— Но голова у Каушут-хана, как вы только что видели, крепко сидит у него на шее, он сам к вам сегодня пожаловал — и вы ничего не смогли с ним поделать! Вот какой наш Каушут-хан! Он — первый хан на свете!
— Вы, туркмены, скотоводы, — вкрадчиво заговорил вдруг принц, — вы еще не знаете настоящих ханов, но вы еще узнаете их… когда покатятся ваши головы от наших сабель!
— Кто за собственную голову не возьмет одной вражеской головы — тот не человек!
Дерзость пленника не знала предела, словами с ним, видно, не справиться, и принц, затая досаду, махнул рукой: мол, делайте с ним что хотите, сам же к шатру пошел. Разговор утомил его и даже небольшой подъем к белоснежному шатру раздражал. Следуя мимо Кара-сертипа, принц нагнулся к его уху и, улыбаясь, сказал страшные слова: «А тебя за все это надо бы к лошадям привязать и…» — не докончил, лишь яростно взмахнул руками, воздух разрывая красным атласом, словно кровью плеснул в лицо дрожащему от страха генералу. И, не оглядываясь, зашагал к шатру.
На этот раз пронесло, но при мысли о столь страшной казни язык у Кара-сертипа на какое-то время отнялся, ноги к земле приросли, а в глазах туман стоял, похожий на красный атлас. Но вот туман рассеялся. Кара-сертип с трудом как бы стал узнавать все вокруг. И тут увидел он виновника всего этого неслыханного ужаса. Тот спокойно стоял перед ним и как бы даже усмехался, словно бы слышал все, что с ласковой улыбкой пообещал принц своему генералу: «Ну, так прежде же я тебя самого протащу, привязав к лошадям!» И Кара-сертип закричал страшным голосом, чтобы крепкие тащили веревки, что-бы коней вели поскорее. Да коней чтоб посильнее! Сам в нетерпении бросился пленника к тем коням могучим привязывать. Потом опомнился — все ж генерал он, веревки побросал, ругался, плетью командовал, слуг торопил.
И вот за ноги привязали бедного Келхан Кепеле между двух коней и разом ударили плетьми, рванулись сильные кони в разные стороны, и у Блоквила волосы встали на голове, разум у него помутился от страшного зрелища человеческой жестокости и человеческого мужества, а ноги держать отказались, и рухнул француз на каменистую, прожженную безжалостным солнцем чужую землю.
Дня через три после этого Кара-сертип захватил в плен шестерых туркмен. Убивать их ему не было смысла. Ведь, по самым скромным его подсчетам, около двухсот персов теперь находилось в плену у туркмен. И Кара-сертип надеялся эту шестерку обменять на своих людей.
Пленников не били, даже не ругали, но лучше бы их убили сразу. Кара-сертип придумал свой собственный «королевский спектакль». По его приказу всем шестерым обрили головы, бороды и усы. Брили тупой бритвой, и что вытерпели эти несчастные, одному аллаху известно. После этого, связав их всех одной веревкой, посадили на высоком берегу Мургаба, на самом солнцепеке. На солончаке, чтоб посильнее припекало!
Блоквил, кроме несчастной семьи чабана, еще не видел вблизи туркмен. Среди воинов была поговорка: «Если тебе встретится туркмен и злой дракон — убей сперва туркмена!» В Тегеране он слышал сам, как персидские матери пугали детей: «Спи, а то туркмен придет!» Людьми неполноценными во всех отношениях многие считали туркмен, людьми второго сорта.
Блоквил решил разглядеть их получше. Он пошел к Мургабу и увидел страшную картину. Трудно было поверить, чтоб человек так мог истязать человека. Солнце палило нещадно, бритые головы уже не кровоточили, покрылись кусками засохшей крови, по ранам ползали большие мухи. Спрятаться несчастным людям было некуда, они и пошевелиться-то могли с трудом — так крепко их связали. Воздух вокруг дрожал от нестерпимого зноя. Даже через солнцезащитный шлем Блоквил чувствовал, как жгло солнце. У него над бровями скапливались капельки пота, вены вздулись на висках, он слышал, как в них пульсировала кровь. Что же говорить об этих несчастных, которых он жадно разглядывал?!
Сначала все они, одинаково выбритые, казались неразличимо похожими. Приглядевшись же, он увидел, что один из них уже пожилой человек, четверо среднего возраста, а один совсем юноша, с чистым лбом и доверчивыми глазами. Обнаженные до пояса люди уже давно сидели под немилосердно палящим солнцем, но ни капли пота не выступило на их телах: все было выжжено смертоносными лучами, и жажда все сильнее донимала их. Спекшиеся губы шевелились, просили воды, глаза напряженно пожирали полноводные струи Мургаба, который плескался в десяти шагах.
Это были стойкие люди. Но вертикальные лучи все-прожигающими иглами вонзались в голые черепа, и до того, как помутится рассудок, было уже недалеко. Это ясно понимал Блоквил. Он сунул руку в карман и нащупал нож. Перерезать веревки было минутным делом, а дальше им только переплыть Мургаб, и они у своих.
Но два нукера маячили неподалеку, и Блоквил сдержал свой порыв, стал думать: «Конечно, я мог бы их освободить, хотя и сильно рискую. Я обещал не вмешиваться ни во что, и это официально записано в бумаге. И все же, постаравшись, я смог бы их освободить. Ведь матушка мне часто говорила: «Всегда помоги несчастному — это зачтется!» И я освободил бы их, но кто поручится, что завтра, напав на нас, один из них не снимет, глазом не моргнув, голову мою с плеч!» Пока он так раздумывал, два нукера подтащили к несчастным истерзанный труп мужественного Келхан Кепеле. Юноша-туркмен, лишь глянув, сильно побледнел и закрыл глаза. Блоквил заорал:
— Остановитесь, что вы делаете! Уберите, уберите это отсюда!
— Не имеем права, — несколько опешившие от крика воины отвечали Блоквилу, — Кара-сертип приказал — так будет с каждым туркменом!
Неужто с каждым?! Но за что? За что должны так страдать эти люди?! Стойкость их все больше поражала француза. «Какие это гордые, красивые люди! Особенно юноша, — подумал он. — Какие умные глаза у старика, как он подбадривает своих товарищей: отпускает шуточки, и те улыбаются, позабыв на минуту о страшных страданиях». Старик начал наизусть читать какие-то возвышенные стихи. «А говорили: какие темные эти туркмены!» Старик читал стихи, а остальные внимали с почтением и грустью. А солнце так жгло, что у Блоквила в глазах уже плясали миражи: шестерка связанных полуобнаженных, обгоревших людей порой уже казалась связкой сваренных в кипятке красных раков. Но это же были живые люди. Блоквил решительно направился к Кара-сертипу.
Но уже было время послеобеденного намаза, и теперь во всем войске не было человека, который не встал бы на намазлык. Блоквил знал, что послеобеденный намаз продлится долго, и повернул обратно к пленникам. Опасаться было некого. Но он торопился, боясь, что опоздает и будет поздно. К счастью, все шестеро были живы. Старик туркмен, едва открывая опаленный рот, пел какую-то мужественную песню, в такт песни покачивались его товарищи, связанные одной веревкой. Их лица, несмотря на невероятные страдания, были сосредоточены и ясно выражали, что лучше они умрут в жестоких мучениях, чем пойдут на поклон к врагу.
Блоквил быстро перерезал веревку, и совершенно обессиленные туркмены ползком, извиваясь, полезли к реке. Блоквил вернулся в свою палатку, лег на койку, словно ничего не произошло. Сердце так билось, словно вот-вот выскочит. А намаз еще продолжался.
Принц Хамза-Мирза, по-прежнему не предпринимая военных действий, развлекался скачками, охотой на фазанов, вечерами при свете костров устраивались состязания борцов. Когда же затихал лагерь и наступала ночь, из черных песков ползли босоногие туркмены. Вязали персов сонных, утаскивали в пески, а тех, кто не вовремя проснулся, резали, как овец. За два месяца около тысячи человек потеряли персы, но что такое тысяча из сорока! Войско по-прежнему было огромным, и принц ждал, когда туркмены сдадутся сами. Разобщенные племена туркмен, даже самые крупные, не могли собрать более двух-трех тысяч воинов. Где ж им было тягаться с сорокатысячной армией! Тактика персов была проста — истреблять племена поодиночке, одновременно натравливая их одно на другое. Принц Хамза-Мирза ждал своего часа.
Но в начале сентября в старую крепость на правом берегу Мургаба, где укрепился Каушут-хан, стали съезжаться командующие отдельными племенами: теке, сарыков, салоров.
Решено было покончить с собственной враждой, по крайней мере до тех пор, пока на туркменской земле будет хоть один перс. Общими силами укрепили старую крепость, мало того — выстроили повыше на берегу новые укрепления, с таким расчетом, чтобы вражеские пушки не смогли достать.
На совещании у Каушут-хана был разработан в деталях план военных действий против захватчиков. Все горели желанием немедленно сразиться с неприятелем и все же, хоть и не надеясь на благоприятный исход, решили послать принцу Хамза-Мирзе посла: может, сам уйдет подобру-поздорову, зачем кровь проливать понапрасну. Пахать, сеять, скот пасти надо, а тут воевать приходится. Долго спорили, кто отвезет принцу письмо Каушут-хана, кто добровольно отдаст себя в лапы беспощадного Кара-сертипа. О кровожадности первого генерала принца ходили среди туркмен легенды.
— Я передам! — сказал бесстрашный Тачгок-сердар, старинный друг Каушут-хана, не раз плечом к плечу сражавшийся вместе с ним и с хивинцами, и с бухарцами.
Да, совсем недавно, с месяц тому назад, снова вместе — с такими же бесстрашными Нуры-сироткой и Кел-хан Кепеле — напали они ранним утром на многотысячное войско захватчиков и много голов порубили. Потеряли батыра Келхан Кепеле, жаль до слез Каушут-хану батыра, все головы персов нечестивых не стоят его одной головы. И вот теперь приходится отпускать Тачгок-сер-дара, придется ль еще свидеться, аллах один знает. Каушут-хан вздохнул:
— Поезжай, больше некому! Письмо письмом, а когда к письму еще такой батыр, как Тачгок-сердар, весомее письмо будет. Наверное, еще не забыли, какая могучая рука у Тачгок-сердара, какая в этой руке сабля острая, какой конь под ним крылатый! Поезжай!
И 14 сентября к шатру принца, собравшегося как раз на охоту за зайцами в пески Попушгум, подвели высокого худощавого туркмена, в черной мерлушковой шапке, длиннополом синем халате, подпоясанном пуховым кушаком.
— Эссалам алейкум, хан-ага! — приветствовал пришелец. — Я посол Каушут-хана, зовут меня Тачгок-сердар.
— Знаю, знаю, — ласково ответил принц, распорядившись, что охота на сей раз отменяется, — я думал, посол, что ты придешь еще месяц назад.
«Он же как раз месяц тому назад и приходил сюда с товарищами», — усмехнулся Блоквил. Француз внимательно следил за принцем, не мог же на самом деле он забыть о том позоре, когда четверка смельчаков повергла в трусливую растерянность его войско! Но принц был ласков, светел лицом, казалось, излучал саму доброжелательность. Как же! Его тактика выжидания наконец дала свои плоды.
— Ты хочешь сказать, посол, что Каушут-хан образумился и понял, что мы сильнее?
— Читай, — не отвечая на вопрос, посол протянул письмо.
Принц осторожно взял свиток и передал генералу. Кара-сертип развернул его, откашлялся и стал читать:
— «СООБЩЕНИЕ ОТ ЯЗЫКА И СЛОВ КАУШУТ-ХАНА. О ХАМЗА-МИРЗА, О КАРА-СЕРТИП, О ВСЕ ПРИНЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ!
ВЫ ВОЗГЛАВИЛИ ВОЙСКО ШАХА НАСРЕДДИНА И ПРИБЫЛИ СЮДА С БОЛЬШИМ СНАРЯЖЕНИЕМ, НЕ ПЕРЕДАВАЯ НАМ НИКАКИХ ИЗВЕСТИИ, ЧЕМ ВЫ В ТЕЧЕНИЕ ПОЧТИ МЕСЯЦА ЗАНИМАЕТЕСЬ В СТАРЫХ РАЗВАЛИНАХ. ЕСЛИ ВЫ НАМЕРЕНЫ ДРАТЬСЯ, ТО ПРИХОДИТЕ, БУДЕМ ДРАТЬСЯ. НО ЕСЛИ ВЫ ПРИБЫЛИ В СТАРЫЕ РАЗВАЛИНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПАСТИ СВОИХ МУЛОВ, ТО НЕ РАЗОРЯЙТЕ НАШИ МАРЫЙСКИЕ КРАЯ И ПОСКОРЕЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НАЗАД! РАЗВЕ ДЛЯ ПАСТЬБЫ МУЛОВ В ВАШИХ КРАЯХ МАЛО СТАРЫХ РАЗВАЛИН?»
По мере чтения улыбка покидала лицо принца, а голос Кара-сертипа угасал. Бравый генерал думал, что принц не выдержит такого позора, тут же прикажет отрубить голову послу, а заодно и ему, за то что вслух при всем народе такое прочитал письмо. Да еще и с выражением! Да еще так громогласно! Но принц сдержался и на этот раз, эти туркмены — крепкий орешек, подумал, дядя-шах предупреждал его в Тегеране, ну что ж, тем почетнее будет победа.
— Хорошо, — медленно произнес он, — скажи своему хану, будем драться! И тогда уж пощады не ждите!
— Каушут-хан уже два месяца к бою готов!
— Вон как! Ну, а если готов, то ждите! Я, принц Хам-за-Мирза, покажу ему! О, да поможет нам аллах!
— Мы тоже к аллаху взываем, хан-ага!
— Слава аллаху!
— Воистину, слава аллаху!
Француз смотрел во все глаза, слушал во все уши — смертельные враги взывали к одному аллаху и серьезно верили, что один лишь он им поможет разбить врага. Кому же все-таки аллах поможет?! Хотел бы это знать француз Блоквил, ведь, собственно, от этого теперь зависело не только его благополучие: домик на берегу моря, добрая жена-хозяйка, розы, которые он мечтал выращивать. От этого теперь зависела сама жизнь его. Но аллах-то один!
Принц решил выглядеть благородным, посла отпустили с миром и стали срочно готовиться к выступлению. А через два дня, то есть уже 16 сентября, в Мары не осталось ни одного человека. Люди, животные, повозки, пушки — огромная армада, неостановимая, несокрушимая, стала двигаться на запад по берегу Мургаба. Играли трубы, развевались знамена, ржали кони и танцевали под всадниками, всем надоело сидение, смрад надоел, душа жаждала хоть каких-то перемен.
Человек двести, с музыкантами, знаменами, двигалось чуть впереди основного войска. Настроение у всех было приподнятое, с утра было прохладно, воздух был чист, искрился синевой. Впереди сражение — эта мысль и бодрила, и будоражила. Конь под принцем так и ходил ходуном, словно бы чуял настроение хозяина. А принца и самого тянуло пришпорить коня, дать ему волю да проскакать галопом впереди всех. Тянуло на мелкие проказы. Да и остальные из свиты, принцу под стать, вели себя как расшалившиеся дети.
Проезжая оставленные туркменами аулы, стреляли по чугунным казанам. Звук был неправдоподобно гулким, каким-то подземным, и это всех радовало. Или заключали пари, кто на полном скаку продырявит висящий на дереве бурдюк с кислым молоком. Кара-сертип прямо-таки не находил себе места, словно предчувствовал что-то ужасное, руки у него так и чесались: даже мимо виноградника не мог спокойно проехать — рубил лозу налево и направо. Когда увидел собаку на пригорке, очень обрадовался.
— Господин, — окликнул он француза, видишь собаку на пригорке? А можешь ли одной пулей уложить ее, чтоб и не взвизгнула?
— Зачем же убивать безвинную тварь? Это ж не враг.
— Даже собака врага — наш враг! — многозначительно произнес генерал Кара-сертип. — А потом… мне просто хочется ее ухлопать!
И опять француз с горечью вынужден был признать, что душа азиата как была для него потемки, так и останется, и, вздохнув, он решил не вмешиваться И Кара-сертип выстрелил, пуля попала в хвост, собака пронзительно взвизгнула, волчком завертелась на месте, потом кубарем скатилась с холма, ударилась о ноги коня Кара-сертипа. Конь шарахнулся в сторону, да так резко, что Кара-сертип от неожиданности вывалился из седла. И тут, уже лежа, с проклятьями вторым выстрелом добил собаку. Все постарались сделать вид, что ничего такого не произошло, генералу подвели другого коня, он уселся, но дальше ехал в угрюмом молчании.
Укрепление туркмен на правом берегу Мургаба было действительно вполне готово к бою. Это было ясно даже французу. Выше старого укрепления возведено добротное новое, две желтые пушки, недавно отбитые туркменами, поблескивая на солнце стволами, теперь направлены были на персов. Все еще было жаль невинно загубленную собаку, и Блоквил сказал негромко Кара-сертипу:
— Теперь туркмены будут стрелять по персам из их же пушек.
— Даже если мы отдадим оставшуюся у нас тридцать одну пушку, — презрительно сказал Кара-сертип, — то и тогда ни один волос не слетит с нашей головы, туркмен же никогда не сумеет воспользоваться пушками, он же просто не знает, темный туркмен, с какого конца ее заряжать.
Тут обе пушки выстрелили, и мулу, что стоял метрах в двадцати от них, оторвало голову.
— Пожалуй, — спокойно произнес француз, — следующий залп будет наш.
— Я сейчас им покажу залп! — Кара-сертип выругался и приказал стрелять из всех орудий.
Дымом и пылью заволокло все вокруг, а когда канонада смолкла и воздух прояснился, стало ясно, что позиции туркмен находятся в более выгодном положении — гораздо выше — и поэтому почти не пострадали. Приунывшие персы стали рыть окопы. Туркмены же, численностью около тысячи, вышли из крепости и, разделившись на две группы, стали спускаться к реке.
День был такой славный, умеренно жаркий, белые тучки текли над хребтом, жаворонок распевал, а на правом берегу спокойно, словно мирным делом занимаясь, туркмены вязали камыш, несли бревна из крепости — быстро строили переправу.
В полукилометре ниже по течению вторую переправу из одного камыша стал возводить второй отряд. Закинув за спину свои хырлы — ружья, туркмены серпами срезали высокий камыш, вязали снопы, укладывали снопы внахлестку, крепко увязывали, а когда переправа была готова, сотни три стрелков перешли по ней, почему-то отправились на юг и быстро исчезли за барханами.
Не верилось, что в этот день произойдет что-либо ужасное. И в то же время Блоквил понимал, что все идет к тому, его поражало, что военачальники со странным равнодушием взирали на все действия туркмен. Разумеется, все можно объяснить азиатской невозмутимостью, но не видеть надвигающейся опасности было никак нельзя. С другой стороны, персов в десять раз больше — и напасть на них вот так, среди бела дня, было бы безумием. Так думал Блоквил, оправдывая невозмутимость принца и его генералов. И в то же время все время помнил, как всего лишь вчетвером эти непостижимые люди напали на целое войско. Короче, Блоквилу казалось, что он чего-то не понимает, что на самом деле происходит что-то другое.
Но, к сожалению, все оказалось до примитивности просто. Часа через три переправа была готова, окопы же персы вырыли лишь наполовину. И по мосту всадники-туркмены среди бела дня пошли в атаку. Пожалуй, к этому был не готов не только Блоквил. Правда, кто-то успел вскочить на коня, кто-то воткнул треногу, успел прицелиться из шемхала, даже пулю пустить в мчащуюся лавину туркмен. Но это как укус комара. Атака джигитов средь бела дня была дерзка и неожиданна, начался рукопашный бой, и тут уж тот уцелел, кто проворней был, у кого сабля быстрей в руке мелькала, у кого конь настоящий.
Налетели джигиты, ударили — и тут же назад отступили, увлекая персов за собой. И еще раз налетели, и еще, кусая, как оса. И когда персы за ними потянулись, по-настоящему ввязались в бой, второй отряд перешел ниже по течению и по знаку из крепости с тыла ударил.
Кара-сертип кричал своим, чтобы вернулись, он видел сверху, от шатра принца, как второй отряд, сабель в триста, ударил с тыла. Но было поздно отходить, ведь тут и первый отряд туркмен, подмогу почуя, поднасел, навалился и так, зажав персов с двух сторон, стал их на юг оттеснять. Как раз туда, где залегло сотни две стрелков. Кара-сертип как увидел это, закричал, чтоб пушки поскорее повернули на второй отряд, проход для своих расчистить. Пушки повернуть успели, но тут же откуда-то сверху, с барханов, защелкали частые выстрелы. У туркмен ведь по двое на одно ружье — один заряжает, другой стреляет. Вот почему такой густой был огонь. Орудийная прислуга была перебита, а тут и отряд с гиканьем налетел. Ну и пошла потеха!
Кара-сертип схватил знамя и во главе отборного отряда личной гвардии — таких же, как и он, головорезов — бросился в самую гущу на помощь. Дело в том, что долина, где бой начался, была узка для многочисленного персидского войска, большая часть которого просто не могла в этой тесноте принять участие в сражении и была вынуждена, как Блоквил, лишь наблюдать. И туркмены хорошо понимали это, тактика их была проста и рациональна: по частям рассекать персов и уничтожать.
Когда Кара-сертип ворвался в самую гущу боя со своим отрядом, кажется, чаша весов стала клониться к персам. Их яростные крики усилились, но не дрогнули туркменские батыры, с грозным уханьем рубили врагов. Стонали раненые, трещали, как детские хлопушки, пистолеты, там и тут раздавались возгласы, призывающие аллаха, звон боевой трубы, лязг сабель — все это смешалось в одну смертельную кутерьму. Носились обезумевшие лошади, потерявшие своих седоков, ревели мулы, скользко было от дымящейся крови. И лишь мертвые были спокойны.
Как ни старался Блоквил, не мог разобрать: кто же побеждает? Кроме того, приходилось все время быть начеку. Ведь даже здесь, у шатра принца под главным знаменем, в окружении отборных воинов, никак нельзя было до конца спокойным быть. То слева, то справа прорывались сюда смельчаки туркмены в необоримой жажде завладеть главным знаменем, а может быть, и силою помериться с самим принцем. Их, конечно, безжалостно рубили, шелковое знамя развевалось, но смельчаков не убывало. В основном все — безрассудные, молодые джигиты, совсем юноши, Блоквилу было жаль их, таких молодых и горячих. И в то же время он понимал: прорвись они сюда, не поздоровилось бы не только принцу, но и ему, в сущности-то ничего плохого не сделавшему туркменам. И от этого под сердцем у него все время возникал сосущий холодок.
Каушут-хан со стены видел все как на ладони. У него был последний резерв — человек двести испытанных воинов. Отряд в томительном напряжении ждал, отряд рвался в бой на выручку своим. Каушут-хан ждал. Проиграть сражение он не мог. И, словно понимая это, все женщины в крепости молили аллаха о победе. Но молитва молитвою, и, помолившись, женщины в чугунных казанах плавили свинец, отливали пули для своих мужей и братьев, их дети не отходили от них весь день — тоже помогали. И все поглядывали на Каушут-хана: чего ж он ждет? Уже темнело, и стрелки, залегшие в засаде, могли так и пролежать без дела, а персов все никак не удавалось на юг оттеснить. И Каушут-хан понял: пора! Сам вскочил на коня, повел за собой отряд. И ударил по самому центру, и смял центр персов, и тут уж не рукопашный бой начался, а свалка, убитые не сразу падали — так тесно было, — и многие, отбросив сабли, схватились за ножи. И вот потихоньку, шаг за шагом стали теснить на юг персов, туда, где залегли стрелки. Дождались и те своего часа.
Но конца боя досмотреть Блоквилу не удалось, в одной из свалок возле шатра удар прикладом ли, копыта ли коня повергли в беспамятство француза. Когда ж очнулся, все кончилось уже. «Жив я, ну и ладно», — радостно подумал он, приподнимая тяжелую голову. Холм был завален трупами, и сначала Блоквил их принял за бревна. Что денег он не заработает в этой военной экспедиции, то было ясно. Авантюра эта была военная, а не какая-то экспедиция! В Париж бы живым вернуться! — вот о чем думать надо французу.
В кресле с резною, красиво изогнутой спинкою из самшита с бархатными бахромками по бокам под знаменем сидел, задумавшись крепко, принц Хамза-Мирза. Скорбно и задумчиво глядел он на труп своего верного Кара-сертипа. Надо было срочно уходить из земли Мары. Пусть лучше шахский гнев, пусть позор, чем вот это! И принц вздыхал, окидывая грустным взглядом побоище. Пусть достаточно еще войск у него, пусть есть кроме Кара-сертипа и другие генералы, — и все ж туркмены на этот раз сильнее, надо отходить. И на другой день в большом беспорядке принц Хамза-Мирза отошел к Мары.
Шаха Насреддина, хотя и не полностью, все же пришлось оповестить о неудачном сражении на Мургабе. Шах был в ярости. «Взять во что бы то ни стало укрепление туркмен штурмом!» — пришел приказ от него. Ну, а если штурмом не получится — осадой. И хотя время не совсем удачное для военных походов — октябрь, ослушаться приказа шаха никто не посмел. Стали готовиться к штурму. Настроение у всех было подавленное, дожди, ветра зарядили. К тому же туркмены, отступая на запад, почти ничего не оставили в брошенных домах — поживиться было нечем. Все говорило, что на этот раз ничего добыть не удастся. Ждут их суровые бои, и не мешает, оказывается, серьезнее отнестись к противнику. Решили поэтому перед решительным штурмом вернуться к развалинам Порсугала, где были оставлены запасы военного снаряжения и продовольствия, ведь и то и другое за два месяца подыссякло у персов. И в ночь со второго на третье октября вышли из Мары и направились в сторону Порсугала. Сильный ветер гнал низкие тучи, в просветах в небе тускло блистали одинокие звезды, где-то далеко выл шакал. Тоска сжимала сердце каждого. Шли настороженно, за каждым барханом мерещился враг. А туркмены действительно знали об этом маневре персов с Порсугалом и понимали, что, довооружившись там, передохнув, враг станет намного сильнее. И надо было опередить врага. С этой целью всю ночь совещались у Каушут-хана батыры, почетные аксакалы, да все прикидывали, где же лучше перехватить персов, не дать им укрепить свое войско, разбить до конца, пока не оправились они от поражения. Решили караулить возле самых развалин Порсугала. И когда персам покажется, что уже благополучно добрались, тут и напасть. — Разобьем — спокойно хлеб будем сеять! — сказал Нуры-сиротка. — Да, теперь не скоро перс оправится, — добавил Тач-гок-сердар, — когда разбили их при Кара-Кала, лет пять не совались. — И у Янкале дали им жару. — И в Анау… Наперебой стали вспоминать, где били туркмены персов, хивинцев, бухарцев… и многих прочих захватчиков. — Да-а, — задумчиво произнес, поглаживая бороду, Каушут-хан, — мы их бьем, а они все лезут… А если вспомнить, то и наши деды и прадеды только этим и занимались— бились всю жизнь с непрошеными гостями: с арабами, и Чингисханом, и хорасанским ханом… да всех и не упомнишь, а сеять в срок хлеб, свободно скот пасти нам редко удавалось. Ну, разобьем на этот раз персов, через год-другой опять же нападут. А не они — так кто-нибудь другой. Нет, аксакалы, нет, батыры, — о другой защите туркмену думать надо. — Какая защита, о чем говоришь ты, Каушут-хан? — спросил верный Тачгок-сердар. Да и другие очень заинтересовались словами мудрого Каушут-хана. — Русские это, — отвечал Каушут-хан, — верный, свободолюбивый народ, о союзе с ними нам крепко думать надо. Тогда никто не посмеет напасть на нас!
Войско персов благополучно добралось до развалин Порсугала. Блоквил, ехавший с транспортом, думал уже, что все в порядке, спасены. Но, поравнявшись с кладбищем Сейитнасыр, внезапно почувствовал: «Сейчас что-то произойдет». И в тот же момент слева, из густых зарослей камыша вылетели туркменские всадники. Блоквил, как и другие, повернул коня вправо и увидел, что справа по песчаному мысу, полумесяцем охватывающему пастбище, уже приближается к ним второй отряд, замыкая персов в кольцо. Те было назад повернули, но и сзади, словно из-под земли, выросли главные силы туркмен, сам Каушут-хан их вел. Шелковое алое знамя хана развевалось на ветру. Солнце только-только всходило, и красный шелк знамени отбрасывал вокруг отблески. Хотя бой еще не начался, многие нукеры попытались бежать, не вступая в схватку. Мингбаши ругались, хлестали их нагайками, поворачивая лицом к туркменам. А мингбаши из Шах-Севента — правая рука принца после смерти Кара-сертипа — рубил паникеров безжалостно саблей. Кое-как удалось повернуть войска к туркменам лицом. И все же бой не получился. С такой яростью врубились всадники-туркмены в ряды персов, с такой страстью, смерть презрев, рубили врагов своих, что попятились от них нукеры. И принц, бросив знамя, лишь с ближайшим окружением прорвал кольцо туркмен и, нахлестывая коней, уходил в сторону границы. Брошенное знамя с золотым львом тут же было порублено туркменскими саблями, втоптано в грязь копытами их коней, чистокровных ахалтекинцев. После этого можно было считать, что сражение закончено. Правда, пятясь, нукеры еще кое-как отбивались, но было ясно, что они обречены. Позади них было солончаковое болото. Блоквил отступал вместе со всеми, принц о нем и не вспомнил, и было видно, что на сей раз не выпутаться бедному французу. Блоквил судорожно думал, что придется, как видно, объяснять, что он не перс, что он здесь совсем с другою, мирной целью, ни одного туркмена не убил, наоборот… Но уже скакал на него страшный туркмен, весело скаля белые зубы, и со скрежетом рванул саблю из ножен. Блоквил что-то закричал, погнал коня куда-то, пистолет пробовал выхватить, но конь его, через арык перелетая, споткнулся, и Блоквил, через голову коня перелетев, ткнулся головой в соленую болотистую хлябь. «Потону еще!» — отчаянно подумал он. Но тут сильная рука выдернула его из болота. Почти не сопротивляясь, он дал связать себя: «А-а, пусть будет, чему быть суждено…» Еще гонялись за отдельными персами по густым тугаям, ловили, вязали, собирали пленников в группы. Большинство же сдавалось без сопротивления, бросали в кучу ружья, сабли и сами подставляли под веревку руки. Блоквил со связанными руками сидел на лошади позади коренастого туркмена, ехали среди унылых холмов. Блоквил оглядывался на юг, где остался Тегеран, французское посольство, гербовая бумага. Далеко-далеко на юге, где сливались небо и земля, образуя четкую волнистую линию, теперь оставалось его прошлое. Впереди был бескрайний простор. Что ждет его? «Может, это последний день в моей жизни», — думал пленник. От спины, за которой покачивался Блоквил, исходил какой-то мирный запах овечьей шерсти, сухого песка, пыльной колючки. «Но я же не сделал им ничего плохого, — думал Блоквил, — за что же меня убивать? Наоборот, я пожалел бедную Огульджерен, я помог бежать шестерым туркменам…» Повсюду гнали пленных, в основном пеших, таких, как Блоквил, на коне, пока не встречалось. И это выделение его из общей массы несколько подбодрило француза. Они обогнали группу человек в двадцать, которую гнали два старика. И еще группу — ее гнали мальчик и старик. «Не те ли?» — встрепенулся Блоквил, вспомнив несчастного чабана и маленького Иламана с большими ножницами в руках. Таким его запомнил Блоквил, идущим от колодца. А потом его крик… Да нет, похожи, а не те. И опять поник Блоквил, объятый тяжелою смутою на сердце. Что толку, если б и были те несчастные? Кто был для них Блоквил, кто он для всех туркмен? Завоеватель! Пусть внешне непохож он на перса, но он ведь вместе с ними пришел, незваный, на туркменскую землю! Разве ж кто звал его сюда? Разве ж нет у него на боку пистолета? Нет, нет — он враг для них, и любое возмездие будет справедливо. По-видимому, то же думали и большинство пленников, все были понуры, разговаривали между собой шепотом, старались не поднимать глаз от земли. Победители же, наоборот, были оживленны, громкоголосы. Но Блоквил видел, как много ранено туркмен в этом последнем сражении, повязки их еще кровоточили, им было больно, хотя они и смеялись. Видел он и мертвых туркмен, которых несли мимо него люди с лицами скорбными и сухими, как эта выжженная пустыня. И опять вспоминал юную Огульджерен, вспоминал сотни других таких же, поруганных, растоптанных завоевателями. Нет, нет, смерть будет справедливой карой за все, что принесли с собой персы. И француз Блоквил вместе с ними. Так он решил, заглянув в свою душу, восстановив в себе эти три последних месяца на чужой земле. И ужаснулся. Затрепетало сердце, как у зайца, спина покрылась холодным потом, и тут же жгучая пронзила мысль: «А ведь и они — все те, кого сейчас проносят мимо на носилках, — наверняка испытывали перед смертью тот же ужас, что и я». То был даже не страх, а какое-то животное, гнетущее унижение, — вот так погибнуть в расцвете сил, превратиться в тлен, когда еще бы жить да жить. «Пресвятая дева Мария! — стал он тихонько шептать, — Ведь я же ехал сюда совсем о другими целями, ты же знаешь, хотел мастерскую… совсем маленькую… розы выращивать хотел…» И он тихонько всхлипнул, покатилась слеза… На огромной площади в Мары, куда согнали всех пленников, стали делить их на небольшие группы человек по двадцать, по тридцать и распределять по аулам. Так легче было прокормить их до больших торгов, которые раньше чем через месяц-полтора не соберутся. Да и безопаснее разбить их на небольшие группы, хлопот меньше. Блоквил почти ничего не понимал по-туркменски, но с интересом наблюдал за всем, что происходило вокруг. В поте лица трудились почтенные аксакалы, которым народ доверил такое важное дело — раздел пленников по аулам и племенам. Старик делитель выкликал кого-нибудь из племени сарыков, теке или салоров или какого-то другого, принимавшего участие в войне, и выделял строго определенное количество пленников. Дележ дело серьезное. Ведь это не только будущие деньги за продажу пленников на рабском рынке, а значит, пусть временное, благополучие в дальнейшей жизни, это ведь еще и признание всенародное заслуг твоего племени в кровопролитной битве с врагами, это признание твоих личных заслуг, твоего мужества, твоей любви к многострадальной Туркмении.
 Поэтому все с таким напряженным вниманием следили за дележом пленных персов. А тому, кто делил, выпала нелегкая задача. Надо было быстро прикинуть, сколько то или иное племя взяло в плен врагов, сколько порубило их в боях, сколько своих братьев потеряло, сколько вдов, сирот теперь осталось там, в синих песках, в глиняных кибитках, за дырявою кошмой. Так что белобородый аксакал, облеченный столь высоким доверием народа, трудился действительно в поте лица. И делил, по-видимому, справедливо: во всяком случае Блоквил, оказавшись поблизости, особого недовольства не увидел. Были, конечно, мелкие стычки, азартные споры; получая выделенных пленников, представитель племени придирчиво оглядывал их, сравнивал с соседней группой, порой ему казалось, что у него похуже, — более худы, угрюмы, слабосильны, у соседнего племени не в пример лучше. Словом, шум, крики, споры не прекращались целый день. Не обошлось, конечно, и без комического, уж так, видно, устроена жизнь — где слезы, там и смех. То два пленника сцепились, стали драться: один у другого, оказывается, украл несколько мелких монет. Когда ж их со смехом разняли, выяснилось, что хозяин монет сам их отнял у бедного туркмена в одном ауле.
Тут на площади появилась странная пара: низкорослый, тщедушный туркмен вел на веревке за собой огромного перса. Конечно, пленников в основном делили по справедливости выборные — уважаемые всеми люди. Но были и такие, как этот маленький туркмен, что где-то сами ухватили пленного и вот так тащили, как барана, на веревке. Если б не такая разница в росте и силе, пожалуй, никто в этот суматошный день и внимания не обратил бы. А тут еще маленький туркмен вдруг закричал тонким голоском:
— Люди! Пусть каждый забирает себе того раба, которого он сам поймал! Мне, например, никого не нужно, кроме этого, — и маленький туркмен, сильно дернув за веревку, чуть сдвинул с места великана перса, — если ж я и продам его когда-то, то возьму за него цену пяти рабов, не меньше! А если уж заставлю работать, то он за десятерых у меня будет пахать! Пусть каждый заберет себе своего раба, о люди!
Услышав эти слова, старик делитель засмеялся. Улыбнулся и Блоквил. Хотя ему не до улыбок было. Он узнал высокого пленника — тот был среди телохранителей принца — и пожалел его, ведь судьбы их теперь похожи были: плен, рабский рынок, неизвестность… А улыбнулся оттого, что вот такой огромный, такой черноусый перс вынужден теперь подчиняться туркмену, который едва до пояса ему достает.
— Скажи, сынок, — обратился старик делитель к маленькому туркмену, — ты сам поймал этого гиганта или вы ловили всем аулом?
— Яшули! — в благородном негодовании воздел к небу руки маленький туркмен. — Обижаешь, обижаешь меня! Да что такое для меня один перс?! Хотя бы и этот! — и он снова резко дернул за веревку. — Да я двадцать нечестивцев голов лишил… вот этой самой саблей, а разве сосчитаешь тех, кого я, за ноги подцепив, сбросил с седел в пыль и потом затоптал своим конем?! А еще пятерых— лично сам я, как этого, в плен взял, да ничуть не меньше ростом, чем этот, а может быть, даже и… — он оглянулся на пленника, прищурился оценивающе, — а может быть, даже будут и побольше этого!
— И где ж они? — кто-то крикнул из толпы.
— Где? Сынок, я подарил их таким же, как ты, которые в жизни не видели ничего, кроме Горячего чурека. Где ж им поймать хотя бы одного перса! Ведь говорят: со свадьбы хотя бы горстку поиметь! Теперь хотят — пусть продадут, не захотят — работать пусть заставят. Я-то своего заставлю! — и словно в подтверждение серьезности своих слов он помахал плеточкой, маленькою, как и сам он, перед лицом огромного пленника. — Быстрее иди, тебе говорят!
Но тот неожиданно уперся, побагровел, усы зашевелились, засверкали глаза, и он — ни с места! Напрасно Тянул его изо всех сил маленький туркмен. Вокруг раздался смех. И маленький туркмен тогда хлестнул плеточкой перса по плечу и грозно крикнул: «Ну!» Но пленник тут рванулся, лопнула веревка, и огромные ручищи потянулись к маленькому туркмену. Хвастунишка тут же юркнул в толпу, над ним смеялись от души. А пленник, глядя ему вслед, со вздохом сказал: «Меня не ты взял в плен, а плач твоих детей!» — и, потирая затекшие руки, не спеша направился к ближайшей группе таких же пленных, как и он.
Увидев, что опасность миновала, маленький туркмен выбрался из толпы и, словно ничего не случилось, стал расхаживать степенно, заложив руки за спину, Тут увидел он Блоквила.
— Ба! — обрадовался он тому, что можно опять потешить честной народ. — Это еще что за птица? Вроде б не перс.
— Это тоже из тех,кого ты пленил! — засмеялись из толпы.
— Эх, брат, — притворно вздохнул маленький туркмен, — на таких облезлых да тощих, как борзая, я б и не польстился, пальцем бы не шевельнул, чтоб в плен их брать.
— Ну, конечно, — из толпы кричали, — ты ведь в плен берешь только таких силачей, как этот, который только что порвал твои веревки!
— Да просто веревки гнилые были, — сказал маленький туркмен, приближаясь к Блоквилу и старательно разглядывая его сверху донизу.
Французу он не понравился — было в нем что-то и трусливое, и жестокое одновременно. По-видимому, как большинство низкорослых людей, был он очень обидчив. Когда пленник порвал веревки, так перепугал, так унизил его, сердце до сих пор клокотало от обиды. Хотя он и улыбался. И лишь багровые пятна на щеках выдавали это. И вот, прищурившись, теперь смотрел он на француза, прикидывая, как же все-таки и толпу повеселить, и за обиду расквитаться. Все это понимал и Блоквил и ожидал какой-нибудь неприятности. Но маленький туркмен пока еще и сам не знал, что бы ему такое придумать, и просто для начала взял и вылупил глаза, скривил губы и высокомерно сморщил маленький нос. И в таком виде прошелся на носочках перед французом. Тот, чтобы не рассмеяться, отвернулся. Тогда маленький туркмен вплотную подошел, подбоченился и снизу вверх стал разглядывать высокого пленника. Блоквил, задравши голову, уставился в прозрачное небо — только б не смотреть на маленького смешного человечка перед ним. А тот вдруг указательным пальцем ткнул снизу в подбородок французу. Словно решил помочь задраться голове еще повыше. Но палец, сорвавшись, задел больно нос, царапнув ноздрю. В носу резко защипало, слезы брызнули из глаз, и, потеряв самообладание, Блоквил пнул маленького туркмена в живот. Тот сразу упал, закричал пронзительно, засучил в воздухе ножками. Ну, а дальше ничего не помнит Блоквил: чем-то тяжелым ударили сзади, и он повалился ничком, не забыв прикрыть лицо. Он тут же потерял сознание от ударов, но не совсем, а чувствовал, но как бы издали, и даже отмечал, когда били палками, когда плетью, а когда просто ногами. И еще — все время ждал: когда же это кончится.
Тут надо заметить, что действия, и верные, и неверные, к которым свелся этот жестокий эпизод, в затуманенном сознании француза каким-то непостижимым образом осветили всю эту военную экспедицию, вернее, авантюру, в которой он так легкомысленно принял участие, мечтая разбогатеть. Собственное его участие было таким же верным и неверным, как этот страшный эпизод, и степень собственной вины теперь все больше прояснялась. Через эти побои, которые надо терпеть. И вот, пока били, было больно, очень больно. Но было и отрадно за то, что эта боль как искупление и что от этих жестоких побоев вина постепенно проходит и вот уже почти совсем прошла… так долго бьют они его… Вот уже и терпеть сил больше нет, еще один удар палкой — и не выдержит позвоночник или случится еще что-то более ужасное. А тут как раз и остановились. Блоквил точно помнит: именно в то мгновение, когда он готов был закричать: «Хватит, пожалейте, люди ж вы все-таки!» Тут перестали бить, и он действительно потерял сознание.
Когда же пришел в себя, застонал, пробуя пошевелиться, чуть приоткрыл глаза и увидел вечер, поредевшие ряды пленников. Солнце садилось, спала озабоченная суета вокруг, только Блоквил как лежал на площади в пыли, так и лежит. Губы распухли, кровь запеклась, Блоквил прохрипел: «Аб!»[103]. Никто не ответил ему, то не было жестокостью — он понимал, — вечер был тих, и у людей на площади лица были хоть и озабоченные, но, в общем-то, умиротворенные, и это ласковое равнодушие мира поразило больше всего. И горько стало оттого, что это равнодушие было созвучным его собственному равнодушию, — все справедливо. Но он избит до полусмерти, от жажды умирает: «Аб!»
Тут кувшин с холодной водой коснулся губ его, он пил, пил и никак не мог напиться, никак не мог затушить пожар внутри. Что может быть слаще воды! Какое счастье сравнится с этим, когда умираешь от жажды. Пустыня сказала: «А» — и впереди еще был целый алфавит.
Увидев, что француз очнулся, старик с кувшином, не вставая с корточек, крикнул:
— Эй, Бердымурад! Забирай его!
— Какой Бердымурад? — спросили старика.
— Бердымурад из Гонурлы, есть он тут?
Подошел молодой туркмен.
— Бердымурада из Гонурлы нет, яшули, но есть я — его младший брат — Эемурад Гонурлы.
— Ну что ж, если ты брат, забирай его, да смотри не продай за бесценок, говорят, он все науки одолел, теперь вроде муллы. Мулла Перенгли. Разбогатеешь, когда продашь.
— Я знаю, яшули, что это мулла Перенгли, но лучше бы ты дал нам какого-нибудь необразованного перса, на этом, видно, не очень-то разбогатеешь, я и до аула его не довезу, еле дышит.
— Бери что дают! — сказал старик делитель. — А довезти— довезешь, это он с виду хлипок, смотри, как били, а он хоть бы что! Довезешь.
Эемурад Гонурлы с сомнением покачал головой, но с яшули не будешь же спорить.
Усадив Блоквила в седло, Эемурад увидел, что привязывать не надо, может сам в седле держаться, — это уже хорошо. Вид у француза был страшный: губы раздулись, посинели, глаз затек, почернел, кровь запеклась, смешалась с пылью, покрывала голову коростой. С другой стороны— сам виноват. Ты ж в плену! А поднял на победителя руку. Даже не руку, а ногу! Да тебя ж убить за это мало! И все же… подавая поводья, Эемурад вздохнул и, пряча глаза, подумал: «Отделали здорово!»
Выехали из Мары. В село Гонур кроме Блоквила гнали группу человек в двадцать. Мимо нее проезжая, Блок-вил крикнул:
— Интересно, почему нас всех разводят маленькими группами в разные стороны?
— Как почему, — отвечали ему, — не хотят, чтоб мы были вместе, хлопот меньше.
«Ясно, — подумал Блоквил, — не такие уж они и дураки, как говорил Кара-сертип». И вот уже нет больше Кара-сертипа, где-то принц Хамза-Мирза, жив ли, а если жив, ждет его встреча с шахом, Блоквил не завидовал принцу.
Безразлично и скучно выгибая тюленьи спины, тянулись во все стороны барханы, ветер срывал с них песок, катил верблюжью колючку. Блоквил ехал навстречу своей судьбе и все удивлялся: «Неужели ради этих бессмысленных песков огромное войско два месяца шло сюда из Персии проливать свою и чужую кровь?!»
Дом Эемурада был самым крайним в селе Гонур, к вечеру доехали. Теперь по крайней мере руки должны ему развязать, все ж необычный он пленник. Его одного везли на лошади. Позднее он узнал, что туркменам было известно и про бумагу, хранящуюся в Тегеране, в посольстве! Руки ему действительно развязали, но лишь для того, чтобы связать ноги. Так что радоваться было нечему.
Как только спешились, стали сходиться люди, чтоб посмотреть на «удивительного желтоволосого пленника», которого привез молодой Эемурад. И вскоре вокруг француза уже стояли многие аксакалы. С молчаливым достоинством, опираясь на посох, взирали они на него. На их каменных лицах нельзя было ничего разобрать. Наоборот, женщины, стоящие чуть поодаль, по-детски ахали, жестикулировали, тыкали пальцем в его сторону. Подростки презрительно фыркали, озорные мальчишки норовили ткнуть в него веткой саксаула или бросить куском сухого кизяка. Старшие отгоняли их. А в общем-то полсела сбежалось: галдели, удивлялись, всем было весело. Кроме него. Блоквил думал: «Я похож сейчас на обезьяну в клетке, ну, а туркмены — на людей, которые ни разу в жизни не видели живой обезьяны, — он вспомнил своих парижских друзей. — Интересно, что бы они сейчас сказали, увидев все это?!»
Тут, оседлав палку, прискакал худой старик, три длинных волоска были у него вместо бороды, а глаза горели, как угли. «Сумасшедший!» — догадался Блоквил. Это действительно был Сары-сумасшедший. Кто с суеверным ужасом, кто просто так — на всякий случай — все шарахнулись в сторону от Сары-сумасшедшего. Блоквил не мог и шагу сделать, остался стоять. Сумасшедший же, подскакав, совсем близко притормозил своего деревянного коня и с жаркой пристальностью стал вглядываться в его лицо. Хотелось зажмуриться, но, помня эпизод в Мары, Блоквил старался отвечать спокойным взглядом. И все ж не удержался, отшатнулся — вместо пояса у сумасшедшего болталась, дважды обвив его, живая змея. Совсем близко видел Блоквил полураскрытую пасть змеи, неуловимо быстрые, какие-то струящиеся движения тонкого языка. Как медленно она дышала, не мигая, как и Сары-сумасшедший, не спуская глаз с Блоквила. И что у них за мысли были на уме при этом — бог весть. «Будь что будет!»— решил Блоквил, готовясь на всякий случай к худшему.
Но тут как раз из дома напротив, покашливая, вышел пожилой туркмен в накинутом на плечи новом тулупе. Это был высокий, плотный здоровяк, с окладистой бородой и высоким лбом. Небрежно накинутый на плечи дорогой тулуп подчеркивал юношескую стройность фигуры, хотя лет шестьдесят — шестьдесят пять наверняка ему было. Глаза смотрели умно, чуть насмешливо. Услышав покашливание, сумасшедший радостно «подскакал» на своем коне к старику, а Блоквил перевел дух. Старик же змеи не испугался, сам протянул сумасшедшему обе руки и что-то негромко сказал ему. Невероятное напряжение отразилось на бледном лице сумасшедшего, и, кажется, за самый хвостик сумел поймать он какую-то мысль, внушенную негромким голосом красавца старика, во всяком случае вдруг радостно засмеялся и куда-то ускакал.
Тогда люди окружили поближе француза. Один за пистолетом его потянулся, другого заинтересовала курительная трубка, третий уже откручивал блестящую пуговицу. Старик, пожав плечами, подошел к ним, и толпа посторонилась. Это был Мухамедовез-пальван — двоюродный дядя братьев Бердымурада и Эемурада. Не хан и не бай, но за справедливость, за мудрость его уважали здесь почти все. Взглянув на Блоквила вскользь, с подчеркнутым равнодушием, мол, видел я таких немало, и в Мекке, и в Медине, он молча забрал у молодого парня трубку француза и отдал хозяину. Блоквил, принимая трубку, учтиво склонил голову, но это прошло незамеченным, во всяком случае на суровом красивом лице Мухамедовез-пальвана ничего не отразилось. Он глянул на другого парня, в руках которого был пистолет француза, и, усмехнувшись, произнес: «Такому джигиту сабля более к лицу, чем эта красивая игрушка!» Но пистолет не тронул.
— Пальван-ага! — тогда плачущим голосом сказал тот, у которого отобрали трубку. — Конечно, что можно взять с такого бедняка, как я! Даже трубки я недостоин!
Старик, не отвечая, долгим взглядом посмотрел на парня, и тот замолчал. Тогда Мухамедовез-пальван, ни на кого в отдельности не глядя, спросил:
— Что? Никогда людей не видели?
— Таких — нет! — выкрикнул кто-то из толпы, но суровый старик решительно сделал шаг в ту сторону, откуда выкрикнули, и толпа попятилась.
А потом один налево стал уходить, другой направо. У кого-то общее дело отыскалось, вдвоем, втроем заспешили прочь, и вскоре возле француза остались лишь Мухамедовез-пальван да парень с пистолетом, все еще не уверенный — насовсем ли у него остался пистолет.
— Я не враг вам! — горячо заговорил Блоквил, обращаясь к Мухамедовез-пальвану. — Снимите с меня веревки, отдайте пистолет, он дорог мне как память, я ведь не враг!
Мухамедовез-пальван не знал персидского языка, и переводил этот парень с пистолетом, недавно вернувшийся из плена.
— Ну что ж, — подумав некоторое время, так отвечал Мухамедовез-пальван, — в твоих словах правда. Но мы ведь не приглашали тебя на наше богатство, ты сам пришел, в руках у тебя этот пистолет, ты пришел вместе с персами! — лицо его вдруг стало темнеть, словно кто-то душил его.
Тут на улицу выехали со стороны Мары три всадника, средний из них поперек седла придерживал тело, завернутое в кошму. И сразу в том доме, куда подъехали скорбные всадники, раздался детский крик и женский вой. Такой же слышался и в доме напротив, и в конце улицы, и еще где-то… и еще… Француз был слишком занят своими переживаниями, а теперь вот слышал, понимал, что это такое, и ему становилось страшно…
Всех пленников разделили на небольшие группы, человек по пять, по десять и содержали в загонах, сделанных из кустов дерезы, что-то вроде скотного двора. Тех же, кто был помоложе, поздоровее и мог отважиться на побег, поместили в корпечах для ягнят и на ночь выставляли стражу. Кормили плохо, лишь бы с голоду не умереть. И дело не столько в экономии, а был тут и расчет— обессиленный от голода далеко не убежит.
Для француза вырыли отдельную яму, стерегли день и ночь, мало того, в яму вбили железный кол, к которому привязывали на ночь. Правда, ему единственному из пленных был выдан тюфяк, набитый соломой, да и кормили получше. И все же он предпочел бы общую участь, вместе со всеми в загонах или корпечах. Днем в яме было душно, солнце в полдень припекало, приходилось через каждый час перетаскивать соломенный тюфяк, на котором в основном и проводил он тоскливые дни.
А дни шли за днями. Пока это караваны купцов из Хивы и Бухары, извещенные о дешевой продаже рабов, доберутся до Мары! И так же медленно тянулись в яме дни за днями. Уже с утра, пока прохладно, Блоквил начинал расхаживать как маятник — два шага туда, два обратно. Часто наверх поглядывал, где-то поблизости охранник, старик с шемхалом, может, хоть из любопытства заглянет в яму. Но виден был лишь квадрат неба, иссиня-черного с утра или белесого в полдень. Когда уставал, то садился на тюфяк, вытягивал ноги и прислонялся спиной к осыпающейся стене. Прикрыв глаза, вспоминал учебу в университете, жизнь после учебы в Латинском квартале, Сену, по набережной которой любил бродить смутными июньскими ночами. Потом покинул шумный от студентов квартал, переехал на улицу Нотр-Дам-де-Лорет, снял квартирку напротив маленького галантерейного магазинчика. Подружился с хозяином магазина господином Лантэном, частенько по вечерам ходили вместе пить абсент в соседнее кафе. У Лантэна была дочь Тереза. Они полюбили друг друга, недалеко была уже и свадьба. Но Тереза умерла во время эпидемии холеры в 1849 году, и Блоквил, чтобы как-то забыться, много путешествовал, объездил почти всю Европу. Потом решил открыть собственную мастерскую по изготовлению артезианских насосов, нужны были деньги. И тут подвернулся случай: всего лишь за полгода он может обзавестись необходимой суммой. Так он оказался здесь, на чужой земле.
Уже не казалось ему сидение в яме таким утомительным, проснувшись, он сразу начинал вспоминать. Начать можно было с чего угодно: с фасада Нотр-Дам, например… Все теперь казалось таким далеким, неправдоподобно привлекательным. Каждый день той жизни был драгоценным камушком, перебирать их было сплошным удовольствием… Почти каждое воскресенье, едва рассветало, Блоквил — заядлый рыболов — с удочками и жестяной коробкой выходил из дома и садился на поезд, следующий до Аржантейля… Он выходил в Коломбе и шел потом пешком до островка Марант, где и удил своих пескарей. И не было до вечера человека счастливее его… Или вспоминал, как ездил на каникулы к дяде в Жюмьеж. Легкий экипаж вез его сначала по лугам, потом лошадь, замедляя шаг, взбиралась на косогор Кантеле. С косогора великолепный вид: слева — Руан, город церквей, готических колоколен, справа — Сен-Севэр, фабричное предместье, сотни дымящих труб. А внизу красавица Сена, извилистая, усеянная островами, справа белые утесы, над которыми темнеет серый лес, слева — безбрежные дали лугов, дымчатая полоска леса на горизонте. На реке большие и малые суда: шхуны, бриги, колесные пароходики, в Гавр плывут или, наоборот, из Гавра, маленький, похожий на утюг, буксир, распустив стружкообразные усы волн, с натугой тянет огромную баржу…
Однажды утром, едва проснувшись, он тут же хотел было закрыть глаза и пуститься в воспоминания, но спускавшийся сверху паук привлек его внимание — не каракурт ли? В яме у него была палка, которой давил он скорпионов и фаланг. Каракурт же пока не встречался, и это был не каракурт — простой серенький паучок. Блоквил зачем-то посчитал, сколько у него ног, оказалось восемь. «Всю жизнь думал, что шесть, — удивился он, — а у него их, оказывается, восемь». Глаза вблизи из черных в изумрудные превратились, в серой окраске сиреневый оттенок появился, а ножки пятиступенчатыми оказались. Мало того, заканчивались микроскопическими саблевидными коготками! Но это увидел Блоквил, почти вплотную разглядывая парящего в воздухе утреннего пришельца. Пара усиков торчала спереди, они были загнуты, как салазки, и не шевелились. Блоквил подставил руку, чтобы паучок в нее опустился. Наверное, приятно будет подержать такое маленькое, такое легонькое создание природы в огрубевшей ладони. Но только он поднес к нему руку, как паучок стремительно взмыл по невидимой нити и исчез. Блоквил опечалился. Попробовал было Париж вспоминать, но ничего не получилось, игра надоела, камушки выскальзывали из рук, все больше наверх поглядывал, куда исчез паучок.
В этот день паучок так больше и не появился. Небо тихо темнело, какими-то сочными, однако ж не смешивающимися друг с другом полосами. И эта исхлестанность неба при окружающей тишине, умиротворенности даже поразила его. День был уже на исходе. Еще один день вычеркнут из жизни, наступал безымянный час, скоро принесут ему немудреный ужин, и вслед за этим — сразу ночь. Чернота, пробитая миллиардами сверкающих гвоздиков. И словно на самом дне величественного водоема лежит Блоквил на своем соломенном тюфяке. Вот сорвалась одна звезда… Еще один день канул в Лету, еще на один день теперь ближе к концу… Под этим тихо исполосованным небом все большей тоской наполнялась его душа, даже прошлая жизнь не звала так яростно, как прежде, прошлый дух умирал. Но медленно рождалась какая-то истина. При последних отсветах тихого вечера Блоквил попытался рассмотреть собственное отображение в донышке жестяной тарелки.
Тут он увидел, как напротив, из норы по-видимому, из угла вышли две земляные лягушки. Он стал тихонько наблюдать за тем, как они охотятся в сумерках на мух и комаров. Это занятие доставило ему удовольствие.
На следующий вечер лягушки снова пришли. И еще, и еще… Он уже не боялся тихих вечеров, наоборот — их ждал. Ждал, когда появится неразлучная пара лягушек. Днем он ловил для них мух, которых было вокруг в избытке, а вечером подбрасывал лягушкам. И вот что выяснилось: стоило мухе притихнуть и лежать неподвижно, лягушка не могла ее обнаружить, хотя бы она и была совсем рядом. «Видно, глаз ее устроен не так, как у нас, — догадался Блоквил, — видит лишь движущийся предмет». Он вытянул из тюфяка соломинку и осторожно стал двигать неподвижную муху — тотчас длинным стремительным языком лягушка подхватила муху, и та исчезла, как и не бывало. Это обрадовало Блоквила, его догадка подтвердилась, он радостно подумал, что природа, в сущности, ведь совсем открыто и вблизи нас распределяет все, что может сделать нас лучше или счастливее.
И с этого вечера он начал пристально вглядываться во все, что его теперь окружало. Не обязательно ждать вечера, когда можно будет покормить лягушек, ставших почти ручными. Не обязательно, подставив руку, ждать долгое время осторожного паучка с изумрудными глазами. Всмотрись в мир около тебя — и ты увидишь многообразие, пугающее с непривычки. Вот высохшие корни какой-то бурной прошлой жизни, вот гнилушка — свет ее по ночам холоден, напоминает взгляд осьминога, вот просто песок, но зачерпни и поднеси к глазам: двух одинаковых песчинок не отыщешь! Даже если просто лежать и глядеть часами в небо, сколь невообразимы формы плывущих облаков, сколь совершенны и стремительны линии, по которым проносятся птицы над тобой…
Понятие о времени изменилось. Блоквил и не представлял, какими длинными и вместе с тем какими короткими окажутся дни его в этой яме с осыпающимися потихоньку краями. С мягким шорохом осыпается песок. И так же тянется день-ночь, и не заметишь, как сливается с такими же, как и вчера, днем… ночью… Да и сами названия сливаются в этом постоянном шорохе времени: вчера… сегодня… завтра… слова, утратившие смысл. Когда ему сказали, что уже февраль, что он уже просидел три месяца, он поверил, но осознать этого не смог. И, лишь выбравшись из ямы, распрямившись, вздохнувши полной грудью, увидел, что действительно февраль вокруг. Ветер с юга гнал синее небо и запах миндаля, ветер с севера нес мокрый снег; холмы еще в снегу, но песок вокруг уже подсыхал. Черепахи ожерельями зеленых камней окружали такыры. Верблюды линяли. Туркмены скинули четвертые халаты, остались лишь в трех, но все еще теплых. На песках золотел уже молочай и ярко разгорались маки. Впервые так остро почувствовал он всю меру своей общности со всем этим, что его сейчас окружало… Что ж, Франция… прекрасная страна, но она — мизерная частица беспредельного мира.
Подкормив, пленников погнали в Мары на рабский рынок. Блоквила и тут подняли чуть попозже, везли на лошади, по-видимому, очень надеялись получить за него намного больше, чем за обычного пленника.
Когда добрались до Мары, на большой площади уже началась торговля людьми. С каким-то нездоровым интересом, как бы и о собственной участи позабыв, вглядывался Блоквил в это страшное дело. Люди продавали, словно скот, людей. Все достижения человеческого благородного духа меркли перед этим, все мировые памятники культуры рушились в пыль и прах. Человек — царь природы — как слеза на реснице: так легко его стряхнуть в пыль и в грязь.
Купцы хивинские, купцы бухарские, на лошадях, разукрашенных серебром и парчой, были озабочены: как бы не переплатить. С одной стороны, рабов действительно на этот раз нагнали много, и можно цену сбивать до последнего, с другой же стороны — не дашь цены последней, ведь перекупят, уведут товар из-под самого носа. Надменные купцы собирались по чайханам кучками, по двое, по трое, шептались, договаривались, приглядывались к пленникам. А широкая площадь вокруг кишела народом, как муравейник. Ведь помимо рабов, пользуясь случаем, дехкане из соседних аулов навезли винограду, персиков, дынь, привезли сюда и соль, и рис, и пшеницу. Но главный товар был, конечно, рабы.
Было еще рано, но в азиатской синеве парило неподвижное солнце, теперь оно так и будет висеть неподвижно до самого вечера, когда, оставив наконец оцепенение, быстро покатится к холмам, к дувалам, краснея все больше, теряя лучи, исчезая.
Основные торги еще не наступили. И в чайханах, подобрав ноги, богатые купцы в чалмах, в папахах, тюбетейках неторопливо пили чай. На подносах лежал виноград. Тени акаций пятнали ковры и паласы. Богатые купцы из Бухары, из Хивы, которые привели сюда тяжелогруженые караваны, не торопились. Пусть немного схлынут мелкие торговцы. А те, привязав лошадей в тени глиняных дувалов, теснились шумно у лавок: покупали и сами продавали. Покупали кушаки, халаты, кривые сабли, седла. Продавали соль, изюм, хлеб, насыпали в хурджуны отборный рис, торговались до хрипоты. Устав торговаться, садились на корточки, доставали табакерки и сыпали под язык купоросный нас. И снова торговались. Наконец развязывали кушаки, где лежали деньги. Когда мелкая торговля схлынула, начались главные торги.
Высокий старик в новой папахе, опираясь на сучковатую палку, поднялся на солончаковый холм и дал знак маленькому, толстенькому человечку. Человечек оказался глашатаем. Он заткнул правое ухо, словно именно через правое ухо и могла произойти утечка звука, широко раскрыл рот и пронзительно закричал, обращаясь на персидском к пленным:
— Дехкане весом до пяти пудов, пройдите налево!
Пленники, которые уже устали ждать, оживились, затолкались, потянулись налево, не обошлось и без курьезов. Один пленник замешкался, ему кричали:
— А ты чего же!
— Да у меня живот, — тот хлопал себя по воображаемому животу.
— Через твой живот спину чесать удобно, все позвонки видны, идем уж с нами, налево!
И вскоре все, в ком было до пяти пудов, собрались по левую сторону холма. А глашатай, опять закрыв ладонью правое ухо, еще пронзительнее закричал:
— Всем мастеровым подойти во-он к тому тамариску!
Мастеровых немного оказалось, мирное мастерство и война — вещи несовместимые. На месте остались лишь те, в ком больше пяти пудов, эти силачами считались, цена им хоть и поменьше, чем мастеровым, все же высокая будет. Только-только поделились, среди силачей возникла драчка, двое сцепились. Их вытолкнули, подвели к холму, и старик в папахе строго спросил, зачем дрались.
Оказалось, что эти двое хотели скрыть свое ремесло. Один хорошо делал косы, за две цены идут на базаре. Другой быков умел кастрировать. Того, что косы делает, старик к мастеровым отослал. Умение же быков кастрировать, видно, не показалось старику настоящим мастерством. Во всяком случае, немного подумав, он пленника отправил обратно к силачам.
И началась торговля. Купцы подходили и вновь отходили, щупали мускулы у пленников, в рот заглядывали, качали головами, хлопали руками о полы халатов, воздевали руки к аллаху, умоляя снизить немыслимую цену, призывали в свидетели первого встречного, что такой цены не было, нет и быть не может. Призывали в свидетели самого пленника — не было уже сто лет такой цены за простого раба!
— Скажи, скажи ему, уважаемый, ведь ты ж не стоишь столько, сколько требует за тебя этот хитрец, ты ж не знаешь никаких ремесел, ноги твои слабы, с мешком муки в пять пудов ты не пройдешь и ста шагов… вот и зуб у тебя шатается… и левый глаз с бельмом…
Шум, крики, споры — торг разгорался. Блоквил с самого начала был поставлен в сторонке, и движения купцов вокруг него если и не были такими шумными (в основном-то напоказ), как вокруг других, то были конечно же более напряженными. Все купцы знали уже о бумаге, что хранилась в посольстве в Тегеране. Не зная же сути бумаги, намного преувеличивали ее значение. На базаре были пленники очень именитые, они так же стояли в сторонке. Были такие, что удостаивались чести сидеть с самим шахом за одним обедом, были отдаленные родственники шахской фамилии— выкуп за них будет изрядным. Но и у этих — именитых, держащихся среди пленников особняком, — не было бумаги! Слово «бумага» вокруг него произносилось чаще других, как магнит это слово притягивало купцов, каждый мечтал заполучить такого необыкновенного пленника.
Большие круги вокруг него все сужались, вот уже Блоквил был плотно окружен кричащими, спорящими купцами. Один уверял, что это племянник французского короля, другой же клялся, что этот желтоволосый пленник никакой не племянник французского короля, а просто-напросто колдун. Одним словом, купцы ругались, спорили, перебивая сами у себя и без того высокую цену. И цена росла и росла. И туркмены из села Гонур, знавшие наверняка, что француз никакой не племянник королю и уж конечно не колдун, даже эти уважаемые яшули, услышав о баснословной цене, поверили сами в магическое слово «бумага»! Ну, а поверив, естественно, стали до того надменны и неприступны, что купить у них француза уже не было никакой надежды. Но купцы ведь богаты. Они плевались, ругались, отходили, обещая больше ни за что не подойти, и вновь оказывались тут же. Таинственная бумага где-то во французском посольстве в Тегеране, за семью замками, с гербовой печатью, с какими-то неразборчивыми подписями каких-то больших людей — все дело было в ней.
Вот подошел молоденький купчик в щегольских узконосых сапожках из нежного зеленого сафьяна, на нем был модный халат и пуховый пояс, обсыпанный сверкающими блестками. Черные усы нафиксатуарены, торчали в разные стороны и были настолько длинны, что видно их с затылка. Купец приветливо поздоровался с братьями Эемурадом и Бердымурадом — хозяевами Блоквила. На француза же и не глянул.
— Назови цену! — обращаясь к старшему, сказал купец и плетью слегка дотронулся до Блоквила.
— Цена десяти рабов!
— Нет, — зашептал в самое ухо старшему брату, — ты скажи мне окончательную цену, понимаешь, дорогой Бердымурад, окончательную, я же покупаю!
— Окончательная — цена десяти рабов, неокончательная— цена девяти рабов.
— Да сейчас рабов что песка! — и, поигрывая плетью, усатый отошел.
В самом деле, чего-чего, а после разгрома многотысячного войска персов рабов на марыйской земле хватало. Но поскольку постоянного рабского рынка в Мары никогда не было, то местные туркмены и не представляли, что это такое — торговля рабами. Купцы обхаживали их изо всех сил, ссылались на долгий, полный опасностей путь, который они проделали со своими караванами, на затраты, которые понесут, с рабами возвращаясь. Ну, а главное, сговорившись, упирали на то, что сейчас рабов предостаточно и в Бухаре, и в Хиве. Особенно в Бухаре, так как бухарский хан их много захватил в последнем походе.
Вот так, цену сбивая, и покупали рабов по дешевке. Одни братья еще держались со своим пленником-фран-цузом, и все больше купцов вокруг них крутилось, всем хотелось урвать лакомый кус.
Снова усатый подошел, уж очень ему хотелось привезти в Бухару необычного раба, удивить там всех. Не все ли равно, кем он позднее окажется — колдуном ли, племянником ли французского короля. Сразу видно птицу по полету — такого раба еще не бывало! Усатый, приблизившись, на этот раз спросил не хозяина, а самого раба:
— Какую цену ты сам на себя установишь?
Общение с туркменами ограничивалось несколькими фразами, и Блоквил обрадовался возможности поговорить с человеком, владеющим персидским языком, он усмехнулся и сказал:
— Если я сам буду себя оценивать, пожалуй, не хватит никаких денег.
— Хватит, хватит, — купец похлопал себя по пуховому поясу, — еще и останется! — И, понизив голос, произнес: — Вокруг тебя собралось много покупателей, но все они одна бестолковщина, поверь мне, я же хочу тебя выручить, спасти, мы вместе уедем потом на твою родину, ты будешь свободен…
— Выходит, я буду свободен?
— Вот именно, вот именно, ты правильно понимаешь!
— Но… но за это благородное дело не жаль отдать цену и двадцати рабов, когда просят всего лишь за десять.
Передернувшись в досаде, усатый купец отошел. Но тут же подошел другой покупатель — купец из Хивы.
Да, Блоквил был необычный раб! И синебородые яшули из села Гонур решили, в конце концов, не расставаться с ним, дело, видно, слишком серьезное, продешевить тут — раз плюнуть. Будешь потом локти кусать, да поздно. И они посоветовали братьям поскорее домой возвращаться, связываться непосредственно с Тегераном, где лежит за семью замками таинственная бумага, и уж получить за пленника по справедливости все, что причитается. Нет, ни копейки больше они не хотели, аллах тому свидетель! Ну, а продать за бесценок — обидно. Они ведь не богачи, чтоб за бесценок продавать, а сколько он стоит — десять рабов, двадцать рабов, — кто ж без бумаги знает! В общем, приняли мудрое решение — не продавать. И, очень довольные этим, отправились обратно.
Покидая базар, Блоквил стал свидетелем странного эпизода, и поразившего его в самое сердце, и рассеявшего несколько мрачноватые мысли после этой страшной торговли живыми людьми. Мужчина и старая женщина подвели к старейшинам юношу-пленника. Мужчина хотел его продать, старуха же не соглашалась.
— Я знаю тебя, Болджы-эдже, — ласково обратился к ней один из старейшин, — у тебя же нет ни скота, ни земли. Зачем тебе раб?
— Бедняжку увезут и продадут, а мать у него совсем слепая, он и воевать-то поехал, чтобы ее прокормить. А потом… мы столько дней с ним делили хлеб-соль, ну, что — у меня действительно нет ни скота, ни земли, буду держать его… просто так, может быть, потом как-то все разрешится и… он вернется к своей слепой матери, бедняжка… ему нет и семнадцати…
— Бедняжка! А с кинжалом на нас пошел!
— Может быть, и был у него кинжал, но поднять на человека он его не смог бы, это я вам точно говорю, старая Болджы! Ради аллаха, отдайте мне его в сыновья, у меня же никого нет… я заплачу, заплачу, — старуха быстренько развязала узелок, руки тряслись у нее при этом, и вытащила серебряное ожерелье, — вот-вот, нате, я носила, когда молода была.
Старейшина взял ожерелье, повертел в руках, вздохнул. Ему показалось, что он видел когда-то на молодой Болджы это ожерелье. Какая же она была красивая в молодости, да и он когда-то был джигит что надо!
Он вернул ожерелье старухе. Потом рукой махнул; мол, забирай без всякой платы. И оба они — юноша-перс и старая Болджы, — от счастья сияя, быстро взявшись за руки, покинули базар. Словно мать с сыном, словно две родственные души в этом океане песка. Блоквила этот эпизод потряс, ему судьба не обещала ничего подобного, хотя кто знает… Ведь действительно один лишь аллах знает, что потеряешь ты за первым барханом, что найдешь за вторым…
Поэтому все с таким напряженным вниманием следили за дележом пленных персов. А тому, кто делил, выпала нелегкая задача. Надо было быстро прикинуть, сколько то или иное племя взяло в плен врагов, сколько порубило их в боях, сколько своих братьев потеряло, сколько вдов, сирот теперь осталось там, в синих песках, в глиняных кибитках, за дырявою кошмой. Так что белобородый аксакал, облеченный столь высоким доверием народа, трудился действительно в поте лица. И делил, по-видимому, справедливо: во всяком случае Блоквил, оказавшись поблизости, особого недовольства не увидел. Были, конечно, мелкие стычки, азартные споры; получая выделенных пленников, представитель племени придирчиво оглядывал их, сравнивал с соседней группой, порой ему казалось, что у него похуже, — более худы, угрюмы, слабосильны, у соседнего племени не в пример лучше. Словом, шум, крики, споры не прекращались целый день. Не обошлось, конечно, и без комического, уж так, видно, устроена жизнь — где слезы, там и смех. То два пленника сцепились, стали драться: один у другого, оказывается, украл несколько мелких монет. Когда ж их со смехом разняли, выяснилось, что хозяин монет сам их отнял у бедного туркмена в одном ауле.
Тут на площади появилась странная пара: низкорослый, тщедушный туркмен вел на веревке за собой огромного перса. Конечно, пленников в основном делили по справедливости выборные — уважаемые всеми люди. Но были и такие, как этот маленький туркмен, что где-то сами ухватили пленного и вот так тащили, как барана, на веревке. Если б не такая разница в росте и силе, пожалуй, никто в этот суматошный день и внимания не обратил бы. А тут еще маленький туркмен вдруг закричал тонким голоском:
— Люди! Пусть каждый забирает себе того раба, которого он сам поймал! Мне, например, никого не нужно, кроме этого, — и маленький туркмен, сильно дернув за веревку, чуть сдвинул с места великана перса, — если ж я и продам его когда-то, то возьму за него цену пяти рабов, не меньше! А если уж заставлю работать, то он за десятерых у меня будет пахать! Пусть каждый заберет себе своего раба, о люди!
Услышав эти слова, старик делитель засмеялся. Улыбнулся и Блоквил. Хотя ему не до улыбок было. Он узнал высокого пленника — тот был среди телохранителей принца — и пожалел его, ведь судьбы их теперь похожи были: плен, рабский рынок, неизвестность… А улыбнулся оттого, что вот такой огромный, такой черноусый перс вынужден теперь подчиняться туркмену, который едва до пояса ему достает.
— Скажи, сынок, — обратился старик делитель к маленькому туркмену, — ты сам поймал этого гиганта или вы ловили всем аулом?
— Яшули! — в благородном негодовании воздел к небу руки маленький туркмен. — Обижаешь, обижаешь меня! Да что такое для меня один перс?! Хотя бы и этот! — и он снова резко дернул за веревку. — Да я двадцать нечестивцев голов лишил… вот этой самой саблей, а разве сосчитаешь тех, кого я, за ноги подцепив, сбросил с седел в пыль и потом затоптал своим конем?! А еще пятерых— лично сам я, как этого, в плен взял, да ничуть не меньше ростом, чем этот, а может быть, даже и… — он оглянулся на пленника, прищурился оценивающе, — а может быть, даже будут и побольше этого!
— И где ж они? — кто-то крикнул из толпы.
— Где? Сынок, я подарил их таким же, как ты, которые в жизни не видели ничего, кроме Горячего чурека. Где ж им поймать хотя бы одного перса! Ведь говорят: со свадьбы хотя бы горстку поиметь! Теперь хотят — пусть продадут, не захотят — работать пусть заставят. Я-то своего заставлю! — и словно в подтверждение серьезности своих слов он помахал плеточкой, маленькою, как и сам он, перед лицом огромного пленника. — Быстрее иди, тебе говорят!
Но тот неожиданно уперся, побагровел, усы зашевелились, засверкали глаза, и он — ни с места! Напрасно Тянул его изо всех сил маленький туркмен. Вокруг раздался смех. И маленький туркмен тогда хлестнул плеточкой перса по плечу и грозно крикнул: «Ну!» Но пленник тут рванулся, лопнула веревка, и огромные ручищи потянулись к маленькому туркмену. Хвастунишка тут же юркнул в толпу, над ним смеялись от души. А пленник, глядя ему вслед, со вздохом сказал: «Меня не ты взял в плен, а плач твоих детей!» — и, потирая затекшие руки, не спеша направился к ближайшей группе таких же пленных, как и он.
Увидев, что опасность миновала, маленький туркмен выбрался из толпы и, словно ничего не случилось, стал расхаживать степенно, заложив руки за спину, Тут увидел он Блоквила.
— Ба! — обрадовался он тому, что можно опять потешить честной народ. — Это еще что за птица? Вроде б не перс.
— Это тоже из тех,кого ты пленил! — засмеялись из толпы.
— Эх, брат, — притворно вздохнул маленький туркмен, — на таких облезлых да тощих, как борзая, я б и не польстился, пальцем бы не шевельнул, чтоб в плен их брать.
— Ну, конечно, — из толпы кричали, — ты ведь в плен берешь только таких силачей, как этот, который только что порвал твои веревки!
— Да просто веревки гнилые были, — сказал маленький туркмен, приближаясь к Блоквилу и старательно разглядывая его сверху донизу.
Французу он не понравился — было в нем что-то и трусливое, и жестокое одновременно. По-видимому, как большинство низкорослых людей, был он очень обидчив. Когда пленник порвал веревки, так перепугал, так унизил его, сердце до сих пор клокотало от обиды. Хотя он и улыбался. И лишь багровые пятна на щеках выдавали это. И вот, прищурившись, теперь смотрел он на француза, прикидывая, как же все-таки и толпу повеселить, и за обиду расквитаться. Все это понимал и Блоквил и ожидал какой-нибудь неприятности. Но маленький туркмен пока еще и сам не знал, что бы ему такое придумать, и просто для начала взял и вылупил глаза, скривил губы и высокомерно сморщил маленький нос. И в таком виде прошелся на носочках перед французом. Тот, чтобы не рассмеяться, отвернулся. Тогда маленький туркмен вплотную подошел, подбоченился и снизу вверх стал разглядывать высокого пленника. Блоквил, задравши голову, уставился в прозрачное небо — только б не смотреть на маленького смешного человечка перед ним. А тот вдруг указательным пальцем ткнул снизу в подбородок французу. Словно решил помочь задраться голове еще повыше. Но палец, сорвавшись, задел больно нос, царапнув ноздрю. В носу резко защипало, слезы брызнули из глаз, и, потеряв самообладание, Блоквил пнул маленького туркмена в живот. Тот сразу упал, закричал пронзительно, засучил в воздухе ножками. Ну, а дальше ничего не помнит Блоквил: чем-то тяжелым ударили сзади, и он повалился ничком, не забыв прикрыть лицо. Он тут же потерял сознание от ударов, но не совсем, а чувствовал, но как бы издали, и даже отмечал, когда били палками, когда плетью, а когда просто ногами. И еще — все время ждал: когда же это кончится.
Тут надо заметить, что действия, и верные, и неверные, к которым свелся этот жестокий эпизод, в затуманенном сознании француза каким-то непостижимым образом осветили всю эту военную экспедицию, вернее, авантюру, в которой он так легкомысленно принял участие, мечтая разбогатеть. Собственное его участие было таким же верным и неверным, как этот страшный эпизод, и степень собственной вины теперь все больше прояснялась. Через эти побои, которые надо терпеть. И вот, пока били, было больно, очень больно. Но было и отрадно за то, что эта боль как искупление и что от этих жестоких побоев вина постепенно проходит и вот уже почти совсем прошла… так долго бьют они его… Вот уже и терпеть сил больше нет, еще один удар палкой — и не выдержит позвоночник или случится еще что-то более ужасное. А тут как раз и остановились. Блоквил точно помнит: именно в то мгновение, когда он готов был закричать: «Хватит, пожалейте, люди ж вы все-таки!» Тут перестали бить, и он действительно потерял сознание.
Когда же пришел в себя, застонал, пробуя пошевелиться, чуть приоткрыл глаза и увидел вечер, поредевшие ряды пленников. Солнце садилось, спала озабоченная суета вокруг, только Блоквил как лежал на площади в пыли, так и лежит. Губы распухли, кровь запеклась, Блоквил прохрипел: «Аб!»[103]. Никто не ответил ему, то не было жестокостью — он понимал, — вечер был тих, и у людей на площади лица были хоть и озабоченные, но, в общем-то, умиротворенные, и это ласковое равнодушие мира поразило больше всего. И горько стало оттого, что это равнодушие было созвучным его собственному равнодушию, — все справедливо. Но он избит до полусмерти, от жажды умирает: «Аб!»
Тут кувшин с холодной водой коснулся губ его, он пил, пил и никак не мог напиться, никак не мог затушить пожар внутри. Что может быть слаще воды! Какое счастье сравнится с этим, когда умираешь от жажды. Пустыня сказала: «А» — и впереди еще был целый алфавит.
Увидев, что француз очнулся, старик с кувшином, не вставая с корточек, крикнул:
— Эй, Бердымурад! Забирай его!
— Какой Бердымурад? — спросили старика.
— Бердымурад из Гонурлы, есть он тут?
Подошел молодой туркмен.
— Бердымурада из Гонурлы нет, яшули, но есть я — его младший брат — Эемурад Гонурлы.
— Ну что ж, если ты брат, забирай его, да смотри не продай за бесценок, говорят, он все науки одолел, теперь вроде муллы. Мулла Перенгли. Разбогатеешь, когда продашь.
— Я знаю, яшули, что это мулла Перенгли, но лучше бы ты дал нам какого-нибудь необразованного перса, на этом, видно, не очень-то разбогатеешь, я и до аула его не довезу, еле дышит.
— Бери что дают! — сказал старик делитель. — А довезти— довезешь, это он с виду хлипок, смотри, как били, а он хоть бы что! Довезешь.
Эемурад Гонурлы с сомнением покачал головой, но с яшули не будешь же спорить.
Усадив Блоквила в седло, Эемурад увидел, что привязывать не надо, может сам в седле держаться, — это уже хорошо. Вид у француза был страшный: губы раздулись, посинели, глаз затек, почернел, кровь запеклась, смешалась с пылью, покрывала голову коростой. С другой стороны— сам виноват. Ты ж в плену! А поднял на победителя руку. Даже не руку, а ногу! Да тебя ж убить за это мало! И все же… подавая поводья, Эемурад вздохнул и, пряча глаза, подумал: «Отделали здорово!»
Выехали из Мары. В село Гонур кроме Блоквила гнали группу человек в двадцать. Мимо нее проезжая, Блок-вил крикнул:
— Интересно, почему нас всех разводят маленькими группами в разные стороны?
— Как почему, — отвечали ему, — не хотят, чтоб мы были вместе, хлопот меньше.
«Ясно, — подумал Блоквил, — не такие уж они и дураки, как говорил Кара-сертип». И вот уже нет больше Кара-сертипа, где-то принц Хамза-Мирза, жив ли, а если жив, ждет его встреча с шахом, Блоквил не завидовал принцу.
Безразлично и скучно выгибая тюленьи спины, тянулись во все стороны барханы, ветер срывал с них песок, катил верблюжью колючку. Блоквил ехал навстречу своей судьбе и все удивлялся: «Неужели ради этих бессмысленных песков огромное войско два месяца шло сюда из Персии проливать свою и чужую кровь?!»
Дом Эемурада был самым крайним в селе Гонур, к вечеру доехали. Теперь по крайней мере руки должны ему развязать, все ж необычный он пленник. Его одного везли на лошади. Позднее он узнал, что туркменам было известно и про бумагу, хранящуюся в Тегеране, в посольстве! Руки ему действительно развязали, но лишь для того, чтобы связать ноги. Так что радоваться было нечему.
Как только спешились, стали сходиться люди, чтоб посмотреть на «удивительного желтоволосого пленника», которого привез молодой Эемурад. И вскоре вокруг француза уже стояли многие аксакалы. С молчаливым достоинством, опираясь на посох, взирали они на него. На их каменных лицах нельзя было ничего разобрать. Наоборот, женщины, стоящие чуть поодаль, по-детски ахали, жестикулировали, тыкали пальцем в его сторону. Подростки презрительно фыркали, озорные мальчишки норовили ткнуть в него веткой саксаула или бросить куском сухого кизяка. Старшие отгоняли их. А в общем-то полсела сбежалось: галдели, удивлялись, всем было весело. Кроме него. Блоквил думал: «Я похож сейчас на обезьяну в клетке, ну, а туркмены — на людей, которые ни разу в жизни не видели живой обезьяны, — он вспомнил своих парижских друзей. — Интересно, что бы они сейчас сказали, увидев все это?!»
Тут, оседлав палку, прискакал худой старик, три длинных волоска были у него вместо бороды, а глаза горели, как угли. «Сумасшедший!» — догадался Блоквил. Это действительно был Сары-сумасшедший. Кто с суеверным ужасом, кто просто так — на всякий случай — все шарахнулись в сторону от Сары-сумасшедшего. Блоквил не мог и шагу сделать, остался стоять. Сумасшедший же, подскакав, совсем близко притормозил своего деревянного коня и с жаркой пристальностью стал вглядываться в его лицо. Хотелось зажмуриться, но, помня эпизод в Мары, Блоквил старался отвечать спокойным взглядом. И все ж не удержался, отшатнулся — вместо пояса у сумасшедшего болталась, дважды обвив его, живая змея. Совсем близко видел Блоквил полураскрытую пасть змеи, неуловимо быстрые, какие-то струящиеся движения тонкого языка. Как медленно она дышала, не мигая, как и Сары-сумасшедший, не спуская глаз с Блоквила. И что у них за мысли были на уме при этом — бог весть. «Будь что будет!»— решил Блоквил, готовясь на всякий случай к худшему.
Но тут как раз из дома напротив, покашливая, вышел пожилой туркмен в накинутом на плечи новом тулупе. Это был высокий, плотный здоровяк, с окладистой бородой и высоким лбом. Небрежно накинутый на плечи дорогой тулуп подчеркивал юношескую стройность фигуры, хотя лет шестьдесят — шестьдесят пять наверняка ему было. Глаза смотрели умно, чуть насмешливо. Услышав покашливание, сумасшедший радостно «подскакал» на своем коне к старику, а Блоквил перевел дух. Старик же змеи не испугался, сам протянул сумасшедшему обе руки и что-то негромко сказал ему. Невероятное напряжение отразилось на бледном лице сумасшедшего, и, кажется, за самый хвостик сумел поймать он какую-то мысль, внушенную негромким голосом красавца старика, во всяком случае вдруг радостно засмеялся и куда-то ускакал.
Тогда люди окружили поближе француза. Один за пистолетом его потянулся, другого заинтересовала курительная трубка, третий уже откручивал блестящую пуговицу. Старик, пожав плечами, подошел к ним, и толпа посторонилась. Это был Мухамедовез-пальван — двоюродный дядя братьев Бердымурада и Эемурада. Не хан и не бай, но за справедливость, за мудрость его уважали здесь почти все. Взглянув на Блоквила вскользь, с подчеркнутым равнодушием, мол, видел я таких немало, и в Мекке, и в Медине, он молча забрал у молодого парня трубку француза и отдал хозяину. Блоквил, принимая трубку, учтиво склонил голову, но это прошло незамеченным, во всяком случае на суровом красивом лице Мухамедовез-пальвана ничего не отразилось. Он глянул на другого парня, в руках которого был пистолет француза, и, усмехнувшись, произнес: «Такому джигиту сабля более к лицу, чем эта красивая игрушка!» Но пистолет не тронул.
— Пальван-ага! — тогда плачущим голосом сказал тот, у которого отобрали трубку. — Конечно, что можно взять с такого бедняка, как я! Даже трубки я недостоин!
Старик, не отвечая, долгим взглядом посмотрел на парня, и тот замолчал. Тогда Мухамедовез-пальван, ни на кого в отдельности не глядя, спросил:
— Что? Никогда людей не видели?
— Таких — нет! — выкрикнул кто-то из толпы, но суровый старик решительно сделал шаг в ту сторону, откуда выкрикнули, и толпа попятилась.
А потом один налево стал уходить, другой направо. У кого-то общее дело отыскалось, вдвоем, втроем заспешили прочь, и вскоре возле француза остались лишь Мухамедовез-пальван да парень с пистолетом, все еще не уверенный — насовсем ли у него остался пистолет.
— Я не враг вам! — горячо заговорил Блоквил, обращаясь к Мухамедовез-пальвану. — Снимите с меня веревки, отдайте пистолет, он дорог мне как память, я ведь не враг!
Мухамедовез-пальван не знал персидского языка, и переводил этот парень с пистолетом, недавно вернувшийся из плена.
— Ну что ж, — подумав некоторое время, так отвечал Мухамедовез-пальван, — в твоих словах правда. Но мы ведь не приглашали тебя на наше богатство, ты сам пришел, в руках у тебя этот пистолет, ты пришел вместе с персами! — лицо его вдруг стало темнеть, словно кто-то душил его.
Тут на улицу выехали со стороны Мары три всадника, средний из них поперек седла придерживал тело, завернутое в кошму. И сразу в том доме, куда подъехали скорбные всадники, раздался детский крик и женский вой. Такой же слышался и в доме напротив, и в конце улицы, и еще где-то… и еще… Француз был слишком занят своими переживаниями, а теперь вот слышал, понимал, что это такое, и ему становилось страшно…
Всех пленников разделили на небольшие группы, человек по пять, по десять и содержали в загонах, сделанных из кустов дерезы, что-то вроде скотного двора. Тех же, кто был помоложе, поздоровее и мог отважиться на побег, поместили в корпечах для ягнят и на ночь выставляли стражу. Кормили плохо, лишь бы с голоду не умереть. И дело не столько в экономии, а был тут и расчет— обессиленный от голода далеко не убежит.
Для француза вырыли отдельную яму, стерегли день и ночь, мало того, в яму вбили железный кол, к которому привязывали на ночь. Правда, ему единственному из пленных был выдан тюфяк, набитый соломой, да и кормили получше. И все же он предпочел бы общую участь, вместе со всеми в загонах или корпечах. Днем в яме было душно, солнце в полдень припекало, приходилось через каждый час перетаскивать соломенный тюфяк, на котором в основном и проводил он тоскливые дни.
А дни шли за днями. Пока это караваны купцов из Хивы и Бухары, извещенные о дешевой продаже рабов, доберутся до Мары! И так же медленно тянулись в яме дни за днями. Уже с утра, пока прохладно, Блоквил начинал расхаживать как маятник — два шага туда, два обратно. Часто наверх поглядывал, где-то поблизости охранник, старик с шемхалом, может, хоть из любопытства заглянет в яму. Но виден был лишь квадрат неба, иссиня-черного с утра или белесого в полдень. Когда уставал, то садился на тюфяк, вытягивал ноги и прислонялся спиной к осыпающейся стене. Прикрыв глаза, вспоминал учебу в университете, жизнь после учебы в Латинском квартале, Сену, по набережной которой любил бродить смутными июньскими ночами. Потом покинул шумный от студентов квартал, переехал на улицу Нотр-Дам-де-Лорет, снял квартирку напротив маленького галантерейного магазинчика. Подружился с хозяином магазина господином Лантэном, частенько по вечерам ходили вместе пить абсент в соседнее кафе. У Лантэна была дочь Тереза. Они полюбили друг друга, недалеко была уже и свадьба. Но Тереза умерла во время эпидемии холеры в 1849 году, и Блоквил, чтобы как-то забыться, много путешествовал, объездил почти всю Европу. Потом решил открыть собственную мастерскую по изготовлению артезианских насосов, нужны были деньги. И тут подвернулся случай: всего лишь за полгода он может обзавестись необходимой суммой. Так он оказался здесь, на чужой земле.
Уже не казалось ему сидение в яме таким утомительным, проснувшись, он сразу начинал вспоминать. Начать можно было с чего угодно: с фасада Нотр-Дам, например… Все теперь казалось таким далеким, неправдоподобно привлекательным. Каждый день той жизни был драгоценным камушком, перебирать их было сплошным удовольствием… Почти каждое воскресенье, едва рассветало, Блоквил — заядлый рыболов — с удочками и жестяной коробкой выходил из дома и садился на поезд, следующий до Аржантейля… Он выходил в Коломбе и шел потом пешком до островка Марант, где и удил своих пескарей. И не было до вечера человека счастливее его… Или вспоминал, как ездил на каникулы к дяде в Жюмьеж. Легкий экипаж вез его сначала по лугам, потом лошадь, замедляя шаг, взбиралась на косогор Кантеле. С косогора великолепный вид: слева — Руан, город церквей, готических колоколен, справа — Сен-Севэр, фабричное предместье, сотни дымящих труб. А внизу красавица Сена, извилистая, усеянная островами, справа белые утесы, над которыми темнеет серый лес, слева — безбрежные дали лугов, дымчатая полоска леса на горизонте. На реке большие и малые суда: шхуны, бриги, колесные пароходики, в Гавр плывут или, наоборот, из Гавра, маленький, похожий на утюг, буксир, распустив стружкообразные усы волн, с натугой тянет огромную баржу…
Однажды утром, едва проснувшись, он тут же хотел было закрыть глаза и пуститься в воспоминания, но спускавшийся сверху паук привлек его внимание — не каракурт ли? В яме у него была палка, которой давил он скорпионов и фаланг. Каракурт же пока не встречался, и это был не каракурт — простой серенький паучок. Блоквил зачем-то посчитал, сколько у него ног, оказалось восемь. «Всю жизнь думал, что шесть, — удивился он, — а у него их, оказывается, восемь». Глаза вблизи из черных в изумрудные превратились, в серой окраске сиреневый оттенок появился, а ножки пятиступенчатыми оказались. Мало того, заканчивались микроскопическими саблевидными коготками! Но это увидел Блоквил, почти вплотную разглядывая парящего в воздухе утреннего пришельца. Пара усиков торчала спереди, они были загнуты, как салазки, и не шевелились. Блоквил подставил руку, чтобы паучок в нее опустился. Наверное, приятно будет подержать такое маленькое, такое легонькое создание природы в огрубевшей ладони. Но только он поднес к нему руку, как паучок стремительно взмыл по невидимой нити и исчез. Блоквил опечалился. Попробовал было Париж вспоминать, но ничего не получилось, игра надоела, камушки выскальзывали из рук, все больше наверх поглядывал, куда исчез паучок.
В этот день паучок так больше и не появился. Небо тихо темнело, какими-то сочными, однако ж не смешивающимися друг с другом полосами. И эта исхлестанность неба при окружающей тишине, умиротворенности даже поразила его. День был уже на исходе. Еще один день вычеркнут из жизни, наступал безымянный час, скоро принесут ему немудреный ужин, и вслед за этим — сразу ночь. Чернота, пробитая миллиардами сверкающих гвоздиков. И словно на самом дне величественного водоема лежит Блоквил на своем соломенном тюфяке. Вот сорвалась одна звезда… Еще один день канул в Лету, еще на один день теперь ближе к концу… Под этим тихо исполосованным небом все большей тоской наполнялась его душа, даже прошлая жизнь не звала так яростно, как прежде, прошлый дух умирал. Но медленно рождалась какая-то истина. При последних отсветах тихого вечера Блоквил попытался рассмотреть собственное отображение в донышке жестяной тарелки.
Тут он увидел, как напротив, из норы по-видимому, из угла вышли две земляные лягушки. Он стал тихонько наблюдать за тем, как они охотятся в сумерках на мух и комаров. Это занятие доставило ему удовольствие.
На следующий вечер лягушки снова пришли. И еще, и еще… Он уже не боялся тихих вечеров, наоборот — их ждал. Ждал, когда появится неразлучная пара лягушек. Днем он ловил для них мух, которых было вокруг в избытке, а вечером подбрасывал лягушкам. И вот что выяснилось: стоило мухе притихнуть и лежать неподвижно, лягушка не могла ее обнаружить, хотя бы она и была совсем рядом. «Видно, глаз ее устроен не так, как у нас, — догадался Блоквил, — видит лишь движущийся предмет». Он вытянул из тюфяка соломинку и осторожно стал двигать неподвижную муху — тотчас длинным стремительным языком лягушка подхватила муху, и та исчезла, как и не бывало. Это обрадовало Блоквила, его догадка подтвердилась, он радостно подумал, что природа, в сущности, ведь совсем открыто и вблизи нас распределяет все, что может сделать нас лучше или счастливее.
И с этого вечера он начал пристально вглядываться во все, что его теперь окружало. Не обязательно ждать вечера, когда можно будет покормить лягушек, ставших почти ручными. Не обязательно, подставив руку, ждать долгое время осторожного паучка с изумрудными глазами. Всмотрись в мир около тебя — и ты увидишь многообразие, пугающее с непривычки. Вот высохшие корни какой-то бурной прошлой жизни, вот гнилушка — свет ее по ночам холоден, напоминает взгляд осьминога, вот просто песок, но зачерпни и поднеси к глазам: двух одинаковых песчинок не отыщешь! Даже если просто лежать и глядеть часами в небо, сколь невообразимы формы плывущих облаков, сколь совершенны и стремительны линии, по которым проносятся птицы над тобой…
Понятие о времени изменилось. Блоквил и не представлял, какими длинными и вместе с тем какими короткими окажутся дни его в этой яме с осыпающимися потихоньку краями. С мягким шорохом осыпается песок. И так же тянется день-ночь, и не заметишь, как сливается с такими же, как и вчера, днем… ночью… Да и сами названия сливаются в этом постоянном шорохе времени: вчера… сегодня… завтра… слова, утратившие смысл. Когда ему сказали, что уже февраль, что он уже просидел три месяца, он поверил, но осознать этого не смог. И, лишь выбравшись из ямы, распрямившись, вздохнувши полной грудью, увидел, что действительно февраль вокруг. Ветер с юга гнал синее небо и запах миндаля, ветер с севера нес мокрый снег; холмы еще в снегу, но песок вокруг уже подсыхал. Черепахи ожерельями зеленых камней окружали такыры. Верблюды линяли. Туркмены скинули четвертые халаты, остались лишь в трех, но все еще теплых. На песках золотел уже молочай и ярко разгорались маки. Впервые так остро почувствовал он всю меру своей общности со всем этим, что его сейчас окружало… Что ж, Франция… прекрасная страна, но она — мизерная частица беспредельного мира.
Подкормив, пленников погнали в Мары на рабский рынок. Блоквила и тут подняли чуть попозже, везли на лошади, по-видимому, очень надеялись получить за него намного больше, чем за обычного пленника.
Когда добрались до Мары, на большой площади уже началась торговля людьми. С каким-то нездоровым интересом, как бы и о собственной участи позабыв, вглядывался Блоквил в это страшное дело. Люди продавали, словно скот, людей. Все достижения человеческого благородного духа меркли перед этим, все мировые памятники культуры рушились в пыль и прах. Человек — царь природы — как слеза на реснице: так легко его стряхнуть в пыль и в грязь.
Купцы хивинские, купцы бухарские, на лошадях, разукрашенных серебром и парчой, были озабочены: как бы не переплатить. С одной стороны, рабов действительно на этот раз нагнали много, и можно цену сбивать до последнего, с другой же стороны — не дашь цены последней, ведь перекупят, уведут товар из-под самого носа. Надменные купцы собирались по чайханам кучками, по двое, по трое, шептались, договаривались, приглядывались к пленникам. А широкая площадь вокруг кишела народом, как муравейник. Ведь помимо рабов, пользуясь случаем, дехкане из соседних аулов навезли винограду, персиков, дынь, привезли сюда и соль, и рис, и пшеницу. Но главный товар был, конечно, рабы.
Было еще рано, но в азиатской синеве парило неподвижное солнце, теперь оно так и будет висеть неподвижно до самого вечера, когда, оставив наконец оцепенение, быстро покатится к холмам, к дувалам, краснея все больше, теряя лучи, исчезая.
Основные торги еще не наступили. И в чайханах, подобрав ноги, богатые купцы в чалмах, в папахах, тюбетейках неторопливо пили чай. На подносах лежал виноград. Тени акаций пятнали ковры и паласы. Богатые купцы из Бухары, из Хивы, которые привели сюда тяжелогруженые караваны, не торопились. Пусть немного схлынут мелкие торговцы. А те, привязав лошадей в тени глиняных дувалов, теснились шумно у лавок: покупали и сами продавали. Покупали кушаки, халаты, кривые сабли, седла. Продавали соль, изюм, хлеб, насыпали в хурджуны отборный рис, торговались до хрипоты. Устав торговаться, садились на корточки, доставали табакерки и сыпали под язык купоросный нас. И снова торговались. Наконец развязывали кушаки, где лежали деньги. Когда мелкая торговля схлынула, начались главные торги.
Высокий старик в новой папахе, опираясь на сучковатую палку, поднялся на солончаковый холм и дал знак маленькому, толстенькому человечку. Человечек оказался глашатаем. Он заткнул правое ухо, словно именно через правое ухо и могла произойти утечка звука, широко раскрыл рот и пронзительно закричал, обращаясь на персидском к пленным:
— Дехкане весом до пяти пудов, пройдите налево!
Пленники, которые уже устали ждать, оживились, затолкались, потянулись налево, не обошлось и без курьезов. Один пленник замешкался, ему кричали:
— А ты чего же!
— Да у меня живот, — тот хлопал себя по воображаемому животу.
— Через твой живот спину чесать удобно, все позвонки видны, идем уж с нами, налево!
И вскоре все, в ком было до пяти пудов, собрались по левую сторону холма. А глашатай, опять закрыв ладонью правое ухо, еще пронзительнее закричал:
— Всем мастеровым подойти во-он к тому тамариску!
Мастеровых немного оказалось, мирное мастерство и война — вещи несовместимые. На месте остались лишь те, в ком больше пяти пудов, эти силачами считались, цена им хоть и поменьше, чем мастеровым, все же высокая будет. Только-только поделились, среди силачей возникла драчка, двое сцепились. Их вытолкнули, подвели к холму, и старик в папахе строго спросил, зачем дрались.
Оказалось, что эти двое хотели скрыть свое ремесло. Один хорошо делал косы, за две цены идут на базаре. Другой быков умел кастрировать. Того, что косы делает, старик к мастеровым отослал. Умение же быков кастрировать, видно, не показалось старику настоящим мастерством. Во всяком случае, немного подумав, он пленника отправил обратно к силачам.
И началась торговля. Купцы подходили и вновь отходили, щупали мускулы у пленников, в рот заглядывали, качали головами, хлопали руками о полы халатов, воздевали руки к аллаху, умоляя снизить немыслимую цену, призывали в свидетели первого встречного, что такой цены не было, нет и быть не может. Призывали в свидетели самого пленника — не было уже сто лет такой цены за простого раба!
— Скажи, скажи ему, уважаемый, ведь ты ж не стоишь столько, сколько требует за тебя этот хитрец, ты ж не знаешь никаких ремесел, ноги твои слабы, с мешком муки в пять пудов ты не пройдешь и ста шагов… вот и зуб у тебя шатается… и левый глаз с бельмом…
Шум, крики, споры — торг разгорался. Блоквил с самого начала был поставлен в сторонке, и движения купцов вокруг него если и не были такими шумными (в основном-то напоказ), как вокруг других, то были конечно же более напряженными. Все купцы знали уже о бумаге, что хранилась в посольстве в Тегеране. Не зная же сути бумаги, намного преувеличивали ее значение. На базаре были пленники очень именитые, они так же стояли в сторонке. Были такие, что удостаивались чести сидеть с самим шахом за одним обедом, были отдаленные родственники шахской фамилии— выкуп за них будет изрядным. Но и у этих — именитых, держащихся среди пленников особняком, — не было бумаги! Слово «бумага» вокруг него произносилось чаще других, как магнит это слово притягивало купцов, каждый мечтал заполучить такого необыкновенного пленника.
Большие круги вокруг него все сужались, вот уже Блоквил был плотно окружен кричащими, спорящими купцами. Один уверял, что это племянник французского короля, другой же клялся, что этот желтоволосый пленник никакой не племянник французского короля, а просто-напросто колдун. Одним словом, купцы ругались, спорили, перебивая сами у себя и без того высокую цену. И цена росла и росла. И туркмены из села Гонур, знавшие наверняка, что француз никакой не племянник королю и уж конечно не колдун, даже эти уважаемые яшули, услышав о баснословной цене, поверили сами в магическое слово «бумага»! Ну, а поверив, естественно, стали до того надменны и неприступны, что купить у них француза уже не было никакой надежды. Но купцы ведь богаты. Они плевались, ругались, отходили, обещая больше ни за что не подойти, и вновь оказывались тут же. Таинственная бумага где-то во французском посольстве в Тегеране, за семью замками, с гербовой печатью, с какими-то неразборчивыми подписями каких-то больших людей — все дело было в ней.
Вот подошел молоденький купчик в щегольских узконосых сапожках из нежного зеленого сафьяна, на нем был модный халат и пуховый пояс, обсыпанный сверкающими блестками. Черные усы нафиксатуарены, торчали в разные стороны и были настолько длинны, что видно их с затылка. Купец приветливо поздоровался с братьями Эемурадом и Бердымурадом — хозяевами Блоквила. На француза же и не глянул.
— Назови цену! — обращаясь к старшему, сказал купец и плетью слегка дотронулся до Блоквила.
— Цена десяти рабов!
— Нет, — зашептал в самое ухо старшему брату, — ты скажи мне окончательную цену, понимаешь, дорогой Бердымурад, окончательную, я же покупаю!
— Окончательная — цена десяти рабов, неокончательная— цена девяти рабов.
— Да сейчас рабов что песка! — и, поигрывая плетью, усатый отошел.
В самом деле, чего-чего, а после разгрома многотысячного войска персов рабов на марыйской земле хватало. Но поскольку постоянного рабского рынка в Мары никогда не было, то местные туркмены и не представляли, что это такое — торговля рабами. Купцы обхаживали их изо всех сил, ссылались на долгий, полный опасностей путь, который они проделали со своими караванами, на затраты, которые понесут, с рабами возвращаясь. Ну, а главное, сговорившись, упирали на то, что сейчас рабов предостаточно и в Бухаре, и в Хиве. Особенно в Бухаре, так как бухарский хан их много захватил в последнем походе.
Вот так, цену сбивая, и покупали рабов по дешевке. Одни братья еще держались со своим пленником-фран-цузом, и все больше купцов вокруг них крутилось, всем хотелось урвать лакомый кус.
Снова усатый подошел, уж очень ему хотелось привезти в Бухару необычного раба, удивить там всех. Не все ли равно, кем он позднее окажется — колдуном ли, племянником ли французского короля. Сразу видно птицу по полету — такого раба еще не бывало! Усатый, приблизившись, на этот раз спросил не хозяина, а самого раба:
— Какую цену ты сам на себя установишь?
Общение с туркменами ограничивалось несколькими фразами, и Блоквил обрадовался возможности поговорить с человеком, владеющим персидским языком, он усмехнулся и сказал:
— Если я сам буду себя оценивать, пожалуй, не хватит никаких денег.
— Хватит, хватит, — купец похлопал себя по пуховому поясу, — еще и останется! — И, понизив голос, произнес: — Вокруг тебя собралось много покупателей, но все они одна бестолковщина, поверь мне, я же хочу тебя выручить, спасти, мы вместе уедем потом на твою родину, ты будешь свободен…
— Выходит, я буду свободен?
— Вот именно, вот именно, ты правильно понимаешь!
— Но… но за это благородное дело не жаль отдать цену и двадцати рабов, когда просят всего лишь за десять.
Передернувшись в досаде, усатый купец отошел. Но тут же подошел другой покупатель — купец из Хивы.
Да, Блоквил был необычный раб! И синебородые яшули из села Гонур решили, в конце концов, не расставаться с ним, дело, видно, слишком серьезное, продешевить тут — раз плюнуть. Будешь потом локти кусать, да поздно. И они посоветовали братьям поскорее домой возвращаться, связываться непосредственно с Тегераном, где лежит за семью замками таинственная бумага, и уж получить за пленника по справедливости все, что причитается. Нет, ни копейки больше они не хотели, аллах тому свидетель! Ну, а продать за бесценок — обидно. Они ведь не богачи, чтоб за бесценок продавать, а сколько он стоит — десять рабов, двадцать рабов, — кто ж без бумаги знает! В общем, приняли мудрое решение — не продавать. И, очень довольные этим, отправились обратно.
Покидая базар, Блоквил стал свидетелем странного эпизода, и поразившего его в самое сердце, и рассеявшего несколько мрачноватые мысли после этой страшной торговли живыми людьми. Мужчина и старая женщина подвели к старейшинам юношу-пленника. Мужчина хотел его продать, старуха же не соглашалась.
— Я знаю тебя, Болджы-эдже, — ласково обратился к ней один из старейшин, — у тебя же нет ни скота, ни земли. Зачем тебе раб?
— Бедняжку увезут и продадут, а мать у него совсем слепая, он и воевать-то поехал, чтобы ее прокормить. А потом… мы столько дней с ним делили хлеб-соль, ну, что — у меня действительно нет ни скота, ни земли, буду держать его… просто так, может быть, потом как-то все разрешится и… он вернется к своей слепой матери, бедняжка… ему нет и семнадцати…
— Бедняжка! А с кинжалом на нас пошел!
— Может быть, и был у него кинжал, но поднять на человека он его не смог бы, это я вам точно говорю, старая Болджы! Ради аллаха, отдайте мне его в сыновья, у меня же никого нет… я заплачу, заплачу, — старуха быстренько развязала узелок, руки тряслись у нее при этом, и вытащила серебряное ожерелье, — вот-вот, нате, я носила, когда молода была.
Старейшина взял ожерелье, повертел в руках, вздохнул. Ему показалось, что он видел когда-то на молодой Болджы это ожерелье. Какая же она была красивая в молодости, да и он когда-то был джигит что надо!
Он вернул ожерелье старухе. Потом рукой махнул; мол, забирай без всякой платы. И оба они — юноша-перс и старая Болджы, — от счастья сияя, быстро взявшись за руки, покинули базар. Словно мать с сыном, словно две родственные души в этом океане песка. Блоквила этот эпизод потряс, ему судьба не обещала ничего подобного, хотя кто знает… Ведь действительно один лишь аллах знает, что потеряешь ты за первым барханом, что найдешь за вторым…
Блоквил не знал, радоваться ему или печалиться, что он не продан и возвращается обратно в село Гонур. Все ж неизвестно, что ждало его, попади он в Бухару или Хиву. А тут… по-видимому, опять яма. Но это все уже испытано им, понятно и… в общем-то не так и страшно. По мере того как караван взбирался на бархан, все шире открывалось пространство перед ним, все отчетливее разливался вечерний свет и чище становились звуки. Казалось, и земля, и голубые небеса звенят на одной умиротворенной ноте, и эхо ее заполняет все вокруг. Уже показалось село Гонур, стадо верблюдов поодаль на красноватой земле было подобно завитушкам-иероглифам, смысл которых надо было разгадать. От этою зависела его судьба, возможно — жизнь. Что ждет его в той жизни, куда возвращался он? Приближался быстро вечер, и свет угас, заструился. Людей еще нельзя было разглядеть, но Блоквил уже думал о них. О странной горстке, закинутой в пустыню, отрезанной от… от Парижа, от Сены… вообще от всего мира. Солнце опустилось, и небо на западе стало быстро краснеть, на востоке густели, наливались синие сумерки, где-то на краю села завыла собака, потянуло дымком, уютом. И Блоквил почувствовал, как сильно он устал за этот день. Почти всех пленников распродали, по пять, по шесть, не более, теперь их оставалось по марыйским аулам, в Гонуре же — один Блоквил. Положение его стало более сносным. Во-первых, его перевели в сухую землянку, старое одеяло дали, кусок кошмы, в очаге весело пылал огонь, потихоньку налаживался какой-то быт. Во-вторых, он чувствовал себя посвободнее, мог ходить по всему селу и его окрестностям. Правда, никаких сведений ни из французского посольства, ни из самого Тегерана не поступало. Но он ждал. А что еще оставалось делать? Не слыша никакой другой речи, месяца через два-три стал немного понимать по-туркменски. Его хозяин, молодой Бердымурад, был человек тяжелый, затяжка с ответом из Тегерана сделала его еще более вспыльчивым. Остальные же жители аула относились к Блоквилу хорошо, называли «муллой Перенгли». Первыми же, конечно, к нему привыкли дети, они же частенько сопровождали его, когда бродил он по окрестностям, расспрашивая, как называется по-туркменски эта птица или это дерево. А когда однажды он вправил руку маленькому Чарыяру, упавшему с лошади, дети подружились с ним еще больше. Кормили не очень хорошо, и в первое время он постоянно испытывал чувство голода. Но «мулла Перенгли» видел, что туркмены за редким исключением и сами едят ту же пищу, и не мог роптать. А через полгода привык и уже наедался, да и вообще пища, как таковая, все меньше занимала его. Куда больше занимали люди, что его окружали теперь. Долгими зимними ночами, под вой ветра, под тоскливый вой шакалов многое передумал «мулла Перенгли». Вспоминал беспечную молодость, ветреных, таких же, как и он сам, друзей, всю прошлую жизнь, возможно, и яркую в сравнении с той, что была вокруг. И все же эта прошлая жизнь теперь отсюда, из низенькой землянки, из черных каракумских песков, казалась неправильной, ненастоящей. Одну лишь матушку, так рано умершую, вспоминал он как что-то цельное, истинное и очень жалел, что мало любил ее в свое время. Да теперь уж не вернуть. Он смастерил светильник, залил его жиром и теперь по вечерам зажигал его, ложился — руки за голову — и глядел на тени, отбрасываемые пламенем очага и светильника. Он думал: зачем воюют люди? Зачем огромное человеческое общество поделено на десятки тысяч обществ: персов, французов, туркмен и многих-многих прочих? Зачем одно общество нападает на другое — завоевывает, грабит, уничтожает? Какое-то смертельное колесо начинает двигаться, и огромная машина уже преисполнена безудержным духом разрушения, начинает причинять страдания. Потом начинают причинять страдания в ответ, уповая на то, что возмездие — единственное лекарство, которое может быть применено к насилию. Получается какая-то дурная бесконечность. Покопавшись в университетских знаниях, вспомнил он, как давным-давно один афинский солдат в ионийской армии азиатских греков случайно поджег Сарды. Город, построенный из легковоспламеняющихся материалов, сгорел дотла. Персы же были убеждены, что это была не случайность, а настоящий акт агрессии, и это накладывает на них священную обязанность отомстить Афинам. И с этого в глубь истории уходящего времени начинают собирать последовательно одну за другой чрезвычайно широкие военные экспедиции. Вроде этой, в которой он так опрометчиво принял участие! Раскаивался уже много раз, да что в пустом раскаивании толку! Афины были сожжены до основания, вся их территория опустошена, все живое погибло. Особенно опустошительными были разрушения персов при Ксерксе[104] и Мар-донии[105]. Причинив неисчислимые страдания, разрушив все, что можно было сжечь и разрушить, персы остановились лишь тогда, когда не хватило сил продолжать агрессию, которую они называли справедливым возмездием. Точно так же называл нынешнюю военную авантюру и Кара-сертип! Естественно, что в свою очередь желание отомстить персам за этот гигантский разбой вызвало среди греков любовь к свободе, которая всегда была их отличительной чертой. Этим же, оказывается, отличаются и туркмены! А он-то думал, наивный, что этот темный народ не только сразу покорится завоевателям, но еще и с благодарностью воспримет ту культуру, те нововведения, которые они несли с собой. Да он ведь сам считал, что те карты, которые он собирался здесь составить, пойдут на общую пользу мировой цивилизации! Глупец он с поседевшими рано волосами, наивный глупец! К народам, мечтающим о свободе, рано или поздно являются полководцы. У греков появился Александр Македонский. Опустошения, сопровождавшие его походы, были огромны и ужасны. «Муллу Перенгли» вдруг поразила такая простая мысль: если бы всю мыслительную энергию, которая была затрачена в этих походах на создание механизмов, причиняющих муки людям, несущим им гибель, направить на развитие подлинного благополучия, насколько же счастливее стало бы человечество! Ведь это же так ясно! И, однако, проходят века за веками, а какой народ был удержан от военных неистовств примером разрушения прекрасной Аттики персидскими полководцами Мардонием и Ксерксом? Кого удержал еще более ужасный пример уничтожения целой персидской империи Александром Македонским?! А разве ж предлог для этой второй системы грабежа и насилия, системы Александра Македонского, не возникал непосредственно из первой?! Разве ж возмездие имело какой-то другой результат, нежели увеличение вместо уменьшения в мире массы коварства и зла, жестокости и фальши! И этот бесславный поход принес то же самое, слепой наивностью было — поверить во что-то другое! А впрочем, не совсем уж наивным был он — Блоквил, ведь ждал же он чего-то подобного, ждал и крови, и насилия, и страданий, но все это как бы его совсем не касалось, у него же гербовая бумага, он как бы здесь посторонний, он же не воевать сюда приехал, а… вполне с мирными целями, составлять карту колодцев, арыков, источников воды. Ах какая красивая наивность! Если не сказать больше. Разве ж не ясно тебе было уже там, в Тегеране, что твоя карта нужна завоевателям, чтобы легче покорять этот свободолюбивый народ, чтобы лучше потом управлять им! Однажды вечером он так же лежал, заложив руки за голову, и бесконечно размышлял об этом походе персов против туркмен, о собственном позорном участии в нем, вообще о несовершенстве человеческой природы. Времени теперь у него достаточно. Долгими зимними вечерами под вой ветра хорошо было вот так лежать и безо всякой суеты все-все обдумывать, как жил до этого, как дальше жить будет… В этот вечер к нему на огонек неожиданно пожаловал Мухамедовез-пальван. — Эссаламалейкум! Мулла Перенгли! — Волейкумэссалам! Мухамедовез-пальван! — Он очень обрадовался гостю. И, поздоровавшись, они уселись друг против друга. Блоквил уже понимал немного по-туркменски, но Мухамедовез-пальван не спешил с разговором, достал трубку, набил табаком, а Блоквил поднес уголек, заодно и свою раскурил трубку, вспомнив, что лишь благодаря Муха-медовез-пальвану осталась у него эта хорошо обкуренная трубка, помогающая коротать долгие вечера. Блоквил все ждал, что скажет Мухамедовез-пальван. Но тот покурил, помолчал и, попрощавшись, откинул кусок кошмы, служившей дверью, ушел, так и не сказав ни слова. «Зачем тащился сюда этот немолодой уже человек? — ломал себе голову Блоквил. — Шел ночью под злой вой ветра две версты по непролазной грязи, зачем?!» Покурили, послушали неясные ночные звуки и вот… ушел, странный человек. И еще раз пришел, примерно через неделю. И опять поздним вечером. Опять курили, сидя друг против друга, молчали. На этот раз, чтоб как-то начать разговор, Блоквил вспомнил первый день своего появления здесь, в ауле, когда сумасшедший так перепугал его своей змеей. — Зачем ему змея? — Змея? — неторопливо переспросил Мухамедовез-пальван и сладко выпустил дым из обеих ноздрей, — змея это змея… — и замолчал надолго, Блоквил уж подумал, что не дождаться ответа, но Мухамедовез-пальван продолжал: — У нас — туркмен — всего двести имен, а у змеи их тысяча, и каждая змея хранит свое имя в глубокой тайне. Если ты узнаешь ее имя, она склонит голову перед тобой! — он многозначительно поднял палец и окончательно замолчал. Мухамедовез ушел, оставив после себя медленность походки, рукопожатие мозолистой руки и молчание, которое все больше начинал Блоквил понимать.
Бердымурад — непосредственный хозяин Блоквила — мечтал за него получить хороший выкуп и разбогатеть, но он должен был и отвечать за пленника, кормить, поить, а ответа из Тегерана все не было, а ведь уже и лето кончалось, опять настала осень. Бердымурад все более мрачным становился, и так-то он был человеком не очень разговорчивым, а тут и совсем перестал разговаривать с Блоквилом. Но француз не очень обижался на него, понимал, что вспыльчивость его быстро проходит, а в душе он не только добр, но даже бывает нежен со своей женой Аннабиби. Порою до сентиментальности, что редкость большая для туркмена. Этопоследнее заметил он в Бердымураде, когда собрались как-то в просторном доме Мухамедовез-пальвана послушать бахши, который на дутаре исполнял песни «Кер-оглы». Послушать бахши — народного певца — впервые довелось Блоквилу, и за это он был опять-таки благодарен Мухамедовез-пальвану, который постоянно помнил о нем, делал все, что в его силах, чтобы скрасить хоть немного нелегкую жизнь пленника, чтобы сделал он — Блоквил — еще хотя бы маленький шажок на пути к истине. Высокий, плавающий как бы в поднебесье голос певца и монотонные, как серые бескрайние песни, звуки всего двух струн дутара захватили Блоквила целиком. На скатерти-дастархане стоял и плов, и таз с шурпой, но люди не притронулись к еде, зачарованные прекрасной песнею бахши. «Как мало, оказывается, людям надо!» — подумал Блоквил, незаметно оглядывая сидящих. И вот тут и заметил среди напряженно-счастливых лиц туркмен, как увлажнились глаза у резковатого, сурового Берды-мурада. «Э-э, да это жизнь тебя сделала таким!» — радостно догадался Блоквил и все простил ему в своей душе, отныне сделавшейся чистой, как родник. Бердымурад по-прежнему не разговаривал с французом, не отвечал при встрече на приветствие, приказания передавал через других. Чаще всего через жену свою, статную молодую Аннабиби. А возможно, в какой-то мере одной из причин такого холодного отношения была и сама жена, которая к Блоквилу относилась очень дружелюбно, изредка подкармливая голодноватого француза. Но дружелюбно к нему ведь относилось большинство населения аула. «Мулла Перенгли, — ему кричали дети, когда шел он по улице, — расскажи о своем Перене!» «Мулла Перенгли, — с жалостливым вздохом, протягивая лепешку, говорила какая-нибудь хозяйка, — попробуйте горячего чурека». Когда Блоквил вправил руку маленькому Чарыяру, он долго сидел у изголовья мальчика, ласково уговаривал, чтобы не плакал, спел даже песенку, какую в детстве пела мать Блоквила, и Чарыяр, рассмеявшись, уснул, забыв о боли. И это тоже не прошло без внимания у жителей аула Гонур, все доброжелательнее, все понятнее они становились. Да и Блоквил уже почти свободно говорил по-туркменски, узнал многие обычаи, и жизнь вокруг, казавшаяся раньше такой однообразно скучной, приоткрывалась перед ним во всей сложности, во всей противоречивости, являла такие грани, что он — дитя XIX просвещенного века — только диву давался. Сельская община — аул, в котором жил Блоквил, была основой общественной организации Туркмении во второй половине XIX века. Но и тут общество делилось на слои, положение которых было весьма различным. Это вначале ему показалось, что все здесь живут одинаково, присмотревшись же, увидел, что здесь, как и во Франции, люди делятся на богатых и бедных. Основных слоев в ауле было три. Первый слой — иг: полноправных общинников, как их здесь называли, «чистокровных», владеющих не только пастбищами, но и колодцами. Туркменская ж пословица гласит, что здесь родит не земля, а вода. Это были богачи. За ними шли гельмишеки, занимающиеся в основном издольщиной или владеющие небольшими участками земли. Это был средний класс, примерно такой, к какому относился сам Блоквил. И третий слой — слой кулов и грнак, то есть рабов и рабынь, положение которых было тяжелее, чем у Блоквила. Это были три основных слоя. Между ними появлялась еще и прослойка ярымов, родившихся от смешанных браков между свободными и рабами. Положение их было незавидным. Вообще патриархальность витиевато, как и положено на Востоке, здесь переплелась с жестоким рабством. Здесь до сих пор сохранился сапошник — общинная собственность на землю и воду. Здесь земельный надел — су — получал каждый женатый мужчина. Но этим в основном ведь пользовались баи, сосредоточивая в своих руках несколько наделов, путем женитьбы малолетних сыновей. Большой калым за невесту их не смущал, ведь баи богаты, а лишний надел окупится с лихвой. У бедняков же, как правило, не было возможности калым заплатить, лет до тридцати — сорока без жены оставались. А значит, и без надела земли, в бедности. Да, нелегко жили люди вокруг. Как и везде. И, все пристальнее вглядываясь в людскую жизнь, видел он, что черствость, жестокость обязательно соседствуют с жалостью и состраданием. И это открытие согревало его в долгие месяцы плена. А время шло и шло. Уже и год минул. Переговоры о его освобождении затянулись. Суетливая нетерпеливость, с которой ждал вначале результатов, уступила место душевной сосредоточенности. Не так он жил! Это было ему ясно. А как жить дальше? Конечно, узел можно разрубить, поехать паломником, как мудрый Мухамедовез-пальван, в Мекку и Медину, или… стать йогом, или… остаться здесь навсегда, с этими людьми, которых успел полюбить… Но чаще всего ночные размышления его при неверном свете коптилки были не очень конкретны: узел, конечно, можно разрубить, но ведь хотелось развязать. Но как? С томительным вниманием заглядывал в себя и… почему-то вспоминалась вдруг собака, зачем-то безжалостно загубленная Кара-сертипом… и самого Кара-сертипа было жаль. А впрочем, он ведь отстрадался уже, как и Тереза-бедняжка. Сегодняшняя боль вокруг стала близка Блоквилу, сегодняшние страдания вокруг. Теперь и скорпиона он палкой не убьет, подцепит щепкой, выбросит за дверь. А в последнее время и не выбрасывает — пускай себе, не тронет, если его самого не трогать. Какая-то гармония, вместе с чужой, со всех сторон кричащей болью, уже входила в его душу. И опять поражала такая, в сущности, простая мысль: зачем было ездить в разные страны, стремиться в музеи, замирать в благоговении перед редкими памятниками, когда сама Природа так близко от нас — ее детей — выставила все, что делает нас и лучше, и счастливее? А то, что лучше стал душой за этот трудный год, то это ж несомненно. И даже стал счастливее! Хотя, наверное, в это и трудно поверить. Но он-то твердо знает, что это так. Ибо почувствовал главное: человеческая душа, хотя бы и его собственная, оживляющая сейчас это бренное, полуголодное, прикрытое лохмотьями тело, наверняка в своей изначальной предназначенности осталась тем же — животворящим принципом любого самого низкого звена в бесконечной цепи бытия. Иначе чего бы ей, твоей душе, болеть чужой болью? Той же собаки, паучка, скорпиона… Как было больно маленькому Чарыяру, выпихнувшему руку, и больно матери его за страдания сына. Как самому тебе было больно, когда хозяин наотмашь ударил свою жену Аннабиби! А было так. Блоквил давно подметил, что Аннабиби примерно в одно и то же время, около трех часов пополудни, разводит огонь в тандыре и начинает печь свои лепешки. Если же в это время идет мимо прохожий, Аннабиби обязательно угостит его горячей лепешкой. Таков уж обычай. Блоквил освоил многие обычаи, и этот ему очень нравился. Выглядывая из своей землянки, которая была метрах в двадцати от тандыра, Блоквил выжидал еще с полчаса, затем говорил себе: «Пора!» Набивая трубку табаком, он не спеша начинал приближаться к тандыру за угольком, как бы для трубки. А вместе с угольком всякий раз получал изрядный кусок горячей, поджаристой, ароматной лепешки. Какой хороший обычай у туркмен! Правда, обычай требовал, чтобы прохожий отломил от лепешки лишь два куска, пусть и в пол-лепешки, остальное же с благодарностью надо было вернуть хозяйке. Но очень уж была вкусна на этот раз лепешка. Или Аннабиби улыбнулась ему сегодня очень дружелюбно, не потешалась, как раньше, над его туркменским произношением. Как бы там ни было, но только забыл про обычай Блоквил, спокойно отправился к себе в землянку. И тут же вышел Бердымурад: оказывается, он все это видел. Он подошел к жене и наотмашь ударил ее по лицу. Ударил так, что с головы ее слетел борук и упал на спину. Кусок застрял у Блоквила в горле, лепешка горькой показалась… Только вот за что ударил муж жену: за лепешку или за улыбку? — этого, пожалуй, не разгадать. Чужая душа потемки. В своей же душе день ото дня становилось светлее. Нет, не легко было стать самим собой, вернуть утерянную гармонию. Сколько ж дней он провел здесь, в окрестностях аула, который стал ему родным? Топтал пахучую полынь, трогал нагретые солнцем камни, пытался согласовать свое маленькое дыхание с тяжелыми ритмами мира, пытался свои маленькие мысли осветить большим светом истины. Какими же мелкими, недостойными показались собственные честолюбивые мечты разбогатеть, открыть мастерскую, доживать век в праздном безделье! Разбогатеть на несчастье других людей может лишь черная душа! Он благодарен был плену, который уже заканчивался: утрясались последние формальности. Он благодарен был людям, что более года его окружали, помогли подняться над самим собой, благодарен был этой земле. Приближалось время расставания, и все чаще ходил он в степь за аулом — попрощаться. И тогда, оглушенный дикими запахами, сонным жужжанием насекомых, пением птиц, он начинал вбирать в себя неподвластное величие этого знойного неба, начинал свободно, глубоко дышать, обретая наконец ту душевную цельность и благородную полноту, какая возможна лишь в юности. Это невероятное омовение в окружающей природе, казалось, забирало все силы. Ни воля, ни ум его почти не протестовали, когда приходило: «Остаться здесь навсегда, с этими людьми, здесь мое счастье!» Позабыв обо всем на свете, развеяться в этом ветре, в этом невыносимом солнце, в запахе полыни. Никогда он еще не испытывал такой отрешенности от самого себя, от своей прошлой жизни. И в то же время поражал сам факт своего физического присутствия. Да — он присутствует! И все. Никаких комментариев. И лишь едва заметный, как полынный пыльный запах, привкус смерти, которая ведь обязательно к каждому из нас придет. Но именно это общее сейчас и объединяло его и с этим краем, и с этими людьми, вчера еще чужими, сегодня родными уже. Тревога таяла, как утренняя тень, и вместе с этим вызревали, крепли силы отрицания. Этот внутренний отказ, который в нем уже созрел, отказ от всяких прав, порожденных культурой, происхождением, образованием, отказ от всяких кастовых, национальных привилегий, от той же мастерской, от домика на берегу моря, — все это не имело ничего общего с отречением. Просто в этой красноватой пустыне, населенной такими же страдающими, благородными сердцами, как и у него, ничего не значат такие слова, как «преуспевание», «положение». И если он и отказывается от чего-то, так это единственно лишь во имя сегодняшнего его богатства, во имя сохранения постигнутого за эти необыкновенно длинные четырнадцать месяцев плена. Которые, оказывается, так быстро пробежали!
День 4 декабря 1861 года стал последним днем пребывания в плену француза Гулибефа де Блоквила. Бердымурад на прощание устроил обед, его красивое лицо было грустным. И не деньги были тому причиною — а он получил за пленника от представителя Хорасана Юсуп-хана всего 1,864 тумена, то есть намного меньше, чем рассчитывал, — нет, не деньги были причиной грусти. Бердымурад сам незаметно привязался к «мулле Перенгли», и жаль ему было с ним расставаться. Хотя сдержан был Бердымурад по-прежнему. Остальные жители аула, наоборот, были возбуждены, горячо жали руку «мулле Перенгли», просили не забывать, просили простить им их невольные обиды. Последним подошел попрощаться Мухамедовез-пальван; положив руки Блоквилу на плечи, глядя прямо в глаза, он сказал: — Нелегкими были дни, которые ты провел среди нас, мулла Перенгли. Это так. Но ты сам подумай. Мы должны были быть построже со своим пленным. Мы могли и продать тебя кому-нибудь чужому. Может, человек, который купил бы тебя, относился бы к тебе еще строже, чем мы. Поскольку мы сами бедные люди, то и тебе пришлось жить в нужде. Ты был не прав, когда не раскрывал перед нами своей души, не верил нам… Ну, а теперь, если мы и обижали друг друга, простим друг другу обиды. Прости нас за все, а мы тебя прощаем. Пусть аллах поможет тебе добраться до своего народа. Аллахи акбар![106] Блоквил хотел ответить Мухамедовез-пальвану, так много сделавшему для него, что-то подобное же: теплое, хорошее, но горло сдавило, навернулись слезы. Он позабыл и о деньгах, которые выплачены за него, и о долгом плене, и о всех страданиях, унижениях, которые перенес. Он видел тех же самых людей, которые его окружили четырнадцать месяцев тому назад, когда привезли его сюда. Те же старики, опирающиеся на посохи, те же джигиты, женщины с детишками, которые подросли за этот год и были уже не на руках, а за юбки держались. Люди были те же самые и уже не те, в глазах их была неприкрытая грусть. Да ведь и сам Блоквил за этот год сильно изменился. В сущности, он был уже другим человеком. Все стояли и улыбались ему. Блоквил никак не мог тронуться с места. Тут мальчик выбежал из толпы и протянул что-то ему. Блоквил взял, глянул и с грустной улыбкой вернул: «Пусть останется это тебе, малыш, на память о «мулле Перенгли»! То была блестящая пуговица от нарядного костюма, в котором он появился здесь. Как давно это было! И где тот костюм! Давно исчез. А вместе с ним исчезло и все тщеславное, мелкое, суетное…
ВМЕСТО ЭПИЛОГА Когда небольшой, легконагруженный караван из семи-восьми верблюдов стал проходить мимо брошенного стойбища, мулла Перенгли соскочил с седла и побежал в сторону колодца. Он пробежал мимо полуразваливше-гося сруба и, перейдя на шаг, медленно направился к тому месту, где еще совсем недавно стояли две кибитки, тек светлый ручеек человеческой жизни. И вот ручеек пересох. Перед ним лишь холодные следы тярима да очага, который никогда уж не разгорится. Мулла Перенгли снял с головы шапку, серебристые волосы рассыпались волнисто по лицу. В памяти человека, возвращающегося на родину, встали как живые старый добрый чабан, Ила-ман с ножницами в руках, растоптанная юная Огульдже-рен, муж ее, умерший от горя. Из голубых глаз француза Гулибефа де Блоквила выкатились две крупные слезы и упали в эту сухую, многострадальную землю.
Ключ от рая (повесть)
Перевод П. Краснова
1
Этот знаменитый с некоторых пор холм под названием Попушгум расположен неподалеку от селения, чуть южнее. Холм, собственно, не был ни искусственным сооружением, возведенным в незапамятные времена человеком в оборонительных или других каких целях, ни могильным курганом, это была просто-напросто довольно высокая куча песка, насыпанная и скрепленная самим аллахом. До поры до времени, а именно до научно-технической революции, люди не придавали ему никакого особенного значения: изредка разве что поставит чабан с помощниками шалаш на его вершине да местные селяне унесут от подножия с полмешка песка на свои нужды… Но, повторяем, с некоторых пор среди людей, именующих себя механизаторами, Попушгум превратился если не в знаменитость, то, во всяком случае, в крайнюю необходимость для их известного всей стране хлопководческого труда. Причина всего этого была самая простая, техническая, или, если хотите, снабженческая, что, впрочем, почти одно и то же нынче, — не было аккумуляторов. Бывшие прежде аккумуляторы изработались, новых никто не давал, и вот наловчились трактористы загонять после работы свои «Т-40» на Попушгум, на самый скат: утром забирались в кабины, включали скорость, отпускали тормоза — и поехали… Те трактора, которые не заводились таким вот примитивным способом, брали на трос, с буксира заводили. И целый день потом все трактора эти усердно молотили двигателями, переводили солярку и нервы водителей независимо от того, нужно это было или нет: если заглушишь, без посторонней помощи в чистом поле не заведешь… Главное, чтобы работы не останавливались, так все считали. Человеку много чего надо, но иногда трактористам казалось, что в их селе Годжук есть все, кроме этих самых аккумуляторов… Их не удавалось найти не только наладчикам, бригадиру или главному инженеру, но даже и всеми уважаемому председателю колхоза. А ведь Арап-ага столько лет руководил колхозом, что уже, наверное, и не помнил себя не председателем; все ему были не просто знакомые, а друзья, все он мог достать и всего добиться, вплоть до того, что на их «айрадуроме» близ села во время дефолиации хлопчатника садился не один, как это бывало везде без исключения, а сразу целых два «кукурузника»… Но когда дело доходило до этих маленьких невзрачных аккумуляторов, Арап-ага опускал руки. «Проси что хочешь, — говорил он любому, кто обращался к нему с этим маленьким, казалось бы, вопросом, — Хочешь, до конца года машину дам?! Не хочешь?.. Ну, смотри. А с этим вы ко мне даже и не ходите, нету». И широко поводил рукою, показывая, что нигде нету. Как было не поверить такому уважаемому человеку!2
Солнечные лучи еще лепестков хлопчатника не коснулись, когда Ягмур-еген был уже на вершине, то есть на Попушгуме. Прибавка «еген» к его имени означала «племянник», такая уж была в их селе кличка всей его семьи: и его старший сын был Эсен-еген, и жена Бостан-еген, и сам он, сорока лет, всем они были «племянниками». Скоро станет «егеном» и младшенький, которому всего два месяца. Трактор у Ягмур-егена был сравнительно новым, работать можно, что уж тут говорить, если бы еще и аккумулятор был… Что ж, придется заводить так. Он залез в кабину, скорость была поставлена еще вчера; поддал малость горючего и отпустил тормоза… Но двигатель, то ли вволю надышавшись ночной прохладой, то ли еще по какой причине, лишь задымил, лишь чихнул несколько раз, пофыркал, пока трактор катился вниз, и так и не «взял». Ругая на чем свет стоит Сельхозтехнику и себя, что не прокачал топливную систему, Ягмур-еген спрыгнул из кабины на землю и обошел своего подпорченного коня-красавца, пнул колесо. Придется теперь ждать других, своих трактористов-товарищей, на буксир проситься… Сощурив глаза, он поглядывал на приближающегося от будки бригадира Иламана, по прозвищу «аррык»— тощий; и даже выругал его шепотом, хотя бригадир тут, по совести, был ни в чем не виноват. «А какое мне дело, — в запальчивости даже подумал Ягмур, — виноват ты или не виноват… Ты мне дай аккумулятор, обеспечь, и я тогда буду работать. Обеспечь!..» Иламан-аррык был года на три постарше, и Ягмур всегда с ним здоровался первым. На этот раз приличия побоку — какие тут, к черту, приличия, если он стоит и ждет от аллаха милостей, вместо того чтобы работать… На днях Ягмур собирался съездить денька на два в Ашхабад, дядю своего навестить, и потому торопился, хотел пораньше закончить окучивание хлопчатника. Закончишь тут, как же… — Что толку, что ты пришел сам, без трактора? — крикнул он Иламану, неизвестно отчего торопившемуся. — Куда бежишь, на буксир мой трактор брать?! Так твоих лошадиных силенок не хватит, учти… — Не надо нервничать, дорогой еген! — миролюбиво сказал бригадир. Иламан-аррык был очень спокойным, миролюбивым человеком и только потому, наверное, и мог работать на такой неспокойной, на самом перекрестке всех колхозных нервов должности. — Зачем нервничать? Сейчас все обеспечим, не будь я бригадир!.. Он проворно взбежал на Попушгум, снял фуражку и принялся махать ею, сигналя кому-то. Потом, надвинув фуражку, с прежней резвостью сбежал вниз. — Вот и все, будет тебе сейчас буксир… А ты нервничаешь… — Сахиту махал, да? — Ему. Я сказал ему: «Сахит, когда я дойду до По-пушгума, ты посмотри туда… Махну, значит, подскакивай, помогай ребятам». А где другие, еген? — В постелях у жен, где ж еще… Нет, это не выход, Иламан! — Ягмур со злостью отшвырнул промасленную тряпку (у многих трактористов в привычке это — постоянно вытирать руки тряпкой, которая по крайней мере раз в десять грязнее самих рук). — Не нервничай, не волнуйся… Каждое утро такое — ну, сколько можно?! А ведь есть на это люди соответствующие, зарплату получают каждый месяц, небось не забывают!.. Но не так легко было вывести из себя Иламан-аррыка с его бригадирской закалкой. — Ну, ну… — мудро сказал он, не принимая на свой счет этих «соответствующих людей». — Если этих аккумуляторов даже в самой природе нет, не то что на складах, где же их соответствующие люди найдут? Это ведь не яблочко, с ветки не сорвешь… То, чего нет, и бог не возьмет. — Должно быть, как так «нет»?! Где-то их ведь делают, запланировано, понимаешь… не должно быть, чтоб не запланировали. Это все Сельхозтехника мудрит, знаем их. Встретить бы это «соответствующее лицо»!.. — И что бы ты ему сделал? — вдруг как будто всерьез заинтересовался бригадир. — Я-то? — несколько растерялся Ягмур, — Да я бы… Да ничего бы я не сделал, конечно. Ну, хоть бы высказал, душу отвел. Ну, сказал бы, что нельзя так. Нехорошо. Что надо их… ну, как-то доставать. — А какой от этого толк, что скажешь так? — Да я понимаю, что никакого. А-а, бог с ними. Са-хит вон едет, надо заводить, что зря трепаться.3
Он завел наконец трактор и уже собрался ехать на делянку, оставалось лишь осмотреть машину, уровень масла проверить, когда вдали, пыля на полмира, показались два газика; бодро катили по дороге, а потом свернули к тракторному стану, к ним на Попушгум. Первой была машина Медета-ага, заместителя предколхоза, это они угадали сразу; а вторая — «уазик» — какого-то районного начальства. Подпрыгивая, обе машины подрулили к собравшимся трактористам. Из первой вылез, пыхтя, Медет-ага, а из «уазика» с достоинством вышел и небрежно шваркнул дверцей не кто иной, как новый руководитель районного отделения Сельхозтехники товарищ Атаев… Круглолицый, смуглый, вот только талия его была явно шире плеч, а в общем, человек с вполне достойной наружностью, даже больше того. Поговаривали, что сравнительно недавно товарищ Атаев без собственного на то желания уступил свое кресло где-то там, «наверху», другому товарищу, а сам теперь скромно довольствовался креслом на разряд пониже, то есть уже в районном масштабе. И не без смысла прибавляли, что когда-то низвергали в ад, теперь низвергают всего лишь в район… А жалко. Жителям же, а особенно механизаторам Гуджука, было все равно, откуда изюм, был бы сладок. Человек солидный, представительный н, наверное, со связями — вдруг что получится? Иламан-аррык насмешливо подмигнул Ягмуру, который в первый момент даже растерялся от неожиданности: ну что, накликал на свою голову? Посмотрим, мол, как ты протестовать будешь… — Как дела, товарищи механизаторы? — бодро нарушил тишину товарищ из района, — Работаем? — Спасибо, товарищ Атаев, хорошо, — ответил бригадир. — Кому же отвечать, как не бригадиру, когда все молчат. Уважаемый товарищ, высокий, надо ответить. — Так, значит, хорошо идут дела, товарищи механизаторы? — опять, уже напористо, переспросил он, несколько недовольный, что другие молчат и даже глаза отводят, и требовательно оглядел всех. Все должно быть хорошо, а они почему-то молчат. — Хорошо, да?! — Потихоньку, товарищ Атаев… в меру сил. — Да что там в меру сил… — громко, для себя даже неожиданно сказал вдруг Ягмур-еген, — Где хорошо?! Если правду сказать, так… Аккумуляторов нет, подшипники, коленвалы тоже не вдруг достанешь, трактора с капиталки хоть в дом престарелых сдавай… Где хорошо-то?! — Товарищ механизатор, где вы так научились разговаривать с людьми? Или у вас отца с матерью не было, почтенный, не воспитали вас? — Атаев строго, с еще большим недовольством оглядел с ног до головы тракториста и лениво-пренебрежительно отвернулся к Медету-ага. — Или, может быть, вы их так учите, товарищ заместитель? Медет-ага когда-то был тоже бригадиром, любил выражение «так сказать» и потому с ответом не замедлил: — Вообще, товарищ Атаев, это, так сказать, у нас… ну, как бы это лучше выразиться… — и так далее в течение примерно полуминуты. Атаев, силясь понять, наморщил свой покатый с залысинами лоб, даже ухом повернулся к лукавому заместителю, но так ничего и не понял. Выручил Иламан-аррык, пихнул тайком Ягмура в бок и громко проговорил: — Ай, товарищ Атаев, Ягмур-еген просто… — и развел руками: что ж, мол, поделаешь, если так случилось. — Просто это обстоятельство такое, уважаемый товарищ Атаев…. мы бы ничего, но обстоятельства такие. — Да, да… — покачал головой и Медет-ага. — Обстоятельства, прямо скажем, тово… никак. И поэтому, так сказать… Аккумуляторов вот нет, того-сего. Так сказать, нужда. — Аккумулятор, товарищи, это вам не трехкопеечный товар, чтобы вот так взял и выложил его, вы должны это понимать. В настоящее время их нет во всем районе, во всей области нет, понимаете?! Вы знаете, что такое план? Так вот, наше социалистическое общество действует по заранее составленному плану, мы… — Так вы требуйте их, аккумуляторы, раз по плану положено, требуйте! — опять не выдержал, «сорвался с резьбы» Ягмур-еген, он весь потемнел, и остановить его было уже нельзя. Медет-ага и бригадир переглянулись, Иламан-аррык безнадежно пожал плечами. — А если не дает кто… так по лбу, по головам надо щелкнуть таких, чтоб знали! Сидят там, понимаешь, и хоть трава им тут не расти, не то что хлопок… Разве ж так можно, товарищ Атаев?! Если сначала Атаев хотел просто осадить этого молодца, так и не научившегося за всю свою жизнь почтению к старшим, и разговаривал с ним хоть и строго и с неудовольствием, но снисходительно к его глупости, то теперь положение неожиданно изменилось. Уже не он, Атаев, распоряжался здесь и умиротворял, снисходительно указывал и делал выводы, а этот безродный, «племянник» там какой-то, баран аллахов темный, каких тьмы и тьмы… Ну нет, плохо вы знаете товарища Атаева! — Но-но-но!.. — грозно, весь подтянувшись вдруг и сверля своего ничтожного противника взглядом, сказал он, и даже видавший виды Медет-ага дрогнул от его голоса. — Вы это что себе позволяете, товарищ?! Где трава не расти? Вы где находитесь?! Это по чьей голове надо щелкнуть… ну-ка, повторите! Раз-го-вор-чи-вый какой, понимаете… — Так я ж по справедливости говорю… — попытался что-то возразить ему Ягмур, растерявшись, кляня себя за то, что взялся спорить с человеком, с которым спорить нельзя. Да, верно говорит бригадир: тот прав, у кого больше прав… — Плохо, товарищ Медет-ага, — обернувшись к заместителю и не обращая внимания на слова тракториста, сказал Атаев. — Плохо! Не умеете вы работать с людьми. Такой колхоз богатый, а с людьми не умеете работать… ай-я-яй! — Видите ли, товарищ Атаев, это, так сказать, один из рецидивов того, что можно назвать при определенных условиях, конечно, если не считать существующего положения и принять во внимание то, что… — Нет-нет, и не говорите мне… И слушать не хочу. С людьми надо ра-бо-тать! Так и только так! Едемте отсюда, иначе… А этому несознательному товарищу объясните, что только планомерное развитие народного хозяйства на социалистической, понимаете ли, основе может полностью и всесторонне… Что «всесторонне», Ягмур-еген и вытирающий пот со лба бригадир так и не узнали, потому что дверцы машин друг за дружкой хлопнули, моторы дружно заурчали и быстро-быстро повезли своих хозяев по направлению их желания.4
Дядя Ягмур-егена работал в Ашхабаде на стекольном заводе мастером, имел большую квартиру и отличался завидным гостеприимством. Ягмур любил у него бывать и раз в год навещал обязательно, один или с Бостан-еген, привозил подарки и новости с родины. И сам проветривался, отдыхал, разглядывал городскую жизнь— не все же в кабине своего «Т-40» сидеть или в саду копаться, надо и жизнь вокруг себя посмотреть. Он чуть было не опоздал на самолет, и когда вошел в салон, все места уже были заняты. Лишь у мужчины, читающего большую газету, осталось рядом свободное кресло, на нем поставлен был солидный блестящий портфель. — Будьте так добры, уберите, пожалуйста, ваш… Мужчина отстранил газету, приподнял набрякшие веки, нехотя посмотрел на него… «Товарищ Атаев! Ай, шайтан тебя возьми, — поразился Ягмур, — везет же мне с ним!.. Ну, что вот делать? Никуда не денешься, надо садиться…» А вслух сказал: — Здравствуйте, яшули. — Здравствуйте… А-а, так это вы. И, ничего больше не говоря, снял с кресла свой портфель, положил себе на колени. — Может… мы… давайте, яшули, я этот портфель наверх положу. — Ничего, — буркнул тот и снова уткнулся в свою газету. «Сердится человек, ай-я-яй… Нехорошо получилось тогда, не так надо было говорить, — сокрушенно думал Ягмур-еген, пока самолет, подрагивая крылом, набирал на развороте высоту. — Надо бы узнать, что и как, а потом уж спорить… Нехорошо. Думает теперь, что я дурак какой-нибудь. Надо как-то заговорить, неудобно так сидеть». — Летим? — спросил он соседа, уже отложившего газету и было задремавшего, и тут же устыдился глупейшего своего вопроса. А что ж мы еще делаем — ползем на карачках, что ли? И поспешил исправить свою ошибку, проговорил торопливо: — Яшули, вы не скажете, отчего все-таки дефицит этот проклятый возникает: ну, на запчасти там, на аккумуляторы? Я думал-думал, ничего придумать не мог. Атаев несколько раздраженно открыл глаза, выпрямился в кресле, погладил свое полное лицо. И так как он все не отвечал, Ягмур повторил: — Откуда этот дефицит берется, кто его делает?.. Ума не приложу, товарищ Атаев. — Хм, — сказал снисходительно Атаев, посмотрел на часы и вдруг неожиданно спросил: — Кто ведет самолет? Ягмур-еген растерялся, пожал плечами. — Я спрашиваю: кто ведет самолет? — терпеливо, но все же требовательно спросил опять его высокий сосед. — Раз самолет, значит, летчик его ведет, кто ж еще… Атаев почему-то горько усмехнулся. — Верно, летчик ведет. Причем на нужной высоте и с нужной скоростью ведет, так? — Так, яшули. — Пассажиры не указывают ему, чтобы он вел самолет побыстрее или пониже. Никто не имеет права говорить ему об этом. Дело летчика вести самолет, а дело пассажиров сидеть и не вмешиваться ни во что… — Верно. — А если верно, то об остальном сам подумай, товарищ… э-э… механизатор. — И Атаев опять закрыл глаза, отвернулся к окну, устроился в кресле поудобней. «Невелика мудрость, — разочаровался в собеседнике Ягмур-еген. Он ожидал серьезного, хотел подумать вместе, как это так получается, что по плану запчасти вроде бы все должны быть, а в наличности ничего порой. — Не-ет, товарищ Атаев, сказками меня не накормишь. С дядей надо поговорить, вот умнейший человек. С ним-то мы как-нибудь разберемся». — А я вот к дяде лечу, — громко сказал он соседу, решив, что о деле с ним разговаривать, наверное, бесполезно. — Хороший дядя у меня в Ашхабаде, высокий умом. И сам он, понимаете, высокий, сильный, таких, как он, немного. Настоящий человек. Начальник что-то хмыкнул, повозился, устраиваясь удобнее, несколько потеснив Ягмура. «Ну, что ты, спрашивается, выступаешь, про дядю рассказываешь, про тетю еще… Очень ему надо знать, куда ты летишь! Сиди уж, помалкивай».5
В аэропорту Атаев даже ради приличия не попрощался, сразу же и стремительно вырвался вперед, к очереди на такси. Ягмур-еген пошел следом. Такси ему, конечно, незачем брать, он и на автобусе доедет. Такси вроде не собака, а кусается. Он лучше лишний подарок домой купит. То-то обрадуется Бостан, а с ней и он сам тоже… Людям дарить — себе дарить. Атаев между тем тяжелой рысцой протрусил до очереди и стал в хвост, тяжело дыша и вытирая большим платком неостановимо струившийся пот, — жарко туркменское солнышко… Неподалеку от очереди стояла черная лаковая «Волга» с государственным номером, пустая, пожилой шофер в белой рубашке и при галстуке почитывал какую-то книжонку, ожидая… Да, Атаев, не тебя ждет эта шикарная машина, не тебя. Была и у него когда-то «Волга» — не такая, конечно, но все же… Да и не в машине дело, а в том, где она ездит. Одно дело — проселки районные, колдобины, и совсем другое — ашхабадский асфальт. Великая, знаете ли, разница. И он отвернулся, стал следить за очередью, чтобы не лезли всякие там нахалы… Не залезете, на нахалов и мы нахалы. А Ягмур-еген неторопливо дошел до очереди, поставил чемоданчик и стал осматриваться — автобусная остановка, он помнил, должна быть где-то здесь, неподалеку. И вдруг услышал свое имя: — Ягмур-еген, ты? На него удивленно и радостно глядел из кабины черной «Волги» Нуры-джан, сосед по квартире и один из лучших друзей дяди. Вот оба они при технике, но какая разница: у Ягмура машинную грязь из морщин на руках кислотой не вытравишь, а этот вот с книжкой, при галстуке сидит, ковер на сиденье не хуже, чем у Ягмура дома на стене. В прошлый его приезд они втроем чуть не всю ночь просидели, хорошо поговорили, замечательный мужчина этот Нуры-джан. — Я, Нуры-джан, я! И долго ты меня тут ждал? — Пока твой самолет сел, я тысячу раз протер свою машину! — шутливо говорил шофер, выходя и обнимая Ягмура, похлопывая его по спине. — Хорошо долетел, дорогой еген? Как там сын у тебя, жена?.. — Спасибо, дорогой, все в порядке. Привет тебе передавали. Ну, а дядя как мой? — Садись в машину, еген, дядя ждет. Еще позавчера получил твою телеграмму, очень тебе рад. Он, правда, занят сегодня, ну, это ничего, отвезу прямо домой. Хозяин отпустил, я сейчас свободен как ветер, могу даже по столице покатать… Садись, Ягмур-еген! Стоявший неподалеку в очереди начальник районного отделения Сельхозтехники, стреляный административный воробей, бывший экономист, бывший секретарь, бывший председатель и прочая и прочая, товарищ Атаев ушам своим не верил… Как, этот механизатор, рабочий этот ишак, провинциал глубокий с землей под ногтями, и в самом деле чей-то племянник?! Этого самого дяди, о котором талдычил он в самолете?.. Сомнений не могло быть, он слышал все от первого до последнего слова. Высокий дядя… Да уж, видно, не низкий. Ах, черт, надо же так… Подъезжавшие такси расхватывали клиентов, как рыбешка приманку. Атаева подтолкнули сзади, и он словно очнулся. — Яшули, ваша очередь! — крикнул ему из кабины старенького, помятого такси шофер. — Куда едем? Атаев сначала не понял, а потом кивнул сзади стоявшим — можете, мол, ехать, я пока подожду… Надо было обязательно дослушать этот разговор, разузнать точнее, что же это за птица такая этот племянник… Ягмур-еген уже сидел в машине рядом с шофером; и Нуры-джан говорил, заводя машину, мягко фыркнувшую: — Да… часа два ждал, самолет прилетел, а товарища того все нету. Отложил, наверное, на завтра. Я уж собрался уезжать, а тут ты. Рад, что ты приехал, еген. — Я тоже, Нуры-джан! — Тут он увидел через ветровое стекло Атаева, который топтался впереди очереди и будто поглядывал на них. — Слушай, дорогой, нельзя ли взять с собой вон того?.. Вон стоит, впереди, с портфелем. Земляк, высокий человек, районной Сельхозтехникой руководит… неловко как-то. У нас на попутную всегда берут на дорогах. — Да почему ж нельзя, дорогой, можно. Ягмур выбрался из машины, подошел к присмиревшему в городской толпе начальнику. — Яшули, если хотите вместе со мной поехать, садитесь в машину, подвезем. Мы, земляки, не должны забывать друг друга. Это было так неожиданно для Атаева, что он даже растерялся. Он еще думал, стоит ли унижаться перед этим «племянником», сесть ли в машину с государственным номером или, может быть, с достоинством отказаться, вежливо так и холодновато, а сам сорвался с места, почти побежал к дверце, но споткнулся и перешел на торопливый шаг — нет, нет, неприлично ему бежать, он тоже… Ну и что, что государственная, без него же не уедет. Вот так, спокойнее сесть. Вот. Он впервые в жизни садился в машину с государственным номером… Да, живут люди. «Волга» была, скорее всего, обычная, серийная, но ему почему-то показалась она и более мягкой, комфортабельной, ковры вон какие, и тихой в работе, словно они без мотора ехали… А почему ты думаешь, что серийная? Не-ет, не так все просто, как видишь глазами. На перекрестке недалеко от аэропорта шофер нарушил, кажется, правила движения, проскочил чуть ли не на красный и даже глазом не моргнул… «Ишь ты, нахал какой! — с неожиданной злобой подумал про шофера Атаев. — Как по собственному двору разъезжает… Да, когда за спиной гора, любое дело можно делать». — Яшули, куда вас отвезти? Нет, он сразу же понял смысл заданного вопроса. Но этому шоферу указывать он как-то не мог, не решался. — Если это по пути, уважаемый, то высадите меня, пожалуйста, возле универмага центрального. А если… — Нет, нет, яшули, вы не стесняйтесь, говорите, куда вам надо! — опередил племянника шофер, смотревший на сидящего сзади Атаева в зеркало. — Ай, как-то неудобно… — Если вы товарищ Ягмур-егена, я отвезу вас в любое место. — Ничего, ничего… — поощрительно сказал и Ягмур-еген. — Говорите, яшули. — Буду очень признателен, если к началу сорокового микрорайона… — Сороковой так сороковой. Никаких проблем, яшули. Его зовут Ягмуром, теперь-то он не забудет этого имени, как забыл, не придал ему значения несколько дней назад. Везет же дуракам… — Ну, как там все-таки дядя мой поживает? Как у него дела? — Дела у дяди? — переспросил шофер, поглядывая в боковое окно, быстро ориентируясь в уличной машинной давке. — Да нормально идут… Человек он, сам знаешь, занятой, забот у него хватает. Помощника нового ему дали, еще одного… Работы хватает, успевай только поворачиваться. Недавно с курорта вернулся, так с обоими помощниками и ездил. Люблю, говорит, когда рядом свои люди. — Да, это половина дела, когда хорошие помощники под рукой, — решился подать с заднего сиденья голос Атаев. — Ба-альшое дело помощники. — Ничего не скажешь, подручные у него молодцы, — кивнул Нуры-джан. — Главное дело — уважают очень его, боготворят прямо-таки. Нынче это не так уж и часто встречается. Ни одного человека не знаю, еген, кто бы твоего дядю не уважал. Удивительный человек! Ну, вот и сороковой, яшули. — Спасибо, товарищ, большое спасибо! А вы, Ягмур-еген, когда собираетесь это… домой возвращаться? — Долго не задержусь, яшули, ну, дня через два-три. — Конечно, конечно… дела нас там ждут, много дел. Хлопок растим, товарищ шофер, вместе вот с ним. Половину страны, понимаете, одеваем. В дороге земляками, а на чужбине вот друзьями стали, это всегда так. Теперь, я думаю, нам не надо забывать друг друга, встречаться надо… общаться, так сказать. — Обязательно, товарищ Атаев, встретимся непременно. Дороги в районе тесные, рядом живем. — Вот-вот… Я как-нибудь заеду, Ягмур-еген, сам все найду. Разобьюсь, но уж аккумуляторы эти привезу, зачем и приехал сюда. Много будет с этим хлопот, но так надо. До встречи, дорогой… рад был, спасибо вам от души! — Счастливого вам пути, яшули! В последний раз отразив его, изогнутого, в своем черном благородном лаке, «Волга» мягко и сильно взяла с места и скоро скрылась в общем потоке, унесла своих счастливых в неведенье седоков в другую совсем, какую-то высокую жизнь… Хорошо, Атаев, молодец, сумел провести разговор. Особенно закончил хорошо, выправил ошибку. Атаев еще многое может, вы еще узнаете. Не в таких передрягах бывал, чтобы оружие складывать, загибаться в этом районе.6
Атаев еще тыкал ключом в замочную скважину своего кабинета (вставал он рано, потому что был убежден, что главные дела делаются с утра), когда пришел к нему другой Атаев, друг-приятель его, по имени Чакан. Родственниками они не были, сроднило их волей-неволей другое: Чакан был тоже, если можно так выразиться, потерпевший деловой человек. Не сказать, чтобы они были неразлучными друзьями. Атаев уже давно раскусил этого вечного заместителя, в настоящее время заместителя директора районного универмага, и в лучшие времена, пожалуй бы, даже побрезговал такой дружбой, хотя старинная мудрость гласит, что всякая дружба хороша, кроме дружбы раба. Вполне возможно, что то же самое думал про коллегу и вечный заместитель. Ну, такова жизнь, которую оба представляли себе довольно-таки бурной речкой, в которой, в свою очередь, немудрено порой и утонуть. На собственном опыте зная, как пускают пузыри, они вовсе не хотели копить этот самый опыт до бесконечности. На том и сошлись. Чакан был очень деятельным человеком, другое дело, что не всегда находил достаточно достойное этому своему качеству поприще. В этом было основное затруднение, несмотря даже на поистине неистощимые запасы энергии в этом человеке — как раз то, чего не хватало порой начальнику районной Сельхозтехники. Товарищ Атаев зато слыл осторожным руководителем, именно руководителем, а не каким-то там человеком с вечным клеймом зама, и среди людей ходил так, как ходит кошка по грязи… Минус на плюс дает норму, на том и сошлись. — Мимо шел, — сказал Чакан, опускаясь на застонавшее под ним кресло, поглядывая на приятеля маленькими, неожиданно быстрыми на его спокойном обвисшем лице глазками, — и вот зашел: во-первых, поздороваться с тобой, а во-вторых, узнать, что ты надумал по поводу вчерашнего разговора нашего. Надо решать, друг. — Ты понимаешь, Чакан-ага, нельзя это так вот, сразу… не то что неприлично, а неловко как-то. Не надо торопиться, ни к чему. Нужно сначала все узнать, разведать, понимаешь… Да и утопией попахивает. Я люблю, когда дело можно руками пощупать. — Что это еще за разговоры, друг?! Неприлично, неловко… какая утопия, где? Вот он, этот барашек, под руками, щупай сколько хочешь! А курдюк какой, ай-я-яй!.. Пустишь этого в стадо, а потом дохлятину будешь есть… вспомнишь тогда мои слова! — Нет, зря я, видно, тебе об этом племяннике сказал… — Я так и знал, что ты это скажешь! — торжественно проговорил Чакан, откинулся в кресле. Это было его любимым приемом, которым он пользовался где надо и не надо. — Сказал, ну и сказал, я же тебе не враг. Хорошо сделал, что сказал. Но только дурак спугивает птицу счастья, которая села ему на голову. Ты, друг, сам того не понимая, нашел ключ от райских ворот. Завладей им — и ворота будут распахнуты! А иначе он ведь так и заржавеет в этом селе Гуджук, в пыли валяться будет, дураки наступать будут, не зная, от чего это ключ. Мы этот ключ нашли, надо попробовать, вдруг получится. А потом, что мы теряем? Ничего. Но раз ключ найден, то им надо открывать то, что положено открывать, понял меня, друг?! Атаев все понимал, тем более что мысль подружиться с дядей через племянника, первой пришла именно ему еще там, в государственной этой машине, но… — Да попытаться можно… — Не попытки надо делать, друг. Попытка — это заранее составленная капитуляция… Дело надо делать, дело! Как ты думаешь, потянул бы ты… ну, положим, республиканскую Сельхозтехнику? И хотя неожиданно это Чакан сказал, ни один нерв не дрогнул в Атаеве, — потянул бы! Не боги горшки обжигают. А там бы… Атаев знает, как эту занятость и лоск на себянагоняют, в руководителях, слава богу, походил, не то что этот… А вслух сказал: — Сначала надо потрясти дерево, а потом собирать плоды. — Ну, так в чем дело?! Говорят, утопающий хватается за соломинку… а мы считаем ниже своего достоинства за лодку схватиться, которая мимо плывет. Да нет, не считаем — ленимся… Это ли не глупость?! Настойчивый человек Чаган-ага, энергичный, этой самой энергии у него не то что на Атаева — на десятерых Атаевых хватит и еще останется. Долга жизнь, много энергии требует.7
Утверждение людей, что нет ничего быстрее худой вести, страдает односторонностью, как, впрочем, и всякие поспешные утверждения. Добрая весть тоже легка на ногу. Больше того, она движется с той же необычайной скоростью, что и худая; так, скорость звука остается постоянной, независимо от того, гремит ли гром вдалеке или выводит свою нежную, дрожащую мелодию зурна. Весть о том, что Ягмур-еген поставил на свой трактор новый аккумулятор, и особенно то, что сам товарищ Атаев привез его к Попушгуму и собственноручно вручил без всякой там, даже государственной, цены, весть эта с необычайной, как уже было сказано, скоростью распространилась не только среди механизаторов и их жен, это еще неудивительно, но буквально везде… Хотите, верьте, хотите, нет, но, когда Ягмур-еген после пятнадцатиминутного дружеского разговора с товарищем Атаевым (разговора, полного взаимных благодарностей и одобрений, разумеется) примерно за пять минут установил аккумулятор и завел свой тракторишко, а потом минут через двадцать ехал мимо фермы, сторож этой фермы, почтенный аксакал Агахан-ата, сидевший одиноко на лавочке у ворот, приветственно потряс посохом своим и изо всех старческих сил прокричал: — Мир тебе, Ягмур-еген! Поздравляю тебя с новым аккумулятором, дорогой, и пусть он подольше не садится!.. На другой день, стоило только чуть-чуть подняться солнцу над горизонтом, явился на его делянку хлопчатника Медет-ага. Несмотря на видимое его административное косноязычие и будто бы робость с начальством, заместитель предколхоза был сугубо деловой и хваткий мужчина, правая рука Арапа-ага. К тому же он сейчас исполнял обязанности главного инженера, ушедшего в отпуск, и вмешивать дипломатию в свои отношения с подчиненными явно не собирался. — Вот что, Ягмур-еген, — сказал он ему без всяких восточных хитростей, — ознакомься-ка вот с этим списком, а я пока закурю. Ягмур взял из его рук листок, начал читать, понимающе кивая головой: — «Коленчатый вал — 2 шт., аккумуляторы — 5 шт. (лучше больше)… рессоры для «ГАЗ-69»…» угу, так, угу-м… Да это же список драгоценностей, Медет-ага! — Надо его реализовать, дорогой еген. — Как это? — Атак. Я даю тебе завтра на день — понимаешь? — на день вот эту машину с шофером, ты едешь к товарищу Атаеву и… — И что? — Ну, ты что, маленький, что ли?! Ясное дело, ты привозишь все, что в этом небольшом списке написано. Потом мы устраиваем маленький… э-э… той. — Да вы что, Медет-ага, я же… — Ничего, ничего. Кому привезли аккумулятор на дом — мне или тебе? Кто привез его — какой-нибудь левак, пьяница или сам товарищ Атаев?! Товарищ Атаев лично, сам привез тебе, а ты говоришь, еген, возражаешь тут!.. А теперь скажи такую маленькую вещь, еген, которая называется правдой: как это вы… э-э… сошлись так? — Сам не знаю, уважаемый. Летели вместе в Ашхабад, ну и понравились, должно быть, друг другу… — Хм… понравились. Скажи еще — любовь с первого взгляда… Не понимаю, тем более после разговора того на Попушгуме… И все? — И все, а что ж больше… Ей-богу, он, по-моему, замечательный человек. Когда сойдешься вот так с людьми, без всяких там… Нет, он хороший человек. — Ну ладно, хороший так хороший. Эй, Ковсы, — крикнул он шоферу, — завтра ты с утра в полном распоряжении вот у этого уважаемого человека. Куда он скажет, туда и поезжай. А ты, еген, пустым не отправляйся, заезжай в правление и возьми там в бухгалтерии все нужные бумажки. Да, и напомни еще о гусеничном тракторе, уже третий месяц как в капиталке у них стоит, без движения. Не знаю, как ты, а я бы им… Ну, ладно.8
Товарищ Атаев еще раз доказал свои высокие человеческие качества, во всяком случае гибкость их. Когда Ягмур-еген и молоденький, недавно демобилизовавшийся Ковсы подкатили к крыльцу конторы районного отделения Сельхозтехники, Атаев уже заносил ногу, собираясь садиться в свой «уазик». Заносил ногу человек, находящийся по разным причинам в одном из самых сквернейших своих настроений, но так и не занес, увидя дорогого гостя: и когда поставил ее опять на грешную землю, это уже был совсем другой человек, счастливейший из смертных или что-то вроде этого… — Ягмур-еген, дорогой, какими судьбами? — Здравствуйте, яшули!.. Да вот по делам всяким ездил, попутно с Ковсы вот… в магазины заскочил, туда-сюда… Попутно, так сказать. «Хороша попутка — персональная машина Медета-ага… Не-ет, этим глаза мне не засоришь, не старайся, — с досадой думал товарищ Атаев, расспрашивая между тем неожиданного гостя о жене и детях, о здоровье их, пусть крепким оно будет, как… — Не одни мы видим ключик, не одни… Да, куда ни кинь, а прав Чакан — энергия нужна, и еще раз энергия! Ничего, все окупится, главное — не упустить». — Знакомься, дорогой Ягмур-еген, вот все хозяйство мое! — Атаев широко повел рукой, показывая. — Ба-аль-шое хозяйство, глаз да глаз нужен… Если у тебя ко мне есть дело, можешь говорить прямо, Атаев все сделает для своего друга! — Спасибо, яшули, большое спасибо!.. Неудобно, конечно, просить, вы и так заняты… — Ничего, ничего, говори! Мы должны помогать друг другу, иначе какие мы друзья? — Мы тут, товарищ Атаев, в тракторной бригаде… это… посоветовались и решили попросить вас как нашего… Очень, товарищ Атаев, просим! И Ягмур-еген полез в карман, вынул и с неловкостью подал ему перечень… А что, если на смех подымет, в Совет Министров пошлет с этим списком?! Ишь, чего захотели, скажет. Вы бы еще икорку сюда записали, скажет, импортные дубленки… Бывший начальник Сельхозтехники всегда так говорил просителям, и ответить ему было нечего. Самому главному инженеру колхоза и даже Арапу-ага так говорил, а кто такой Ягмур по сравнению с ними? Никто. Но товарищ Атаев, небрежно пробелов перечень, даже бровью не повел. — Это? Моджек-ага! — крикнул он. Из открытой двери склада выглянул сумрачный всегда, видавший виды кладовщик, перед которым заискивал весь цвет технократии района. — Моджек-ага, исполни-ка нужду этого человека без вопросов, понимаешь? Я потом сам распишусь. Кладовщик принял бумаги, прочитал список один раз, другой и уставился на своего начальника, не понимая. — Позвольте, товарищ Атаев… — Не позволю, — твердо сказал начальник. — Но это же… — Это есть то, что надо. Не заставляй меня доказывать это, или я… Иди работать. С товарищем шофером вот иди, выдай, а мы пока поговорим тут о другом. — И обратился к Ягмуру, широко улыбнулся: — В конце концов, дважды в эту жизнь никто не приходит, еген. Но у меня тоже будет… э-э, деловое предложение. «Верно говорят, что услуга за услугу — это ложка, которая ходит по кругу, — приуныл в душе Ягмур и пожалел, что так быстро согласился с Медетом-ага. — Вот он сейчас попросит чего-нибудь, — что я ему отвечу, чем отплачу?!» А вслух сказал: — Да, яшули?.. Если ваша просьба колхоза касается, Арап-ага вряд ли откажет. — Что мне может дать ваш колхоз, хе-хе… У меня предложение: не пообедать ли нам у меня, чаю попить? — Товарищ Атаев!.. — Ягмуру стало вдруг совсем совестно: как он мог так подумать об этом честнейшем, оказывается, человеке?! Как мы не верим порой друг другу, как не хотим верить! — Спасибо, огромное спасибо вам, яшули, но… Я так благодарен, так… Приезжайте к нам хоть сейчас, мы сами хотим встретить вас у меня или у Медета-ага, поедемте, яшули! Сам Арап-ага… — Ну, зачем же так официально, еген. С председателем мы и в другом месте можем посидеть, при чем тут председатель, Медет-ага тот же… — Нет-нет, яшули, я сам сначала хочу вас принять. Неудобно так вот, в середине рабочего дня… «А племянничек, пожалуй, прав, незачем торопить события, плод должен созреть. Пусть пока переварит мое благодеяние, соком благодарности нальется… а уж мы сорвем его в свое время. Да и с Чаканом посоветоваться надо, расставить силки. Пусть барашек погуляет пока». — Тогда вот что, дорогой, если смогу, то на этой неделе я буду у вас, заскочу на минутку. Но в воскресенье— слышишь? — в воскресенье я жду тебя к себе… И не спорь, и не говори мне ничего, — закричал он вдруг вроде бы сердито, хотя Ягмур и не думал, попросту боялся возражать, — иначе рассержусь! Хочешь отблагодарить— отблагодари этим, еген!.. — Яшули… — сказал Ягмур. — Ну, конечно, яшули. Спасибо, тысячу раз спасибо вам за все! — Ну и хорошо! Арап-ага, я думаю, даст тебе машину, подбросит, все шоферы знают, где я живу. А хочешь дорогой, я сам пришлю за тобой. — Ну, что вы, что вы… я сам, Арап-ага даст! — Ну и хорошо, — еще раз сказал Атаев, тоже довольный, — Значит, жду, вся моя семья ждет тебя! Будь здоров, дорогой, пусть все твои будут здоровы, как… Скажи председателю, что это моя просьба. А впрочем, не надо, он и так даст… да, не надо. Лишнее это. — Конечно, даст, товарищ Атаев. Он никогда не отказывает, когда я прошу. — Кто же в этом сомневается, Ягмур-еген?! — многозначительно улыбнулся Атаев, ему вдруг даже подмигнуть захотелось жертве своей… Но он сдержался. — Я в этом и не сомневался.9
Странная вещь все-таки эта молва. Доблестного порой она делает почти трусом, доброго злым, бедного одевает, богатого разоряет… Чаще бывает, правда, наоборот, но в любом случае особо доверять ей не приходится — неисповедимы пути слухов… Если Ягмур-еген вернулся из района удивленным и растроганным, то еще больше поражен был Ковсы. Уже мужчина, он вовсе не склонен был делать из мухи слона; но даже то, что он успел увидеть и услышать, пока не пошел вместе с почтенным Моджеком-ага ворочать разные железки на складе, заставило его удивиться безмерно всем нежданным этим переменам и поведению такого строгого и чванного товарища, как Атаев, и, конечно, возбужденно и в подробностях поделиться с друзьями и начальством… Скоро его слова, частью не расслышанные, частью не так понятые и пересказанные как бог на душу положит, размножились устным способом как в мастерских, так и по всем длинным улицам Гуджука… Это было не чем иным, как славой, непонятно только, какой на первых порах — доброй или худой… Говорили все и всё что угодно, всяк толковал происшедшее, как хотел, громко и шепотом, вместе и в одиночку, хотя, как известно, коллективное начало в молве всегда преобладает над другими. В конце концов, вполне определившаяся в своем качестве слава так навалилась на Ягмур-егена, что у него даже косточки хрустнули… Ну, об этом немного позднее. Медет-ага и слова не сказал, когда подчиненный его заикнулся было о машине, лишь руку к груди приложил— о чем, мол, речь!.. И в воскресенье перед обедом поехал Ягмур-еген опять с Ковсы в район, несколько смущенный ожидаемым и радостный… Да, непрост все же человек. Началось-то ведь все с грубого слова, другой надолго бы запомнил, десять раз тем самым отплатил бы. Но вот стоило только малое добро сделать — в чужом городе в машину пригласить, — и, глядишь, совсем другой стороной повернулся человек… У зла много деток, но и у добра тоже: само идет и за собой ведет… Все было хорошо, одно только не переставало беспокоить Ягмура: чем-то и он ведь должен вознаградить за дружбу этого немного странного, но щедрого и доброго человека, к тому же так высоко поставленного над всеми другими? Чем?.. Что может дать ему, образованному по всем правилам, разговор с простым трактористом, в свое время даже десятилетку не успевшим закончить? Ох, Ягмур, не дай бог теперь тебе оплошать… наберешься тогда стыда. Ты уж постарайся, не осрамись. Да что я испугался-то, вдруг рассердился он на себя, ну, что?! Вот я сам, вот душа моя — бери, друг! Надо — приезжай ко мне, все мое твоим тоже будет, встречу как сумею, как смогу. Ягмур-егена не надо учить, как дружить, сам знает; и стыдиться тоже нечего, душа у него чистая перед другом. Он приедет со своим достоинством, и никто этого достоинства у него не отнимет, вот так. У ворот его встретил сын Атаева, вежливый паренек лет двенадцати: назвал его тепло, как давно знакомого, дядей Ягмуром, отчего всегда бывший «егеном» Ягмур несколько даже смутился. А из дома уже вышел его новый друг и, протянув ему руки, гостеприимно пошел навстречу… Все было, кажется, приготовлено к его приезду. Проходя в третью, самую большую и богатую комнату, Ягмур-еген восхищенно ооцокал языком: — Какая большая у вас квартира, красивая, яшули, жить да жить!.. Атаев вздохнул, вполне искренне вздохнул, сказал с сожалением: — Ах, еген, ты не видел прежней… Клянусь аллахом, эта показалась бы тебе землянкой по сравнению с той!.. Ну что ж, будем здесь… Располагайся удобнее, дорогой! — И сразу две подушки упали к ногам Ягмура, а сын Атаева уже стоял с новыми полосатыми штанами в дверях, ожидая, чтобы подать их гостю. — Ну, как ваши дела там, как посевы? Извини, друг, я так и не смог заглянуть к вам… что поделаешь, дела. Доволен Медет-ага? — Еще бы, яшули!.. Вы теперь лучший друг у нас будете — не только у меня, это само собой, но и у всех. Приглашаем вас всей семьей! — Спасибо, еген, я в этом всегда был уверен. В это время в комнату вошла наконец хозяйка дома, такая толстая, что это не на шутку поразило Ягмура… — Знакомься, Айлар-джан, вот это и есть тот самый, которого зовем мы Ягмур-егеном! — торжественно сказал хозяин. — Знакомься и потчуй нас. — Здравствуйте, гелнедже [107]! — Здравствуйте, здравствуйте, еген, — запела хозяйка довольно тоненько; но такая мощь чувствовалась во всех ее движениях, такая уверенность в себе, что было жутковато даже… Да-а, такой управлять, наверное, ничуть не легче, чем Сельхозтехникой, подумал он, только настоящий мужчина управится с такой. — Как дети поживают, Ягмур-еген, как маленький ваш? Оправилась невестка после родов? — Спасибо, гелнедже, все уже в порядке… Откуда она знает все, радостно недоумевал Ягмур, с трудом оглядывая ее всю. Что ж, в такой женщине многое может вместиться, многое… Много чести управлять такой. Но откуда она все-таки знает о маленьком их сыне, только недавно родившемся? — Пусть растет крепким ваш сын, еген! — Простите, Айлар-джан, но как вы узнали о сыне? — весело сказал Ягмур. — Неужели и это известно в районе?! — Ай, Ягмур-джан, это… — растерялась вроде женщина и стала могуче краснеть. — Понимаете, когда собираешься знакомиться… — Жизнь — штука сложная, дорогой еген, — вмешался в разговор хозяин, строго кашлянул. — Ты еще молод, не все можешь понять… жизнь, понимаешь, такая. А потом, ты ведь знаешь, мы переехали из другого района — новый край, кругом незнакомые люди… Друзей выбираешь не на год — на всю жизнь. Сам посуди, что делать человеку в этих четырех стенах, даже если коврами они увешаны?! — Да, да, я понимаю, — закивал головой Ягмур, ему уже неловко было за свой вопрос. Знают, ну и знают, что в этом странного, в самом деле? — Вы правы, яшули: одиночество только богу подходит, так старые люди говорят. Люди должны жить вместе, иначе… — Салям алейкум, друзья! — возвестил вдруг голос, и все обернулись. В дверях стоял, сверкая маленькими быстрыми глазами и живо всех оглядывая, незнакомый Нгмуру мужчина лет пятидесяти. Сразу стало ясно, что это тоже какой-то начальник, но помельче, пониже, слишком уж криклив и бодр для своих лет, да и малость подпорчено чем-то благородство лица, невезучестью, что ли… — Кстати ты пришел, Чакан-ага, кстати, — сказал хозяин, вставая и пожимая ему руку, и Ягмур тоже встал. — А вот друг мой, Ягмур-джан, знакомься… Помнишь, говорил я тебе о нем? — Ну как же не помнить, хорошо помню, и теперь не забуду, — говорил Чакан, цепко и вроде приветливо разглядывая гостя, и подал ему руки, неожиданно энергично затряс так, что у Ягмура даже зубы застучали. — Весьма рад, дорогой еген, весьма… Как хорошо, что я решил сейчас зайти сюда! Так на чем вы остановились, извиняюсь?! — Да вот… — неопределенно сказал Атаев. — О посевах говорили, о том о сем… Можешь, Чаган-ага, поздравить нашего гостя: у него сын недавно родился… мужчина! — Так это же прекрасно, друзья! Надо обмыть это дело, я так думаю! Но у меня предложение: давайте забудем на сегодня о посевах и запчастях, о всякой этой работе… Мы собрались сюда отдохнуть, так будем же отдыхать, а не устраивать здесь сельскохозяйственный семинар! Как вы на это смотрите? — А мы и не возражаем. Айлар-джан, дело за тобой. Не умори голодом, свои жизни тебе вручаем! — Будьте за них спокойны, дорогие гости. — Молодец, Айлар-джан! И еще предложение, — шумел неугомонный, а в общем-то приятный этот человек. — Давайте-ка без этих «вы» обойдемся, а?! Идет? А то слышу я со всех сторон это выканье, и, ей-богу, прямо хочется по стойке «смирно» встать!.. Ягмур-еген с удовольствием рассмеялся, потому что видеть этого человека в солдатской готовности было бы действительно смешно. — А что, Чакан-ага дело говорит, — весело поддержал хозяин. — Не к лицу нам, равным за этим дастарханом, чиниться. Я за!.. — Спасибо, я тоже согласен, — охотно сказал Ягмур-еген, хотя и несколько робел называть товарища Атаева на «ты». — Вот и отлично, — откинулся на подушках Чаган. Но долго в одном положении сидеть он не мог, вдруг приподнялся, посерьезнел, взял гостя за руку. — Вот этого человека, Ягмур-еген, зовут Ахмед Атаев, навсегда запомни. Если он твой друг, то и я должен быть твоим другом. У нас с ним одинаковые фамилии, но мы не братья, нет, мы друзья, а это выше, потому что ведь не всегда брат является другом, а друг — он всегда друг… Теперь нас три друга, и мы должны, это, беречь друг друга, мы должны, невзирая ни на что, жить одной жизнью… Чакан говорил очень долго, говорил почти без пауз, поглядывая иногда маленькими живейшими глазками на Айлар, собирающую на скатерть, и из всего потока его слов Ягмур-еген одно лишь мог понять — что они все друзья… Ягмур кивал согласно и все удивлялся, думал, на чем же все-таки подвешен его язык, на какой такой веревочке и почему эта веревочка до сих пор не перетерлась… Такие люди, которые за полчаса могут сказать больше, чем он сам за неделю, всегда удивляли Ягмура. Если они столько говорят, то когда же работают?..10
— Кто пришел к нам, должен быть похож на нас, а мы на него! — провозгласил Чакан, поднимая первую рюмку. — За тебя, Ягмур-джан-еген, за твоего сына, пусть из него вырастет такой же прекрасный, добрый человек, как его отец! Поехали!.. И несколько торопливо, в чем опытный глаз многое бы для себя мог усмотреть, опрокинул рюмку в рот… — За тебя, еген, за нашу дружбу! — Спасибо, спасибо большое, друзья, — растроганно говорил Ягмур, оборачиваясь то к одному, то к другому, то к Айлар-джан, колыхавшейся над ним огромным бурдюком, пододвигавшей ему всякое на скатерти. — Спасибо, гелнедже!.. Я, знаете… я очень рад оказаться другом таких людей, как вы! — А это что такое?! — вскричал вдруг Чакан, указывая на его рюмку. — Как это понимать, друзья?! Не-ет, так не пойдет, Ягмур-джан! Штрафовать за это будем беспощадно!.. — Да я как-то не очень, друзья… — Никаких возражений не принимаем, пить только до дна! — Я выпью, но… — Никаких «но»! За кого мы пьем, еген? За тебя, за твоего сына! А ты, понимаешь, за себя не можешь выпить… Ай-я-яй, нехорошо! Атаев между тем опять наполнил рюмки. — Да, — сказал он озабоченно, — отлынивать у нас не разрешается, ни-ни… Мы же отдыхаем. — Да я ведь не очень-то пьющий… — попытался было отговориться смущенный Ягмур. — Я понемногу всегда. — Мы тоже не в бутылке живем, — строго сказал Чакан. Впрочем, если бы Ягмур пригляделся к нему получше, он бы убедился, что Чакан Атаев, во всяком случае, живет около нее… Но Ягмуру было не до того. Опять подняли рюмки, теперь уже за хозяев дома, и хочешь не хочешь, а пить надо было. Ничего не скажешь, дельной хозяйкой оказалась Айлар и угодливой, хорошими новые его друзья, и все кругом ему нравилось, новым было и добрым… Хорошо человеку с друзьями, ай как хорошо! И все страхи его куда-то делись, утекли из Ягмура, как вода в песок, ему теперь приятно было сидеть тут, чувствовать себя равным среди таких людей и ни о чем особом таком не думать… — …Да, вместе летели, на соседних, понимаешь, креслах! — словно издалека слышал он их разговор. — Подошел и так вежливо: позвольте, говорит, ваш портфель… Пожалуйста, говорю, а потом смотрю: Ягмур-еген стоит, смотрит, понимаешь, улыбается!.. — Да-да, ты говорил, что летал в Ашхабад, помню. Но это… неужели так и на соседних креслах?! — В том-то и дело, клянусь аллахом! — Слышишь, Ягмур-еген… слышишь, о чем говорит этот человек, наш друг!.. — Так и было, — кивал головой Ягмур, — вместе летели. Я к дяде, а он… Вместе, это точно. — А потом мы вышли, а егена уже встречают, машина, понимаешь, подана, как в сказке… — Это точно, — засмеялся Ягмур, — как в сказке, верно… Нуры-джан говорит: тысячу раз машину протер, пока это… пока я прилетел, да. Хороший парень Нуры-джан, в галстуке, вишь ли, а тоже при технике. Вот как люди работают! Он там сидел все, ждал, но… Тут мы взяли и поехали! — Заботливый у тебя дядя, Ягмур-джан, завидую! — почмокал губами Чакан, даже глазки прикрыл, головой покачал. — Хорошо принял, да? — Кто, дядя-то?.. Хорошо принял, по-хански, это он того… любит. Я говорю: приезжай к нам, почему не приезжаешь, забыл родную землю, да?.. Нет, говорит, некогда, никак не могу пока. Занят, говорит, по горло. Обидел он меня этим. Я к нему езжу, нахожу время, а он… — А в отпуск, почему в отпуск не приезжает? — Да разве он в отпуск поедет в какой-то там аул… Я же говорю: забывают они все родную землю, отвыкают… вершина не знает, где ее корни. Как отпуск, так рвутся куда-то… — Куда же это? — терпеливо спросил Атаев, остановив жестом пытавшегося что-то сказать Чакана. Ягмур неопределенно махнул рукой, икнул. — Туда едет, туда. На курорт, понимаешь. — Хороший, наверное, курорт… Он тебе не говорил, какой, а, Ягмур-джан? Как название-то? — Не помню, — простодушно отозвался Ягмур и опять махнул рукой. — А-а, да какая разница… куда доктора направят, туда и едет. Сам не говорил, нет. А раз не говорит, я и не спрашиваю. Мне все равно. Говорю ему: Гуджук — вот тебе самый лучший курорт… — Да-а, нам-то они не скажут, куда ездят… — с сожалением протянул Чакан, шумно вздохнул, мигнул невесело Атаеву. — Ну, давайте выпьем, друзья. — У меня предложение, — сказал Атаев, поднял свою рюмку. — Давайте поднимем бокалы за дядю, который имеет такого хорошего племянника, как Ягмур-джап-еген! Хороший тост, Чакан?! — Исключительно замечательный! — восторженно сказал Чакан и приподнялся на подушках, обнял за плечи Ягмур-егена. — Слышишь, еген? За дядю твоего пьем… — И за всех его помощников, — добавил Атаев. — И за всех его помощников! Пусть его звезда никогда не заходит и светит всем нам! Пусть под ее лучами разбежится всякая нечисть… — Ну-ну, Чакан! Это уж ты слишком. — Ничего, Ахмед-ага, я знаю, что говорю… — Чакана Атаева уже порядком развезло, и он не знал, куда девать свою энергию. — Узки райские ворота, ибо вход туда только избранным!.. Будем избранными! — Да, помощники у него хорошие ребята, — вдруг сказал Ягмур, будто проснувшись. — Отличные ребята, друзья, точно вам говорю… Всем ребятам ребята, понимаешь. В отпуск они ездили вместе. Чемодана ему в руки не дают взять, вот какие… ик… помощники. — Вот тебе боржом, Ягмур-джан. — Спасибо, друзья… что за дядю. Давайте за дядю выпьем, это человек… Высо-окого ума человек, да. Можно сказать, государственный человек! Выпьем. И опять они, в который уже раз, выпили, а Айлар-джан, словно большая грозовая туча по горизонту, ходила вокруг них, меняла им блюда, и каждый ее приход в комнату Ягмур узнавал по тоненькому треньканью рюмок в серванте. — Айлар-джан!.. Спасибо, гелнедже, приглашаю всех вас в Гуджук! Бостан-еген тоже… она уж постарается, поверьте, друзья. Ночь не будет спать, но уж вас… — Нет, еген, подожди, у меня другой план. Двадцать седьмого… нет, двадцать девятого числа моей младшей дочке Терезе исполняется… э-э… три года, вот! — Чакан торжественно оглядел всех. — Поэтому приглашаю всех я — всех, с женами. И если здесь сейчас сидят трое муж-чин-друзей, братьев, то пусть у меня соединятся и сестры! За это пьем!.. — За это, друзья! — За эт-то!.. Какая-то мутная пелена держалась перед глазами Яг-мура, мешала видеть ему друзей, и он даже попытался отодвинуть ее, как дома отодвигал на окне кисейную занавеску, — цапнул ее раза два рукой, но ничего не получалось… Тогда он попытался приподняться, надо было идти. Уже идти надо было, хватит. — Куда ты, еген, сиди! — Домой. Надо это… домой, спать. Спасибо! Я от-бла… отблагодарю вас, друзья! — Мы это знаем, дорогой, — обнял его, удерживая на месте, Атаев, утомленный водочкой не меньше других. Но он умел при этом держаться, а это большое дело — уметь держаться. — Подожди, посиди с нами. Вот как-нибудь, понимаешь, соберемся у тебя… дядю твоего пригласим… А что?! Пригласим. — Пригласим, — мотнул головой Ягмур. — Обязательно, да. — Дядю, говорю, пригласим… или сами съездим в Ашхабад, что нам!.. Нам недолго подняться, так, Чакан? Он хороший, наверное, человек, простой… — Он-то? Ай, он очень простой… он вас полюбит! Он не посмотрит… Мои друзья — это его друзья! Душа у него… Высокий, говорю вам, человек, добрый. — Разве мы сомневаемся в этом, еген!.. Давайте еще. — Нет, нет… я пойду, хватит. Домой. Жена, понимаешь, ждет, нельзя… — Да подождет она, куда ты торопишься?! Мы вот сейчас позвоним ей, и все дела. — Позвонить? Нет, вы ей не позвоните… — Это почему ж? Позвоним, долго ли. — Да как же вы… — Ягмура почему-то разбирал смех, такие все они были смешные и глупые, и он с ними тоже. — У меня ж телефона нету!.. — Нету?! А что ж ты молчал до сих пор, дорогой? Как можно без телефона! — А у нас так, не у всех… Зачем всем? Всем не хватит. Даже у Иламан-аррыка нету, а мне зачем?! Я… это… не начальник. Это у начальников — тр-р-р!.. — Будет и у тебя, клянусь! — Хозяин ударил себя ладонью в грудь, истово прикрыл глаза. И снова открыл их, скорбно глянул. — Иначе какие мы, Чакан, друзья, если у нашего друга… — Будет! — поклялся Чакан. Он уже бурдюком оплыл на своих подушках и теперь говорил меньше, только лишь подтверждал. — Все будет, еген… Ты только скажи!.. Бостан или кто там… все приходите в магазин, всем будет, что хотите! …Потом хозяин звонил куда-то, искал своего шофера и наконец нашел. Его слова: «Ты смотри, гостя не растряси, очень осторожно, понимаешь, вези, как будто меня везешь!..» — еще больше разозлили шофера, вынужденного тащиться в выходной куда-то за двадцать километров… Едва скрылся за поворотом дом начальника, он перешел на четвертую и так «давил» всю дорогу, не щадя ни машину, ни пассажира своего, храпевшего на заднем сиденье.11
А потом была еще поездка вместе с Бостан-еген, оставившей их маленького на бабушку, поездка торжественная, под конец веселая и тоже хмельная. Чакан расстарался встретить гостей, на дастархане было все, что только можно достать в районе, как, впрочем, и все в доме Чакана Атаева, почти хозяина «цветнокаменного», — женщины района так называли универмаг, украшенный цветным кафелем… Бостан-еген осталась в общем-то весьма довольной знакомством, хотя новые друзья ей понравились куда меньше, чем мужу. В конце концов, решила она, муж знает, что он делает, на то он и мужчина в доме. Ей от души хотелось бы, чтобы чуть спокойнее, чуть честнее были маленькие блестящие глазки этого плута и, видно, пьяницы Чакана, чтоб немножко искренней говорили и вели себя товарищ Атаев с супругой, а сам Ягмур поменьше восторгался бы ими… ну, кто и когда угождал женщине во всем? Бостан-еген это тоже понимала и махнула рукой — пусть! Между тем хитроумная машина молвы, еще ни разу с древних времен не ломавшаяся и не требующая никаких там техуходов и смазок, все раскручивалась и раскручивалась, набирая губительную свою силу… Весть о том, что двое известных теперь всему кишлаку Атаевых — бо-ольших, понимаешь, начальников! — приглашают «племянников» к себе, машины за ними присылают легковые, неутомимо обсуждалась везде, где собиралось больше одного человека. Хуже всего было отсутствие мало-мальски удовлетворительной причины такого вознесения «племянников», поэтому фантазия, создавшая в свое время столько народных сказаний, и здесь работала напропалую… Упомянутое отсутствие причин сначала удивляло, потом стало немножко тревожить, раздражать, потом попросту злить машину — не дай вам бог разозлить ее!.. Особенно раздражало это непонятное женщин — как в силу свойственной их природе ненависти ко всему непонятному и неизвестному, так и в силу их, мягко говоря, любознательности… А установка телефона, произведенная пару дней назад в доме Ягмур-егена двумя неразговорчивыми и потому, видно, умными техниками, вовсе переполнила всю чашу терпения гуджукских женщин. В самом деле, сколько можно терпеть?!.. Зайдя сегодня в магазин, Бостан-еген прошла в дальний его угол, в хлебный отдел. Продавщица куда-то отлучилась, Бостан стала приглядывать себе буханку хотя бы на вид помягче, когда услышала за высокой полкой-витриной, проходящей посредине магазина, свое имя, там разговаривала кучка ее соседок, подруг. — …Ишь как сроднились! — говорил один голос, тонкий и негодующий. — С чего бы это им родниться, с какой такой стати?! Не понимаю, чем эта слепушка пришлась им по душе, что ей отрезы дарят… — Подарили, в том-то и дело! Целых три отреза, один, говорят, такой цветастый, в крупных таких желтых цветах, а другой вроде зелененький, а по полю тоже такие… — А ему, этому Ягмуру-яглы черному, белый костюм с галстуком, сама теща мне рассказывала. Эго надо же, целый костюм! Нет, женщины, что-то нечисто тут!.. У Бостан-еген даже дыхание занялось — что такое они говорят?! Какие отрезы, какой костюм? Ей, правда, подарили, но всего лишь косынку яркую, парчовую такую, а Ягмуру галстук… Слова их, голоса, среди которых узнала она голос Дурдяне, жены Иламан-аррыка, смертельно оскорбили ее. Она «слепушка»?! Ну и что такого, что у нее редкие ресницы, видит она своими глазами куда лучше, чем все эти сплетницы скопом… И Ягмура как обидели, масляным назвали, «яглы», как они могут так, где же совесть у них?! Не совесть у них, а беспризорная скотина: бродит где-то, а они здесь… — Да, женщины, мы ей теперь больше не нужны… С женами больших начальников якшается, как же! Не буду, говорит, надоели наши мне, как… — Что, так и сказала? — Ну!.. Темнота, говорит, слова культурного не услышишь, хоть сто лет в этом Гуджуке живи. — Ах, она!.. Да нужна нам она!.. Пусть якшается с кем хочет! — А этот, масляный ее… — А эта слепая говорит… — Надо же так, женщины! — Ты не смотри, что он масляный… телефон-то ему провели! Вот у тебя муж бригадир, и то вы без телефона, а ему поставили! — Представьте себе, женщины: лежит она на кровати нога на ногу, как в кино, в черных таких очках, и по телефону так это — «але»! — Что, уже и очки купила?! — Ну!.. У бедной Бостан ноги отнялись. Забыв про то, зачем она сюда пришла, выбралась потихоньку из магазина и, захлебываясь слезами, побежала к себе… Дома она, чтобы хоть немного успокоиться, заварила чай. Сидела, отхлебывала из пиалы и то и дело косилась на черный телефон, дремавший на тумбочке, словно кот, бормотала иногда: — Можно подумать, что мои предки обходиться без него не могли, без телефона. Да пропади они все, если так!.. Какой позор, ай-вай-вай!.. Где у них совесть, не понимаю… на ходу выдумывают, балаболки этакие. Какие отрезы, где они, эти отрезы?.. Лучше б никогда их не видеть, проклятых этих друзей, чем такое… На улицу теперь не выйти, глаз не поднять от стыда, ай-я-яй! Даже черные очки… даже очки выдумали, мало им этих отрезов! Она недолго сидела одна. В дверях появилась Дурдяне, что значит «прозрачная», «чистая», та самая, которая только что так злословила в магазине… Пришла, проклятая, прилетела. — А я заглянула вот… с телефоном пришла тебя поздравить, сестра, — медово проговорила она, глаза ее зыркнули по комнате туда-сюда и остановились на телефоне. — Услышала вот, пришла. Телефон — дело такое, даже за деньги его теперь не поставишь. — Да стоит ли поздравлять из-за него? — сказала, сдерживая себя, Бостан. Ишь, прилетела, тварь завистливая! — Вы, я слышала, «Жигули» дождались наконец, чго уж тут о телефонах говорить… Поздравляю!.. — Ай, спасибо! — напыщенно ответила Дурдяне. — Мы уж как-нибудь проживем без телефона вашего… подумаешь! Нашли чем удивить!.. А машина — вещь нужная. — Никто и не собирается удивлять, с чего ты взяла, сестра, — сказала ей Бостан, крепясь. Ясно было, что жена этого тощего пришла назло ей, похвалиться машиной. — Садись лучше чаю попей. — Не буду я пить чай! — не выдержала наконец, грубо сказала Дурдяне. — Ты знаешь, что женщины говорят о тебе? — Да слышала… дошли до меня слухи. И как не стыдно такое говорить! — У Бостан даже слезы на глазах навернулись. — Совсем уж обезумели! — Обезумели?! Ты думай, что говоришь, женщина! Зазналась, понимаешь, уже все ей дураки!.. — А разве нет?! Какие отрезы, какой костюм, зачем вы так… — Как, гуджукские женщины дуры?! Да ты… да как ты смеешь! Ты думаешь, мы не знаем, куда вы метите со своим масляным?! Все знаем, дорогая, не такие уж и дуры! — Ты подожди… что ты распалилась так, за что? — За то!.. Знаем мы, куда вы целите. Видно, права поговорка: «Когда ишак жиреет, он и своего хозяина лягает…» Ну не-ет, до самого Ашхабада дойду, до министра, но не допущу-у!.. Пусть лучше деньги мои пропадут, чем честь. — Какая честь, о чем ты?! — совсем растерялась Бостан, встала. — При чем тут честь?! — Я знаю — при чем! На тепленькое место раззавидовались, чтоб твой как мулла расхаживал, а мой баранку на тракторе крутил?! Не выйдет! — Дуреха ты, — только и сказала Бостан. — Я дуреха?.. Я, честная гуджукская женщина?! Да я глаза тебе… Подумаешь, телефон они повесили! На хвост ишака ваш телефон похож и вы все тоже! Нет, уж я не допущу такого, ты так и знай со своим масляным!.. — Уходи отсюда! — сказала Бостан, вконец расстроенная, разозленная всей этой нелепицей. — Чтоб духу твоего здесь не было, сплетница. Потерявшая дар речи, в лучших своих чувствах оскорбленная Дурдяне всплеснула руками… Но она еще и до двери не дошла, как благословенный дар вернулся к ней, обогащенный трижды… Так она с ним и ушла, методично понося и проклиная все, что попадалось ей на глаза, вплоть до дверных косяков и веника в углу. И едва только она ушла, зазвонил телефон. Звонил он долго и настырно, будто требовал к ответу. Кого и за что, неизвестно было, но требовал. Бостан сидела перед остывшим чаем и тупо смотрела на этот оживший вдруг, с резким и дребезжащим, как у Дурдяне, голосом проклятый аппарат и так и не подошла, не подняла трубку.12
Ягмур-еген вернулся с работы усталый и оттого несколько хмурый, неразговорчивый, и Бостан не решилась сразу рассказать ему о происшедшем — пусть хоть поест спокойно, ему и так достается. Да и как рассказать, что они могут сделать против этой чумы?.. Словами людей не разубедишь, надо делами. И еще одно стало тревожить Бостан: что хотят от мужа эти его новые друзья, с чего это они так вдруг напрашиваются, лезут, хотя каждому видно, что Ягмур им никакая не ровня, никак не годится в дружки?.. Что-то и впрямь тут было нечисто, вот только не могла она понять что… Ягмур молчаливо поужинал, и она уже начала убирать скатерть-сачак, собираясь наконец-то завести разговор, когда в дом вошел бригадир. — Ну вот, — сказал, усмехнувшись, Ягмур. — В прежние времена, когда приходил гость, сачак расстилали, а сейчас, наоборот, убирают… Садись, Иламан-джан, выпей со мной чаю. — Спасибо, чаю можно… А то я еще не заходил домой, не ужинал. Но я ненадолго, жена, наверное, ждет. Слушай, друг, я тебе новость интересную принес… — Ну-ка? — Интересуются тобой, вот какое дело. Оттуда, — указал он пальцем на потолок. — Зашел в обед в правление, а там говорят: кто-то важный такой звонил, интересовался, год и месяц рождения, стаж спрашивал, эту… как ее… характеристику рабочую. Ну, и все такое прочее. Вот я и думаю: уж не хотят ли они тебе медаль дать? — Да что ты, Иламан-джан!.. Во-первых, работаю я ничуть не лучше других, за что мне такое давать? Если уж на то пошло, так лучше Сахиту… А во-вторых… — Ну, в первом-то ты ошибаешься, что во-вторых? — А во-вторых… мало ль что надо им там, наверху. Может, документы какие утеряли… — Э-э, нет… Говорю тебе, важный был голос, секретаршу даже обругал. А когда ругают, значит, высокое начальство, это всегда так. Нет, что-то здесь не то… В это время пронзительно, заполошно как-то зазвонил телефон. — Ого! — удивился бригадир, словно только что заметил этот телефон. — Да он у тебя, оказывается, звонит!.. Слышал я, что установили… поздравляю. — Да это друзья помогли, — сказал, поспешно вставая, Ягмур. — Он вроде бы и не так уж нужен… Алло! Товарищ Атаев? Здравствуйте, яшули!.. Спасибо, все у нас хорошо… отлично, говорю. Маленький? В добром здравье, Ахмед-джан, как тополек растет! А у тебя как там, как Айлар с Казбеком?.. Рад, очень рад за вас всех… Иламан-аррык с изумлением слушал этот приятельский разговор простого работяги, дружка давнего своего, с таким высоким начальством. Вот это дает еген!.. Расскажешь людям, ведь не поверят. Врешь, скажут, не может такого быть, где это видано… — На соревнование? — продолжал разговаривать Ягмур, подмигивая своему бригадиру. — Конечно, хорошо бы съездить… Но ведь туда уже назначен от нас тракторист. Да, Ахмед-джан, тракторист Сахит Курбанов, наш товарищ, отличный парень… Как так отклонить?! Что вы, нельзя, что обо мне люди тогда подумают… Как, уже решили? Ай, как неудобно, Ахмед-джан, не хотелось бы… Да. Ладно, я подумаю, хотя… Ладно. Я потом позвоню. Привет от нас с Бостан всем, большой привет, Чакану с семейством тоже! Спасибо, дорогой, до свиданья!.. Я позвоню. — Вот видишь! — воскликнул Иламан. — Я же говорил тебе, что неспроста… — Да, ты прав, Иламан-аррык. Говорит, что мне надо послезавтра выехать на районное соревнование трактористов… вместо Сахита. Ай как нехорошо! — Ну, раз они там, наверху, решили, так, еген… — Все равно нехорошо! И Сахит обидится, и… — Сахит не ребенок, еген, тоже понимает, что такое «верх» и «низ». А если сам не поймет, то мы ему разъясним. Поезжай, если о тебе так заботятся. Лет восемь назад, я помню, о нашем Сарыеве так беспокоились г— и что же ты думаешь? Первый приз получил — радиолу! Это всегда так: если заботятся слишком, значит, первое место обеспечено… — Да кто же это может знать? — Э-э, дорогой еген, наверху все знают! В конце концов, это не наша забота. Твое дело сесть на трактор и… — Нет, — не выдержала Бостан-еген, входя из соседней комнаты. — Нет, Ягмур, тебе нельзя ехать, ты уж мне поверь… Ну никак нельзя, не слушай ты этих своих друзей, ради бога, они тебя заведут… Они для того и телефон этот проклятый поставили, не верю я им! — С чего это ты, жена?! — удивленно вскинул брови Ягмур и будто только сейчас увидел ее расстроенное лицо. — Ты что-то сама на себя не похожа… что случилось-то, почему это друзьям своим нельзя верить?! — Потому… Нечисто все это, потому и говорю. Нечестно. Сам рассказывал, что Сахит с весны еще готовился, ждал… подумай, что о нас люди-то скажут? И так уж… — Что? — Да ничего. Прошу тебя, откажись, ради аллаха. — Ну вот, уже и жена против… — растерянно улыбнулся Ягмур, он явно не знал, что делать. — Ничего не понимаю. В конце концов, я бы и на соревнованиях не подвел… — А Сахит?! — настаивала жена. — Да, с Сахитом, конечно, нехорошо… Нет, не надо бы мне ехать, правильно Бостан говорит. — Как же ты не поедешь, когда тебя утвердили уже? — проговорил недовольно Иламан-аррык. — Ты что, парень?! — Да так, не поеду, и все. Это Ахмед-джан, наверное… ну, все равно. Нет, нехорошо это… Но люди-то здесь при чем, Бостан? — А при том! — прорвало жену. — Ты еще не знаешь, что о нас говорят? Такое рассказывают… такое, что и во сне дурном не приснится!.. Дверь вдруг резко распахнулась, и на пороге возникла злая, растрепанная вся Дурдяне. — Ты что это засиделся тут? — не поздоровавшись даже с хозяином, крикнула она мужу. — А ну, пошли домой, хватит рассиживаться. Нашел где сидеть!.. — Ты это что, жена? Какая тебя муха укусила?! — Муха кусает тех, кто сидит в доме с мухами. Уж пора бы различать дома, в которых ты можешь появляться, а в каких нет! А сам не можешь, так тебе другие подскажут!.. — Я что-то тоже ничего не понимаю, Ягмур-еген… Что с ними случилось сегодня? — Не знаю, Иламан. Ну ладно, завтра разберемся. — Мы еще сегодня с тобой разберемся… — угрожающе сказала Дурдяне. — Живо давай, дома дела ждут, а он тут… Тоже мне, нашел где сидеть! Горячая жена у Иламана, всю жизнь им вертела как хотела, справилась и сейчас. Бригадир уныло кивнул товарищу и пошел вслед за ней… — Вы сегодня и вправду как осенние мухи… — сказал Ягмур. — Ну-ка, выкладывай, что там такое у вас произошло?.. Потом Ягмур долго звонил Атаеву, но на работе его уже не застал. Домашнего его номера он не знал — так вышло, что не удосужился спросить. А жаль.13
Утром Ягмур-егена, привычно поспешавшего к родному Попушгуму, встретил по дороге колхозный мираб Джумагельды-ага — катил навстречу на мотоцикле с коляской, еще нежаркий ветерок овевал его редкую черную бороду. — Подожди, еген, на минутку! — крикнул он и вырулил на обочину, заглушил мотор. — Дело есть к тебе, сынок. Там тебя Медет-ага ищет, велел, чтобы ты в правление сейчас зашел. Вчера председателю позвонили, чтобы ты готовился ехать на соревнование… — Знаю, — кивнул Ягмур, нахмурился. — Никуда я не поеду, ага, нечего мне там делать. Пусть Сахит едет, он достойнее меня. — Да мы уже слышали, что ты отказываешься… Ну, дело хозяйское, мелкую рыбешку тебе теперь не присталоловить. — Какую рыбешку? — не понял Ягмур. — О чем ты говоришь? — О том же, о чем все говорят… Ну, ладно, у меня к тебе другой вопрос. — Нет, ты скажи мне сначала, что хотел сказать… Какую такую рыбешку, что за тайны такие пошли вокруг меня? — Не приставай ко мне с этим, еген, я не больше твоего знаю. Поговори с Медетом-ага, может, он что-нибудь новое тебе скажет. У меня к тебе другое. Понимаешь, баню я себе решил строить. — Баню?! А какое я к баням имею отношение? — Самое прямое, дорогой еген! Вот уже полтора года, как заплатил я в колхозную кассу деньги за пять тысяч жженого кирпича. Заплатить-то заплатил, а кирпича нету. Сверху, понимаешь, не дают… — Ну и что? — Ты, Ягмур-джан, человек сейчас всем известный, сверху поддержку имеешь… может, окажешь мне в этом помощь? — Джумагельды-ага, ну сам посуди, кто я такой?! Тракторист, дехканин простой… Кто тебе сказал, что я все могу? — Ну, как… весь Гуджук говорит. Говорят, что… Кто его знает, может, даже и председателем изберут. Ты ведь свой парень, что тут особенного. — Председателем?! — опешил Ягмур. Только этого ему еще не хватало после всех этих костюмов и отрезов. Да они что, с ума все посходили, подумал он. Откашлявшись, он с трудом сказал: — Вот что, Джумагельды-ага, в тот день, когда меня выберут председателем, я тебе не то что пять, а все десять тысяч выложу кирпичей этих… А пока обходись кумганом. Но я тебя заранее, от всей, понимаешь, души предупреждаю, что с этим своим кумганом ты до самой смерти не расстанешься… И повернулся, пошел в сторону правления. — Ну вот, и этот таков же… — довольно громко и с раздражением, чтобы Ягмур услышал, пробормотал мираб. — Стоит чуть только подняться им, как… И зло даванул на рычаг кикстартера. Мотоцикл взревел, круто завернул и понес его в открытое поле. Заместителя Ягмур-еген застал в кабинете, тот уже собирался куда-то уходить… — А-а, Ягмур-еген!.. Проходи, садись. Ты слышал об указании сверху направить тебя на это… — Слышал, Медет-ага, но я отказываюсь, пусть едет тот, кто должен был ехать, Сахит. — Да, мне о твоем отказе уже сказали… Только, боюсь, это такой вопрос, который сам я вряд ли решу. Начальство настаивает, верхи. И поэтому, так сказать… Ягмур окончательно разозлился и уже не скрывал этого: — Ну, а если бы Ягмур умер? Или заболел? Что бы тогда твои верхи делали?! Опытный Медет-ага только поглядывал на него мудрыми своими глазами, ждал, когда собеседник сорвет досаду. И, дождавшись, не торопясь заговорил: — Во-первых, еген, не то что скоропостижно, а и медленно никогда, так сказать, не умирай, зачем?.. Во-вторых, верхи не мои, а, так сказать, твои… — А что в-третьих? — В-третьих? — Да, в этих самых третьих? — А в-третьих, — он показал на дверь, — закрой-ка вой ту дверь. Закрыл? Садись теперь. Я тебя уважаю, Ягмур-еген, ты парень хороший, наш, — начал немного погодя заместитель. Ему, видно было, не очень хотелось вести весь этот разговор. — Но… Понимаешь, еген, слухи всякие ходят по селу. И не понять, откуда они идут, с чьих слов. Такие слухи, что… Понимаешь, когда распространяют хорошие слова, но не сказанные человеком, это еще хуже, чем сказанные плохие слова распространяют… Так ничего и не поняв из этого, Ягмур нетерпеливо и требовательно сказал: — Ты вот что, Медет-ага, давай напрямую говори, что петляешь, как вода по арыкам. — Для того, так сказать, и начал я этот разговор. — Медет-ага нервно потер руки и вдруг остро, коротко глянул на него. — Все говорят, будто ты если не в эти, так в следующие выборы обязательно сядешь на место Арапа-ага… с помощью друзей своих. Подожди, — остановил он его, — дай мне договорить… Я, конечно, не верю в это, но все говорят, будто ты это сам утверждал. И вот если старик наш узнает про это… — Да как это… да какой это шакал, свинья!.. — Подожди, не горячись, еген. Я ведь как-никак лет на двадцать старше. Не кричи на меня, сынок. — Да как же не кричать, Медет-ага! Если б хоть одну эту собаку… — Ничего, сынок, не горячись! Я же сказал тебе, что не верю всему этому, зря я, что ли, сказал? Не такой дурак, чтобы верить. Но дело, так сказать, все равно… — Как же я теперь председателю в глаза смотреть буду? — глухо сказал Ягмур, опустил голову. — Какой позор, ай-вай-вай… Присоветуй что-нибудь, ага! — Что тебе посоветовать, Ягмур… Не обращай внимания. Поговорят, ну и бросят. Не все же этим, так сказать, небылицам верят. Меня, еген, другое беспокоит… Конечно, дело хорошее, что ты нам эти запчасти достал. Я тебе тут еще списочек приготовил самых необходимых, но… смотри сам. Этот Атаев у нас человек новый, неизвестно еще какой; а вот другого Атаева, Чакана… о нем такие слухи ходят… Нечистый человек, не успевает из всяких историй вылезать… смотри. — Да вроде б люди они хорошие… — Ну, я тебе сказал, — хлопнул ладонью по столу заместитель, — а ты смотри сам, не маленький уже. Ты меня знаешь, зря я не стал бы тебе говорить. Одно у меня в голове не укладывается: что они в тебе нашли? Почему не Иламан или не Сахит, например?.. — Я же говорю, случайно ехали вместе… — Ладно, аллах с ними. Смотри. Значит, так-таки и не поедешь на соревнование? — Нет, Медет-ага, — твердо сказал он, поднялся. — У меня и здесь дел хватает. А дорожки людям перебегать я не привык, так и передайте всем, кто интересуется. — Я в это верю, еген. Ты сейчас на поле едешь? Тогда заскочи к Сахиту на делянку, скажи, чтобы немедля готовил трактор и себя, а завтра в шесть чтобы выезжал в совхоз. Пусть бросает работу и готовится. А списочек все-таки возьми на всякий случай… Жить-то нам как-то надо. Тут и бумаги все, какие нужно, возьми.У знаменитого Попушгума было пустынно, все трактористы давно разъехались по делянкам. Ягмур быстро завел свой послушный теперь «Т-40» и покатил проселком к своему месту работы. Издалека заметил и узнал трактор Сахита, подождал, пока он закончит переход и выедет к дороге. — День добрый, Сахит! Слушай, Медет-ага велел передать, чтобы ты срочно готовился, завтра в шесть утра выезжаешь на соревнование. Бросай давай борозду, собирайся… Чего молчишь? — А что мне говорить… Пусть другие едут, кто очень уж хочет. Кто готов на все, лишь бы… Никуда я не поеду. — Брось ерунду говорить, собирайся! Времени у тебя не так уж много, Сахит, нечего тебе… — А я тебе сказал, что не поеду. Сам поезжай, раз такой… торопливый. Поезжай, показывай усердие. — Я сразу отказался, Сахит, ты ошибаешься. — Правильно говоришь, ошибаюсь. Я только теперь понял, что ошибался на твой счет. И он, не глядя на Ягмура, залез в кабину, с каменным лицом включил скорость. — Ты ошибаешься, Сахит, — повторил Ягмур, словно у него не стало вдруг больше никаких слов, и отступил, сделал шаг назад, потому что резко сорвавшийся с места трактор едва не задел его. Отступая, Ягмур чуть было не упал, но успел все-таки удержаться на ногах и молча выпрямился, невольно отмахнул пыль от лица, глядя вслед уезжающему другу — бывшему.
14
В то же утро после обычной пятиминутки директор районного универмага, совсем еще щенок, попросил задержаться у себя заместителя; и, начав с «Чакан-ага», закончил разговор словами, которые ничего общего с почтительным «ага» не имели. У этого молодого, не научившегося еще быть разумно вежливым, по лицу было видно, какое слово катается в его голове, хотя говорил он больше о нарушениях правил торговли и несколько таинственном растворении в воздухе партии импортных демисезонных полусапожек… Привычная безошибочная интуиция подсказала Чакану, что это слово было самым вульгарным и в приложении к нему, Чакану Атаеву, невыносимо пошлым — «жулик»… Ждать, тянуть было теперь уже нельзя. Надо действовать, иначе настанет такое время, когда ключик окажется попросту ненужным, бессильным открыть что-либо… С такими вот неспокойными мыслями ожидал он обеденный перерыв, на который была назначена встреча их с Атаевым в районной столовке, ресторанчике по вечерам, в отдельном кабинете. — Вот что, Ахмед, — сказал он без всяких вступлений своему медлительному приятелю, — хватит нам ходить вокруг да около, пора трясти нам это деревце… В переспелых плодах тоже мало толку. — Ну, и что ты предлагаешь? — Надо ехать в Ашхабад, дорогой, с ним, с племянничком! Отпуска он еще не брал, этот еген, почему бы нам не достать ему путевку в какой-нибудь дом отдыха около благословенной туркменской столицы?.. Бесплатную, понимаешь, от бесплатной никакой деревенский дурак не откажется… Им кажется, что если бесплатное, то это уж сам аллах брать велит! Горчицу им бесплатную поставь — плакать будут, но сожрут всю!.. Как ты на это смотришь? — Положительно. Но все же надо узнать, как он сам на это посмотрит… — Ну, это само собой; потихоньку, между прочим надо это узнать. А потом неожиданно бух ему на голову «бесплатное»… никакой, повторяю, сельский не устоит. — Все-таки осторожно надо, — сказал, раздумывая, Атаев. — Это хорошо мы в последний раз сделали, что о дяде не упоминали… Уж больно глазастая эта его Бостан, не нравится она мне. Все будто подглядывает, надо с ней добродушней, сердечнее… Нет ничего хуже, когда женщина в дело вмешивается. Эксперимент должен быть чистым. Слушай, тут вот еще какой интересный момент… — Ну-ка, ну-ка… — Ты понимаешь, отказался он от соревнований, час назад сообщили оттуда. Столько сил я затратил, и все насмарку… Упрямый, шайтан, ну, ладно. Дело в другом. Звонил я в правление, данные его узнавал. Ты понимаешь, у него послезавтра, оказывается, день рождения… Тридцать девять дураку стукнет. — Ого, это уже кое-что!.. — Но, Чакан, никаких торжеств устраивать не будем. Бостан эта там, люди, то-се… не надо. Просто подарим ему что-нибудь такое, скажем, что приехать не можем, заняты по горло. А затем путевку эту сунем, идет? — Идет! А потом поедем. Дня за два так до срока. — А потом поедем, хотя… Да, ехать надо, пора. Тянуть больше нечего, мне уже самому вся эта петрушка надоела. Только надо бы все же конкретнее узнать, где этот дядя его там работает, а, Чакан? — Ничего, Ахмед… все узнается! Главное, что он там работает, и не каким-нибудь там… Нам бы только зацепиться! — Нет, узнать надо. Я вот что… я попытаюсь позвонить туда приятелю одному, имя-то дяди мы знаем. Иначе опасно. — Опасно, если плод переспеет, сгниет! Важен конечный результат! — Чакан вытер бумажной салфеткой рот, отваливаясь от еды, ложкой легонько стукнул по опустевшей тарелке, вызвав приятный звон. — Звони, конечно, но… Если нам удастся всего лишь раз усадить этого дядю за такую вот тарелку, а наши чтоб рядом были, дело будет сделано, друг… Иначе никто за нас и медной монеты не даст, постесняется…15
К обеду на своей новой личной машине подкатил к делянке Ягмур-егена бригадир, вылез, привычно помахал ему фуражкой — закругляйся, мол, передохнуть пора… — Еле, понимаешь, уговорили Сахита, чтоб ехал… Наслушаются бабьих сплетен, а потом к ним и на козе не подъедешь. Тридцать лет парню, а своим умом все еще не научился жить, все ему надо растолковать, за ручку подвести… Здравствуй, Ягмур-еген! — Салям алейкум, Иламан! — Слушай, еген, кто эти все слухи распускает? Вчера мне моя такого наговорила… Совесть имей, говорю, вы что, женщины, с ума сошли?! Раскричалась так, что я в сад ушел ночевать, подальше от этого шайтана в юбке… Сегодня завтрака еле допросился, рвет и мечет. Рассказывает такое, сам шайтан этого не придумает: будто бы ты хочешь… — Знаю, Иламан-джан, спасибо тебе. Хорошо, хоть ты в эту дребедень не веришь. Дошли уже до того, что я Арапа-ага хочу… ты понимаешь?! — Слышал, еген-джан, уже и это слышал. Плюнь! Они сейчас, как овцы в вертячке, ничего не понимают. Мы, мужчины, должны быть… — А что с Сахитом? — Уговорили… Битый час с Медетом-ага старались. Оскорбился: если вы так, мол, с людьми будете обращаться… Так и остался при своем, гордый, понимаешь. Ты куда на обед, домой? А я нет, лучше в столовку заскочу — ну ее к шуту, подругу жизни моей… — В какую еще столовку, поехали ко мне! Поехали, нечего тебе где-то там… А машину где-нибудь в стороне поставишь, чтобы твоя не заметила. Ну и времена пошли!..Дивно все как-то складывалось у Ягмура, шиворот-навыворот… Началось с ругани, повернулось неожиданно самой лестной и высокой дружбой, было отчего радоваться и гордиться, а вот теперь вдруг какой-то третьей личиной повернулось, каким-то позором необъяснимым, непредвиденным… Сплетни, конечно, они сплетни и есть, но ведь и зря, без причины тоже ничего не бывает. Даже выдумывая сплетни, убедился уже Ягмур, люди что-то чуют, хоть самая малая порой, а причина сплетничать у них тоже имеется, дыма без огня не бывает. Наверное, и тут почуяли что-то… Да и на самом деле, подумал он, словно со стороны глянул на себя, слишком уж легкая какая-то эта дружба, слишком быстрая, щедрая не в меру… Будто пересластили. Почему так, что они в нем такого нашли, как Медет-ага выразился?.. Слова заместителя перекатывались у него теперь в голове, точь-в-точь как камушек, попавший в ботинок, все время напоминали о себе, покоя не давали… А Бостан? Свою жену он еще тогда за разумность ценил, когда в девушках она ходила, и тем более теперь. Не-ет, слишком уж зря люди не начнут… Он теперь припомнил все, что у него с ними было, всякие там малозаметные, как в дамских часиках, детальки, всю историю эту, скопом и по частям, и смутное такое беспокойство накатывало на него — раздумье, подобное тому, какое он слышал от соседа-студента: «Стоп, себе думаю, а не дурак ли я?!» И он начинал было думать так, выискивать всякое, подозрительное, и опять его что-то останавливало… Добро останавливало, которое ему сделали эти люди. Много добра, но почему?.. А почему бы им этого добра не делать, опять думал он, что им, нельзя, что ли? Отчего это не поверить ему в их добро?.. Совсем запутался Ягмур.
16
А через день, часам к десяти, прикатили на его делянку оба Атаева. Ягмур-егену издали сначала показалось, что это Арап-ага на своем «уазике» едет, и к дороге не стал торопиться — не хотелось с ним встречаться после всего этого, стыдно… И лишь когда вышли они оба и стали махать, узнал их. — Здравствуй, дорогой! — чуть не хором закричали они, встречая. — На благо родины трудимся, да?! Ай, молодец!.. — Здравствуйте, здравствуйте… Какими судьбами к нам, друзья? — сказал он, пожимая им руки, какую-то неловкость испытывая. — Да вот… поздороваться заскочили, благо мимо ехали, — проговорил Атаев, между тем как Чакан скучающе оглядывал местность, хлопчатник. — Ну, как дома у тебя, как дела? Все хорошо? — Спасибо, яшули, все хорошо. — А что ж ты от соревнования-то отказался, еген-джан? Ай, зря отказался, зря!.. Я надеялся, что ты далеко не последним будешь, а может, даже и… — Нет-нет, — покачал головой Ягмур, ему и неловко было, и досада брала. — Нельзя, яшули… Спасибо, конечно, но ведь у нас человек на это готовился, ждал. Я так не привык. — Ну, это дело хозяйское, — заговорил Чакан, важно отдуваясь. — Как знаешь, еген. Так, значит, дорогой, на поле встречаешь свое торжество, да?! — Какое торжество? — Ну, как же такое забывать?.. Или не забыл, притворяешься, друзей своих провести решил, а?1 — Честное слово, Чакан-ага, не знаю, о чем ты говоришь. — Если честное слово, — и Чакан крепко пожал и потряс его руку, улыбнулся широко, — то тысячу лет живи, Ягмур-еген-джан! Поздравляем тебя, дорогой!.. — Да с чем? — С днем рождения, еген! Забыл?! — сказал, тоже улыбаясь широко, слишком даже широко, Атаев. — Вот тебе наш подарок, будь здоров и крепок на радость нам, друзьям твоим! Ягмур растерялся, прижимая какой-то сверток. Так вот зачем они приехали… В самом деле, тридцать девять ему сегодня. Но такое у них обычно не праздновалось, отмечались лишь круглые даты. Неудобство, радость и некое подозрение — все в нем смешалось, все испытал он, прижимая подарок к груди… — Спасибо вам большое!.. Мне как-то и неловко, не отмечаем мы такое… — Ничего, ничего… Носи на здоровье! — Спасибо, друзья! Сейчас я положу… Ягмур потянулся в кабину трактора, положил пакет на сиденье. Потом решил все же пристроить его к аптечке, где было почище, поднялся в кабину. И увидел в заднее стекло, как мигом поскучнели почему-то лица у его друзей; у Атаева стало оно уныло-брюзгливым и высокомерным, будто он и не улыбался только что, а Чакан кривовато как-то ухмыльнулся, подмигнул приятелю и кивнул на кабину: дескать… Что такое было его «дескать», Ягмур не понял, но сразу стало ему так неуютно, так не по себе, что он поторопился отвернуться, будто недозволенное, неприличное что-то увидел… Когда он вышел из кабины, его поджидали все те же терпеливые, щедрые улыбки приятелей. — Слушай, Ягмур-джан, тут дело у нас такое, спешное к тебе… Понимаешь, какое дело, — повторил Атаев, переглядываясь с Чаканом, сделав лицо озабоченным, — путевка у нас в организации горит… — Бесплатная, — подсказал Чакан. — В том-то и дело, что бесплатная… Жалко ее, понимаешь, назад в профсоюз отдавать, сам посуди! Слушай, ты случайно не был еще в отпуске? — Нет, еще не был, яшули. — Ну, слава аллаху!.. А то мы все думали, куда ее девать… Прекрасный, понимаешь, дом отдыха под Ашхабадом, настоящий оазис, прогулки, экскурсии в столицу — что еще человеку надо! Ну, так и решим: бери, поезжай, отдохни от своих трудов. Мы тебе ее мигом оформим, на то мы и друзья… А не имел бы я такого друга, — пошутил он, хлопнув Ягмура по спине, — и пропала бы путевка!.. Нет, товарищи, друзья в любом случае пригодятся, выручат… — Ахмед-джан, Чакан-ага, дорогие… Огромное вам спасибо за все! Ай, мне даже стыдно… не знаю, чем и отблагодарить вас!.. Ягмур обнял одного, другого, радуясь и про себя каясь, как он мог слушать всякое про них. Сахит вон наслушался, так и ты, несчастный… Они думают о тебе, заботятся, а ты… Мало ль какие заботы у них, мало ль с чего хмурые они были, когда ты… тьфу!., подглядывал. Ты далее не подумал, что и им тоже может быть плохо, не спросил, а еще другом называешься… — Друзья, я весь ваш, сердце мое с вами. Все для вас сделаю, что потребуется! — Спасибо, еген-джан, мы это знаем. А пока давай посидим вон там, под тополем! Чакан-ага! — Иду, — отозвался тот, возвращаясь от машины, пазуха его оттопырилась. — Красота какая! — сказал Чакан, одной рукой поводя вокруг, показывая, а другой вытаскивая из-за пазухи бутылку коньяка. — Отметим маленько, а?! Чтоб путевки не пропадали! Они уселись на жесткой теплой травке, Чакан достал из другого кармана вложенные друг в друга стаканчики, кусок сыру и несколько шоколадных конфет. — Ну, с днем рождения тебя, еген-джан! — Спасибо, много вы мне радости принесли, друзья!.. Охотно, даже не показывая виду, как не хочется ему сейчас пить и целый день потом работать по такой жаре с тяжелой головой, Ягмур выпил целый стаканчик. И они сидели так, разговаривали о всяком, и он рад был, что наконец-то разрешен для него этот смутный вопрос. А люди пусть говорят, если им больше делать нечего. — Путевка у тебя с седьмого, еген. Только и заботы будет, что доехать, а там уж устроят, все условия создадут… Отдыхай на здоровье. — А я ведь, друзья, первый раз вот так еду отдыхать, — смущенно сказал Ягмур, — Ни разу, понимаешь, не приходилось ездить ни на курорт, ни в дома эти… — Это как же?! — всерьез поразился Чакан, ему, побывавшему в свое время везде, это было дивно. — Да как… дома сидел, в саду работал. Дома дел много, некогда разъезжать. Да и не предлагали особенно. — Слушай, а как же дядя? — пораженный, выспрашивал Чакан. — Он-то что, так и не помог ни разу?.. — У него и своих забот хватает, у дяди… Да я как-то и не спрашивал. Нет, ну и дела нет. — Ну, ты даешь!.. — все недоумевал тот. — Надо же, ни разу никуда не съездить… — А у меня идея возникла, — сказал вдруг Атаев, словно решившись на что-то. — Пятого я тоже в Ашхабад лечу, разнарядка новая на запчасти пришла… Хоть и нет там сейчас моего приятеля, — мигнул он Чакану, — в командировку он не вовремя укатил, ну, ладно… Что, если нам вместе отправиться, а, еген-джан?! — Да рановато мне будет вроде… — Ничего не рановато! К дяде заедешь, то-се… По городу походим, посидим кое-где, пообщаемся! Да и ты… с дядей меня тоже познакомишь, очень интересно мне будет с ним… э-э… познакомиться. Сам же говорил, что отличный он у тебя человек. — О-о, дядя у меня молодец!.. Хорошо, Ахмед-джан, пусть по-твоему будет, я рад! Познакомлю, а как же! — Вам хорошо, — будто взгрустнул Чакан. — По столице будете ходить, с людьми интересными встретитесь… Вам праздник, ну а мне тут будни будут районные. — Послушай, Чакан-джан, — сказал Ягмур радостно. — А почему бы и тебе с нами не поехать? Отпросись уж у своего начальства, что оно, не отпустит, что ли… Вместе поедем, как хорошо будет! В случае чего у дяди можно переночевать, квартира у него ай какая большая. Поедем, а?! — Я подумаю об этом, — вроде бы неуверенно, однако уже не сдерживая улыбки, проговорил Чакан. — Спасибо, друзья, не оставили одного скучать в районе… Подумаю, поговорю с директором. Полагаю, что отпустит, спасибо! — Ну, вот и отлично! Давайте-ка за общую поездку нашу, чтоб все вышло как надо! — Атаев поднял стаканчик. — Пусть пошире нам распахнутся ашхабадские ворота!.. И они выпили, каждый радуясь своим надеждам. — А может, даже и в ресторан куда сходим, — говорил Чакан, уминая сухой сыр. — Что нам, нельзя, что ли?! У дяди твоего, надеюсь, найдется время посидеть с нами?.. — Да, конечно, о чем говорить… Вечером, после смены, он всегда свободен, хоть до ночи гуляй. У них ведь по дому дел немного, все удобства, понимаешь, есть… — Какой смены? — не понял Чакан. — Ну, какой… обычной. В шесть он уже дома всегда, отработал — и на покой. Хорошая у них жизнь. — То есть как это… на какой такой покой? — Чакан растерянно оглянулся на Атаева. — Не пойму, что ты говоришь, еген… — Да что тут понимать, друзья: отработал — и отдыхай. Он меня давно на стеклозавод звал, но я не хочу, не согласен. Я дехканин, мне живая земля нужна, а не какие-то там стеклышки, железки. Нет, не хочу. — Послушай, какой стеклозавод?.. — О аллах, да обычный, их стеклозавод… Дядя говорит: посмотришь, поучишься, в помощники потом к себе возьму… Не успеешь, мол, оглянуться, как сам тоже мастером станешь, года так через три-четыре… — Что значит «тоже»? — багровея и не подымая глаз, спросил Атаев. Он как сидел, скрестив ноги, так и остался, только почему-то плечи его все больше опускались, сутулились. — Он что, тоже… — Ну. Мастер он. Большой специалист. Шишка, понимаешь, на заводе. — А… а шофер этот? — Какой шофер? — Ну, тот… вез который нас? — А-а, Нуры-джан… Да это сосед дяди по квартире, какого-то начальника возит. А что? Но ему никто не ответил. Чакан резким движением толкнул вдруг бутылку, она упала, торопливо забулькала, освобождаясь, сухая на пригорке земля и трава быстро впитывали в себя коньяк. Интересно, вдруг почему-то подумал Ахмед Атаев, глядя на бутылку, а трава пьянеет? А Чакан между тем поднялся, постоял так, морща лоб и все лицо свое одутловатое, словно пытаясь что-то вспомнить, понять… И потом сказал, обращаясь непосредственно к товарищу Атаеву: — Ты ишак, понял? Ба-альшой дохлый ишак… — Поедем, — пробормотал тот. — Хватит, ехать надо. — Нет, ты должен понять, кто ты такой… Знаешь, кто это такой? — обернулся Чакан своим серым в отличие от приятеля лицом к не понимающему ничего Ягмуру. — Это ишак, каких свет не видывал. Дурак проклятый. Скотина. Недоносок мамин. В утробе, понимаешь, недоразвитый… — Да вы что, друзья… — попытался было прервать Ягмур его спокойные вроде бы перечисления. — И ты молчи, дурак! — с тем же спокойствием оборвал его Чакан Атаев. Повертел в руках пластмассовый стаканчик, осмотрел и швырнул его в завозившегося, пытавшегося подняться начальника. — И я дурак… ну, ладно. — Нечего тут… — говорил, суетливо и долго отряхиваясь, Атаев, руки его дрожали. — Перестань, не позорься… Поехали. Поехали, говорю тебе… — Куда, в Аш-ха-бад?! — захохотал вдруг Чакан, а глаза его были все ледяные. — К дяде высокому, в министерский кабинет?! На персональной его машине с государственным номером кататься, да?! Идиот… А на стеклозавод, где вот эту, — он наподдал бутылку, та кубарем Полетела в кювет, — вот эти бутылки делают, не хочешь?! Племянничка нашел! — Перестань!.. — Не перестану, дорогой ишак! Сколько мысли, сколько энергии положил… увивались вокруг этого, ублажали… какие планы, ай-я-яй!.. Ягмур стоял, смотрел на все это, молчал, а потом повернулся и пошел к своему трактору. Залез в кабину, включил скорость, трактор работал спокойно, надежно. В боковое стекло он видел, как они пошли, заместитель директора универмага впереди, шагая энергично и торопливо, а сзади тащился за ним Атаев… У первого же арыка он остановился, достал сверток, повертел в руках и, так и не зная, что же в нем, выбросил. Желтая торопливая вода подхватила его, понесла, крутя, словно показывая всем, хвалясь подарком, и поглотила, спрятала в себе.Надколыбельная (повесть)
Перевод П. Краснова
Сказание о простом дутаре
Памяти отца — Тагана Овеза, погибшего в Великой ОтечественнойЕсть в ауле Годжук дутар, который ничем вроде бы не отличается от многих других, сделанных сравнительно недавно или через бережные руки потомства дошедших из былого до наших дней, — разве тем лишь, может, что больше иных закостенел он и потемнел от времени, стал сухим совсем и легким. И еще тем, что, в отличие от своих собратьев, не остался он безымянным, но имя носил стародавнего своего хозяина, потому только, верно, сохранившееся, не потонувшее в зыбучих песках времен, что откликнулось оно и в названии самого аула; и связь эта человека, о котором уже мало кто чего помнил, его простого дутара а разросшегося ныне предгорного селения хоть и потускнела, глуше стала, но все жила и жила в людской памяти, не терялась, и была, видно, в этом какая-то большая справедливость и благодарность, новым поколениям уже невнятная, лишь перенимаемая как святая обязанность от отца сыном, от матери дочерью. Но еще тем он известен был за пределами здешней степной округи, что принадлежал не какому-то отдельному лицу, но всему аулу, кочуя из кибитки в кибитку, из дома в дом, занимая в каждом самое почетное место. И право начать торжество по случаю любой в селении свадьбы или в честь рождения нового человека предоставлялось только ему. И исполнялась на нем только одна и та же всегда старинная мелодия — «мукам», после чего бережно надевался на него чехол из грубоватого домотканого блестящего шелка, и другие уже дутары продолжали вести празднество, а он снова занимал свое избранное в жилище место. Еще помнили стариков, теперь ушедших к предкам, которые насчитали, собравшись как-то вместе, не менее шести долгих гарынов с тех пор, когда простое тутовое дерево превратилось в этот столь уважаемый всеми дутар. Тридцать шесть долгих лет длится гарын, и выходило, что этому инструменту с поблекшим, стертым пальцами перламутром,„которым покрыт был гриф, более двух веков. Глухой тишиной безвременья простояли, в саксаульниках свистели ветра и пески текучие пропели, конским внезапным топотом отгрохотали два столетия, несчетно сменилось бед и радостей людских, лицо земли сменилось — а дутар жил и пел… Да, то был особенный, признавали все, дутар; и когда исполнялась на нем даже какая-нибудь привычная, ничем не примечательная мелодия (что бывало очень редко), всем начинало казаться, что звучит она уже как-то по-иному, выше и чище, что какой-то простор открывается в ней, глубина, до сих пор не изведанная, будто первозданная ей возвращалась теперь свежесть и чистота. Самым опытным дутаристам вручали всегда этот инструмент; и не так уж редко бывало порой, что очередной какой-нибудь знаток-мукамчи[108], клоня голову над рокочущим, тоскою времен стонущим дутаром, вдруг с удивлением обнаруживал, понимал про себя, что ничего такого уж особенного в его звучании нет, — инструмент, каких много… Но говорил, значительно кивая, всем: да, сам Ба-ба-Гамбар, покровитель музыки, благословил когда-то, видно, тутовое это дерево — необыкновенный дутар!.. О тутовник родной земли, сколь же глубоки, всепро-низывающи твои корни, сколь проста и высока твоя судьба, сколь неизвестна!..
1
В соседней кибитке рождался ребенок. Новый человек рождался с трудом, но еще труднее было его рожать. Старому Годжуку Мергену хотелось, чтобы труд рождения на земле повторялся как можно чаще. Не выдерживая боли родовых схваток, женщина, стиснув зубы, глухо стонала, тоненько вскрикивала там иногда. Все это слышал он, лишь старенькую под собой кошму отворотив и прижав ухо к земле, — родная земля, словно натянутая струна дутара, соединяла, сокращала все расстояния, между двумя этими кибитками тоже. И лежащий на смертном одре старик знал каждый звук ее, каждое трепетанье, пусть едва уловимое, вздох неслышный каждый, — и, кажется, успел узнать, как тронуть надо или ударить по этой струне, чтобы необходимый вызвать и услышать звук, чтобы понять, что хочет сказать земля. Кажется, что успел… но успел ли?! Во всех туркменских краях известный мукамчи Годжук Мертен всегда сомневался в этом — и всего сильнее сомневался теперь, потому что одну только истину познал он: человек мал и конечен, а музыка мира необъятна. И одно только понять хотел сейчас, напоследок: так ли уж мал человек и бессилен и что значит эта стоящая у его изголовья смерть?.. Ждал, так ждал старый мукамчи младенца, который вот-вот должен был народиться из мучительных стонов этих, из ожиданья притихшей степи, из молчанья гор вековечных, — словно тот мог принести, сказать ему ответ на последний его вопрос… Но еще больше, еще нетерпеливее дряхлого старика ждала нового человека сама земля, потому что ее потребность, надобность в нем, новом душою и телом человеке, была сильнее. И он понимал это: «Потерпи, милая женщина, постарайся. Собери силы свои, все терпенье свое… Ты, именно ты, была, есть и будешь истинной покровительницей этой степи, этой изжаждавшейся, беспризорной, аллахом забытой степи. Ты слаба, мала, измучена на родовом своем ложе, но нет у этой земли покровителя сильнее, чем ты. Ради нее ты должна испытать, вытерпеть, преодолеть все муки свои — чтобы обрадовать ее, ибо новый человек, новая жизнь всегда есть радость ее. Все прошлое этой степи зависело от материнского твоего милосердия и участия, в меру сил своих смягчавшего жестокие времена, от слез твоих, тушивших пожары раздора и смерти. Все нынешнее кормится лепешкой из твоих грубых от работы, нежных от любви рук. Все завтрашнее ждет с трепетом плода любви и мук твоих, терпенья и великодушия. Потерпи, милая женщина, уж постарайся. Соберись с силами…» В этих вот, всегда чем-то схожих в моленьем словах рождался когда-то главный труд его души — Колыбельная… Сотни, тысячи раз с тех пор слышал на своем веку он, как материнские стоны сменялись слабеньким еще криком новой жизни, на время отменяющим, прекращающим родовые муки, полновластно, несмотря на свою слабость, вторгающимся под своды кибиток, под огромный свод этого сурового прекрасного мира, — чтобы опять и опять повторяться… «Пусть на моем старческом посохе прибавится еще одна метка — только потерпи, милая женщина, еще немного совсем, постарайся. Не бойся же, не робей. Ты ведь из породы тех терпеливых и старательных, какие умели рожать всегда, во всякое время, чуть не в седле идущего верблюда, — настоящих джигитов рожать и прекрасных матерей будущего! Постарайся же…» Уже три луны состариться успели и омолодиться, как слег Годжук Мерген на это ложе в своей бедной кибитке. Давно облетела весть о том всю степь, много уже знахарей и целителей приезжало, приходило сюда из самых глухих углов ее, но все было напрасно. И старый мукамчи понял, что вряд ли ему теперь суждено подняться, вдеть ногу в стремя и на очередное отправиться празднество, чтобы вместе с дутаром своим встретить еще одну новую жизнь. Да, тот ребенок, рождавшийся в соседней кибитке, будет, похоже, последней зарубкой на его усталом посохе, вот его-то он еще дождется. Правда, старуха, жена его Айпарча, сейчас хлопотавшая там, возле роженицы, сказала, что месяца полтора назад кто-то встретил неподалеку от аула Черную Нищенку. И та будто бы сказала, что лекарство от недуга мукамчи есть — но лишь самым богатым доступно оно, и не здесь, а в восточном крае, и что она-де займется этим. Но запропала где-то странная эта «женщина в черной накидке», как еще называли ее в степи, никаких известий нет о ней. И уже мало на что надеется он, чувствуя на себе тяжелую руку вседостигающего рока, невозвратимую чувствуя убыль сил. Но пока не приспело, и о другом думает сейчас Годжук Мерген. Как дехканин, осенью урожай собравший, считает-пересчитывает он метки-зарубки на последнем посохе своем, на «оклавах»-палках в небольшой домотканой торбе, висевшей всегда в левом углу кибитки. И вот, когда за две тысячи перевалило меток, сбился со счету — и стало по-стариковски обидно ему. Нет, он не должен был, не мог, не имел права сбиваться со счету; это были не просто метки, наносимые ножом вековечного кочевника-мукамчи после каждого тоя. За каждой из них была новая человеческая жизнь, оплодотворявшая эти пески и камни, высокий смысл придающая всему неживому и неразумному, и ошибаться было никак нельзя. И он стал считать заново, припоминая, что мог, собирая в обветшалую кибитку памяти людей, каких не забыл еще, события, поездки свои, все великое множество происшедшего с ним, прошедшего перед его глазами. Справедливости ради надо было бы сказать, что меток бы должно быть раза в два побольше счетом, ибо мысль отметить, не забыть появление каждого человека на свет пришла ему всего каких-нибудь двадцать лет назад, хотя вот уже сорок лет без малого как звучит над степью его Колыбельная… Нет, Годжук Мерген не мог пожаловаться на свою судьбу, на долю славы, ему выпавшей. Он ведь знал, что его доля славы, перешагнувшая даже через горы, у подножия которых расположился аул, преодолевшая барханы и каменистые осыпи на десятки дней пути вокруг, — что слава эта куда больше человека с дутаром, которого все зовут Годжуком Мергеном. Он был один из немногих мукамчи, акынов степи, которые понимали, что все дело вовсе не в них, слабых, подверженных всяческим сомнениям и неурядицам людях, живущих к тому же не своим трудом, не в их каких-то чудодейственных инструментах, а в том, что жило всегда и будет жить после них, страдая и радуясь вместе с обновляющимся вечно родом людским, — в музыке… Другие же, едва научившись перебирать струны, ударять по струнам, щипать струны, большей частью быстро свыкались с уважением к музыке— с уважением, которое они приписывали себе лично, становились важными и снисходительными ко всем, обзаводились красивым конем и одеждой и мнили себя наместниками самого Баба-Гамбара на земле… нет, старый мукамчи мог с достоинством сказать себе, что он не из таких. И свой единственный и любимый дутар никак не мог назвать он каким-то очень уж особенным. Таких искусных в игре, владеющих такими же дутарами с перламутровым грифом, как он, было много в пространствах, раскинувшихся от Лебаба до Хазара, — поди сосчитай… Но повезло среди них именно ему, а среди всех дутаров — именно этому дутару. Это на них снизошла Колыбельная, родившись где-то в просторах между песками и небом, в аулах и на стойбищах, у священных колодцев, над бегущей весенней водою рек, далеким маревом призывным дрожавшая над оглушенной беспощадным солнцем землей. Снизошла, осенила крыльями своими, новые надежды вселила в сердца людей, не перестававших верить в общее будущее счастье, и в сердцах этих осталась навсегда. И, может, потому поползли по степи слухи, что дутар Годжука Мергена совсем не такой, мол, как у других, что звучаньем своим сразу же усмиряет он самых безрассудных, размягчает жестокосердых, несчастным тихий свет радости дает и надежду на избавленье, а богатых и счастливых заставляет задуматься над преходящим своим счастьем. Что даже и больных исцеляет он, и дети, над которыми хоть раз спета Колыбельная, здоровыми растут и крепкими. Не иначе как волшебный дутар, говорили, благословенье свыше на нем лежит. И так далее, и пошли слухи, поверх халата надежды многоцветный халат выдумки натянув; и уж если пошла людская молва утверждать что-то, то бесполезно ей перечить, ибо даже бессилье человеческое, облеченное в веру, приобретает силу невиданную. И что мог сделать с этим Годжук Мерген, и надо ли было что делать? А дутар его был всего лишь навсего последней работой престарелого Сеита-уста, искусного мастера и дальнего родственника из их рода. Десятки таких сделал за свою жизнь Сеит-уста, и многие из них славились своей игрой в окрестностях Карабека и за пределами их, многие до сих пор в чести великой у народа. А свой последний подарил он перед самой кончиной молодому Годжуку Мергену, уже не на шутку увлекшемуся тогда песнями: «Возьми, сынок, этот дутар. Глаза мои потеряли былую зоркость, и уж пальцы не слушаются… и, может, не лучший это из моих дутаров, но он последний и верно послужит тебе, обещаю. Что тебе еще сказать? Старайся не играть без нужды, потому что излишнее веселье не веселит уже, но угнетает. Пусть перед твоим дутаром все будут равны: богатый и бедняк, убогий и сильный, младенец и старик — пусть он поет всем одинаково, как одинаково светит всем солнце. И еще скажу: пусть самым главным праздником для него станет рожденье на свет нового человека… новый человек нужнее всего нашей иссушенной, измученной степи, от которой отвернулся сам аллах! Если оскудеет людьми она, то что тогда ей твои песни? Что надежды?! Ибо людьми сильна земля, ими славилась она всегда. И потому каждый младенец для нее — радость и надежда…» Таким было наставление многомудрого мастера; и, уже сам обретший немалый опыт, всякое повидавший на своем веку, Годжук Мерген поражался теперь тому, как смог старый уста в столь немногих и простых словах сказать о самом главном в этом непростом мире жизни, и сам не много мог прибавить бы к его словам. Да, меняются времена и люди, кочуют пески, новые русла прокладывают себе реки — но человеческие истины все те же, но завещанное нам нетленно и должно быть бережно передано потомкам по великой цепи человеческих жизней… ибо что ты значишь один, Годжук Мерген?! Что твой мукам без слушателей, что Колыбельная без колыбели? Ничто.2
Седьмой уже год шел тогда, как взял он в жены дочь бедного кочевника, красавицу Айпарчу, — седьмой год их пусть бедняцкой, в трудах и нехватках, но согласной жизни, а они все оставались вдвоем. Все предназначенное для новорожденного так и оставалось лежать в нескольких небольших свертках на дне небольшого чувала, узорами вышитого мешка, из тех, в каких хранились их небогатые пожитки. Напрасны были цветенье ее красоты, молодой избыток его силы. Напрасны были дальние поездки к знахаркам, надежды на их проницательность и помощь: красота одной и сила другого так глубоко запрятали причину их бесплодия, что все познанья известных в степи знахарок были бессильны, и чем больше проходило времени, тем тревожней и безрадостней жили Айпарча и Годжук Мерген, тем больше любили и жалели друг друга. И этого никак не мог понять его старший брат Караул-ага, человек хозяйственный и всеми уважаемый, но с характером грубоватым: «Имея младшего брата, здорового как бык, я не допущу, чтобы некому было завещать даже стен его мазанки! Чтобы род наш ополовинился из-за какой-то там бабы, будь она хоть самой райской девой!.. Что толку в ее лице и стане, если она не может того, что любая паршивая кошка делает по два раза в году?! Ну нет, слуга аллаха сам в состоянии прекратить этот позор!..» Так говорил он год от году, не стесняясь уже и невестки, стараясь всячески уговорить, заставить своего такого послушного всегда скромника брата отпустить бесплодную жену на все четыре стороны и найти себе другую. А подчиняться ему Годжук привык еще с детства, когда рано остались они без родителей и вынуждены были в трудах и лишениях добывать каждую лепешку, каждый глоток айрана. С тех пор и считал себя Караул всегда и во всем, о чем бы ни заходила речь, правым, привык к своей правоте, и его нудным наставлениям не было конца: «С каких это пор внуки честных скотоводов и земледельцев, какими были наши предки, стали отдавать предпочтенье дутару-деревяшке, оставив камчу и мотыгу женам?! Или ты захотел всю жизнь таскаться по чужим пирам за чужим кумысом, появленье чужих детей приветствовать, не имея ничего своего: ни кумыса, ни детей, ни праздников? Или книги, которые ты все читаешь, будут приносить тебе, как овцы, по два ягненка в год?! Что за легкомыслие в твои-то годы?!» Мазанка Годжука и кибитка Караула стояли дверями друг к другу, между ними был общий очаг с общим котлом, и хлеб они пекли из общей муки, — что он мог ответить брату? Караул по-братски хотел ему добра, и тихое упрямство Годжука с каждым годом все больше раздражало, бесило его: «Нет, видно, не выйдет из тебя толку… Только дурак может променять все на пустой, как своя голова, дутар и бесплодную бабу. Не дело честного скотовода быть на посылках у каждого аульного праздника, драть глотку и терзать струны за каждым дастарханом… Не дело земледельца утыкаться в книги, оставив в бурьяне свой клочок земли. В одинокой старости спохватишься ты, но будет поздно!..» Старший брат любил рассуждать о честном труде, любил и умел работать, но частенько, бывало, и пропадал на несколько дней и ночей, заседлав коня и прихватив старое свое верное ружье… Неспокойно было на обширной и, казалось бы, для всех просторной туркменской земле: роды и племена терзали друг друга набегами, то там, то здесь пепелищами курилась, тлела под пеплом вражда, рознь озлобляла сердца, опустошала стойбища и аулы, И нередко через неделю, месяц ли после очередного возвращения с добычей Караула со своими джигитами следовал ответный ночной набег, глухой топот копыт, крики и выстрелы, смерть, плач… И храбрые и расчетливые в набегах, нередко бегством спасались эти джигиты, в пески врозь уходя или в горы, едва семьи успев захватить, скот и самое ценное из пожитков, — даже длясовместного отпора не хватало им единства, даже в аулах царили проклятая рознь и недомыслие… После одного из своих набегов Караул вошел, ногой открыв их хлипкую дверь, в мазанку, держа в руках новое кремневое ружье. — Ну вот что, брат, — сказал он решительно и как всегда самоуверенно. — Тебе уж третий десяток идет, пора и мужчиной становиться… Дарю тебе это ружье! Мужчина без оружия — все равно, по-моему, что женщина без волос… — Да ты знаешь, у меня что-то нет желания быть охотником… Не по мне это, брат, — ответил, удивляясь его прихоти, Годжук. Караул снисходительно усмехнулся, сейчас наивность младшего брата его забавляла: — А ночным охотником не хочешь стать?! — И посерьезнел, важность проступила в его лице: — Не время сейчас скакать за джейранами — кровь зовет к отмщению… Отару овец угнали из аула, ты знаешь, — кто отомстит?! Да и жить чем-то надо, чтоб не ложиться спать голодным; дутаром тут не прокормишься. Так что проверь-ка получше сбрую своего коня… — Отару угнали — так ведь и вы пригнали себе весной чужую… кому же и за что мстить? За одного убитого вы убили двоих — кто виновнее? И кто остановит эту кровь, кто первым остановится? Надо остановиться, брат, не плодить горе на своей земле, не сиротить детей… друг у друга не грабить, тогда, может, всем хватит, каждому помаленьку. Ведь степь велика, хватить должно каждому… — Щенок! — посуровел, заносчиво глянул Караул. — Наша ненависть к врагу священна, и не тебе, дутарщику, трогать ее… — Какой же это враг, когда он такой же бедный туркмен, как мы с тобой… Нет, брат, — тихо сказал Годжук, не глядя, — я тебе в этом не помощник. Спасибо тебе за ружье, не смею отказаться… на самом почетном месте повешу его в доме, как дар твой. Но остановиться надо, брат… — «Остановиться»… В таком случае, братец, заодно повесь на шею себе до конца дней своих и нищенскую торбу! И не тебе учить меня, хотя ты и грамотный!.. Ладно, — сказал он и оглянулся на невестку, — видно, и в самом деле не по верблюду седло. Ружье твое, что хочешь с ним, то и делай… хоть угли им в очаге вороши, мне все равно. Но вот тебе мой совет, упрямец: отдай это ружье в калым и приведи себе младшую жену… За такое ружье ты найдешь себе красавицу не хуже, уж поверь. А ты не дуйся там, — прикрикнул он на Айпарчу, хотя та и глаз не смела поднять на сурового деверя, — сама все должна понимать… Слава аллаху, мы не какие-нибудь там гяуры, чтобы сидеть у пустой колыбели только потому, что баба не делает своего простейшего бабьего дела. Благословен шариат, благословенны младшие жены!.. И самодовольно хохотнул, потому что никогда не упускал случая сорвать досаду на нелюбимой невестке. — Спасибо за ружье и совет, но в этих стенах хозяин я… — тихо опять сказал Годжук. — И мы не забываем класть свою долю в наш отцовский общий котел. А я подумаю… Но вовсе не о младшей жене собирался думать и думал Годжук Мерген. Надо было решить их главный с Айпарчой вопрос, и решить так, чтобы не пожалеть потом горько о сделанном… да, чтоб решенье это единственно верным было и оставалось всегда, как бы там ни менялись времена и обстоятельства, сколько бы ума-разума ни прибавил ему потом аллах. Чтоб решенье это оценивать с высоты последующих лет, не раскаиваясь и тоскуя, а наоборот, сделать решенье судьей своим и судьбой, раз и навсегда. А весь вопрос их в том был, что они так и не знали, по чьей же вине бесплодна и горька их любовь. Мало кому так улыбнулось счастье поначалу, как Годжуку Мер-гену: ему, бедняку и, как все считали, тихоне, досталась в жены не первая попавшаяся девушка, лишь бы калым был поменьше, а любимая, ясноглазая, с верным ласковым сердцем и крепкой рукой кочевницы… Но как ни сильна была, но горька все же стала их любовь, потому что прав был покойный Сеит-уста: как без детей, без радости этой и надежды, в суровой, полной труда и сомнений жизни?.. Со страхом уже думалось о том, что виновником может оказаться он сам. Тогда решенье его, он знал, будет одно: отпустить Айпарчу на волю, на все четыре стороны, с ее-то красотой и молодостью она найдет себе мужа даже и в этом ауле, даже при всех предубеждениях шариата. Она будет любить другого, рожать от другого и, может, станет счастлива, как порой бывают счастливы простые бедные женщины аула… Почти непереносимы ему были мысли об этом, но он знал, что поступит именно так: он не будет, не сможет мучить ее, не станет камнем на ее пути. Женщина должна рожать и любить детей, что ей бесполезная любовь бесплодного мужа… Но если причина их бездетности не в нем? Тяжелы были мысли его и тревожны, тяжела была их невольная совместная вина, и одно могло им хоть немного помочь — знать, в чем же причина. И вот на седьмом году их совместной жизни прошел по степи слух, что появилась в их краях какая-то новая знахарка, очень сведущая во всех болезнях, — к ней-то, никого не предупредив, даже Айпарче ничего не сказав, и отправился Годжук. Через два дня он вернулся, ведя в поводу своего коня; а в седле сидела еще молодая и красивая, очень уверенная в себе женщина, вовсе не похожая на новую жену, все в ауле это поняли сразу, как только увидели ее. И еще в дороге Годжук Мерген попросил ее о главном, над чем успел много подумать: в любом случае сказать жене, что, мол, слава аллаху, все у тебя хорошо, забеременеешь, когда это будет угодно всевышнему… Правду же должны были знать только они вдвоем. Нелегко далось такое решение Годжуку Мергену, но иначе он не мог и не хотел. Знахарка молча и недовольно выслушала его, внимательно глянула еще раз, подумала и с неохотой согласилась — она, по ее словам, всегда старалась говорить людям об их здоровье только правду. И как же долго тянулось его ожиданье, пока соседи и родственники встречали и угощали гостью, расспрашивали о новостях степи (много людей со своими болезнями приезжают к ней ото всех сторон), советовались, пока наконец не вышли все из мазанки, оставив ее там вдвоем с Айпарчой. Нескончаемо тянулись, как медленные черные степные птицы, мгновения, само небо, кажется, отяжелело, смолкла земля — и лишь плакал, как дитя, где-то на другом конце аула ягненок… До сих пор он вспоминает, как знахарка, выйдя из их мазанки и улучив мгновенье, вполголоса сказала ему, сказала только одно: «Дорогой мой, если ты и в самом деле так уж хочешь детей, то смени-ка жену, не медли…» Он не сменил жены — аул сменил. Жить под одной почти крышей с крутонравным братом стало теперь невыносимо, и он бежал от расспросов и попреков, от сожалеющих взглядов аульчан, в глазах которых нес теперь вину, от ненужного ему попечительства — и от своих сомнений тоже. Он все для себя решил тогда, и от решенья этого какое-то большое облегченье почувствовал, словно с души у него сняли многолетний изнурительный груз: Айпарчу он не оставит, и если уж выпало им такое на долю — то пусть оно будет им судьбой… Он не хотел спорить ни со своей судьбой, ни со своей любовью и ни разу потом не пожалел о своем решении. Нет, не пожалел, хотя грусть о своей неполной любви не покидала их всю жизнь. Так поселились они с Айпарчой навсегда в этих предгорьях, кое-как собрав с помощью людей средства на старенькую шестикрылую кибитку. Так началась новая в те времена для них жизнь, освободившая его, Годжука Мергена, от многого такого, что опутывало душу и пригибало к земле, не давало оглянуться вокруг себя широко и свободно, вольнее вдохнуть в себя горьковатый, полный преданьями и надеждами воздух степи, родины.3
Он возвращался из своего родного аула, где еще оставались у него кое-какие дела, к Айпарче, на новое место их жизни. Дорога была дальняя, не меньше трех дневных переходов, и Годжук Мерген не торопил своего копя — излишняя поспешность не для долгого пути. Приехав по делам, он попал и на празднованье у своих родственников по случаю рожденья ребенка, и тогда-то пригодился дутар, с которым он теперь не расставался, возя его с собой всюду. Милые бессмысленные глаза младенца глядели в самую душу Годжука Мергена; и еще дальше глядели они, туда, где было такое неизвестное для всех людей будущее, и он никак не мог забыть глаз этих, обиженного плача младенческого. «Говорят, что и дети гызылбашей плачут точно так же, как и наши, не отличить. И матери, наверное, так же любят их, и так же радуются отцы… Да, все мы дети одной матери-земли. Но почему же тогда брат враждует с братом, почему распрями полны и степь, и горы, и благодатные речные долины? Как голос меняется с взрослением у детей, так и душа их грубеет, утрачивая что-то чистое, данное человеку изначально, с чем бы жить ему долго и счастливо… Но все-таки это чистое есть в людях, остается. У кого больше, у кого меньше, но есть, а значит, остается и надежда. Ведь живут же порой, могут ведь жить люди, не обижая друг друга, не мешая, каждый своим трудом… И если бы дети наши чуть больше сохранили в себе этого изначального, чистого, чем мы, а за ними и дети детей их, то можно бы спокойно оставить им эту многострадальную землю. Они бы дошли тогда, нашли то, что потеряно нами…»Ты родился на этой священной земле, На прекрасной земле, на злосчастной земле…
Младенческие бессмысленные глаза глядели в душу ему и словно ждали, что он скажет им, он, Годжук Мерген, уже испытавший сладость и горечь этого мира, уже отведавший яда сомнений и познавший тепло верной человеческой руки, руки Айпарчи. Смотрели и ждали, и не ответить им было нельзя.
И в предутренней мгле неизвестны пути, что в грядущие годы придется пройти.
О, явившийся в мир! Может быть, это ты станешь словом земли, воплощеньем мечты.
До тебя ей пришлось испытать маету, век от века копить суету и тщету.
Если б вовремя ты не явился на свет, веткам сада пришлось бы плодить пустоцвет.
До тебя было делом привычным ее в братских распрях кормить в ковылях воронье.[109]
Преодолевая бархан за барханом, спускаясь в тамарисковые низины, к глубоким колодцам пустыни с холодной спасительной водой на самом их дне, поднимаясь на возвышенности, вела и вела караванная тропа; рокотал и звенел, порою вскрикивал дутар его, маясь невысказанностью своей, и что-то новое рождалось в глухих вздохах и вскриках его, какая-то иная музыка, еще не слышанная в этих бескрайних песках, — да, новая, но вместе и родная, своя, узнаваемая сразу… И Годжук Мертен, дрожь какую-то сдерживая в себе, в непонятной страсти горя, уже торопил ее рожденье, подгонял, боясь теперь, как бы опять не ушла она туда, откуда так внезапно возникла вдруг перед ним, как бы ускользнула от него этой бесконечно тянущейся караванной тропой туда, за горизонт, к миражам пустыни… Уже и пальцы сами, без него, знали будто эту мелодию, такую новую и в то же время родную, и лишь старались теперь настичь ее, не дать раствориться ей снова в песках этих, в небесах, огромно-безмятежных; и сами приходили, брались откуда-то самые нужные слова, и в повторах своих крепла песня, росла, ручейком текла, уже не боящимся, что беспощадное солнце высушит его до дна, остановит:
Вы, рожденные в муках под новой звездой Средь надежд и печалей пустыни родной, —
Сын, развей недомыслия тяжкую ночь! Освети эту землю терпением, дочь!..
Да, это был его мукам — тот, который всегда мечтал он сочинить, ибо нет певца без своего мукама, как нет мастерицы-ковровщицы без лучшего своего, особенного ковра. Он успел уже сочинить несколько мукамов, но все они были лишь отзвуком чужих мелодий и слов, распеваемых повсюду, и не давали ему право называть себя высоким словом — «мукамчи», хотя все вокруг давно уже считали его таковым и то и дело приглашали на свои празднества… И вот он, его мукам, — именно его, ему явился, именно в непривычной поначалу, дотоле никем не слышанной мелодии новой, в словах горьких и нужных, и была в них вся его, Годжука Мергена, тоска потаенная и надежда в смутные эти времена, вся печальная любовь его, вся вера… И нужно было успеть удержать его, допеть, воплотить — и только это безраздельно владело им тогда, на той благословенной караванной тропе.
Вы родились на этой прекрасной земле, На суровой земле, на злосчастной земле.
Только вами надежда людская живет, В колыбели качаясь, свершения ждет…
И пусть еще неловки были, неполны многие слова, но не это ему важно было тогда. Найдутся потом получше слова, поточнее; каждый «басым» — мгновенное прижатие струн к грифу, каждый новый удар по струнам, «какув», кропотливо переберет он потом по многу раз, добиваясь, как и в словах, слаженности, напевности народной и ясности. Но сейчас важно было дух этой родившейся песни уловить и сохранить, не дать ей расплыться, уйти в ненужные слова, в напрасные звуки…
Твое счастье еще в колыбелях, народ, Но придет его час — словно солнце взойдет…
Так кричи же, младенец, кричи и зови Милосердья защиту, опору любви!..
Младенческие глаза глядели в душу ему, и с последним какувом вместо радости ощутил Годжук Мерген вдруг боль какую-то в сердце и грусть, сожаленье великое ко всему живущему на свете, такому кратковременному и беззащитному, — да, боль и с нею нежность, какую в жизни еще не испытывал никогда…
4
И непереносимым отчего-то стало ему дорожное одиночество, этот путь наедине с бескрайними под равнодушным небом песками, перевеваемыми ветром, с собою, со своим колыбельным мукамом, который уже просился в нем к людям, на их высший суд, — к жилью захотелось Годжуку Мергену, к людям, к Айпарче, так как без них ничего не значил ни он сам, ни его новый мукам. И весь остаток дороги торопил он уставшего коня, представляя себе, как подъедет он к своей кибитке, как встретит его жена, тоже, должно быть, соскучившаяся за эту долгую неделю… Нет, Годжук не жалел, взяв вину на себя, о своем решении: пусть верит, ждет, ибо так ли уж редко становится надежда второй нашей жизнью?.. Не может он допустить, чтобы она, любимая и любящая, казнилась потом всю жизнь, обвиняя себя во всех грехах, — нет, не для женщины эта суровость правды. Пусть жалеет его, пусть даже охладеет ее сердце к нему, который не может будто дать ей полное женское, материнское счастье, но сказать правду ей он не в силах. И пусть уж лучше, на худой случай, будет выглядеть он упрямым последователем шариата, но и отпустить ее, сделать полной сиротой в этой степи он не сможет тоже, потому что ни с кем все равно не обретет она теперь своего счастья… Тяжело было думать обо всем этом Годжуку, но вместе и определенность была: решение он принял — и надо теперь лишь держаться его… И у кибитки встретила его Айпарча. Вся посветлевшая лицом, нетерпеливо сияя навстречу своими чистыми глазами, дождалась, когда он слезет с коня, подошла, взяла его огрубевшие в степи руки — и вдруг спрятала в них свое лицо, выдохнула еле слышно: — Так ждала я тебя, Годжук… Думала, случилось что по дороге. И так боялась за тебя… И слезы ее горячие почувствовал он на своих ладонях. До сердца его дошли эти слезы, и горячо, хорошо стало от них в груди. Лучшей встречи не мог представить себе Годжук, уж он-то знал цену слез жены своей, прирожденной степнячки. — Случилось, милая… — улыбнулся он склоненной ее голове, вдыхая полынно-теплый родной запах волос ее, по которому так тосковал в пути. — Но после об этом. Веди в кибитку, хозяйка. — А у нас гостья, Годжук, — сказала она вполголоса, подняв на него счастливые, промытые слезами глаза, — Из аульных женщин. Но это ничего, она ненадолго. — Надолго, нет ли — об этом знать хозяину не положено, — пошутил он. Эта женщина с ребенком появилась на второй день после отъезда мужа — появилась, чтобы познакомиться и поздравить с новым жилищем, с новым очагом, и в том не было ничего странного: чем быстрее сойдешься с аульными жителями, тем лучше. Она была не старше Айпар-чи и красива, только глаза ее успели отчего-то потускнеть и обозначились горькие складочки у губ, словно думала она все время о чем-то скорбном. После первых приветствий и знакомства Гюльдже-мал — а именно так звали эту женщину — сказала свойственным ей резковатым голосом: — А твоего мужа зовут ведь Годжуком Мергеном… или я ошиблась? — Нет, ты не ошиблась, — ответила удивленная Ай-парча. — Но неужели все в ауле уже знают о нас? — Еще не все. Однако имя Годжука Мергена уже бежит впереди его коня. И было известно здесь и раньше… — Но почему? Или он сделал что плохое? Но честь рода Мергенов… — Да нет, сестра, как раз наоборот. Его дутар виновником тому, только и всего. — О да, — облегченно и радостно согласилась Айпарча, разливая по пиалам чай, — он играет хорошо… он очень хорошо играет, не хуже известных мукамчи. Но знаешь, — в порыве откровенности вдруг сказала она, — как человек он еще лучше, он… он ни на кого не похож… И, стыдясь уже, замолчала. — Да? — сказала Гюльджемал тусклым голосом. — Что ж, и это известно в нашем ауле… — Вот не знала, что мой муж столь известен… — Слухи, знаешь, быстрее людей. — И как-то по-мужски пристально, заставив Айпарчу опустить глаза, глянула и сказала непонятно: — А ты красива, сестра… С тех пор в третий раз приходит она, и они уже стали подругами. Смелая, немножко резковатая Гюльджемал нравилась ей, напоминала о кочевьях юности, где женщинам не так уж редко приходится заниматься мужскими делами и где они потому были всегда свободнее и уверенней в себе. Но совсем не так уверенно чувствовала себя теперь Айпарча. Первая от сообщения знахарки радость ее длилась недолго и тут же сменилась все тем же мучительным вопросом: если не в ней дело, то что ж выходит… в Годжуке, выходит, вся причина?.. Этот вопрос был для Айпарчи ничуть не легче сомнений в себе. Детей не было и по-прежнему могло и не быть, знание причины никак не помогало им; но еще больнее была ее измаявшемуся в надеждах сердцу жалость к мужу, такому сильному и доброму, но беспомощному… К тому же что-то неладное почувствовала она, когда знахарка, сосредоточенно и как-то даже угрюмо осматривавшая, долго мявшая ее, вдруг с радостью объявила ей: «Благодари аллаха, все у тебя хорошо! Забеременеешь, когда будет угодно небу!..» Но еще страннее вел себя муж, очень уж вроде обрадовавшийся этому тоже… Ему ли радоваться так? Ей ли не знать, как радуется или печалится он, не чувствовать каждую заминку в душе его?! И потому сомнения не покидали, никак не могли покинуть ее. Она полюбила Годжука, уже став его женой, много недель, даже месяцев спустя после «ника» — торжественного обряда их бракосочетания. Выросшая в бедной многодетной семье кочевника, она не могла рассчитывать на что-то другое, как только быть отданной в жены первому попавшемуся жениху, которого она в глаза не видела, знать не знала. И вначале Годжук показался ей странным, будто даже недотепой, и она было посчитала уже замужество свое неудачным и ничего хорошего от судьбы не ждала: очень уж тихим, робковатым представлялся он Айпарче, слишком добрым ко всему вокруг в этой суровой степной жизни, где сила и хваткость ценились людьми выше всего. Он и в самом деле не был похож на мужчин, которых приходилось видеть ей в кочевках, на стойбищах и в аулах, на настоящих джигитов-гордецов, бойких и, сколько им позволялось, властных, с женщинами всегда не то чтобы суровых, но немногословных. Может, потому и отказали ему в первом сватовстве в одной из семей аула, где Караул хотел высватать за брата четырнадцатилетнюю девушку. Поначалу и ее раздражала эта всегдашняя ровность, одинаковая добрая внимательность Годжука ко всему, что бы ни встретил он на своем пути, будь то уважаемый всеми старик или какой-нибудь замызганный мальчишка, породистый конь или последний аульный пес… Честолюбие молодых жен известно, и ей хотелось, чтобы и ее муж был ничем не хуже других или, по крайней мере, не вылезал со своими странностями на люди, пусть бы и с ней был грубоват или даже крут, как бывал крут со своими и чужими его брат Караул. Но Годжук Мерген по-прежнему уважительно заговаривал с каждой женщиной, подающей на дастархан чай, никогда почти не заводил споров, не лез в ссоры и даже, бывало, отмалчивался на явные вызовы, что другой бы мужчина счел для себя позорным… Отмалчивался или говорил: «Что с того, если еще одной ссорой станет больше в мире? Одно рукопожатье сделает его куда богаче, чем десять раздоров…» И с ней ласков был всегда, будто не замечал ее диковатой молчаливости в первое время, а потом и скрытой раздраженности. Только поглядывал иногда внимательно, с доброй своей усмешкой; а однажды, месяца через два после ника, вроде бы неожиданно сказал ей: «Айпарча, мы с тобой делим одно ложе, одну лепешку разламываем на двоих… почему ты с опущенными глазами живешь? Жизнь одна, не надо так тяжело жить… Гляди открыто. — Помолчал, ожидая ответа, и добавил — Уж прости, что я такой, другим быть, наверное, не смогу. А ты у меня вместо сердца стала… Прости». И вышел к ожидавшему его у мазанки оседланному коню. И почти неделю пробыл с братом на стойбище, где был их немногий скот. Как же долго тянулась для Айпарчи эта неделя… Поначалу от слов его сжалась она, считая их только укором; так привыкла сжиматься она, защищаясь от всего непонятного, неприятного ей. Но печаль его при расставании все больше тревожила душу Айпарчи. Ей стало не хватать его тихого голоса, по-детски добродушного смеха (так он смеялся до изнеможения недавно, наблюдая за давнишней враждой соседского барана с псом, — глупо, совсем как у людей, пояснил он ей, молчаливой, вытирая слезы), его понимающих глаз, — кто сказал, что он не мужчина? Он добр, безответен порой, но умен и в своем тихо упорен. Она только теперь вспомнила, как он посмотрел на брата, когда тот в своем очередном раздражении пообещал разбить его дутар об угол мазанки… Да, после того Караул сразу же смолк и много дней потом не заходил к ним, а если и заговаривал, то только уважительно. Она вдруг обнаружила, что люди хоть и посмеиваются немного над ним, но уважают ничуть не меньше других, а когда Годжук Мерген берет в руки подаренный ему покойным родственником дутар, то все почтительно затихают. И особенно уважительны к нему женщины аула, — может, за это и насмешничают над ним мужчины… Совсем одиноко ей стало, и не хватало ей вовсе не отца с матерью, по которым она тоже тосковала, не братишек и сестер, а именно его, Годжука. И стук копыт его коня она услышала издалека, узнала во сне, сердце подсказало, разбудило — он… Да, он вернулся тогда со стойбища глухой ночью, и до зари не могли они уснуть, не могли наговориться наконец…5
Откинув скромный входной коврик, еще с плетью в руке, ступил Годжук Мерген в кибитку и на правом ее месте увидел гостью с ребенком на коленях. Молодуха прикрыла рот яшмаком — платком молчания, легонько поклонилась ему, и что-то знакомое почудилось Годжуку в этом пристальном ее взгляде. Что ж, могло статься, что и встречал он ее где-нибудь, мало ль каких людей он видел за свою, пусть недолгую еще, жизнь… Он кивком ответил ей, а сам уже глядел, улыбаясь, на ребенка: — Айпарча! Кто-то добрый знак нам подает: уезжал я от младенца — и к младенцу приехал!.. А какой бойкий — настоящий джигит! А как держит голову! Если так пойдет, сохрани его аллах, то скоро уже придется и коня ему покупать. Одно разоренье с таким джигитом!.. Глаза у матери потеплели. Ребенок и в самом деле был бойкий, никак ему не сиделось: то к одному тянулся, то к другому, лепетал и гукал о чем-то своем, — судя по всему, еще и года не исполнилось ему. Радостно было видеть его Годжуку Мергену, куда и усталость дорожная делась. И отчего-то вдруг веселая мысль пришла в голову: — Слушай, Айпарча!., — И запнулся, не зная все-та-ки, как примет это жена. — Слушай, а не соорудить ли ему сейчас колыбель, а?! Пусть на новом месте новый человек услышит мой новый мукам… — Новый мукам? — в растерянности замерла Айпарча, хлопотавшая у дастархана. И беспомощно глянула на мужа, потом на свою подругу, до того неожиданно было и непонятно ей это предложение, — Не знаю… не осудят ли нас? — О аллах… да пусть себе осуждают! Невелика им будет заслуга — осудить невинного… А мать поддержит нас, так ведь?! Как тебя зовут, прекрасная мать? — Гюльджемал… — Красивое имя, — на мгновенье задумался Год-жук. — Будто где слышал я его… будто кто-то с этим именем звал меня во сне. Страстное имя… Так что же, — вновь оживился он, — повесим ли мы колыбель? Мой над-колыбельный мукам ждет!.. Подвешивать колыбель в семье, где нет своего младенца, было, конечно же, большой и непонятной странностью… В ожиданье его с верхней части кибитки — туйнука — обычно свешивали платок, на входном коврике прикрепляли небольшой амулет «дога», но чтобы колыбель… Все это привело Айпарчу в смятенье: «Почему он захотел этого? Зачем, для чего трогать ему нашу рану?!. Или не затем покинул он родной аул? Как он все же хочет дитя, как тоскует, хоть и делает веселый вид… и за что нам такая немилость?!»
— Почему бы нет?! — безбоязненно и весело поддержала вдруг его Гюльджемал, уже знавшая об их старой беде. И с почтительной какой-то благодарностью взглянула на хозяина, но тут же опустила глаза. — Айпарча, где твои припасы?..
— Уважаю смелых женщин! Зачем, в самом деле, человеку бояться своего сердца?! Если оно никому не желает зла, зачем ему препятствовать?.. Достань-ка, родная, все, что положено новому человеку, и пусть благословит нас небо!..
И дыханье стеснило Айпарче, когда достала она заветный расшитый чувал… Давно, очень давно все готово было у нее, ждало своего часа и вот дождалось… но разве о таком мечтала она? Разве не тяжело и ему, любимому, все это?! Но она верила ему, верит и сделает все так, как он скажет…
Пока женщины, увлекаясь все больше и освобождаясь от первой скованности, разбирали свертки, он пил домашний чай и наблюдал. Да, все давно и тщательно подготовлено у нее — но, видно, не судьба… Как ни больно было, но он сумел уже смириться с этим, потому что знал правду. А вот Айпарча… Нет, пусть уж лучше надеется. В надежде не так иссыхает сердце человеческое и больше дается сил в этой нелегкой, в сомнениях и бедах, жизни… А вот достала жена салланчакбаг — веревочку с цветными кистями из верблюжьей шерсти, привязываемую к колыбели, чтобы укачивать ребенка. Хорошо, что вынули, это лучше, чем если бы переела ее моль, — веревочку надежды, один конец которой в руке Айпарчи, а другой — у него… Пусть думает, что это он, Годжук, выпустил свой конец салланчакбага. Зато свой новый мукам он так и назовет: «Салланчак-мукам» — колыбельная песня… Да, именно так, и пусть звучит она лишь над колыбелью!..
И вот уже повесили они колыбель и подвязали к ней салланчакбаг; и Годжук Мерген с ободряющей улыбкой сказал им:
— Ну, а теперь положите-ка в люльку хозяина ее… хозяина будущей жизни! Куда удобней будет ему там, как в раю. Если и есть где райская жизнь, так уж это, без сомненья, в колыбели…
И достал свой дутар с перламутровым грифом.
Да, он волновался, собираясь впервые спеть свой новый мукам не наедине с собой… Он знал, что сочинил настоящую песню, а не из ряда обыкновенных, которые всякий умелец-мукамчи в угоду слушателям, любящим разнообразие, складывает по нескольку в год, — хотя, конечно, не мог даже предполагать тогда такой судьбы Колыбельной. Он знал, что мукам конечно же понравится Айпарче, она любит его дутар и песни заезжих мукамчи, разбирается в мелодиях — хотя, кажется, главное для нее в нем, Годжуке Мергене, вовсе не в его мукамах. Он не сомневался, что и незнакомой этой женщине его Сал-ланчак-мукам тоже, скорее всего, придется по душе, так как спет будет впервые над ее дитятею… Он все это знал, но все равно волновался так, что даже пальцы подрагивали, когда стал подстраивать он дутар. Видно, это судьба всех сочинителей — трепетать перед судом первых слушателей своих, перед людьми…
И вот потянулись в мелодии родные до боли просторы, барханами уходящие, утягивающиеся за горизонт. Запел ветер в скрюченных саксаульниках, зазвенела животворная вода в ручьях зеленеющих горных долин, цветущим на склонах миндалем потянуло. И глухая ночь надвинулась, пахнула остывающим жаром камней и песка, суля покой, отдых душе… но тут же вскрикнул дутар, вскинулся, словно конь от выстрела, зарокотали бездорожьем копыта, и будто плач послышался в переполохе и кликах, и тяжелая тревожная тьма стала наползать на все звуки… И пробился человеческий мятущийся голос:
Подвешивать колыбель в семье, где нет своего младенца, было, конечно же, большой и непонятной странностью… В ожиданье его с верхней части кибитки — туйнука — обычно свешивали платок, на входном коврике прикрепляли небольшой амулет «дога», но чтобы колыбель… Все это привело Айпарчу в смятенье: «Почему он захотел этого? Зачем, для чего трогать ему нашу рану?!. Или не затем покинул он родной аул? Как он все же хочет дитя, как тоскует, хоть и делает веселый вид… и за что нам такая немилость?!»
— Почему бы нет?! — безбоязненно и весело поддержала вдруг его Гюльджемал, уже знавшая об их старой беде. И с почтительной какой-то благодарностью взглянула на хозяина, но тут же опустила глаза. — Айпарча, где твои припасы?..
— Уважаю смелых женщин! Зачем, в самом деле, человеку бояться своего сердца?! Если оно никому не желает зла, зачем ему препятствовать?.. Достань-ка, родная, все, что положено новому человеку, и пусть благословит нас небо!..
И дыханье стеснило Айпарче, когда достала она заветный расшитый чувал… Давно, очень давно все готово было у нее, ждало своего часа и вот дождалось… но разве о таком мечтала она? Разве не тяжело и ему, любимому, все это?! Но она верила ему, верит и сделает все так, как он скажет…
Пока женщины, увлекаясь все больше и освобождаясь от первой скованности, разбирали свертки, он пил домашний чай и наблюдал. Да, все давно и тщательно подготовлено у нее — но, видно, не судьба… Как ни больно было, но он сумел уже смириться с этим, потому что знал правду. А вот Айпарча… Нет, пусть уж лучше надеется. В надежде не так иссыхает сердце человеческое и больше дается сил в этой нелегкой, в сомнениях и бедах, жизни… А вот достала жена салланчакбаг — веревочку с цветными кистями из верблюжьей шерсти, привязываемую к колыбели, чтобы укачивать ребенка. Хорошо, что вынули, это лучше, чем если бы переела ее моль, — веревочку надежды, один конец которой в руке Айпарчи, а другой — у него… Пусть думает, что это он, Годжук, выпустил свой конец салланчакбага. Зато свой новый мукам он так и назовет: «Салланчак-мукам» — колыбельная песня… Да, именно так, и пусть звучит она лишь над колыбелью!..
И вот уже повесили они колыбель и подвязали к ней салланчакбаг; и Годжук Мерген с ободряющей улыбкой сказал им:
— Ну, а теперь положите-ка в люльку хозяина ее… хозяина будущей жизни! Куда удобней будет ему там, как в раю. Если и есть где райская жизнь, так уж это, без сомненья, в колыбели…
И достал свой дутар с перламутровым грифом.
Да, он волновался, собираясь впервые спеть свой новый мукам не наедине с собой… Он знал, что сочинил настоящую песню, а не из ряда обыкновенных, которые всякий умелец-мукамчи в угоду слушателям, любящим разнообразие, складывает по нескольку в год, — хотя, конечно, не мог даже предполагать тогда такой судьбы Колыбельной. Он знал, что мукам конечно же понравится Айпарче, она любит его дутар и песни заезжих мукамчи, разбирается в мелодиях — хотя, кажется, главное для нее в нем, Годжуке Мергене, вовсе не в его мукамах. Он не сомневался, что и незнакомой этой женщине его Сал-ланчак-мукам тоже, скорее всего, придется по душе, так как спет будет впервые над ее дитятею… Он все это знал, но все равно волновался так, что даже пальцы подрагивали, когда стал подстраивать он дутар. Видно, это судьба всех сочинителей — трепетать перед судом первых слушателей своих, перед людьми…
И вот потянулись в мелодии родные до боли просторы, барханами уходящие, утягивающиеся за горизонт. Запел ветер в скрюченных саксаульниках, зазвенела животворная вода в ручьях зеленеющих горных долин, цветущим на склонах миндалем потянуло. И глухая ночь надвинулась, пахнула остывающим жаром камней и песка, суля покой, отдых душе… но тут же вскрикнул дутар, вскинулся, словно конь от выстрела, зарокотали бездорожьем копыта, и будто плач послышался в переполохе и кликах, и тяжелая тревожная тьма стала наползать на все звуки… И пробился человеческий мятущийся голос:
Родились вы на этой священной земле, На прекрасной земле, на злосчастной земле.
Пел дутар, скорбя и надеясь, вздыхая по несбывшемуся, о будущем тоскуя, — и женщины, слушая необычную эту, будто с ними разговаривающую новым, но чем-то и знакомым языком, музыку, захваченные ею, думали каждая о своем… Да, она заставляла каждого задуматься о своем, но в то же время было это и общим для всех — общим, которое касалось каждого…
И лишь вами надежда людская полна, К колыбели склоняясь, не дремлет она.
Наше счастье в твоих колыбелях, народ. Час пробьет, солнце счастья над нами взойдет.
Мелодия текла, волновалась, словно марево на горизонте, все дальше уводя в свои пространства, а все остальное в мире застыло в ожидании, смолкло, превратившись в слух, замерло; и накатывали, все ближе подступали к сердцу Айпарчи звуки — и вот вошли в него, в рану разбереженную, старую… И там, куда вошли звуки эти, забил невидимый, освобожденный ими чистый родник, омывая душу, освобождая и ее тоже от всего житейского, от всей тины жизни, и дрогнула рука, держащая салланчакбаг, и будто сама закачала колыбель.
О дитя ясноглазое, радость и боль Наших душ, — принеси же надежду с собой.
Все размеренней качалась колыбель, все дальше уводила музыка в степь свою, от берегов Лебаба простершуюся в сторону Хазара, и не было ей конца. И как рука, качающая колыбель эту, тянулась, стремилась не отстать от завораживающего повторами своими дутара, так неведомо откуда возникшая перед взором ее души арвана-верблюдица стремилась, спешила за своим несмышленышем верблюжонком, куда-то все убегающим от нее бескрайними тоскливыми песками… Куда бежишь ты, о несмышленыш, зачем оставляешь мать без дитяти, душу без любви, жизнь без надежды?! Где отыскать ей след твой в лунных песках бессонницы, в томленьях плоти, материнством не убаюканных, во тьме сомнений и утрат? И где приют ей найти в пустоте грядущего — ей, брошенной тобою, навеки в одиночестве оставленной?! Но не слышит белый верблюжонок, далек он, недостижим уже на своих легких, следа не оставляющих ногах, и уже одно марево ответом тоскующей верблюдице, одни миражи выжженной бесплодной пустыни… Одни слезы оставил ей, Айпарче, омывшие лицо, душу, высветлившие слезы не угасшей еще в ней надежды, неутраченной веры, — ибо безнадежность уже не плачет…
6
Никто из них не заметил поначалу высокую темную фигуру у входа, никто не знал, сколько простоял этот человек, на вытянутую руку отставив от себя тяжелый страннический посох, слушая тоже. И когда замолк дутар, когда последние его звуки преодолели тесноту кибитки и ушли в простор степи, рассеялись над нею, когда наконец отпустили они от себя слушающих — все глаза обратились на эту притенившую в кибитке свет странную фигуру… Да, это был нищий — «гедай», скитающийся по пустыне, по аулам родной земли, — и кто скажет, только ли в поисках пропитания и крова скитающийся? Только ли ради куска лепешки и кошмы под бок странничают такие, как он, исходившие столько путей-дорог, переступившие такое множество порогов, перевидавшие все на свете?.. Сказав негромкое хриплое «эссаломалейким», странник переступил порог и, подобрав свою висевшую на длинной веревке торбу и посох рядом положив, сел к очагу, хотя никто ему этого еще не предлагал. Это был худой, с темным высохшим лицом и редкой бородой человек в старом, всеми на свете непогодами истрепанном полосатом халате, в низко надвинутом бараньем колпаке, из-под которого проблескивал порой острый и суровый, даже угрюмый взгляд. Неизвестно, сколько было ему лет, какого рода-племени он и какой судьбы. Несколько раз видел его Годжук Мерген во всяких местах, но всегда вдалеке от жилья, темной теныо сквозящего в песках, бредущего по каменистым россыпям предгорий, угрюмо и безмолвно уступающего всем караванную тропу…Нелюбимый и суровый, заходил он, говорят, только в самые бедные жилища, где его встречали всегда с почетом, ночевал, но никто не мог сказать, в какой предрассветный час уходил он, не прощаясь, дальше, — неуследимая тень, темный дух пустыни… И вот сам пришел он; и Годжук Мерген первым встал и поприветствовал почтительно его. Не поднимаясь с места, подал руку свою гедай, и мукам-чи показалось, что не живую, теплую человеческую ладонь, а засохший скрюченный корень пожал он, так была обезображена эта рука. — Что за мукам ты пел? — вместо приветствия глухо сказал гедай, и пронзительно-пытливый взгляд его вперился в добрые, немного растерянные глаза дутариста, — Впервые слышу его… Откуда привез, где перенял? — Что мне ответить тебе, почтенный… — Годжук был в большом затруднении: он и не уверился еще, что мукам и в самом деле удался ему, и в то же время, увидев уже слезы женщин, не хотел бахвалиться под этим испытующим, насквозь его видящим взглядом. — Тебя, яшули, побаиваются и малые, и взрослые, тебя обегает зверь в пустыне… — Не тяни. И не размножай ненужных слухов. — Этот благой мукам сочинил он сам… — Негромкий, но твердый голос Гюльджемал заставил всех обернуться к ней. — Ему суждено многое, да простит мне аллах жалкое предсказанье мое. Но люди… ох, вряд ли поймут люди!.. — Ты?.. — Суровый гедай с едва заметным удивлением глядел на смущенного вконец мукамчи, не знающего, куда деть руки свои. — Сам?! Что ж, в степи станет одной надеждой больше… А ты, сестра, смела. Не место тебе у семейного очага. Не для доенья верблюдиц, не для замешивания теста твоя смелость. Горечь твоя горше кизяч-ной гари. Но сначала вырасти своего мальца… Гюльджемал безмолвно склонила голову, и не понять было, то ли согласилась она и благодарила нищего, то ли подавлена была его суровым, ничего хорошего не обещающим пророчеством… А гедай все смотрел неотрывно на Годжука Мергена, словно делил его, раскладывал для себя на виду: вот это хорошее в нем, стоящее, пригодно тоже и другое, а вот третье… И взгляд его пригасал, терял остроту свою и будто теплел, свое дело сделав. И наконец сказал он: — Я знаком был с дутаром. Я знаю или слышал все песни туркмен. Всю их тоску. Всю радость, когда есть чему радоваться. Всю тщету души человеческой — вот эта рука не даст мне солгать, потому что она уже налга-лась и получила свое… Это новый мукам, брат. А ты новый мукамчи. И твой дутар нов, но не потому, что недавно сделан; сделал же его, вижу, сам Сеит-уста. Но будь самим собой, брат. Всегда. Это самое ценное, ценнее дутара твоего и мукама. И слова мои за похвалу не принимай. Принимай лишь за правду и никогда не забывай, что у правды всегда две стороны. Одна сторона лишь у истины, но сколько я ни бил ног по тропам, по человеческим порогам, ни одного человека, знающего истину, не встречал и, знаю, не встречу никогда… мал для нее человек и слишком широка поднебесная степь, чтобы отыскать ее. Но, может, когда-нибудь ты и увидишь истину мою: кости мои голые со следами шакальих зубов — неподалеку от вечной моей тропы… — Истина человека, о яшули, весит больше, чем обглоданные кости его. — Знаю. Но мне горько. И горечь моя не от несовершенства мира и человека в нем — что толку разваливать мазары, надеясь тем укротить или прогнать смерть? Что толку каяться в своих грехах, половина которых не твоя, а другая половина сотворена тобой же с рвением, какого для доброго дела вот в себе и не сыщешь?.. Мне горька мысль, что я, все имея, все растерял — сам, без помощи своих несовершенств… Это не покаянье — это лишь горечь. Это аллахова слеза невидимая во мне, полынная соль ее. — Позволь мне возразить, добрый человек… — Год-жук Мерген уже не мог скрывать сострадания своего к нему, сгорбившемуся у очага, тускло глядевшему в его золу. — Нет, это покаяние, яшули. Только неполное оно, недовершенное… да, недовершенное, и потому так тяжело оно… — Я не добрый. Но ты поэт, и потому ты прав. Как права на белом свете только искренность… — Гедай выпрямился, глянул по-прежнему остро. — Лучше вели меня накормить, я голоден. В этой кибитке хорошие женщины. И жаль, что эта смелая женщина не твоя вторая жена… Гюльджемал мгновенно покраснела, вспыхнула всем лицом, до слез в глазах, и едва успела прикрыть лицо яшмаком. — Но почему?! — уже весело и облегченно изумился Годжук, дивясь, куда делась смелость этой женщины. И открыто глянул на Айпарчу, уже насторожившуюся, ободряюще улыбнулся ей. — Почему? — Не знаю. Но, клянусь теми самыми шакалами, жаль… В мире невидимых тайн гораздо больше, чем тех, которые мы видим и считаем за тайны. Да и никто тебя или жену твою не заставляет верить мне… я болтлив сегодня, и тому виной, может, мукам твой. Почему не вижу детей твоих? — Об этом не у нас, почтенный, надо спрашивать… — Вот как?! Что ж, где бы ни бил родник — лишь бы утолить жажду… И ты больше своей боли, а это главное. Одного никак не пойму: откуда такие, как ты? Такая черствая земля — и эти плоды… — Ай, яшули, вы все время вводите меня в грех… Дутар меня не спрашивал — дутар пел. — Помни сказанное: у правды две стороны, — сухо проронил гедай, но тут же смягчился, задумчиво повторил: — Откуда?.. Кто учил? Медресе тебя лишь бы испортило, заемный ум ведь как саксаул — крепкий, но не гибкий… И опять подала голос уже справившаяся со своим непонятным смятением Гюльджемал: — Алыча цветет даже на скалах, и люди не удивляются тому. Цветы ее питаемы не столько камнем, сколько его добротой… что непонятного тут?! Она тайком, но со жгучим каким-то интересом всматривалась в этого странного, так непохожего на других нищих человека, о котором ходили уже легенды, — будто что-то в нем надо было понять ей, удостовериться в своих мыслях тайных… И быстро потупилась, когда гедай обернулся к ней. — Ох, женщина… — сокрушенно проговорил он и, кажется, еще больше потемнел лицом; и ничего больше не сказал ей, обратился к Годжуку: — И как ты назвал свою песню? — Салланчак-мукам, яшули… так, думаю, будет лучше всего. И петь буду его только у колыбелей. — Колыбельная… Да, в этом есть смысл. Что ж, младенец в колыбели: спой еще раз ему, полей водою этот росточек… А люди поймут. Не заумный же муэдзин сочинил ее и спел. Не в садах же ханских она зацвела. Простыми руками вырыт колодец этот, но вода… Вода одинакова для всех и нужна всем. Для всех.7
Властитель соседней провинции, ее пастбищ и горных урочищ, колодцев и рек, караванных троп, отар и аулов, ее иссохшей земли, горячего днем и душного ночью воздуха и даже, казалось, и самих тусклых звезд, — Рахими-хан вот уже несколько дней знал, что Годжук Мертен слег и что нынешнее ложе для мукамчи, похоже, станет последним. И это известье, в чем-то обрадовав, занимало его теперь не на шутку, возродив, можно сказать, и воодушевив в нем одну довольно-таки давнюю, почти заветную мысль. Даже в лучшую пору своей жизни, в юности, их было не много у него, заветных желаний; а сейчас и вовсе свелись они все к одному, давно вынашиваемому в бессонных от дневной лени и развлечений ночах, — сменить этот свой порядком уже надоевший ханский сад на шахский… Но тому было всегда слишком много препятствий, и поэтому извечная эта, у каждого хана про запас, мечта вынуждена была пока довольствоваться малым, сохраняемая в тайне даже от самых приближенных к ханскому порогу людей. Не жирного плова, не мягчайших хорасанских ковров, не сладких наложниц и жен хотела, жаждала душа Рахими-хана — всего этого хватало и в нынешнем его, вовсе не бедственном положении. Его ханство, размерами своими ничем не выделявшееся из прочих, было тем не менее самым богатым, его нукеры самыми верными и сплоченными, а ближайший соратник и советник, иноплеменник Багтыяр-бег самым, пожалуй, умным и деятельным из всех советников, к тому же самым преданным, ибо еще никому из провинциальных ханов, кроме Рахими, не пришла в голову столь мудрая мысль: приблизить, сделать вторым человеком в ханстве безродного иноплеменника, который даже и помыслить не может о ханском бунчуке, о власти, жизнь и благополучие которого целиком зависят лишь от благополучия его высокого покровителя… Это он, Рахими-хан, в свое время мудро последовал совету Багтыяра не хвататься при каждом случае за плеть, но править этими дикими туркменами без очень уж больших для них утеснений, следя лишь за неуклонным порядком во взимании дани и гася разорительные для всех межродовые распри и набеги, — и что ж?! Пастбища провинции полны скота, на небольших, но многочисленных полях зреет очередной немалый урожай, подданные смирны, нукеры сыты, одеты и вооружены не хуже иного бека и потому готовы на все, а в казне, слава аллаху, хватает и на себя, и на шаха, и на благосклонность его визирей. Уже который год стекаются в его провинцию, под его властную, умеющую сохранять полезный всем порядок руку скотоводы и земледельцы из близких и далеких, полуразоренных своими беспощадными правителями ханств, потому что, наверное, даже глупая овца и та разбирается, сколь умелые руки ее стригут… Да, ханство его цветет, на зависть соседям богатеет год от года, набивая ему сундуки и чувалы данью, и по богатству, по силе некого даже рядом поставить с ним из этих безмозглых обирал и грабителей… но что твоя сила, что богатства твои, Рахими-хан, под ненадежным кровом шахского капризно-изменчивого расположения, перед завистью и жестокостью человеческой?! Уже нет былого того расположения, со всех сторон нашептывают шаху всякое про тебя, ложью и коварством пытаясь свалить то, что было возведено умом и терпеньем твоим, и если бы не подкупленный давно тобой первый визирь, то где и кем бы ты был теперь? Еще все держится богатыми подношениями твоими и унижениями, но уже недолго осталось держаться — не опоздай… Шах завистлив и коварен, окружен такими же и не потерпит рядом равного, слишком уж сильного, и потому иного пути у тебя нет. Да и не для того ты родился, не на то дана тебе твоя мудрость, чтобы сидеть в этой, пусть и богатой, провинции до скончания дней. Тыв силах сделать из этого сброда полузависимых, раздираемых глупыми распрями ханств настоящее государство, богатое и сильное, послушное твоей руке… торопись, не опоздай! Свежа рана, огнем еще горит, ни днем ни ночью не дает покоя, не забывается оскорбление, какого не приводилось еще слышать с тех пор, как мать родила тебя на белый свет… Сказанные вроде в полушутку, слова шаха были полны ядом недоверия и вместе с тем неумной спесью: «Чем ты, Рахими, думаешь — головой или задом?..» И это говорит тупица, окруженный льстецами и ворами, погрязший в награбленной роскоши, в стране которого царят разброд и беззаконие, казнокрадство и распад… Говорит в присутствии ничтожеств, которые мизинца твоего не стоят и способны только, как шакалы, подбирать, догрызать оставленное им… Но и не спеши. Пути к власти гибельны подчас, и в этом Багтыяр, молчаливо знающий твои мысли, тоже прав. Так он сказал однажды, будто ненароком, когда ты повелел ему понемногу и втайне ото всех собирать оружие, заодно строить под запасы зерна новые закрома. Сказал будто бы по другому поводу, но с тех пор вы заодно и в мыслях, и в делах. И никогда он не перебежит, не предаст ради недолгого возвышения при шахском дворе, прекрасно зная непостоянство правителя и коварство своры шакалов и гиен вокруг него. Только на свой ум и на тебя вся надежда у Багтыяра, и только на него да на своих нукеров, пока они сыты и одеты, можешь положиться и ты.. Но мало нукеров для задуманного. Конечно, Рахими-хан в состоянии содержать и вдесятеро больше воинов-джигитов — если бы о том не знал шах… Нет, очень уж заметно увеличивать войско нельзя, да и не успеешь ты собрать его, как на тебя будут спущены, будто свора голодных грязных псов, все твои мстительные и завистливые соседи… И не сговориться с ними, уж очень ненадежны, продадут, глупцы, и не смогут взять даже хорошей цены за тебя. Опереться было не на кого, и оставалось только одно: поднять на столицу этих туркмен… Дело опасное, все равно как если бы сжигать пришедшую в негодность постройку рядом с домом, но других выходов он уже не находил. Главное — перетянуть их на свою сторону, натравить сначала хотя бы на один из шахских отрядов, в поисках легкой добычи рыскающих по стране… дань навалить новую — на каждый кетмень, на каждый куст верблюжьей колючки, на последнюю псину охотничью — и свалить это на шаха, пусть ропщут, бунтуют! А он, Рахими-хан, сумеет на время устраниться, не мешать им. Он даже раздачу зерна и скота им устроит поначалу, потом и жаловаться начнет ко двору на свое бессилие, просить на помощь, выманивать из столицы лучшие отряды— пусть высылают их, обрадованных, предвкушающих грабежи… В пустыне — не на высоких стенах столицы, здесь он, когда придет время, сумеет поодиночке и быстро расправиться с ними, перебить, перекупить ли. Самое главное — твердой рукой и вовремя взнуздать, оседлать народный гнев и направить его, клокочущий, на шахские стены. И тогда ты узнаешь, шах, чем думает твой нижайший подданный Рахими-хан… Да, стремительна туркменская конница, в том он успел убедиться, и не так уж далека столица: он отметил это, когда еще только сажали его сюда на ханство. Но как оседлать, чем приручить хотя бы на время эту дикую, выпущенную на волю силу?! Нет, настала пора наконец прервать их общее с Багтыяром молчанье…8
Туркмены, казалось порой, были даже стремительней своих вестей и слухов, переносимых через пустыни и горы не устами, сдается, а самим ветром… Лет шесть-семь назад Рахими-хан, озабоченный расселением по своему ханству стекавшихся к нему со всех сторон дехкан, через Багтыяр-бега договорился с соседом Эсен-ханом о покупке воды. Именно о покупке шла между ними речь: быстрая своенравная речка, скачущая по камням с гор, служила границей между ханствами, а в долине раздваивалась — и один ее рукав уходил в земли Эсен-хана, тоже питая своей водой поля большого аула. Испокон веков жители обоих селений ревниво оберегали огромный валун, разделяющий речку, — Камень Аллаха, самое справедливость, ниспосланную небесами. И вот теперь за ничтожную цену — отару в триста овец — Эсен-хан уступал воду своих дехкан соседу… Что будет с людьми, с аулом — это, видно, мало беспокоило его, ибо жадность глупа, бессердечна и всегда предпочтет нынешнюю малую прибыль завтрашним большим убыткам. Рахими-хан не пожалел бы и тысячи овец за то, чтобы соседский аул весь перешел в его владения, если бы не жесткий неписаный закон, запрещавший это: люди для пустыни то же самое, что и вода. От них жизнь в этих бескрайних, перемежаемых камнем песках, от них смысл животворящей воды и земли, бездонного ночного неба, человеческое одиночество дальних синих гор, воющая тоска самума… От них же и дани с налогами, мощь государства, благополучье и сила разумного правителя. Но не Эсен-хану было понять это. В одну из осенних, после сбора урожая, ночей два довольно больших отряда преданных, равнодушных к чужим бедам нукеров во главе со своими ханами с глухим топотом копыт примчались к Камню Аллаха, чтобы перехватить речной рукав и, в случае нужды, вооруженной рукой усмирить недовольных. Но, несмотря на то что сделку совершали в строгой тайне, смутный слух о ней какими-то неведомыми путями проник в степь, попал молве на уста. Еще не рассвело как следует, еще и нукеры не принялись за работу, как на окрестных возвышенностях замаячили первые конники— всеведущи и скоры на ногу туркмены… Вскоре уже собралась огромная толпа конных и пеших, вооруженных чем попало людей, а из ближних аулов все прибывало и прибывало. Испуганные, растерявшиеся, разгневанные, они стекались со всех сторон, и поначалу не понять было, для чего: то ли умолять бессердечных, то ли защищать свою воду, свое право жить до последнего… Перекрытие воды означало одно — гибель аула… С незапамятных времен трудились здесь поколения земледельцев, расчищая от камня и обрабатывая свои крохотные перед лицом пустыни поля и сады, каждый пригодный под посевы клочок земли, с великим терпением выдалбливая в каменистом грунте предгорий арыки, подстраивая жилища. Воды на каждого живущего здесь было в обрез, и даже рожали тут с оглядкой на нее, на воду. И вот теперь не оставалось ничего другого, как покидать обжитую, давно ставшую родной землю, несколько родников не спасли бы и четверти жителей аула, — но куда? Все хоть немного пригодные для жизни места с водой давно заняты-перезаняты и неспособны продержать ни одного лишнего рта, ни одного поля. И люди, и все живые существа пустыни давно приладились, как могли, приспособились к каждой струйке, к каждой капле воды, так скупо отпущенной здесь природой, и поэтому мытарства целого аула означали не только переселенческие мучения и неустройства для самих жителей, но и лишения тех, кто так или иначе будет вынужден поделиться с ними водой, людей и существ, вроде бы вовсе не причастных к происходящему, к судьбе изгнанных… Да, ни одно живое не лишнее в этом мире — но хватает ли на всех камней справедливости у аллаха?.. Толпа на косогоре все росла, угрюмый протяжный гул доносился оттуда, отдельные выкрики и женский плач; несколько всадников, — очевидно, вожаков — крутились перед ней на тонконогих туркменских конях, но спускаться к распорядителям своей судьбы пока не осмеливались. Не решались спешиться и оставить оружие, чтобы перекрывать рукав, и нукеры, и никто их не торопил. В который раз подскакал Эсен-хан. Вытирая рукавом жирное, все отчего-то в обильном поту лицо, оглянулся на косогор: — Что будем делать, почтенный?! Рахими-хан с едва скрываемым презрением наблюдал за ним, потом обернулся к Багтыяр-бегу: — Сколько, говоришь, всего сабель у нас? — Не больше сотни, о хан. — Нет-нет! — почти испуганно заговорил Эсен-хан, опять оглядываясь на дальнюю толпу. — Дойдет до шаха… нет, надо по-другому. Я поеду к ним. Они не посмеют, голодранцы!.. — Пошли нукера и вели им приблизиться. Мы должны видеть их намерения. К тому же тут, внизу, будут они не так опасны. Но откуда, я спрашиваю, им стало все известно? От кого пошел слух?! — Не знаю. Я всем' повелел молчать, я… — «Всем»?! Тогда понятно, где болтал язык и слушало ухо… — А почему бы не у вас, почтенный?! — ощерился Эсен-хан. — Уши есть везде, а слухи летят быстрее ветра, им даже горы не преграда… — Об этом знал лишь я и мой советник. А мои джигиты оказались здесь самыми последними из всех, услышавших о том… Но не мне, а тебе говорить со своими подданными. Говори, мне некогда ждать. — Позвать сюда этих бездельников!.. «Бездельников…» — думал Рахими-хан, глядя на него. — Ты и дня не работал в своей жизни так, как они работают каждый день. И это хан, властитель земель, душ и судеб?! Жадная, глупая, трусливая собака…» Толпа не сразу, с остановками перетекла вниз, затопила долину, не дойдя десятка шагов до выстроившихся в линию нукеров. Эсен-хан на пляшущем, злобно косившемся жеребце метался в сопровождении телохранителей перед нею и то уговаривал, то хрипло кричал что-то, грозя богатой ханской плетью, указывая ею в сторону аула. Но это, видно было, никак не успокаивало людей; наоборот, чем дальше, тем угрюмее становились лица, злобнее взгляды, смелее выкрики… Надо было либо обнажать сабли, либо отступить. Презренье и гнев овладели Рахими-ханом. Он уже собрался было пришпорить своего коня и сам выехать к этой черни, но разгоряченная, непримиримо сверкавшая глазами толпа вдруг сама стала смолкать, оборачиваясь и будто кого ища; и вот смолкла и раздалась, словно пропуская кого-то, хотя пропускать (и Рахими-хан отчетливо видел это) было вроде бы некого… Гасли взгляды толпы, опускались руки, только что хватавшиеся за оружие, затихли позади нее крикливые женщины— лишь по образовавшемуся проходу трусил на неприглядной коняжке какой-то старик, не успевший, видимо, освободить кому-то дорогу… — Что еще там? — недовольно бросил Рахими-хан, не ожидая ничего хорошего и от этого внезапного, странного смирения толпы: по своему немалому опыту он знал, что после таких вот передышек упрямство и ярость людей возобновляются порой с утроенной силой. — Сам не пойму… — Багтыяр-бег беспокойно вглядывался в толпу, ища причину. — Кто-то к ним, кажется, прибыл… Старик! — Старик? — Да-да, старый мукамчи… Это он, Годжук Мер-ген! — Как, на той паршивой кляче?! — Другой у него нет… Боюсь, хан, что отару нам придется гнать назад. — Я слышал о нем… но чтобы нам, двум ханам, пятить своих коней перед этим старым хрычом с дутаром?! Ты забываешься, бег! Ты прибавляешь ему то, что отнимаешь у нас… — О нет, хан. Поверь, это серьезно. — Так уж серьезно? Если он начнет сейчас петь то же, что его сородичи, я прикажу нукерам посадить его задом наперед на эту клячу и отправить куда-нибудь к святым местам, подальше в пустыню… Или дать плетей! Советник внимательно глянул на него и, помолчав, произнес: — Это война. — Какая война, с кем? С этим сбродом? — Со всеми туркменами, ашна[110]… — Багтыяр-бег позволял себе это покровительственное «ашна» только тогда, когда был совершенно уверен в своей правоте, и хан знал это. — Изнурительная и безуспешная, днем и ночью… Лучше нам не трогать этого, Рахими. Хан, не спуская глаз со старика, пробормотал проклятье. А старый, горбившийся в седле мукамчи между тем остановился в проходе, оглядываясь и приветствуя кивками людей, потом что-то спросил. Ему ответили, и он старчески медленно повернулся к Эсен-хану. Нет, он не просил людей умерить свое негодованье и пока не шуметь, он даже знака никакого не подал им — ни рукой, ни видом своим, но под его спокойным и будто жалеющим взглядом смирялись самые необузданные из сородичей, умолкали крики, спадал гнев… Ничего необычного в этом старике не было, множество таких жило по аулам, встречалось на дорогах, сидело у кибиток на далеких стойбищах. Только, может, добротней была и аккуратней сидела на нем одежда, тоньше и суше были кисти рук — да так и не приучилось за долгую жизнь к бесстрастию его живое и открытое лицо… Раздражение не помешало Рахими-хану увидеть и оценить все это, ибо настоящая мудрость, считал он, в том и состоит, чтобы не дать чувству затмить глаза разума. Багтыяр прав, здесь торопливость и гордыня неуместны. Мукамчи все смотрел в сторону Эсен-хана — и тот словно не выдержал его взгляда, тронул к нему коня. И старик шевельнул поводьями, не торопясь поехал ему навстречу. Хан торопился, первое слово должно было остаться за ним, иначе получился бы не разговор повелителя с подданным, а один позор: — Бахши, твои соплеменники сами не знают, что делают!.. Или они забыли аллаха и правую руку его на земле, светлейшего шаха? Или они думают, что два хана, здесь находящиеся, не сумеют выполнить высочайший фирман[111], каких бы жертв это ни стоило?! Верни им благоразумие, бахши, а я — я, Эсен-хан! — буду сам думать об их судьбе!.. Я тебе обещаю, почтенный… — Зачем что-то обещать мне, о хан? Мне ничего не надо. Но этим людям, моим аульчанам… Они ничего не слышали о фирмане, хан. Они хотят жить там, где всегда жили их предки, только и всего. А фирман… где он? Мы хотели бы его услышать. Старые ясные глаза мукамчи глядели на хана кротко, почти с верой в тот не существующий нигде на свете фирман и в то, что все происшедшее здесь есть всего лишь временное недоразумение, которое по прочтении указа будет тотчас развеяно… Эсен-хан весь взмок. Юля глазами, оглядываясь и приглушив голос, он почти прошептал: — Прошу тебя, о бахши, потише… Это негласный фирман. Знают о нем… да, о нем знают здесь лишь трое: я, Рахими-хан, а теперь и ты. Мы доверяем тебе, цени это. Здесь государственная нужда, и потому всякая непокорность… Ты сам хорошо знаешь, как гневен шах к непокорным. А мы лишь стрелы его лука… Скажи им, пусть расходятся по своим аулам. Тень набежала на глаза мукамчи. Он пытливо глядел в маслянистое, принужденно улыбающееся лицо хана, и взгляд его с каждой минутой становился все недоверчивей и, казалось хану, все острей, проницательней… Хан не раз слышал, что скрывать правду от этого старика, мол, невозможно и никогда не надо, что глаза его обладают удивительной для человека способностью видеть самую душу, угадывать все затаенные помыслы ее, прегрешенья и достоинства. Нет, он и теперь считал все это досужим вымыслом, сплетнями ветра, которыми полны даже безлюдные Каракумы; он всякие за свою жизнь повидал глаза, он обманывал глупых и дурачил умных, он притворялся, лгал, не раз выкручивался перед шахом и его визирями и потому привык верить своей хитрости, ставить ее куда выше человеческой проницательности. Но всякий раз, волей или неволей встречаясь с этим стариком, своим подданным из предгорного аула, он даже от себя не мог скрыть какой-то боязни, постоянного неудобства перед этими нестрогими, понимающими и будто бы даже сожалеющими ему во всем глазами и старался побыстрее уйти из-под них, вырваться из этого всепонимающего сожаления… — …Не надо ссор и криков, когда можно устроить все по-мирному. Ни шах, ни я, хан, не оставим их без своего покровительства. Мы раскопаем новые родники, выроем колодцы… Надо было что-то говорить, не молчать перед этими глазами, а говорить уже было нечего. Эсен-хан чувствовал себя в положении человека, собственными руками затягивающего на своем горле аркан… проклятые глаза! — Не надо дальше, хан… У тебя нет фирмана. Хану показалось, что эти слова сказал не старик, горбившийся перед ним в седле, а кто-то другой, сзади или, быть может, сверху него… Он затравленно оглянулся — позади были настороженные, все знающие телохранители, ненадежная цепь своих и чужих нукеров, высокомерное лицо Рахими-хана, которого он всегда ненавидел и боялся… — Как ты сказал, почтенный?.. — У вас нет фирмана. Вы не сможете оправдаться ни перед шахом, ни перед тем, чей камень разделил эту воду на два рукава, для двух селений человеческих… Ты еще не слышал мукам о том, как два удальца решились было своротить со своего места Камень Аллаха, Камень Справедливости? — Н-нет… Но при чем тут мукам?.. — Ты его можешь услышать. И тогда его услышат все, услышит и сам шах. Меня приглашали туда, но я уже стар для такого долгого пути, и голос мой стал груб для тех ушей. Но если уж сдвинется со своего законного места Камень Аллаха, то двинусь от родных колодцев и я… С первым же шахским отрядом. — Ты не веришь мне, своему хану?! — Я верю Камню Аллаха. И большей веры от меня не может потребовать никто, даже благочестивейший Магомет. Мир тебе, хан. Пусть и твоему высокому гостю сопутствует он везде… или хотя бы в пределах твоих границ. Мы все соседи и жить должны по-соседски… И, повернув своего старого коня, шагом поехал к ожидавшим его, во все глаза с надеждой глядящим людям. Когда не столько разъяренный, сколько растерянный Эсен-хан вернулся к Камню Аллаха, где были Рахими-хан с Багтыяром, им все стало ясно. — Они знают все… — сдавленным голосом сказал Эсен-хан, отвечая на их презрительное молчание. — Все ли? — Все. Этот старый шайтан готов с первым же шахским отрядом ехать ко двору… — Доедет ли? — опять сказал Багтыяр-бег и, помолчав, сам себе ответил — Доедет… Нам здесь нечего делать, хан… — Да, здесь правят эти… — Рахими-хан ткнул рукоятью плети в сторону толпы, скривился. — Мы уезжаем. — Мы проедем через них!.. — побагровев, наконец хрипло крикнул Эсен-хан. — Да, сквозь них… мы проложим себе дорогу! Они еще пожалеют, грязные собаки!.. Повинуясь командам телохранителей, нукеры выстроились в колонну и, увлекаемые ханами, сразу же взяли рысью. Эсен-хан, набирая ход, правил своего злобного жеребца прямо на мукамчи. Казалось, еще немного — и он собьет, сомнет этого старого человека на старой, такой же терпеливой лошади… Но Годжук Мерген, натянув поводья, попятил коня, без слов уступил дорогу. Толпа торопливо и молча раздалась, и отряд, взрывая копытами пыль, словно нож прорезал, распахал ее и вырвался на дорогу. И последний, весь заросший бородой нукер в глубоко надвинутой бараньей шапке, из-под которой зло блестели глаза, коротким беспощадным взмахом перетянул плетью какую-то женщину, и та охнула и закрыла лицо руками…9
Да, пора настала прервать их молчанье, ибо жить по-старому уже было нельзя, времени не оставалось. Рахими-хан всегда отличался осторожностью и предпочел бы остаться в своем нынешнем, не таком уж и плохом положении, чем рисковать всем благоприобретенным, — если бы не эта угроза… Велев позвать Багтыяр-бега, он все раздумывал, как начать этот разговор. Советник явился тотчас и по виду своего покровителя сразу же понял, что речь пойдет о важном. — Садись, Багтыяр-джан. Садись и скажи-ка наконец, что ты думаешь о нашем с тобой сегодняшнем дне. Говори, положа руку на сердце… обо всем говори. Что делать нам? — Уберечь головы. — Как? — Это и я бы хотел знать. И хоть аллах милостив, но сидеть и ждать уже нельзя. Надо не ждать палача, а прийти к нему самим… со своим булатом. — Ты читаешь мои мысли. Это, наверное, потому, что наши головы лежат рядом, на одной плахе… — Хан невесело, но пристально поглядел в глаза своему соратнику. — Но воины, нукеры — как набрать их, накопить силу? Джигитов, любящих безбедную жизнь, хватает у нас, за яркий халат и хорошего коня много удальцов можно нанять… где их скрыть, ашна? — Я думал над этим. Дорога к столице длинна, а на ней всего один колодец… — Что ты хочешь этим сказать? — оживился Рахимн-хан, он любил иносказания. — Только то, что сказал. Мы начнем рыть на ней два новых колодца… А это работа еще для двух сотен молодцов на целое лето… Ты не пожалеешь для них жалованья нукеров, одежды и пищи, заодно и табун боевых коней? Доверишь оружие, к которому они будут привыкать лишь по ночам? — Не пожалею!.. Клянусь, мне еще никогда так не нравилось рыть колодцы! — Хан совсем повеселел и, крикнув охраняющему его летнюю кибитку телохранителю, велел подать вина. И тут же подумал, что советник его умен и расторопен, как никто другой… даже слишком умен. И что не будет ему, Рахими, покоя никогда, нигде… — Но этого все равно мало, Рахими-джан. Столица лишь чихнет на них со своих высоких стен — на них, на нас со всем нашим воинством… Конечно, было бы глупо вести ее правильную, как это делают гяуры, осаду, я о ней даже и не помышляю. Но, даже скрытно войдя в нее, нужно раза в два больше воинов, чтобы внезапно разоружить охрану и отряды, которые там всегда торчат… Раза в два или три. Мы прокормим и больше, но скрыть их не сможем. Как бы ни пряталась стая шакалов, шахские псы все равно выследят ее. Не по тявканью, так по запаху. А запах жареного чуется по степи далеко, ты сам это знаешь… — Знаю… Так что же ты можешь предложить? — Ничего, кроме подкупа и кропотливого и опасного переманивания к себе этих придворных индюков… Но это не наша тропа, ашна. Она опасней, чем в горах. Если хочешь, я обдумаю, как скрытнее ввести в столицу наших удальцов и разместить их там. Хотя бы под видом тех же каменщиков или ремесленников… — Подумай. Ну, а другое — выманить отряды из города? — Не знаю чем. Разве что стравить кого-нибудь из наших соседей по ханству… — Нет. Для их примирения хватит любого бродячего шахского отряда… Тогда как? Багтыяр-бег молчал. «Ну вот, я достиг, кажется, предела и его ума, — с усмешкой подумал Рахими-хан. — Нет, чтобы быть ханом, надо им родиться. Не ум, но кровь правит в этом мире…» — Как выманить их?! «Что ж, тогда получи урок, Багтыяр-бег, раз молчишь, и знай хозяина…» — Не знаешь… Ну, а если поднять на нас… — Рахими-хан нарочито помедлил, усмехнулся опять. — Если поднять на нас этих туркмен?.. Да-да, на нас, против нас и шаха? — Рахими-джан, это… — Советник даже привстал, глядя удивленно и растерянно. — Это безумие. Это выводить блох пожаром в доме. — Хорошее сравнение, — заколыхался в смехе хан. И прихлебнул ругаемое кораном сладкое заморское вино. — А все же? Предлог для новых налогов в пользу шаха мы найдем, вожаков-поджигателей тоже. Оскорбим чем-нибудь от имени шаха. Туркмены горячи — вспылят, схватятся за дедовские сабли… Нам, главное, остаться в стороне. Туркменам сочувствовать, к шаху вопить о помощи— пусть высылает отряды. Пусть они гоняются в степи за ветром… Ты меня понял? — Понял… Твоя мысль широка, это поистине ханская мысль. Только ты мог решиться на нее. Но хватит ли у нас рассудка воспользоваться ею? Вызвав самум, не задохнемся ли в нем?.. — Багтыяр-бег был хмур и озабочен, как никогда. — Мы можем потерять все. Туркмены — вот что не дает мне покоя… как суметь не поссориться с ними? Как усмирить их потом?.. — Это я и хотел поручить тебе, ашна. Ты что-нибудь слышал в последнее время о Годжуке Мергене? — Да, что он почти на смертном ложе… В народе только и говорят об этом. А я привык слушать, о чем он говорит. Туркмены недружны, на наше счастье, но эта печаль у них общая. Уже нет среди них знахаря, который не привязывал бы своего коня у кибитки старика, но все бесполезно. Я слышал, они везде ищут одно драгоценное арабское лекарство, очень древнее, состав которого будто бы не знал даже сам Ибн Сина… Лишь на него вся надежда у них… забыл, как оно называется, но в состав его входит, говорят, горная смола, мумие. Так что мукамчи, похоже, при смерти. — Значит, они ищут лекарство? — Да, Рахими-джан. Уже собрали деньги, разослали людей… Удивляюсь я. Для них это, оказывается, важнее всего. Нет чтобы прекратить раздоры, навести порядок в своей степи… впрочем, это и к лучшему. Правда, Годжук Мерген немало погасил ссор, рассудил всяких споров, пока был на ногах. А сейчас распри начались с новой силой… Рахими-хан с кряхтеньем поднялся, прошел в глубь кибитки к своему заветному сундучку, с которым никогда не расставался и брал даже в походы. Открыл единственным ключом крышку и, глубоко запустив руку (там, знал советник, хранились особо важные бумаги и драгоценности), достал со дна небольшую кипарисовую шкатулку. Вернулся на свои подушки, поставил ее перед собой: — Вот это лекарство… Багтыяр-бег удивленно вскинул глаза. Да, много еще тайн и мыслей хранит от него хан, хозяин… — Вот лекарство это. И с небольшой частью его ты поедешь к мукамчи. Ты предложишь ему мой кров и моих врачевателей, ибо с толком применить это снадобье почти так же трудно, как и достать его… Той части, которую я дам тебе, хватит, чтобы подкрепить его силы для переезда к нам. Мой знахарь напишет тебе самый простой способ употребления лекарства… да, сил старику это все-таки на время прибавит. Или даже больше, на все то время, пока ты его не уговоришь. Даю тебе месяц, два! Он должен стать и нашим знаменем, и нашим заложником… Нашим! Он умен и проницателен, несмотря на простодушие, верен своей земле и людям, но ты и не трогай эту верность… ты, наоборот, сыграй на ней. А мы загодя кое-чем подкрепим это: я давно подумывал открыть мектеб[112] для детей этих туркмен, грамотные исполнители нашей воли нам нужны, — вот теперь и объявим о том во всеуслышанье… Наобещай ему, что по выздоровлении мы даже готовы сделать его учителем в мектебе — каким угодно, вплоть до учителя игры на этом их дутаре. Используй всякие благоприятные вести из нашего ханства, сравнивай меня с их башибузуком Эсен-ханом… делай что угодно, но уговори! Его дутар должен стать нашим дутаром. Почтение к нему должно хоть отчасти стать почтением к нам. Сделать это тебе будет непросто, но на твоей стороне — вот эта шкатулка… В ней жизнь его или смерть — разве этого мало?! Мы даем цену, перед которой мало кто устоит в этом жестоком мире… Заодно располагай к себе, как можешь, всех мало-мальски почтенных людей в той степи, они нам пригодятся… Поедешь с маленьким караваном, возьмешь самых надежных нукеров. Сначала посети несколько селений, узнай, что думают и говорят там. Я слышал, что Караул, брат Годжука, и его ночные всадники не в ладах со своим ханом. — Да, Эсен-хан очень зол на них, но в открытую нападать боится… Мешает знаменитый брат. — Съезди туда и узнай подробнее. Заодно подумай, как лучше натравить их на шахский отряд, который сейчас там рыскает. И отдай сегодня распоряжение, чтобы набирали джигитов для рытья новых колодцев. Об остальном додумаешь сам… — Слушаю и повинуюсь, — серьезно и почтительно сказал, склонив голову, Багтыяр-бег. — Почетно исполнять истинно ханские повеления…10
Шел уже третий год, как Годжук и Айпарча переехали в этот предгорный аул. Они быстро свыклись с его людьми и жизнью, особенно Айпарча, для которой и родное селение мужа не было и не стало родиной. Они быстро свыклись с новым местом еще и потому, что Салланчак-мукам своим появлением перевернул всю их жизнь. Мужа все чаще и чаще стали приглашать на праздники, посвященные рождению нового человека, — чтобы он спел над ним свою осененную надеждой песню. Вскоре всякий такой праздник, если на нем не звучал Салланчак-мукам, стал считаться как бы даже неполноценным, настолько уверились все в благих свойствах его дутара… Годжук успел сочинить еще несколько мукамов, которые распевались теперь за каждым дастарханом и все дальше расходились по окрестной степи, распространялись проворными пальцами заезжих мукамчи; но Салланчак-мукам, как ни старались они, не удавался никому. Годжук Мерген предпочел бы, конечно, не быть единственным его исполнителем, ездить на каждый подобный праздник в ближние и дальние аулы и стойбища было тяжело, не под силу ему — но другого, увы, пока не предвиделось… Переменилась и жизнь Айпарчи. Она по-прежнему управлялась с их небольшим домашним хозяйством, доила двух верблюдиц, приглядывала за небольшой отарой своих овец, пасшихся на ближних склонах предгорья. Однажды ей нечаянно пришлось помочь повивальной старухе, которая испокон века принимала всех новорожденных аула. С тех пор они сошлись, и одинокая старуха сама рада была, что ей теперь есть кому передать свои немалые познания в таком нужном людскому роду деле. Уваженье к ним людей не оставляло Айпарчу одинокой во время частых отлучек мужа. К тому же ей повезло с подругой. Гюльджемал была привязчива сердцем, хоть порой и горяча, остра на язык. Иной раз в общих хлопотах и делах они проводили вместе целые дни. Судьба оказалась немилостива к Гюльджемал. Вскоре после ее замужества выяснилось, что ее муж есть не кто иной, как терьяк-кеш, заядлый курильщик опиума, по своей темной страсти к тому же еще и нечистый на руку. С первых же месяцев жизнь ее стала сплошным позором. Этот несчастный, глубоко падший человек делал, казалось, все, чтобы и она была столь же несчастна и так же презираема. Гюльджемал старалась как могла, работала по дому не покладая рук, первой шла, смиряя свой характер, навстречу всем людям, своим аульчанам, в каждой мелочи уступчива была и безответна, но это мало помогало, скорее даже подчеркивало несчастье их семьи и позора не убавляло. Конечно, люди видели, кто она и кто ее муж, но насмешки над ним волей или неволей относились и к ней тоже, задевали и ее, оскорбляя до глубины души, отравляя и мучая. Никто не знал, сколько слез и проклятий своей судьбе носила она в себе, сколько незаслуженного стыда, унижений и горечи претерпело ее бедное сердце… К тому же и в подрастающем сыне стала замечать она странные, какие-то неестественные наклонности, некие предвестья будущих пороков, уже сейчас искажающие черты несчастного ребенка… и что может быть большим горем для сердца матери, что хуже?! Правда, этой зимой ее трясущийся, весь уже почерневший муж в поисках опия и заработка на него уехал в шахский город. С тех пор о нем не было никаких слухов, и жить, отвечая только за себя, Гюльджемал стало все-таки проще и свободнее.
Но было еще и то, чего не могла знать Айпарча, в чем Гюльджемал теперь не призналась бы никому: это ее первой пытался высватать когда-то за брата своего Караул… Ее, четырнадцатилетнюю, влюбленно подглядывавшую вместе со своими подружками-сверстницами в решетчатое оконце соседской кибитки, где в честь какого-то праздника играл на своем дутаре Годжук Мерген… Ее, по-детски обожавшую, по-женски уже любящую статного джигита со смущенно-приветливой улыбкой на смуглом лице, с легоньким многозвучным дутаром за широкими плечами… Это ее сердце счастливо подкатывалось и замирало, когда нечаянно встречалась она взглядом с его спокойными приветливыми глазами, и это ее ночи стали оттого одним каким-то сплошным лихорадочно-счастливым бредом о нем…
Но ее суровый отец, заслышав о намерении Мергенов свататься, посуровел еще больше: «Как, отдать свою дочь в дом, где старшим деверем будет этот неотесанный Караул?! Нет, этому дураку в понуканье я ее не отдам!..» — «Но Годжук вроде бы джигит неплохой, — попыталась вступиться мать, видевшая, как мается ее младшая дочь. — Добрый, не обидит никогда…» — «Обидеть не обидит, но и защиты в нем дочь наша не найдет… Мы не худшие в ауле, без мужа не останется». И вот нашли ей жениха — с богатым калымом и гнилой душой. Потому-то, может, и калым был большой…
С тех пор ожесточилось ее сердце — о своем ауле, о родных людях там слышать ничего не хотела, видеть не желала и ничего никому не рассказывала. Лишь нечаянно, много времени уже спустя, узнала Айпарча от соседки, что Гюльджемал и муж из одного аула, и очень удивилась: «Так почему же он не помнит тебя?» — «Я была совсем еще девочкой тогда, где ему помнить…» И Годжук Мерген, узнав, попытался спросить, из чьей она семьи, но она так резко оборвала его: «А не все ли равно тебе, Годжук?!» — что он смутился отчего-то и больше не спрашивал. С горечью и окончательно поняла тогда Гюльджемал, что сватались к ней не по желанию самого Годжука, а скорее всего по настоянию кого-то из родственников, что бывает не так уж редко и в хижинах, и в дворцах…
Шел третий год, как они переехали сюда, и в один из дней Айпарча услышала, что на ближнее стойбище кочевников кто-то привез к больному тебибу, искусную женщину-знахарку. Сомнения все еще никак не оставляли Айпарчу, и она решила сходить к ней, благо муж был в своей обычной отлучке. А чтобы не зазорно было идти одной по степи, попросила Гюльджемал быть с нею вместе. Та сразу согласилась, да и какая женщина откажется пожаловаться знахарке на свои недомогания?..
У подруги была новосты вернулся из столицы и заехал к родителям в аул один из нукеров Эсен-хана и рассказал, что видел ее мужа. Сказал, что совсем тот плох, ноги отнялись, но еще попрошайничает, нищенствует на базаре, а носят его какие-то дружки, такие же терьяк-кеши, — видно, в расчете на милостыню… Что домой уж теперь он не вернется, да и не хочет… Гюльджемал, рассказывая, злобно усмехнулась:
— Да и кто ему нужен, что нужно ему, кроме опия?! Будь он проклят и в могиле!.. Наконец-то я хоть от него отмучилась…
— Не надо так, Гюльджемал. Он несчастный человек…
— А я что, счастливая?! Или мой сын счастлив будет, если уже сейчас лишь молчит и смотрит на всех, как последняя забитая собака?! О аллах, прости мне слова мои… но нет уже больше сил терпеть!..
И всю дорогу до стойбища прошли они молча. Гюльджемал первой вошла к знахарке в кибитку и вскоре вернулась, успокоенная:
— Я ей сказала, чтоб она получше посмотрела тебя. Кто знает, может, и присоветует что-нибудь, а то и поможет вам… Иди.
Айпарча, наклонившись, вошла в кибитку, поприветствовала знахарку — и ноги ее вдруг ослабли… Неужто она ошибается? Неужели ж та самая?! Да, это была та самая знахарка, что смотрела ее два с лишним года назад…
Но знахарка не узнала ее — мало ль каких женщин перевидала она за это время. И Айпарча ничего не сказала ей, терпеливо перенося осмотр. Наконец женщина-тебиб устало откинулась на подушки и своим резким, будто у ворона, голосом сказала:
— Никаких детей у тебя и быть никогда не могло. И не будет. Какие дети, когда твоя матка сама с детский кулачок… Да-да, совсем как туршек[113], не больше. И помочь я тебе, женщина-девица, ничем не смогу.
Айпарча онемела. Она ожидала всякого — сомнений, разных предположений, догадок, — но только не этого… Так или иначе, но Годжук все-таки уверил ее, что виною всему тут он сам, и она невольно, с оговорками, но все же поверила в свое здоровье. А теперь… Она мгновенно вспомнила все те недолгие подозрения свои в неискренности знахарки и мужа… неужто обманули ее тогда? Или сейчас она ошиблась, эта женщина?.. Но тон знахарки был столь же уверенный теперь, как неохотный тогда, и так хорошо знала Айпарча своего мужа, что тут же помяла: предупредил он ее — да, уговорил… Попросил не говорить правды — да, он такой, Годжук Мер-ген, и другим быть не может… Но как же теперь быть ей, Айпарче, как взглянуть в глаза ему? В ней сидит, гнездится их несчастье — куда бежать ей от себя?!
— Не плачь, женщина, судьбу этим не умилостивишь…
— Я плачу не о том… не для того, — тихо наконец выдавила из себя Айпарча. — Но три года назад вы обнадежили меня… Вы тогда не говорили о туршеке, енеге[114]…
— Три года назад?
— Да. Муж привозил вас ко мне.
— Я никогда не лгу страдающим, женщина, ибо ложь только увеличивает страдания. И твое чрево было таким всегда, уж поверь мне. Не могло же оно столь сузиться и засохнуть за каких-то три года. Но постой… Как, ты жена Годжука Мергена?!
— Да, енеге.
— Вай, какое несчастье… — Голос женщины дрогнул, глаза потеплели, и она с непривычным, видно, для нее сожалением качнула головой. И положила руку на плечо Айпарчи, — Я только потом узнала, кто возил меня в тот аул, и слышала о Салланчак-мукаме… Он от сердца, этот мукам. И я давно хотела услышать, как поет его сам Годжук Мерген: говорят, совсем не так, как слышанные мной его подражатели… Он тоже врачеватель, твой муж.
Она замолчала надолго и потом сказала:
— Ты прости меня. И своего мужа тоже. Он, видно, хотел как лучше…
Айпарча встала, безмолвно поклонилась и вышла. Большего ей не мог сказать никто, 11
Правда, этой зимой ее трясущийся, весь уже почерневший муж в поисках опия и заработка на него уехал в шахский город. С тех пор о нем не было никаких слухов, и жить, отвечая только за себя, Гюльджемал стало все-таки проще и свободнее.
Но было еще и то, чего не могла знать Айпарча, в чем Гюльджемал теперь не призналась бы никому: это ее первой пытался высватать когда-то за брата своего Караул… Ее, четырнадцатилетнюю, влюбленно подглядывавшую вместе со своими подружками-сверстницами в решетчатое оконце соседской кибитки, где в честь какого-то праздника играл на своем дутаре Годжук Мерген… Ее, по-детски обожавшую, по-женски уже любящую статного джигита со смущенно-приветливой улыбкой на смуглом лице, с легоньким многозвучным дутаром за широкими плечами… Это ее сердце счастливо подкатывалось и замирало, когда нечаянно встречалась она взглядом с его спокойными приветливыми глазами, и это ее ночи стали оттого одним каким-то сплошным лихорадочно-счастливым бредом о нем…
Но ее суровый отец, заслышав о намерении Мергенов свататься, посуровел еще больше: «Как, отдать свою дочь в дом, где старшим деверем будет этот неотесанный Караул?! Нет, этому дураку в понуканье я ее не отдам!..» — «Но Годжук вроде бы джигит неплохой, — попыталась вступиться мать, видевшая, как мается ее младшая дочь. — Добрый, не обидит никогда…» — «Обидеть не обидит, но и защиты в нем дочь наша не найдет… Мы не худшие в ауле, без мужа не останется». И вот нашли ей жениха — с богатым калымом и гнилой душой. Потому-то, может, и калым был большой…
С тех пор ожесточилось ее сердце — о своем ауле, о родных людях там слышать ничего не хотела, видеть не желала и ничего никому не рассказывала. Лишь нечаянно, много времени уже спустя, узнала Айпарча от соседки, что Гюльджемал и муж из одного аула, и очень удивилась: «Так почему же он не помнит тебя?» — «Я была совсем еще девочкой тогда, где ему помнить…» И Годжук Мерген, узнав, попытался спросить, из чьей она семьи, но она так резко оборвала его: «А не все ли равно тебе, Годжук?!» — что он смутился отчего-то и больше не спрашивал. С горечью и окончательно поняла тогда Гюльджемал, что сватались к ней не по желанию самого Годжука, а скорее всего по настоянию кого-то из родственников, что бывает не так уж редко и в хижинах, и в дворцах…
Шел третий год, как они переехали сюда, и в один из дней Айпарча услышала, что на ближнее стойбище кочевников кто-то привез к больному тебибу, искусную женщину-знахарку. Сомнения все еще никак не оставляли Айпарчу, и она решила сходить к ней, благо муж был в своей обычной отлучке. А чтобы не зазорно было идти одной по степи, попросила Гюльджемал быть с нею вместе. Та сразу согласилась, да и какая женщина откажется пожаловаться знахарке на свои недомогания?..
У подруги была новосты вернулся из столицы и заехал к родителям в аул один из нукеров Эсен-хана и рассказал, что видел ее мужа. Сказал, что совсем тот плох, ноги отнялись, но еще попрошайничает, нищенствует на базаре, а носят его какие-то дружки, такие же терьяк-кеши, — видно, в расчете на милостыню… Что домой уж теперь он не вернется, да и не хочет… Гюльджемал, рассказывая, злобно усмехнулась:
— Да и кто ему нужен, что нужно ему, кроме опия?! Будь он проклят и в могиле!.. Наконец-то я хоть от него отмучилась…
— Не надо так, Гюльджемал. Он несчастный человек…
— А я что, счастливая?! Или мой сын счастлив будет, если уже сейчас лишь молчит и смотрит на всех, как последняя забитая собака?! О аллах, прости мне слова мои… но нет уже больше сил терпеть!..
И всю дорогу до стойбища прошли они молча. Гюльджемал первой вошла к знахарке в кибитку и вскоре вернулась, успокоенная:
— Я ей сказала, чтоб она получше посмотрела тебя. Кто знает, может, и присоветует что-нибудь, а то и поможет вам… Иди.
Айпарча, наклонившись, вошла в кибитку, поприветствовала знахарку — и ноги ее вдруг ослабли… Неужто она ошибается? Неужели ж та самая?! Да, это была та самая знахарка, что смотрела ее два с лишним года назад…
Но знахарка не узнала ее — мало ль каких женщин перевидала она за это время. И Айпарча ничего не сказала ей, терпеливо перенося осмотр. Наконец женщина-тебиб устало откинулась на подушки и своим резким, будто у ворона, голосом сказала:
— Никаких детей у тебя и быть никогда не могло. И не будет. Какие дети, когда твоя матка сама с детский кулачок… Да-да, совсем как туршек[113], не больше. И помочь я тебе, женщина-девица, ничем не смогу.
Айпарча онемела. Она ожидала всякого — сомнений, разных предположений, догадок, — но только не этого… Так или иначе, но Годжук все-таки уверил ее, что виною всему тут он сам, и она невольно, с оговорками, но все же поверила в свое здоровье. А теперь… Она мгновенно вспомнила все те недолгие подозрения свои в неискренности знахарки и мужа… неужто обманули ее тогда? Или сейчас она ошиблась, эта женщина?.. Но тон знахарки был столь же уверенный теперь, как неохотный тогда, и так хорошо знала Айпарча своего мужа, что тут же помяла: предупредил он ее — да, уговорил… Попросил не говорить правды — да, он такой, Годжук Мер-ген, и другим быть не может… Но как же теперь быть ей, Айпарче, как взглянуть в глаза ему? В ней сидит, гнездится их несчастье — куда бежать ей от себя?!
— Не плачь, женщина, судьбу этим не умилостивишь…
— Я плачу не о том… не для того, — тихо наконец выдавила из себя Айпарча. — Но три года назад вы обнадежили меня… Вы тогда не говорили о туршеке, енеге[114]…
— Три года назад?
— Да. Муж привозил вас ко мне.
— Я никогда не лгу страдающим, женщина, ибо ложь только увеличивает страдания. И твое чрево было таким всегда, уж поверь мне. Не могло же оно столь сузиться и засохнуть за каких-то три года. Но постой… Как, ты жена Годжука Мергена?!
— Да, енеге.
— Вай, какое несчастье… — Голос женщины дрогнул, глаза потеплели, и она с непривычным, видно, для нее сожалением качнула головой. И положила руку на плечо Айпарчи, — Я только потом узнала, кто возил меня в тот аул, и слышала о Салланчак-мукаме… Он от сердца, этот мукам. И я давно хотела услышать, как поет его сам Годжук Мерген: говорят, совсем не так, как слышанные мной его подражатели… Он тоже врачеватель, твой муж.
Она замолчала надолго и потом сказала:
— Ты прости меня. И своего мужа тоже. Он, видно, хотел как лучше…
Айпарча встала, безмолвно поклонилась и вышла. Большего ей не мог сказать никто, 11
11
Женщины возвращались домой молча. На первые расспросы подруги Айпарча сказала только одно: знахарка не обещает, что будут дети… Еще никогда Гюльджемал не видела ее такой подавленной, и поэтому даже у нее не хватило смелости узнать что-нибудь еще. Так дошли они до первых полей аула, свернули на узкую в живом заборе красноватой колючки тропинку и перешли арык с еле слышно журчащей по дну мизерной водой. Гюльджемал наконец нарушила их молчанье: — Давай-ка присядем, подруга, передохнем. Не тужи, у тебя есть большое дитя — муж твой… И тут Айпарча, как ни крепилась, упала ей головой на плечо и зарыдала… Они долго сидели на бережку арыка. Айпарча рассказала ей все, с самого начала, и теперь, опустошенная, с потухшим взглядом, не могла ни слышать, казалось, ни видеть ничего, кроме этого светлого бормотания воды… — Да, это он… — горько, с какой-то тоской сказала Гюльджемал, ее глаза бесцельно шарили теперь по верхушкам дальних деревьев, где был аул, — Он любит тебя. А я… Не буду, не могу я уже здесь жить! Сил моих не хватает!.. — Ну что ты, Гюльджемал… — Айпарча будто очнулась, стала гладить ее руку. — У тебя есть сын, ты молодая и красивая, как пери… да, как райская дева, когда улыбаешься. Джигиты заглядываются на тебя, не говоря уж о вдовцах. Ты еще найдешь свое счастье, и дети будут у тебя… — Ты все о своем — «дети»… Когда у Кер-оглы, героя-предка нашего, спросили, что ему хочется больше иметь, коня или наследника, он что пожелал?! — Коня… Но то ведь мужчина. — Мужчины больше нашего хотят наследника. Нам нужны дети, а им — наследники… Но аллах дал Годжу-ку больше, чем коня, — он дал ему волшебный дутар! А тебе дал его любовь. А ты все никак не научишься гордиться своим мужем, этими дарами небесными. Только и твердишь свое бабье — «дети, дети»… Если уж на то пошло, то и Кер-оглы не объявил талак[115] своей Агаю-нус-пери, хоть та не рожала ему, а усыновил Овеза, сына Булдура-мясника… что, разве не помнишь? — Помню, — еле слышно произнесла Айпарча. Ее поразила и горячность подруги, и эти слова, их горечь и уже ничем не скрываемая зависть: «А она ведь, бедняга, страстно завидует мне, как я раньше не замечала… И завидовать есть чему, она права. Мы не имеем детей, но кто помешает нам быть всегда над колыбелью? Мы будем встречать детей… я научусь, я все выведаю у этой старухи, принявшей на руки не одно поколенье, облегчившей столько материнских мук. Годжук будет доволен мной, я постараюсь… Но как хочется вырастить свой, родной росточек, — о аллах!..» И тут мысль — почти безумная, запретная — мелькнула у нее… Мысль, как она потом поняла, неисполнимая, невозможная ни для подруги верной ее, ни для мужа, ни тем более для нее самой. Но так горько было ей, в такой растерянности и тревоге металась душа ее, что тогда она показалась Айпарче самой простой и нужной им всем… И вдруг с силой сжала руку Гюльджемал и лихорадочно, бессвязно заговорила, торопясь и путаясь в словах: — Гюльджемал, родная моя… ты ведь мне подруга, да?! Ты согласишься, я знаю… ты должна согласиться! Ты ведь подаришь нам… подаришь нам с Годжуком маленького? Я согласна, будь гуни[116], будь вместе с нами… но подари! Ты права, я баба, я совсем истосковалась, но ты ведь не откажешь мне? Ты только согласись!.. Гюльджемал, широко раскрыв глаза, смотрела на нее; а потом выдернула руку, резко встала и, глядя уже с ненавистью, попыталась сказать что-то, но не смогла… И быстро пошла, почти побежала к аулу. «Что ж я наделала!.. Что наговорила ей… как будто с ума сошла. Что-то совсем я запуталась, ничего не могу понять. Я ведь оскорбила ее, жестоко обидела. Да-да, оскорбила… будто кость собаке бросила, а разве я не видела, как почитает она Годжука… Почитает? Нет, безумная женщина, нет, здесь не одно только почтение… Но что ж мне теперь делать? Надо попросить у нее прощения, она поймет и простит, я знаю. Какая же я все-таки баба…» Растерянная, обессиленная всем свалившимся на нее в этот день, она пришла домой, попыталась было заняться, отвлечься мелкой домашней работой, которая никогда не кончается, но все валилось из рук. Она предложила Гюльджемал быть младшей женой, гуни… да разве бы вынесло это твое сердце?! Поистине небеса отняли у тебя разум и вынули душу, если ты сама предложила поделить свою любовь — Годжука поделить… Поделить глаза его, чуть усталые и добрые, руки ласковые, горячие губы, шепчущие то, о чем знаете только вы вдвоем… о безумная! Да и какая женщина не клянет в душе это узаконенное шариатом, выдуманное жеребцами многоженство?! Тяжело оно женщине, как тяжело! Ты ведь помнишь нехитрый и откровенный рассказ своей бабушки о том, как женился второй раз ее муж, твой дед? Помнишь свое горячее девичье сочувствие бабушке и почти ненависть к деду за эту его жестокость?! «Когда совершали их «ника», — спокойно, не пряча глаза, рассказывала бабушка, — я бродила вокруг кибитки в таком страшном душевном расстройстве, что даже не почувствовала, как упустила мочу…» Ты ляжешь сейчас, отдохнешь, сказала она себе, а потом пойдешь к Гюльджемал и попросишь у нее прощения. Попроси, чтобы постаралась она забыть эти твои слова, будто их и не было между вами. И заживете по-старому, ибо что вам делить?.. Усталая, она уснула сразу, но тревога и во сне не покидала, не отпускала ее. То ей снилось, что все спорит она о чем-то с женщиной-тебибом, то будто бы пытается перегородить своим телом, задержать и в арыке, и в теле своем его светлую и прохладную животворящую воду, но это ей никак не удается, вода проворна, текуча и неуловима, журчит и журчит… Но вот ей снится Год-жук в белой папахе и в том самом красном свадебном халате, что был на нем десять лет назад. Он стоит об руку с белолицей дородной женщиной, но это не Гюльджемал, нет, и над ними совершают обряд «ника». Айпарче все равно, кто стоит сейчас рядом с Годжуком, — главное, она нашла наконец-то ему счастье, теперь у него будет все, о чем он мечтал. Айпарча довольна, но отчего-то сильно, под самым горлом бьется у нее сердце и так перехватывает дыханье, что даже больно и жарко в голове. А собравшиеся люди что-то кричат, хлопают в ладони — уж не смеются ли они над женщиной, в дом которой привели гуни?! — и средь всеобщего гама и разноголосицы доносится до Айпарчи: «Лейте воду в туйнук! Снимайте кошму, камыш сбросьте!..» Зачем лить воду в туйнук, недоумевает она, зачем снимать кошму, сбрасывать камыш? Они что, хотят опозоритьГоджука, его молодую жену?! Что плохого сделали они людям?.. «Айпарча… куда подевалась Айпарча?!» — кричат со всех сторон, и она опять удивляется: да вот же я, никуда не подевалась… Она просыпается оттого, что кто-то грубо хватает ее за руку и тащит, — куда тащит, Айпарче не понять, но все кругом в едком сером дыму, забившем ей горло, не продохнуть. Ее выталкивают в дверь, она чуть не падает — и вот наконец она среди сбежавшихся людей, кибитка горит, чадит на всю улицу, а у людей в руках бурдюки, кумганы, что попало. Льют, плескают, режут веревки и стаскивают тлеющую кошму; джигиты по очереди ныряют в окутанную дымом дверь, выносят что под руки попадется. Вот один из них выскочил с каким-то чувалом и с длинным ружьем — тем самым, что подарил Караул… — Ничего, дочка, — успокаивает кто-то ее, — огонь — это к добру, не расстраивайся. Погасим!.. — Да-да… главное, сама цела. От воды кибитка шипит, темнеет, еще сильнее окутывается дымом. Джигиты, кто помоложе и отчаянней, заскакивают в нее с кумганами, тушат уже изнутри. Несет горелой шерстью, чадом смирённого огня. Люди встревожены, шумят, высказывают догадки: — Неужто за очагом недоглядела женщина?! — Да он далеко от кибитки. Угли в нем еле теплятся… да, еще утренние угли! И ветра нет. — Постойте, а где начало гореть?! — Да-да, надо получше посмотреть… Айпарча, не в силах от волнения произнести ни слова, растерянно и благодарно кивала всем. Загораться кибитке было не от чего, в этом соглашались все. Но вот один старик, обходя ее, быстро нагнулся, отвернул кусок кошмы на задней стенке. И высоко поднял, показал всем найденное: это был обгоревший пучок камыша… — Подожгли!.. — Но кто? — Кому понадобилось поджигать бедные пожитки нашего славного мукамчи?! Долго еще не смолкали слова тревоги и возмущения. К этому времени сюда сбежались все аульчане, даже немощные старики приползли-приковыляли. Айпарча наконец опомнилась, стала прибирать разворошенное жилище, ей помогали. Эта мысль не выходила из головы и у нее: кто?.. Кому, в самом деле, понадобилось и за что мстить им, никогда еще ни с кем не ссорившимся? Наконец она вспомнила, что хотела сходить, отдохнув, к Гюльджемал… где она, почему Айпарча ее не видит среди людей? Ее, верную подругу, готовую помочь в любом деле?.. Гюльджемал нигде не было видно. «Да это же она!» — вдруг стало ясно Айпарче. Она, и никто другой, разве ты не знаешь характера ее? Все поняв, Айпарча почему-то думала об этом спокойно уже, даже с каким-то облегчением: нет у них врагов в ауле. А Гюльджемал… Что ж, виновата в том не она, а ты, хоть и невольно, но глубоко оскорбившая ее. И прощенья ты у нее все же попросишь. Ты же знаешь, что и она покается в том, что сделала… Вечером, идя к ней, Айпарча узнала от судачивших на улице женщин, что Гюльджемал куда-то пропала. Еще в середине дня привела своего мальчика к свекрови, у которой он, окрепнув малость, почти что и жил. Поцеловала сына (так рассказывала свекровь), что делала нечасто, — недолюбливать стала в последнее время тронутого какой-то нездешней тоской мальчика, и ушла, ничего не сказав. И вот уж ночь скоро, мазанка не закрыта, а ее нет… Гюльджемал не объявилась ни на второй день, ни через неделю, ни через годы.12
В соседней кибитке рождался ребенок. Новый человек рождался с трудом, но еще труднее было его рожать. Старому Годжуку Мергену хотелось, чтобы труд рождения на земле повторялся как можно чаще. Уже полдня то затихает, то опять начинает трудно стонать женщина, но разродиться никак не может. Полдня не отходит от нее Айпарча, стараясь облегчить муки, помочь, но все повивальное искусство ее пока бессильно. Но счастье должно быть выстрадано, знает старый му-камчи, иначе оно не будет счастьем. Сквозь стоны женщины до ушей старика доносятся какие-то новые звуки. Нет, это пока не голос нового человека, это что-то другое. «Кууг… кууг… Коурлы!.,» Гулко, печально отзываясь во всем, плывут над весенней степью эти родные звуки, и душа откликается им — журавли… Да, это они. «Когда пролетают журавли, отвори двери дома, ведущие в красный угол», — подсказывает народное поверье. Годжук Мерген смотрит вверх, на разделенный крестовиной туйнука кружок прозрачного неба. Вот и последняя весна твоя, Годжук, последние журавли — увидишь ли их, пролетающих обратно?.. На неделю-другую раньше появились нынче они, но это и к лучшему: кто знает, есть ли она, эта неделя, у тебя?.. У людей давно принято просить тебя дать имя новому человеку — что ж, пусть, плохого имени ты не дашь. И если в соседней кибитке родится сегодня мальчик, то ты так и назовешь его — Дурнагельды[117]. Или Дурнакули. А если девочка, то пусть имя ее будет Дурнагозель. Сколько дорог и караванных троп ты исходил от Лебаба до Хазара, но имени такого, кажется, еще не встречал. Вот пусть и приживется оно на родной земле. Он снова и снова перебирал свои палки-оклавы с метками-жизнями на них — да, прибыло туркмен, многолюдней стали аулы, шире возделанные поля, многочисленнее отары… Это, пожалуй, главное, что унесет он с собой и о чем расскажет, чем порадует предков, во встречу с которыми он верил. И хоть нет еще столь желанного единства в них, но уже скрипит вся и расшатывается неправедная власть завоевателей под неповиновением окрепшего народа, разъедает ее тоской незаслуженной роскоши, бессильного насилья, — и что перед этими благими вестями жизнь его, старого мукамчи?.. Лекарство от болезни, его поразившей, есть, он давно наслышан о нем; в народе, передали ему, уже собрали немалые деньги, послали в шахский город людей, и он, Годжук Мерген, прикованный теперь к своей старой кибитке, воспрепятствовать этому не мог… но что, кроме нескольких лет его старческого бессилия, даст это им, людям? Конечно же он, как и все, хочет жить и видеть, что будет дальше. Но ведь нет же лекарства от дряхлости, как нет эликсира бессмертия. А если бы и были?.. Думать о том, чего нет и не может быть, бесполезно, и он хочет одного: следовать тому же закону, которому следуют все, ибо идти со всеми по одной преходящей дороге жизни куда утешительней и легче, чем в одиночестве по звездной тропе бессмертья… Айпарча говорит, что и Черная Нищенка взялась за поиски лекарства… Странная женщина. Жена встретила ее в степи, за аулом, куда ходила доить верблюдицу. И не одну, а вместе со старым гедаем — с тем, кто одним из первых услышал и благословил Салланчак-му-кам… Они сказали, что знают, у кого есть это редчайшее в свете лекарство. И что отныне у них нет иного желания, как достать его. Не для бренного тела Годжука Мергена, сурово добавил гедай, но для его дутара, который звучит всем. Не для мукамчи, но для всех. В своих странствиях по земле туркмен Годжук Мерген не раз встречал и гедая, и эту странную, непохожую на других просительницу милостыни — Черную Нищенку. Впервые увидел он ее лет через пять после переезда в предгорный аул. Как-то далеко в пустыне, в небольшом селении-оазисе был он на празднестве, посвященном рождению сразу троих малышей. Уже, после всех необходимых ритуалов, повесили в заполненной народом кибитке три колыбели, уже начал он брать первые ка-кувы колыбельного мукам а, когда снаружи вдруг донеслось: — Руки ей… руки скрути! — Пробираться вздумала, негодница!.. Хозяин кибитки разгневанно вскочил, выглянул в дверь: — Кто посмел там кричать? Что это значит?! — Да вот, кралась… Отведите ее к бахши. Пусть разберется, мало ли что… Голоса были встревоженные, даже грозные. Двое джигитов ввели, придерживая за руки, высокую босоногую женщину в темной накидке, под густой паранджой, и в ожидании стали. Кто-то сзади них возбужденно говорил» — Она околачивается здесь с тех пор, как прибыл наш бахши. Кто знает, что у нее на уме… — Выпроводить ее, пусть следует своей дорогой! — Ну, зачем вы так, — укоризненно, с неловкостью перед ней сказал он. — Отпустите же ей руки. Она ведь женщина, а вы джигиты… Каждый из нас по-своему нищий… Годжук Мерген сочувственно смотрел на нее, на ее почерневшие, в струпьях ноги, огрубевшие настолько, что уж не нуждались, видно, ни в какой обуви, на грязно-черную, подпоясанную гнилой веревкой одежду, больше схожую с мешковиной, — и опять на ноги ее с загнутыми, темными от грязи ногтями: скорее звериными, нежели человеческими, были эти ноги… — Сядь, сестра… Кто ты будешь, откуда? Неужто нет у тебя ни родственников, ни родины? Где был дом твой?.. Плечи нищенки вздрогнули, она еще ниже опустила голову. И глуховатый, будто пересохший от жажды голос ее из-под паранджи, помедлив, ответил: — Дом мой — эта степь, бахши. Постель моя — пески, одеяло — вот это небо над нами, о бахши… Другого не знаю. — Ты голодна, наверное? — Голодным среди туркмен не останешься. — Что привело тебя сюда? Что-то искала ты здесь, сестра? — Душу, великий мукамчи. Свою потерянную душу… — Как ты ошибаешься, женщина… не великий я. Только одно я великое знаю — что все мы равны перед жизнью. А душу… Нет, ничего я не смогу тебе сказать, посоветовать. Каждый сам ее теряет, сам и находит. Что ж ты хочешь сейчас, на этом празднике? — Ничего. Если только позволишь, бахши, я посижу здесь, послушаю тебя… — Да разве я могу не позволить, сестра?! Я рад тебе, как рад любому слушателю… Садись и слушай. И зазвенел, запел дутар — и будто раздвинулась тесная кибитка, отдав стены горизонту и купол свой небу; или, может, это весь мир стал огромной кибиткой, домом человеку и всему живому, и под самым его туйнуком небесным потекла, заструилась, как в мареве, песня, музыка…
И зазвенел, запел дутар — и будто раздвинулась тесная кибитка, отдав стены горизонту и купол свой небу; или, может, это весь мир стал огромной кибиткой, домом человеку и всему живому, и под самым его туйнуком небесным потекла, заструилась, как в мареве, песня, музыка…
Ты родился на этой священной земле, На прекрасной земле, на злосчастной земле.
Низко склонившись над дутаром и покачиваясь, пел мукамчи о всех, пришедших на эту землю, родством жизни самой, ее счастьем и тоской объединенных, — о человеке пел:
И в предутренней мгле неизвестны пути, Что в грядущие годы придется пройти.
О явившийся в мир! Может быть, это ты Станешь словом земли, воплощеньем мечты.
До тебя ей пришлось испытать маету, Век от века копить суету и тщету.
Если б вовремя ты не явился на свет, Веткам сада пришлось бы плодить пустоцвет.
До тебя было делом привычным ее В братских распрях кормить в ковылях воронье.
Ты — бальзам наших душ, наша радость, и боль, И надежда, и вера, и свет, и любовь!
О рожденные в муках под вечной звездой Средь надежд и печалей пустыни седой, —
Сын, ты ночь на земле помоги превозмочь! Освети эту землю терпением, дочь!
Так кричи же, младенец, в кромешной ночи, О любви и надежде народа кричи!
Пел и, подымая голову, видел все разгоравшуюся сквозь темную, как горе, паранджу сияющую двойную звезду — там, где свет глаз скрестился со слезами, преломился в слезах… И эта двойная звезда вела мукамчи, из темных перепутьев души человеческой выводила на простор и сама же была самой лучшей наградой за этот тяжелый и долгий путь… К ночи ближе, когда праздник продолжался уже на улице селения, нищенка осторожно поднялась и тихо отошла от толпы пирующих. Ее провожали лишь глаза Годжука Мергена. Она шла небыстро и все отдалялась, отдалялась, пока совсем не растворилась в подступающей темноте пустыни. И никто не знал, кто она и куда шла. И никто об этом не спрашивал.
13
Перебирая палки-оклавы с метками человеческих жизней на них, далеко унесся мыслями старый мукамчи. Из забытья вывел его детский голос с порога; — Ата, саломалейкум!.. Старик повернул голову ко входу, пригляделся. Мальчик лет семи робко поглядывал на него, не решаясь пройти дальше. — Валейкумэссалом, сынок! — Он обрадовался, что появилась наконец-то живая душа возле него. Всю жизнь провел он с людьми и не любил даже краткого одиночества — кроме разве что случаев, когда складывался, рождался в душе новый мукам. — Что же ты остановился? Проходи и садись, будь гостем, раз пришел. Гость — это дар судьбы, и не должен он стесняться. — И шутливо добавил: — Пусть хозяин суетится, а не гость… Мальчик учтиво, как его учили, поклонился и прошел в кибитку, сел перед хозяином. — Кто же ты будешь, сынок? Что-то не помню я тебя средь ребятни аула. — Мама сказала, ата, что ты меня вспомнишь… — А кто же твоя мать, кто отец? Откуда вы? — Мы приехали вчера только… мы будем теперь в вашем ауле жить. Как твое здоровье, ата? Мама мне сказала… Велела мне спросить, можно ли ей с отцом прийти к тебе сегодня? — Конечно, сынок. Мой порог никому не заказан. Но кто же вы? — Мы… мы дехкане. А мама сказала, что ты все вспомнишь, если я скажу… — Мальчик поднял глаза к туйнуку, старательно припоминая. — Если я скажу про несъе-мукам[118]… — Несъе-мукам?!.. В долг? Кому же это я мог дать песню в долг?.. Ах, вон оно что! А я уж и совсем было забыл про это. Да, был такой Салланчак-мукам, спетый в долг… Так ты, выходит, сын ее?! — Годжук Мерген тихо и счастливо рассмеялся. — Ах, как порадовал ты меня, сынок!.. Ты живешь, мальчик мой, и что мне еще надо?! И у тебя есть братишки, сестренки? — Да, ата. Целых двое. Но они маленькие еще. — Целых двое?! — Старый мукамчи сам радовался как ребенок. — Надо же! Да-а, я спел колыбельную над тобой, когда тебя, сынок, еще и в помине не было… Дай мне хотя бы дотронуться до тебя. Какой ты большой, совсем уж джигитом стал… И поднял свою немощную руку, ладонью коснулся теплых волос немного растерянного, удивленного и почтительно глядящего на него мальчика… …Шла по туркменской степи весна, ярким и скоротечным цветением устилая свой путь, свежий, еще не истомленный зноем ветер шумел в нарядных от первой зелени саксаульниках, призывно свистели птицы. А люди работали, торопясь не упустить весну, подготовиться к нелегким испытаниям лета, не менее беспощадного здесь ко всему живому, чем зима. Люди чистили колодец, оберегая воду — защитницу, покровительницу всей здешней жизни. Молодой Нуркули-ученик, всего две недели назад женившийся, спускается на веревке в колодец, чтобы привести в порядок обвалившуюся в одном месте его стену. Опускается на глубину тридцати человеческих ростов, а колодезный мастер Махмуд-уста и его помощники понемногу отпускают веревку. Стены колодца выложены-переплетены салемом — толстым саксауловым и иным хворостом; и, кажется, нет им, идущим вглубь, конца… И вдруг там, во тьме, где должны быть вода и дно, рождается и нарастает какой-то зловещий гул, а вместе с ним надсадный скрип стен… Не впервой спускаться Нуркули в глубину, в самое водоносное чрево матери-земли, — но впервые слышит он эти неведомые и грозные глубинные звуки. «Махмуд-ага, колодец стонет!.. — кричит он, не сдерживая уже страх свой, вверх, к недостижимо далекому, кажется, теперь, окошку неба, весеннего света… — Он стонет, уста!..» — «Да-да, слышу… мы поднимаем тебя, сынок, — держись!..» Но гул и скрип разрастаются, захватывая все и глуша, будто это сама вселенная скрипит и расшатывается вся… зловещие струйки песка текут, змеятся, сливаются в тяжелые потоки, рушатся на него, затмевая последний свет, — и с тяжким вздохом, с хрустом и треском сминаемого салема проседает земля и замолкает. Замолкает навек… Будто сам все это видел, испытал на себе Годжук Мерген — так явственно слышат уши гул этот утробный, жуткий, видят глаза тяжелые, захлестывающие потоки песка… Да, не приведи аллах никому увидеть это, рассказанное ему совсем еще молодой женщиной. Он встретил ее, возвращаясь домой из дальней поездки, на улице одного из аулов вдоль гор. Он только что въехал в аул и изнемогал от долгой жажды, а она шла с кувшином на плече от источника. Считалось неприличным просить напиться воды у девушки или молодой женщины, но Годжук Мерген мог оправдаться возрастом своим, а еще более — жаждой. — Сестренка, — сказал он, подгоняя заморенного коня и равняясь с ней, — ты бы напоила старика… Все во мне пересохло, даже и мысли… Услышав чужой голос, женщина вздрогнула так, что это было заметно и под темной, какой-то траурной паранджой. Но дело было вовсе не в цвете одежды, нет. Годжук Мерген каким-то иным чутьем отметил другое — как идет она понуро, чуть сгорбившись, как занята чем-то своим, нелегким, если даже не услышала копыт его коня… Так ходят люди в несчастье. Она молча и быстро, будто испугавшись, подала ему кувшин, оглянулась вокруг. — Да ты не бойся меня, дочка, — сказал он жалеюще перед тем, как прильнуть к долгожданной воде, — я старый путник, только и всего. Все кости свои порастряс на этой неровной земле предков… И, напившись наконец, утерев лицо полой своего халата и все глядя внимательно на нее, сказал: — У тебя, я гляжу, какое-то горе… Поделись, сестренка, легче станет. — А… а вы не Годжук Мерген, агам[119]? — Почему ты так решила? — Не знаю… У вас дутар за спиной. И в том самом красном чехле, о котором все говорят. Мукамчи все знают, как Ходжу Насреддина… Только я не видала ни разу. — Ну, куда мне до Ходжи Насреддина, милая… Мой дутар в тысячу раз тише его остроумия, а с его добротой никому не сравниться… Так ты пригласишь меня к себе, чтобы мы с конем хоть немного отдохнули друг от друга? — Конечно, о благой мукамчи!.. Никак не мог привыкнуть Годжук Мерген к тому, как возвышают люди его имя. Он как мог обрывал подобные речи, уходил от них, порою хитрил, лишь бы избавиться от этих лишних и никак ему, просто человеку, не подходящих пышных словес и лести. Сама душа его тихо и упорно сопротивлялась всему, что вольно или невольно отодвигало, отстраняло его от людей, пыталось поставить его выше их. Это было бы прежде всего несправедливостью, а ее он не любил больше всего на свете… Но сейчас он лишь усмехнулся, качнул головой. — Вы смеетесь… Я что-нибудь не так сказала, агам? — Ты меня величаешь, как величают какого-нибудь муллу, когда боятся, что он сдерет за обряд втридорога… Я не мулла, дочка. — Ой, я не хотела… — Значит, не величай никак. Так что стряслось у тебя, милая? И она, сбиваясь иногда, сдерживая подступающие слезы, рассказала ему о гибели мужа, о его так рано угасшей, считай — непрожитой жизни… — И вот Махмуд-ага поставил мою кибитку рядом со своей, и все они помогают мне, но… Но уста, как и двое моих братьев, свято чтит шариат, и уже третий год живу я не на этой земле, как в гостях. Видно, век мне, агам, сторожить тут наш с Нуркули потухший очаг… — Но что ж они, не знают нашей поговорки: «Муж умер — жене талак»?.. — Знают… Но они чтут шариат, — с безнадежным вздохом повторила Айджемал, дочь Пурли, как назвала она ему себя. — И я сама не хочу, боюсь… не хватало мне еще небесного проклятья. Такая, видно, судьба у меня, агам… — Ну, на судьбу есть аллах… А что, Махмуд-уста дома сейчас? — Нет, какое там… Бедняга целыми днями ищет воду, роет землю, чтоб не пропасть с голоду. Возвращается домой лишь раз через три пятницы. Боюсь, что и его проглотит какой-нибудь проклятый колодец, как Нуркули. Останусь тогда совсем одна, братья ведь далеко… Ой, что же это я несу перед закатом солнца?! Прости и помилуй, о аллах… И в испуге — чур меня! — схватилась за ворот платья. — Так, значит, не скоро он вернется? — Через неделю, не раньше… Только прошу вас, агам, ничего не надо говорить ему, просить… совсем заругает меня он тогда. — Но ты-то сама как, дочка? Неужели так уж думаешь просидеть здесь всю жизнь, доить чужих верблюдиц и шевелить угли в чужом очаге? Или ты, в расцвете своем, не хочешь замуж, не хочешь детей и какого-никакого счастья себе? — Не хочу, о агам… боюсь, — потупилась и тихо сказала опять молодая женщина. И, помолчав, добавила: Ничего, я уже привыкла. Как-нибудь проживу… Да, судьба ее, до конца дней определенная шариатом, была как лист бумаги: наверху написано имя ее и загубленного жизнью мужа — а дальше пустота, одиночество, в лучшем случае — старость приживалки при невестках, волей-неволей сварливых от тяжелой жизни… Беспощаден шариат к слабым мира сего, навеки приковывая их, женщин, к горю своему, не к человеку уже, а лишь к имени, к вздоху, давно рассеявшемуся над тяжелыми песками пустыни… — Нет, дочка, ты несправедлива к себе, а значит, не права… Уже не знаю, прав ли шариат, об этом не мне судить, — но зато уверен, как в своем дутаре, в том, что и Махмуд-уста, и твои братья не правы. За ними нет справедливости жизни, вот в чем дело, и ты сама чувствуешь это, знаешь, иначе бы не была так несчастлива. А справедливость в том, что ты на земле живешь всего лишь раз, и надо эту жизнь прожить не как-нибудь, а с пользой для себя и для всех. Справедливость в том, что ты имеешь право не только на одни несчастья, но и на счастье тоже, человеческое и материнское. Справедливость в том, что земля наших предков, как никакая другая, нуждается в твоих сыновьях и дочерях, в дехканах и скотоводах, в покровителях и защитниках. Ты разве не знаешь, что когда-то наши предки жили в чудесной, вечно зеленой стране, где не было ни этого лишнего зноя, ни холодов, где вволю воды для всех, а горный воздух благоуханен и исцеляющ?! Знаешь, дочка… Но коварные завоеватели прогнали туркмен в эти бесплодные губительные пески, в безмолвную пустыню. Что же нам оставалось делать, как не принять эту землю, не назвать ее родной… Да, она родная нам, кровью и потом нашим обильно полита за столетья, заселена и обжита, на ней уже века произрастают наши сады и хлеб, наши надежды на лучшие времена. А ты есть ведь семечко ее садов, зернышко ее хлеба… и что бы сказали твои предки, увидев твое зернышко не в борозде от кетменя, а в придорожной пыли без пользы пропадающее?! Что они думают, глядя сейчас на тебя с высоты их мира?.. Он говорил с ней мягко, как с маленькой, опасаясь спугнуть ее веру в слова свои, в справедливость того, что он сумел понять за свою долгую жизнь, что давно стало его собственной верой. И даже сквозь паранджу видел, как растерялась она от неожиданных для нее слов столь почитаемого всеми человека… Как, неужели ж этот старик, умудренный своими годами, не знает до сих пор суровых заповедей шариата? Такого не могло быть, конечно; но страшновато было видеть молоденькой женщине, как он просто и спокойно, ничуть не боязно отодвигает этот роковой для нее запрет — так дехканин отстраняет ветку в своем саду, чтобы пройти туда, куда ему нужно… Конечно же Айджемал знала и видела, как пренебрегают этой заповедью родственники. Но чтобы такой человек, как мукамчи Годжук Мерген, поступал точно так же… С детства слышала она, какой он добрый и справедливый, и ей всегда казалось, что живет он, должно быть, примерно и старательно, не нарушая ни один из законов этой жизни… — Лишая счастья себя, ты лишаешь счастья и свою землю, свой народ… Ну сама представь, дочка, что станется, если таких, как ты, будет много в нашем краю? Сколь тяжела тогда станет жизнь, и без того тяжелая и скорбная?.. Нет… для нашей земли женщина понужнее мужчины будет, без ее спасительных рук засохнут на корню старые роды и племена, остынут очаги, хлеб очерствеет… Разожги свой очаг, Айджемал, не бойся. Люди поймут, а предки заступятся за тебя. И я буду готов ответить за тебя не только перед любым муллой, но и перед самим аллахом… Только так, чувствовал Годжук Мерген, надо было говорить с ней, только на этом, внятном ей, языке… — Я понимаю, бахши-ага… спасибо, я понимаю. Но мои братья и Махмуд-ага… — Об этом я и хочу позаботиться. Хватит ли чаю у тебя для гостей, хозяюшка?.. — Хватит, бахши… — Тогда позови-ка соседей. Они, я думаю, не откажутся послушать мой дутар. А я рад буду увидеть их и, при случае, словечко замолвлю за тебя… — Вай, как неловко мне… Такой почет — и моей бедной кибитке… Здесь найдутся куда богаче, приличней вам, бахши-ага. — Моя кибитка ничем не богаче твоей. Что же ты стала? Иди же. — Я… Я не знаю, бахши, как можно говорить то, что вы хотите сказать. Я пропаду от стыда. Я боюсь. — Мы все боимся, дочка, но от этого судьба не становится к нам добрее. Ничего, милая, — и он добро усмехнулся ей, кивнул подбадривающе: — Иди. Люди у нас хорошие, поймут… Весточка о том, что Годжук Мерген в ауле, мгновенно разрослась и стала всеобщей вестью. Сбежались, сошлись все, кто мог. Да, он сам пришел к ним — тот, кого чуть ли не на руках носили из аула в аул, кого к иному богатею приглашали чуть ли не с помощью вооруженных всадников… Он приехал сам в беднейшую из кибиток аула на своем смирном старом коне, у которого из всех лошадиных добродетелей осталась только одна — терпеливость. Приехал, мало заботясь о том, чтобы предупредить их, избегая всякого шума, как приезжает любой усталый путник, каких много в степи… Такие мысли читал Годжук Мерген в почтительных и восторженных глазах собравшихся людей, и ему, как всегда, было и неловко от этого, и радостно, что музыка в его разрозненном еще народе так единит их… За общим чаем перед кибиткой, пока на многих домашних очагах аула готовилось угощенье, время летело быстро: есть о чем поговорить, что неторопливо рассудить работающему от зари до зари народу… Не один мукам прозвучал, не одна новость степи была рассказана, когда наконец Годжук перешел к главному сейчас для него, для молодой хозяйки чаепития: — Меня часто спрашивают о заботах и печалях нашей земли. Мне говорят: ты много ездишь по ней, много видишь и слышишь — какая боль наша самая больная? Какая печаль всего печальнее? И я отвечаю: боль наша, не утихающая ни днем ни ночью, — проклятая рознь, насылающая роды на роды, выжигающая селения и милосердье в сердцах… А печаль… Сколько ни ездил я, но ничего печальнее потухшего очага и невозделанного поля не видел. И вот я в который раз сижу у потухающего очага, едва согревшего нам чай, и вижу плодородное, но заброшенное, забытое водой поле… Вы пригласили сейчас меня спеть Салланчак-мукам над двумя сразу колыбелями, и я рад не слезать с коня, лишь бы почаще оглашал нашу бедную степь первый младенческий крик. Но в этой кибитке, первой приютившей меня в вашем ауле, колыбели висеть почему-то заказано. Но поле это, куда плодороднее многих иных, будто проклято кем — для чего и зачем оно проклято?! Какая польза в том земле нашей, что оно будет пустовать до скончания дней? И где справедливость, мать истины?! Я не вижу ее, и душа моя в печали, в тоске. Годжук Мерген обвел глазами притихших людей, словно желая убедиться, до всех ли дошел смысл сказанного. И продолжал, уверенный уже, что его поймут. — Я сейчас пойду в жилища тех, кого посетила радость отцовства и материнства. Но сначала мой дутар исполнит колыбельную в этой кибитке, которая по чьему-то неразумению лишена этой радости… Он еще ни разу не звучал над пустой колыбелью, но сегодня я изменю обычаю. Передайте Махмуду-уста, передайте братьям этой молодой женщины, что Годжук Мерген сыграл им Салланчак-мукам в долг… И не столько я сам, сколько земля наша оскорбится, если долг этот не будет возвращен. Так слушайте же несъе-мукам… …И вот он перед его глазами, возвращенный долг. — Ах ты, радость моя!.. — тихо смеется Годжук Мерген и гладит теплые, пахнущие детством волосы мальчика, доверчиво и с любопытством глядящего на столь известного во всех краях, но такого немощного сейчас на вид старика… — Как же зовут тебя? — Нуркули, ага. — Нуркули… Ты уже, должно быть, помогаешь во всем дома, присматриваешь за своими братишками? — Да, бахши-ага. И еще у меня дутар есть!.. — Дутар?! — изумился старый мукамчи. — Так ты что ж, уже и играть на нем умеешь? — Умею. Отец учит меня, он знает все твои мукамы. А я и свои сочиняю, только они коротенькие… — А ну-ка, ну-ка… — Годжук Мерген даже взволновался, таким неожиданным и отрадным было все это для него. — Сними-ка мой дутар… да-да, сними и неси сюда. — С перламутровым грифом?! — у мальчика дыханье перехватило от страха и счастья. — Другого у меня нету, сынок… А теперь вынь его из чехла. И сыграй мне свой мукам, Нуркули. Мальчик торопливо освободил дутар от чехла и замер, очарованно глядя на переливавшийся перламутром гриф. А старого мукамчи одолевало иное нетерпение, которому он не мог еще подобрать названия, объясняющих слов… — Играй же, сынок, не бойся… Необычно длинные и, сразу видно, чуткие пальцы маленького человека пробежали по струнам, словно выискивая что-то для себя, тронули один звук, другой… Они еще были несколько неловки, не вполне будто уверены в себе, эти тонкие пальцы, но уже были хозяевами дутара, и он покорялся им, отзываясь тихо, подбадривающе. Вот сделали они несколько ударов по струнам — какувов, вот мгновенно ответили на звук басымами — прижатием их к грифу. И вдруг затрепетали над струнами, замелькали — и отделилась от них, волною пошла по кибитке музыка… Она была совершенно незнакома старику, немного непривычна; но это было не баловство, не упражнения мальчишки, берущего иногда дутар и подражающего взрослым, — это была музыка…В степи по весне не сочтете цветов. Под осень в садах не сочтете плодов. Немало красавиц знавал белый свет. Но лучше тебя, мама, все-таки нет.
В степи очень много горячих коней и сабель блестящих, что лезвий острей, и храбрых джигитов не счесть, наконец. Но всех ты храбрей и отважней, отец.
Полузакрыв глаза, маленький человек замер на мгновенье, словно отделяя уже спетое от окончания, и его тонкий, еще рвущийся голосок опять зазвенел, довершил песню:
Мать очаг разожжет и замрет у огня. Мой отец оседлает в дорогу коня. Пусть в пути не оступится резвый тот конь. Пусть в родном очаге не погаснет огонь.
Старый мукамчи с радостным удивлением, как редкую находку, разглядывал мальчика. Обычно за дутар брались в юношестве, в человеческую весну, когда сердце теснит множество первых страстей, мир велик и прекрасен, а один взгляд девушки вознаграждает за все твои ученические старания… А тут впервые, кажется, встречает Годжук Мерген мальчика, не просто подражающего другим мукамчи и перепевающего старое, но уже сочинившего свой, пусть еще по-детски наивный, мукам. И была уже в этом чистом, как его голосок, мукаме своя стройность и своя, ни у кого не перенятая музыка… — Ай, молодец!.. Ты порадовал меня вдвойне, Нуркули, втройне… И много у тебя своих мукамов? — Еще нет, ага. — Мальчик старался сдержаться, радость от похвалы и смущение попеременно отражались в его больших блестящих глазах. — Мой отец говорит, что… Что много мукамов сочиняют только плохие му-камчи. — Он прав, твой отец, торопиться не надо. А ты мне споешь сейчас все свои мукамы… да-да, все! И если ты захочешь, я научу тебя кое-чему, потому что на дутаре надо учиться играть всю жизнь… Хочешь? — Хочу!.. Мама давно-давно мне говорит… мама тоже хочет давно, чтоб я играл на дутаре. — Давно? Вот и хорошо, мой мальчик. Вот и хорошо. А теперь подстрой-ка немного дутар, Нуркули. Как ты думаешь, какая струна подводит сейчас? Только не торопись, прислушайся… — Вторая — да, ага?.. — Правильно! И что ты будешь делать с ней — подтянешь или отпустишь?.. А женщина все стонала там, и мальчик иногда удивленно прислушивался к этим еле слышимым, странным для него звукам; и, ничего не поняв, опять склонялся над дутаром.
Последние комментарии
4 часов 14 минут назад
4 часов 18 минут назад
4 часов 28 минут назад
4 часов 34 минут назад
4 часов 36 минут назад
4 часов 39 минут назад