Сага о Вигдис и Вига-Льоте. Серебряный молот. Тигры моря: Введение в викингологию [Сигрид Унсет] (fb2) читать онлайн
- Сага о Вигдис и Вига-Льоте. Серебряный молот. Тигры моря: Введение в викингологию (пер. О. Дурова, ...) (и.с. Викинги) 4.86 Мб, 378с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Сигрид Унсет - Вера Хенриксен - Наталия Валентиновна Будур
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
ДЕВЫ БИТВ сборник
СИГРИД УНСЕТСага о Вигдис и Вига-ЛьотеВЕРА ХЕНРИКСЕНСеребряный молотНАТАЛИЯ БУДУРТигры моря
Редакторы Н. Будур И. Шурыгина Художественный редактор Т. Хрычева Технический редактор Н. Привезенцева Корректор Н. Мельникова Компьютерная верстка А. Павлов ЛР № 030129 от 02.10.91 г.Подписано в печать 31.07.96 г.Уч. — изд. л. 23, 54. Цена 18 000 р.Издательский центр «ТЕРРА».113184, Москва, Озерковская наб.,18/1, а/я 27.Девы битв. Сигрид Унсет. Сага о Вигдис и Вига-Льоте / Пер. с норвежск. Н. Будур. Вера Хенриксен. Серебряный молот / Пер. с норвежск. О. Дуровой. Наталия Будур. Тигры моря. — М.: ТЕРРА, 1996. — 408 е.: ил. — (Викинги).ISBN 5-300-00630-0В сборник вошли два романа, в центре внимания которых — судьба и роль женщины в обществе скандинавского средневековья. Один из романов принадлежит перу лауреата Нобелевской премии норвежки Сигрид Унсет (1882–1949), а второй — продолжательнице традиций знаменитой соотечественницы, Вере Хенриксен.Очерк «Тигры моря» поможет читателям составить более полное представление о мире материальной культуры норманнов.

К читателю
Почти всегда, когда речь заходит о викингах, мы вспоминаем о мужчинах. И почти никогда — о женщинах. Тем не менее женщины играли в обществе средневекового Севера далеко не последнюю роль. Когда муж отправлялся в викингский поход, хозяйкой усадьбы оставалась женщина. К женщинам относились с неизменным уважением, к их мнению прислушивались. И часто в мужских спорах последнее слово говорила женщина. В скальдической поэзии и сагах часто рассказывается о сильных и мужественных женщинах. Такие женщины заботились не только о своей чести, но и чести всего рода, и ради этого готовы были пойти на любые жертвы. Часто женщины были даже больше мужчин одержимы необходимостью — по кодексу чести норманнов — исполнить «обряд мести». Чего стоит история о Сигрид Гордой, которая сожгла надоедливых женихов, за что и получила свое прозвище! В очередной том нашей серии вошли два романа и иллюстрированный очерк «Тигры моря». Один из романов принадлежит перу знаменитой Сигрид Унсет, которая в 1928 году была удостоена Нобелевской премии по литературе «за запоминающееся описание скандинавского средневековья». «Вигдис и Вига-Льот» написан в подражание и по мотивам исландских саг… А «Введение в викингологию» поможет читателю составить представление о мире материальной культуры викингов. Счастливого плавания на викингских драккарах!Сигрид Унсет • САГА О ВИГДИС И ВИГА-ЛЬОТЕ


I
В Восточных фьордах Исландии жил один человек по имени Ветерлиде Глумссон. Летом он часто отправлялся за товарами. Сына его сестры звали Льот. Отца его, Гицура Хауксона из Скомедала, убили, когда Льот был еще ребенком. Ветерлиде с честью выполнил свой долг перед Гицуром, но об этом речь здесь не пойдет. Мать Льота, которую звали Стейнвор, умерла. Льота вырастил Торбьёрн Холегг из Эйре. Повзрослев, он переехал жить к Ветерлиде, который любил его как родного сына. Льот уже в пятнадцать лет ходил в викингские походы с сыновьями Торбьёрна и вскоре стал очень искусным воином. Все считали его умным человеком, верным и держащим свое слово, но он мало говорил и не очень спешил завязывать дружбу с людьми. После некоторых битв, о которых здесь тоже не будет речи, его прозвали Вига-Льот [1]. В то лето, когда Льоту исполнилось двадцать, он отправился с Ветерлиде в Норвегию. Они вместе владели красивым морским торговым судном, треть которого принадлежала Льоту.II
У Ветерлиде были родственники в Ромерики, которых он собирался навестить, и, кроме того, он хотел купить лес в Норвегии. Был уже самый разгар лета, когда они приплыли в Фолден. Их судно на веслах прошло между шхер там, где река Фрешья впадает в фьорд, потому что в тот день не было ветра и шел дождь. Но ближе к вечеру повеял легкий бриз. Ветерлиде и Льот стояли на носу корабля и смотрели на усадьбы, расположенные вдоль берегов фьорда. Когда-то там рос густой лес, а сейчас стояли дома. В устье реки покачивались рыбачьи лодки, и люди на берегу с опаской посматривали на приближающийся большой корабль. Ветерлиде окликнул их и спросил, откуда они. Когда люди поняли, что исландцы пришли с добрыми намерениями, они ответили, что работают в усадьбе Гуннара из Вадина, самой большой тут. Ветерлиде тогда спросил, не покажут ли они им дорогу туда сегодня вечером, и рыбаки согласились. Так они и сделали, и их корабль поднялся по реке, и один из рыбаков показывал им дорогу в Вадин. Было уже темно, когда они добрались до места. Гуннар сидел на почетном сидении в зале. Это был красивый рослый мужчина с длинными седыми волосами и бородой, которая покрывала почти всю его грудь. У очага расположились две женщины; одна из них подкладывала дрова в огонь; она была не очень молода и одета в темное платье, но с живым и красивым лицом. Другая, совсем молоденькая девушка, ничего не делала и просто сидела, сложив руки на груди. Ветерлиде вышел вперед и приветствовал хозяина, и когда рассказал о своем деле, Гуннар встал и пригласил его самого и его людей быть гостями в Вадине и приказал женщинам принести еду и питье. Тогда обе они встали, и старшей нашлось много дела, она крикнула служанок и послала их в пивоварню, а молодая просто стояла у огня и смотрела на гостей. И они смогли разглядеть, что она очень хороша собой, с тонкой талией и высокой грудью, и большими серыми глазами, а косы ее спускались ниже колен, они были золотыми, толстыми и блестящими, а руки ее, хоть и большие, были унизаны кольцами. Она была одета в платье из красной шерсти, красиво вышитое; а в волосы она вплела желтую ленту, и вообще, на ней было больше украшений и колец, чем носят женщины в обычный день. Старшая женщина вернулась в зал с рогом, наполненным медом, протянула его молодой и сказала: — Ты должна сказать гостям «Добро пожаловать в нашу усадьбу», Вигдис. Та, которую звали Вигдис, взяла рог и обошла всех за столом, сначала поднесла мед Ветерлиде, а затем всем остальным, и последним подошла к Льоту. Льот сначала сидел на скамье у двери. Потом отошел к очагу, потому что одежда его вымокла под дождем. Он хотел просушить свое платье и приподнял плащ одной рукой. Его черные волосы падали на лоб, но Вигдис удалось разглядеть его лицо. Когда девушка протянула ему мед, он выпустил край плаща из рук и, пока он пил, смотрел на Вигдис поверх края рога, и девушке, казалось, это было неприятно, потому что она с ним не заговорила, а просто приняла рог, повернулась и направилась к своему месту. Льот сел так, чтобы видеть Вигдис. Через некоторое время она встретилась с ним глазами, и быстро отвела свой взгляд, покраснев при этом. Но сразу же подняла глаза и долго смотрела на Льота, пока он сам не смутился. Тут на стол была выставлена еда, и ее было так много, что ужин больше напоминал пир. И Гуннар хотел послать своих людей сменить людей Ветерлиде на его корабле, чтобы они тоже могли отдохнуть. Ветерлиде поблагодарил его, но не успел он договорить до конца, как Льот сказал свое слово: — Уже и так поздно, и думается мне, что наши люди могут остаться в эту ночь на корабле и не доставлять лишних хлопот тебе, Гуннар. Тогда Вигдис засмеялась и сказала: — Этот исландец, видно, очень боится за свое добро. Гуннар строго посмотрел на нее и сказал: — Это очень хорошо, что исландец думает о наших людях, но вашим людям не помешает свежая еда и питье после такого дождя и длинной дороги. Но тебе не стоит говорить так плохо о госте, дочь. Льот рассмеялся и сказал: — Это совсем неплохие речи, да и слова девушки немногого стоят. Старшая женщина тоже что-то тихо сказала Вигдис, но та лишь улыбнулась. Гуннар послал своих людей с едой и питьем на корабль исландцев. Пир продолжался. Речь зашла о плохой погоде, которая была все последние дни. Хозяин был этим очень недоволен, потому что пришло время жать пшеницу. Он сказал: — В молодости я тоже частенько отправлялся летом в поездки, и больше всего не любили мы тогда такую дождливую погоду без ветра. Льот ответил ему висой:Правду нам рекли
Доброго к гостям
уста Гуннара!
Вечер был унылым.
Ран дочери спать улеглись рано,
и не хотели играть.
Скоро и мы пойдем на покой
У Гуннара в гостях.
Жены, украшенные златом,
Стол накрывали;
Более добрых хозяек
Не видел я прежде.
Со златоволосой
Девой прекрасной
Парой недобрых
Я слов обменялся.
III
На следующий день Гуннар с Ветерлиде решили отправиться осмотреть исландский корабль, но Льот улегся на скамье и сказал, что устал. Но как только старшие уехали, он вскочил на ноги, потому что решил найти Вигдис и поговорить с ней. Льот был одет в свою обычную одежду, потому что его праздничное платье осталось на корабле. На нем был темный плащ с капюшоном, заколотый на груди позолоченной дорогой фибулой. А под плащом у него была черная рубашка, вышитая серебряными и синими нитками, потому что Льот любил красиво одеваться. Руки его украшали дорогие обручья, и на него приятно было посмотреть — он был высоким и крепким, с узкой, как у девушки, талией и стройными ногами. Лицо его, смуглое, с большим и чувственным бледным ртом, было красиво. У него были голубые глаза, а волосы перехвачены шелковой лентой. В тот день светило солнце, и когда Льот вышел во двор, то увидел Вигдис на опушке леса на севере. Он быстро пошел за ней и вскоре догнал. Тогда он поприветствовал ее и спросил, куда она направляется. Вигдис ответила, что собиралась пойти за ягодами. — Тогда я пойду с тобой, — сказал Льот. — Тебе не надо ходить одной. Я слышал, что в малиннике часто бродят медведи. — Я могла бы взять с собой раба, — ответил Вигдис, — да и сама я не беспомощна. — И она указала на большой нож, который у нее висел на поясе. На лезвие были вырезаны руны, а рукоятка украшена затейливым узором из позолоченной железной проволоки. Льот взял нож в руки и сказал: — Какое благородное оружие, ему много лет. Откуда оно у тебя? — Оно всегда принадлежало моей семье, — ответила Вигдис, — говорят, что женщины из моей семьи были жрицами в капище тут неподалеку. Но никто ничего не знает об этом. Наши трелли забивают там овец и режут кур; но мой отец всегда рассчитывает лишь на собственные силы и власть, а отец моего отца тоже ни на что другое не рассчитывал, как говорят. — Как и я, — засмеялся Льот, — но я принял христианство. — Это странная вера, — отвечала Вигдис. — И не думаю, что Белый Христос может помочь нам, если он не мог спасти самого себя, а был убит врагами. — Не знаю, да и не очень я верю в его власть, — сказал Льот. — Но так уж случилось, что один датчанин, который помог мне и вылечил мою ужасную рану на ноге, что я получил в сражении, не захотел взять никакой иной платы, и пришлось мне подчиниться его воле и перейти в его веру. — Да, я вижу, тебе много пришлось поездить, — сказала Вигдис, — но как случилось, что ты не поехал со своим приемным отцом на берег посмотреть, как будут разгружать корабль? У тебя тоже должны быть товары на корабле, завоеванные тобой, иначе почему они зовут тебя Вига-Льот? — Да, я не могу пожаловаться на добычу, но я всегда думал, что самая большая удача ждет меня впереди. — Может, и так, — согласилась Вигдис, — но говорят, исландцы очень жадны и не очень держат свое слово. Льот ответил: — Я никогда не слышал, чтобы человек отказывался от добра. Но никто еще до тебя не называл меня жадным. Вигдис рассмеялась и сказала: — Слова девушки немногого стоят. — Мне кажется, ты меня ненавидишь, Вигдис, — проговорил Льот. — Да и при нашей встрече ты смотрела на меня неласково. — У нас не принято слишком много смотреть на незнакомых людей, — ответила она. Тогда Льот засмеялся и сказал: — Ты носишь золотую ленту на голове, Вигдис, чтобы выделяться среди своих рабынь? — Почему бы мне не носить золота, если отец дарит мне его? Они взобрались на пригорок, вокруг которого темной стеной стоял лес. На вершине холма возвышались поставленные в круг камни, а в середине был жертвенник; но многие из камней повалились, и по всему капищу росли молоденькие березки, рябинки и ели. Кругом цвели травы, и ветер срывал с них вызревшие семена и забрасывал ими Льота и Вигдис, которой даже пришлось отряхнуть платье. Льот сказал, когда они собирали и ели ягоды: — Брат моей матери думает попросить Гуннара принять нас к себе в дом, пока мы будем искать лес. Он хочет заплатить ему за еду и постой. Но, может, ты будешь рада, если мы уедем отсюда побыстрее? Мне кажется, мы не очень-то тебе нравимся? — Мой отец сам решит, кому оставаться жить в его усадьбе. Он никогда не спрашивал у меня совета, но позволяет мне решать за себя все самой. — Могу себе представить, — ответил Льот и засмеялся. — Ты воинственная и упорная девушка. — Так говорят, — согласилась Вигдис. — Но ты считаешь меня наглой и дерзкой девчонкой? — Да, — улыбнулся Льот, — но, кажется, мы стали друзьями? — Похоже на то, — ответила Вигдис, и они уселись на камень и стали жевать сладкий корень папоротника, который выкопала Вигдис. Когда же они собрались идти домой, Вигдис оставила на земле жреческий нож, и Льот не напомнил ей о нем, а тихонько спрятал его на груди. По дороге они весело разговаривали.IV
Ветерлиде купил у Гуннара лес. Гуннар не хотел брать с исландцев деньги за постой и просто сказал, что они могут оставаться у него столько, сколько захотят. Когда же Ветерлиде сказал, что им пора в обратную дорогу, Гуннар ответил, что нет нужды так скоро уезжать из Норвегии. Так же думал и Льот, и он старался как можно чаще говорить с Вигдис. Об этом с ним решил поговорить Ветерлиде, когда они остались как-то наедине. Льот тогда ответил: — Больше всего мне хотелось бы получить Вигдис в жены, и ни с кем другим я не хотел жить больше, чем с ней. Она приветливее многих женщин, и у нее всегда найдется ответ на любые речи — и вряд ли я смогу найти невесту богаче, ведь она единственная дочь Гуннара. И сдается мне, что Гуннар будет этому только рад. — Не знаю, будет ли он рад, если ты увезешь ее так далеко от дома. Но кажется мне, что если Вигдис к тебе неравнодушна, то это будет важно, потому что эта девушка сама решит, кого ей взять в мужья. И тебе лучше известно, как она к тебе относится. Льот тогда задумался и ответил через некоторое время: — Не так уж легко понять женщину. Часто кажется мне, что я ей не противен, но она быстро меняет свои решения. И может изменить. — Не думаю, что Вигдис способна нарушить свое слово, — ответил Ветерлиде, — но она горячая девушка и по молодости своей может не сразу склонить голову перед мужем. Мне она кажется очень независимой. И мой тебе совет, не спеши с этим делом. Сейчас мы поедем на север навестить своих родственников, и, когда вернемся, сразу станет ясно, как она к тебе относится и скучала ли она без тебя. — Я никуда отсюда не уеду, — сказал Льот, — потому что мне неизвестно, что из этого выйдет.V
В тот же вечер Льот пришел к Вигдис, когда та сидела и шила. Она была в синем платье, и ее золотые распущенные волосы сияли в свете пламени очага. Когда она увидела его, то отложила шитье и встала, чтобы пойти ему навстречу. Но Льот быстро подошел к ней и уселся на скамью. Тогда Вигдис сказала: — Что заставило тебя прийти ко мне вечером, когда моего отца нет дома? — Я мало видел тебя эти дни, — отвечал Льот. — И мне бы хотелось переброситься с тобой словечком. — Но мы говорим с тобой каждый день, — ответила Вигдис. — Но о многом нам еще не довелось поговорить, Вигдис, и кое-что мне хотелось обсудить с тобой наедине. Ветерлиде сказал сегодня, что я должен знать, нравлюсь ли я тебе. И сдается мне, что я тебе непротивен, но ты произносишь странные речи и часто сердишься на меня, и иногда я думаю, ты недолюбливаешь меня. — Почему же? — ответила Вигдис. Затем села на скамью, помолчала и не смотрела в это время на Льота. А потом сказала: — Странно, что ты говоришь со мной об этом. И часто мне кажется, что ты слишком торопишься. Я и сама не знаю, почему мы ссоримся. Или, может, ты просто дразнишь меня? Ведь я все свои годы провела в этом лесу, и мало кто к нам приезжал, а ты много ездил и повидал другие страны и людей. И это правда, что часто я сержусь на тебя. — Я не привык говорить с женщинами, — медленно произнес Льот. — Но из всех, кого я встречал, я хотел бы остаться больше всего с тобой. И ни с кем другим не хотел бы жить вместе. Вигдис ничего не ответила, и Льот продолжал: — Ты не будешь возражать, если я попрошу у Гуннара отдать тебя мне в жены? Вигдис по-прежнему молчала, и Льот обнял ее и поцеловал в губы. И поскольку девушка не сопротивлялась, он прижал ее к себе. Тут она заплакала, вырвалась и отошла к очагу. Села возле огня на табурет, и волосы покрыли ее золотым плащом, через который просвечивало пламя. Льот подумал, что красивее картины не видел еще никто из мужчин. Он подошел к ней и сказал: — Плохо дело, если я заставил тебя плакать, милая. Но все же дай мне ответ. — Дай мне время, — попросила Вигдис. — Поезжай к своим родичам, как и собирался, а когда вернешься — ведь здесь остается твой корабль, — то я дам тебе ответ. И сдается мне, ты получишь то, чего желаешь, но не хочется мне уезжать так далеко от своего отца и оставлять его одного. И все это слишком неожиданно. — Не так уж и неожиданно, — возразил Льот. — Ведь я уже здесь три недели. И не знаю, что у богов на уме, но я понял, что Норны решили соединить нити наших судеб, в ту самую минуту, когда впервые увидел тебя. — Не знаю, — отвечала Вигдис. — Я еще слишком молода, чтобы думать о замужестве. Льот повернулся и собрался уходить. — Мы достаточно взрослые, но кажется мне, что ты и сама не знаешь, чего хочешь. Вигдис встала и пошла за ним: — Подожди, как я тебя и просила. Мне и самой не хочется отказывать тебе. Но я тебя еще слишком мало знаю. Ты хочешь меня увезти далеко от всего, что мне дорого. Она обвила руками его шею и поцеловала. А затем подтолкнула к двери и попросила уйти.
VI
Вигдис не выходила из своего дома в течение двух дней после этого разговора. И случилось так, что в это время к ним приехал гость — Коре из Грефсина. Этот Коре недавно вернулся домой из Трондхейма, и ему было что рассказать о ярле Хаконе из Ладе, которого убил трелль Карк, и конунге Олаве. Вигдис пришла в зал вечером, села рядом с Коре, и они много беседовали. Коре был молод, светловолос, крепкого сложения и очень красив. Льоту совсем не нравилось, что Вигдис сидит и пьет с ним мед. И он сказал об этом Вигдис, когда проходил мимо: — Ты знаешь, как относишься к Коре из Грефсина. — Правдиво сказано, — отвечала Вигдис. — Коре и я воспитывались вместе, и для меня большая радость видеть его. Но Льот стал косо посматривать на Коре, и чтобы Коре не нахваливал в тот вечер, все было недостаточно хорошо для Льота. Наконец речь зашла о лошадях, и Коре стал хвалиться своим жеребцом, которого звали Прыткий и которого подарил ему в знак дружбы Гуннар. Льот отвечал, что видел жеребца, которого как раз привели домой с лесных пастбищ. И он добавил, что жеребец, которого он купил у одного из сыновей Арне из Гримелюндара, намного лучше; его звали Быстрый, и лучшего коня, добавил Льот, никто еще в их усадьбе не видывал. — Да, он красив, — согласился старик, сидевший рядом с Льотом, — но жеребец Коре не раз побеждал его и в этом году, и в прошлом. Но видно, ты не знаешь, — добавил он, — что не след тебе хвалить что-либо из добра сыновей Арне здесь, у Гуннара. — Почему? — удивился Льот. — Потому что между Вадином и Гримелюндером вражда с тех пор, как Эйульф сын Арне посватался к Вигдис и получил отказ, — ответил старик. — Об этом я ничего не слышал, — заметил Льот, а старик добавил: — Гуннар не отказался бы иметь Эйульфа в зятьях, да говорят, что Вигдис не хотела этого. И мало кто удивился ее отказу, поскольку люди знали о дружбе ее с детских лет с Коре. Сыновья Арне пообещали отомстить Гуннару, да пока еще время не пришло — хоть и в летах Гуннар, да зубов еще не потерял. Льот ничего больше не сказал, но задумался и стал поглядывать на Коре и Вигдис. А через некоторое время подошел он к Коре и сказал: — Много тут было всего сказано, и вечер прошел не зря, но может, устроим состязание наших жеребцов? И люди могут поспорить, кто из них выиграет. — Почему бы и нет, — ответил Коре и засмеялся. — Но вряд ли в этом есть необходимость, поскольку для всех в усадьбе это дело решенное. Тут Вигдис сказала: — И тебе не стоит рисковать жеребцом, за которого ты так много заплатил. И цена его не будет ниже, даже если у кого-то есть лошадь лучше твоей. Тогда Льот рассердился и сказал: — Я не боюсь за свое добро, как, может быть, ты решила, а просто хочу, чтобы Коре показал нам своего жеребца в деле. Давай устроим бой завтра утром, и я не возьму Быстрого с собой в Исландию, если он проиграет. — Эйульф вряд ли захочет взять его обратно, — рассмеялась Вигдис. — А я и не буду просить его об этом, — отрезал Льот. — Я убью жеребца. И он снял с руки золотое обручье и бросил его в огонь, что горел в очаге посреди зала. — Ты не можешь обвинять меня в жадности, Вигдис, — крикнул он. Тогда Вигдис наклонилась и достала обручье из огня и прибавила: — Лучше не вести себя подобно неразумному ребенку. Тогда Льот принял обручье и бросил его треллям у двери. Он добавил, что кто возьмет его, тот и будет его владельцем. И рабы очень заволновались, и один трелль ударил другого, который первым смог схватить обручье. Похоже было, что подарок этот был не к добру. Ветерлиде бросился к своему родственнику и усадил его на скамью. Но Льот лишь смеялся. И было решено, что Коре и Льот пустят своих лошадей наперегонки на следующее утро.VII
На следующий день собралось множество народа посмотреть на состязание двух жеребцов. И среди них было много женщин. Все должно было произойти на открытом месте неподалеку от Вадина. Льот пришел раньше Коре. Он вел своего жеребца на поводу и в левой руке держал специальную палку для боя. Он был в шлеме и перепоясан мечом, а на плечи накинул красивый синий расшитый золотом плащ. Он скинул его и положил на камень. Под плащом оказалась короткая красная туника. Сыновья Арне тоже пришли и пожали руку Льоту. Коре пришел в сопровождении Гуннара и Вигдис. Коре был в кольчуге и полном боевом вооружении. На плечах у него была медвежья шкура, а в руках, кроме палки, он держал еще и копье. Когда Быстрый увидел другого жеребца, то узнал его и, наверно, вспомнил их встречи в лесу, потому что вырвался из рук Льота. Люди вокруг засмеялись. Льот бросился за жеребцом, схватил уздечку и принялся охаживать его палкой. Он даже побагровел. Прыткий тут же подмял Быстрого под себя, принялся бить его передними копытами и кусать, так что жеребцу Льота пришлось туго и он вновь собрался было отступить. Тогда Льот обнажил меч и хотел кольнуть Быстрого, но поскользнулся на траве и срезал мечом ветки на кусте позади жеребца, а сам упал под копыта лошадей, и все это выглядело так ужасно, что Вигдис крикнула людям, что жеребцов надо развести. Коре подбежал и рукоятью копья с трудом высвободил Быстрого, и жеребец весь в крови и пене скрылся в лесу. А у Прыткого из ужасной раны на животе, которую ему нанес Льот, вываливались кишки. Коре протянул руку Льоту, у которого была разбита голова и кровь заливала глаза, помог ему встать и сказал: — Никогда еще не доводилось мне видеть, чтобы человек так вмешивался в поединок жеребцов. Ты должен мне возместить ущерб. — Вот тебе вира, — отвечал Льот и копнул носом башмака тучную землю. — Ты сам испугал лошадей медвежьей шкурой, что делает тебя похожим на трелля, работающего в лесу. — Зато нас тебе не испугать, Вига-Льот, — сказал Коре. — Даже если ты и убил несколько человек в Исландии! — И он направил острие своего копья прямо на Льота. У Льота был в руках меч, он размахнулся и отсек наконечник копья и ранил Коре в руку, но не очень сильно. Коре отбросил обрубок и обнажил свой собственный меч. Но Льот опустился на траву, изо рта у него пошла кровь — жеребцы его здорово покалечили. Тут вперед вышел Ветерлиде, взял Коре за руку и сказал, что возместит ему потерю жеребца, заплатит виру за рану и позволит Коре самому определить величину штрафа. — Не нужно мне от тебя виры, — ответил Коре. — Я вижу, что твой родич желает мне смерти. — Не хотелось бы мне, — заметил Ветерлиде, — враждовать с друзьями Гуннара, ничего, кроме добра, мы от него не видели. — И он отвел Коре в сторону и стал говорить с ним. Гуннар же поднял свое копье и добил Прыткого. Коль и Эйульф сыновья Арне приподняли Льота, и он на миг пришел в себя. К тому времени Коре уже ушел с Ветерлиде. Льот вытер кровь с лица и посмотрел, где Вигдис. Она сидела на корточках возле мертвого жеребца и гладила его; она плакала. Льот подошел к ней, засмеялся и сказал: — Что скажешь об этом бое жеребцов, Вигдис? Вигдис заплакала еще горше и ответила: — Я не хочу с тобой говорить. — Может, ты боишься, что с Коре из Грефсина случится то же, что и с его жеребцом? — спросил Льот. — Это не Коре опозорен сегодня, — сказала Вигдис и убрала гриву с глаз жеребца. — А сейчас я не хочу говорить с тобой. Она встала и пошла в слезах к своему отцу, который проводил ее домой. Сыновья Арне подошли к Льоту и попросили его поехать к ним в гости. — Нет, не могу, — ответил Льот. — Я не могу порвать дружбу с Гуннаром вот так. — Ты лучше подумай о том, захочет ли Гуннар поссориться со своим будущим зятем? — заметил Эйульф. — Кого это ты так называешь? — сказал Льот. — Да уж, конечно, Коре, — ответил Коль. — Хотя и не думаю, что он захочет взять ее в жены, если она уже и так дала ему все, что он хотел. — Ты лжешь, — крикнул Льот. — То же скажу тебе и я, — заметил Эйульф. — Один из наших работников весной видел, как Коре переправлялся через реку на лошади — он ехал на встречу с Вигдис. И они спали вместе в поле. — Так, значит, он лжет, твой работник, — ответил Льот и повернулся, чтобы уйти. Но Эйульф спросил у людей, что стояли чуть поодаль: — Куда направился Коре из Грефсина? Вига-Льот хотел поговорить с ним. — Он пошел в Вадин вместе с другим исландцем. Льот остановился и посмотрел на усадьбу. Он выглядел ужасно — мертвенно-бледный, с запекшейся на лице кровью. Он повернулся, но покачнулся и чуть не упал. Тогда сыновья Арне подхватили его и помогли сесть на лошадь. И вместе с ними он направился на запад в их усадьбу Гримелюндар.VIII
Ветерлиде не очень понравилось, что Льот отправился в Гримелюндар. Через несколько дней он приехал туда и нашел своего родича в кровати. — Я заключил мир с Коре, — сказал Ветерлиде, — и прошу тебя не нарушать его. Льот ничего на это не ответил, зато спросил: — А что говорят о случившемся? — Не много, — отвечал Ветерлиде. — Как я и ожидал, Гуннар — великодушный человек, да и самому мне не хотелось выслушивать, что думает он о твоем поступке. Льот лежал и выщипывал волоски из шкуры, которой была покрыта постель. А затем рассказал Ветерлиде, что видел пастух сыновей Арне. — Не думаю я, что надо верить словами пастуха овец сыновей Арне, даже если овцы вдруг заговорят и скажут то же самое, — сказал Ветерлиде. — Лишь глупые женщины обращают внимания на такие речи. И плохо твое дело, родич, если ты готов связаться с такими людьми. — Не мог бы ты узнать, что думает обо мне Гуннар, — сказал Льот, немного помолчав. — Не очень-то мне хочется говорить с ним об этом, когда ты находишься здесь, — отвечал Ветерлиде. — И я предпочел бы, чтобы ты отправился со мной в Вадин сегодня же. — У меня болит спина, — отвечал Льот. — И я не могу ездить на лошади. — Если ты смог доехать сюда, то сможешь и уехать отсюда, — возразил Ветерлиде. — И не удивительно, что не хочешь ты возвращаться в Вадин со мной. Мало чести тебе было в том деле. Но лучше тебе послушаться меня. Это мой совет. Сыновья Арне хотят посеять между тобой и Гуннаром вражду; они боятся выступить против него в одиночку и поэтому решили выставить тебя вперед. Так что позволь им лучше самим прясть свою пряжу! Но Льот настаивал, что еще не может сесть на лошадь. Сыновья Арне пригласили Ветерлиде к столу, но он отказался и сразу же уехал в Вадин. Все случилось так, как и говорил Ветерлиде. Когда он заговорил с Гуннаром о Льоте, о том, что он хочет взять Вигдис в жены, Гуннар ответил: — Не хотелось бы мне, чтобы между нами возникла вражда, исландец, ибо я хорошего о тебе мнения, и думаю, что Льот сын Гицура ведет себя обычно лучше, чем здесь у нас, но не могу я послать дочь с ним за море и уж тем более получить своего зятя из Гримелюндара. — Этому никто не удивится, — заметил Ветерлиде. И больше они о том деле не говорили. Вигдис ничего не знала о том разговоре.IX
Ветерлиде несколько раз говорил с Льотом и хотел, чтобы он уехал из Гримелюндара. Но Льот всегда отвечал, что очень болен, он харкал кровью и у него сильно болела голова. Он сказал, что не сможет поехать с Ветерлиде в Ромерике; и когда Ветерлиде вернулся оттуда и собрался уезжать в Исландию, Льот решил остаться в Норвегии. Но тогда и Ветерлиде решил отложить свой отъезд. «Ибо, — сказал он, — ты будешь жить у сыновей Арне, а они сделают так, что ты окажешься замешан в дела, от которых будет тебе только позор». — Поезжай, родич, — ответил Льот. — Я уже здоров и смогу отправиться в Ромерике, на север страны, а потом я хочу заехать к конунгу Олаву и поговорить с исландцами, что находятся у него на службе. А сыновья Арне не просили у меня помощи, а просто хорошо относились ко мне. — Обещаешь мне, что отправишься на север? — спросил Ветерлиде. Льот обещал, и когда он уехал из усадьбы, Ветерлиде собрался домой в Исландию. Они с Гуннаром расстались друзьями и преподнесли друг другу богатые дары. Вигдис подарила Гуннару позолоченную фибулу и зеркало, а при расставании дала красиво вышитый красный шелковый плащ.
X
Наступила осень, и люди начали говорить, что Вига-Льот вернулся. Он жил у одного бонда по имени Торбьёрн в Хестелоккене, в лесу между Гримелюндаром и Вадином. Но много времени он проводил и с сыновьями Арне. Однажды вечером в Вадин пришел маленький мальчик и попросил разрешения поговорить с Вигдис. Его звали Хельге, и он был сыном одной бедной женщины, что жила в лесу неподалеку от усадьбы. Он сказал, что его мать заболела, и попросил Вигдис пойти с ним и посмотреть, не сможет ли она помочь ей. Вигдис ответила, что Оса — так звали женщину, что воспитала ее, — более искусна в лекарстве, и будет лучше, если она пойдет с мальчиком. Но Хельге стоял на своем и говорил, что мать хочет поговорить с Вигдис и у нее есть, что рассказать ей. Тогда Вигдис накинула плащ и пошла с мальчиком. Когда они вышли из усадьбы, было уже темно. Они немного прошли по дороге, но потом мальчик свернул в лес; он сказал, что нет смысла идти по раскисшей от влаги земле. Были последние дни октября. И как только они вошли в лес, из-за деревьев вышел мужчина. Вигдис спросила, кто он такой. — Это я, — ответил мужчина, — Льот. Хельге хотел выдернуть свою ладошку из руки Вигдис и убежать, но она остановила его и спросила: — Этот человек посылал тебя за мной? Мальчик не ответил, но Льот сказал: — Да, он шел за Осой, но я остановил его и попросил привести тебя. Я понимал, что мне нет смысла приходить к тебе в Вадин, если я хочу поговорить с тобой наедине. — Ты ведешь себя странно, — отвечала ему Вигдис. — Да, но я не знал, что еще я могу сделать, — сказал Льот. — Я много ходил вокруг усадьбы и ждал, что встречу тебя. Мальчик хотел убежать, но Вигдис крепко держала его за руку. И Льот попросил: — Пусти мальчика. Если тебе не противно быть со мной, я провожу тебя до усадьбы. — Иди, — сказала Вигдис Хельге и спросила затем Льота: — Что за дело заставило тебя заманить меня в лес? — Ты и сама знаешь, что у меня за дело к тебе, — отвечал он. Вигдис ничего на это не сказала, и Льот продолжал… — И теперь я знаю, что чем дольше я не вижу тебя, тем больше скучаю по тебе. И такой день, когда я забуду тебя, не наступит никогда. Вигдис заплакала и ответила: — Почему ты так повел себя с моим отцом? — Так уж вышло, — сказал Льот. — И много говорят по окрестным хуторам, что тебя получит Коре из Грефсина. — Неужели ты думаешь, что я бы тогда так приняла тебя вечером, когда ты пришел ко мне? — заметила Вигдис. — Но ты все испортил. — Да, я поступил неразумно, — согласился Льот. — Но в этом деле, думаю, твоему отцу даст совет Коре. — Но Гуннару никогда не удастся заставить меня взять в мужья человека, который мне не люб, — ответила Вигдис. — Да и сам он обещал мне свободу выбора. — А ты хочешь взять в мужья меня? — спросил Льот. И Вигдис ответила: — Да, хочу, если это получится. — Ну, тогда странно, если это не получится, — радостно воскликнул Льот и взял ее за руку. Он уселся на пень и посадил Вигдис к себе на колени. И она положила руки ему на плечи и поцеловала его. Но Льот никак не хотел отпускать ее и стал целовать так страстно, что Вигдис испугалась и сказала, что ей нужно идти домой. — Будет лучше, если я провожу тебя до усадьбы. Да и с твоим отцом мне хотелось бы сегодня поговорить. Пришло время обсудить с Гуннаром наше дело. — Не делай этого, — попросила Вигдис. — Ты один, и с собой у тебя лишь одно это копье. Льот засмеялся и сказал: — Так ты не веришь, что я смогу за себя постоять — но будет плохо, если мир между мной и Гуннаром нарушится. Вигдис подумала и сказала: — Я слышала, что на севере у конунга на службе много исландцев. Ты знаешь кого-нибудь из них? — Да, — отвечал Льот. — Это Торальв и Гицур сыновья Торбьёрна. Они сыновья моего приемного отца. — Не мог бы ты к ним поехать? — спросила Вигдис. — И если они согласятся замолвить за тебя слово, то, думается мне, нам будет легче уговорить отца. — Как ты торопишься спровадить меня, — заметил Льот и вновь обнял ее. Вигдис тогда заплакала и сказала: — Я боюсь, что ничего хорошего не получится, если ты приедешь к отцу один, да и вспыльчив ты очень, а Гуннар сердит на тебя. Хорошо, если у тебя будут люди, которые могут помочь тебе и дать хороший совет. Льот оттолкнул ее, и Вигдис пошла вниз. Она все время плакала. Льот шел на шаг позади нее. Через некоторое время он сказал: — Я сделаю, как ты говоришь. Хотя ты, Вигдис, и знаешь, как опасно будет мое путешествие зимой. И я совсем не уверен, что сыновья Торбьёрна захотят приехать со мной сюда. Что же тогда мне делать? — Вот тогда и посмотрим, — ответила Вигдис, повернулась и взяла его за руку. Они пошли вниз к Вадину. Льот пообещал ей, что отправится на север на следующий день. Они расстались у изгороди, но на прощание Льот сказал, что хочет увидеть ее еще раз. Он взял в обе руки ее волосы и прижал их к лицу: — Приходи завтра на гору. Ведь я не видел тебя все это время, а сегодня вечером было слишком темно. Но завтра я приеду туда на закате… И еще, ты потеряла одну вещь в прошлый раз, когда мы говорили, и завтра ты ее получишь обратно. Я сохранил ее. Я подумал, что это будет хорошим поводом для встречи, если в том настанет нужда. — Вот уж не знаю, что бы это могло быть, — ответила Вигдис, а Льот рассмеялся и сказал, что завтра она увидит эту вещь. С тем они и расстались.XI
Когда Вигдис вернулась, было так поздно, что все уже легли спать. И она пошла к себе, и Оса принесла ей поесть. Пока Вигдис ела, Оса спросила, как дела у Астрид. — Тебе следует сходить к ней завтра утром, — ответила Вигдис и, немного помолчав, добавила: — Я не дошла до ее дома сегодня вечером. — Ты заблудилась? — спросила Оса. — Нет, — ответила Вигдис, помолчала и сказала: — Я встретила Льота в лесу и говорила с ним. И тогда женщина, что убиралась в комнате, — ее звали Турбьёрг, и она была замужем за работником в усадьбе — заметила: — Вот уж недобрые новости — Льот ходит вокруг усадьбы? Значит, замышляет злое дело. — Нет, не думаю, — сказала Вигдис и засмеялась. — Будь с ним осторожна, — продолжала женщина. Она села рядом с Вигдис на скамью. — А не то он вскоре начнет говорить, что приручил тебя. И он тоже. Оса приказала ей замолчать и добавила: — Не след говорить с Вига-Льотом. Ведь никто не знает, что у него на уме. — Да ведь она не ребенок, ей уже восемнадцать лет, — заметила Турбьёрг. — И лучше уж ей все знать, чтобы она поостереглась. И плохо будет, если люди поверят всему — а ведь он сочинил много вис, и все они о Вигдис. И еще Льот говорит, что Коре опозорил ее — но все понимают, что он ведет себя подобно неразумному ребенку: ругает то, что не может получить сам. — Это говорит не Льот, — отвечала Оса, — а сыновья Арне. Это они ездят по округе и позорят девушку. Вигдис сидела на скамье, краснела и бледнела, слушая их беседу. — Не думаю, чтобы Льот сказал обо мне хоть слово, — произнесла она. Тогда Турбьёрг сказала вису:Весело играл я
Златыми волосами.
Рядышком сидели
На скамье мы.
Вдвоем в палатах
Мы девичьих были.
Вечер тот всегда
Помниться мне будет.
Большие птицы затихли в лесу.
Лета конец близок был.
Красные ягоды она предлагала
Отведать из рук своих.
XII
Она сидела весь день в своей комнате в волнении и тревоге и не знала, стоит ли ей идти к Льоту. Но когда наступило время заката, она накинула на плечи темный плащ и вышла во двор. К ночи подмораживало, и над фьордом поднимался густой туман, Все еще яркое солнце висело над горами. Во дворе никого не было. Вигдис немного постояла в задумчивости. Потом заторопилась и направилась на север к лесу. Никто не видел, как она уходила из усадьбы. Когда она поднялась на гору, Льот уже был там. Он был одет для поездки, но свой плащ и оружие положил на землю, а коня привязал к дереву. Он бросился к Вигдис, а потом прикрыл глаза рукой от солнца и сказал: — Солнце не помешает мне рассмотреть твою красоту, Вигдис, и я рад, что ты пришла. Он положил ей руки на талию и повернул ее так, чтобы солнце не светило ему в глаза. Но она освободилась из его объятий и заложила руки за спину. А потом сказала: — Да, я пришла. Но мне надо тебя спросить о странных вещах. Скажи мне, не говорят ли в округе обо мне и о Коре? Льот ответил — при этом он сильно покраснел: — Я спрашивал тебя об этом вечером — о том, не получил ли он от тебя того, чего желал? — Думаю, что мне не стоило приходить, — сказала Вигдис. — Потому что теперь я знаю, что они сказали правду, а именно этого я и боялась. — Я не понимаю, о чем ты говоришь, — ответил Льот. Тогда Вигдис сказала: — Либо ты рассказал о том, что происходит между нами — а я не думала, что ты будешь об этом болтать даже брату, — либо это ты сложил те висы, что знает вся округа. Льотпомолчал. Вигдис повернулась и хотела уйти. Но он пошел за ней и сказал: — Я бы хотел, чтобы никогда эти висы не были сложены. Но ты не знаешь, как я переживал все то время, когда думал, что потерял тебя. И в таком состоянии люди часто говорят то, о чем потом приходится жалеть. — А я сейчас жалею, что вообще говорила с тобой, — ответила Вигдис. — Не говори так, — попросил ее Льот. — Ибо больше не будет у тебя причин обижаться на меня. — Да, я знаю, — проговорила Вигдис, — ведь это последний раз, когда мы говорим с тобой. Льот обнял ее, но Вигдис уперлась руками ему в грудь. А он тогда схватил ее за запястья и сказал: — Что плохого в том, что я сложил несколько вис. И если ты решила из-за этого отказаться от меня, то значит, ты меня совсем не любила. — Да и ты меня не любил, — возразила в гневе Вигдис, — если ты первый поверил тому, что говорили обо мне. И сам стал дальше разносить эти слухи. — Никаких слухов я о тебе не разносил, — ответил Льот. — И никогда им не верил. — Может, это вскоре и станет правдой, — сказала Вигдис и попыталась вырваться из его рук. — Ты не должна так говорить, — воскликнул Льот и поцеловал ее. — И наверно, ты забыла, что обещала мне вчера. Тут она укусила его в шею. — А теперь я хочу сделать все по-другому, — сказала она. — Никогда Коре тебя не получит, — прошипел Льот сквозь зубы. — Я не смогу жить, если потеряю тебя. И с этими словами он поднял ее на руки, хотя она и сопротивлялась. Он отнес ее в лесок и сделал с ней, что хотел, хотя она и сопротивлялась. А потом Вигдис ничего не говорила и не плакала. Тогда Льот погладил ее по руке и щеке. Они были совсем холодные. Льот встал, принес свой плащ и накрыл Вигдис. Он поцеловал ее. Было так холодно, что из его рта вырывался белый пар. Солнце село, но небо над лесом было красное, как кровь. — Нам пора ехать, — сказал Льот и хотел помочь ей встать. — Мы сможем ночью добраться только до Большого озера. Там и заночуем. Тогда Вигдис сказала: — Для тебя, негодяя, будет слишком легкой смертью, если мой отец сам убьет тебя. Она встала и направилась к усадьбе. Льот пошел за ней. Он сказал: — Думаю, теперь для нас обоих будет лучше, если ты последуешь за мной. Я знаю, что поступил нехорошо, но уж если случилась первая беда, то не надо допускать второй. Вигдис даже не повернула голову в его сторону, и Льоту показалось, что самое худшее в том, что она не плачет и не говорит с ним. Он дошел с ней до самого Вадина. У изгороди Вигдис остановилась, подняла камень и бросила его в Льота. — Пошел вон, собака, — сказала она. Камень попал ему в лицо, удар был не очень сильным, но из губы пошла кровь. И он сказал: — Я еще раз приду к тебе и попрошу стать моей женой, моя игрушка, но сейчас я дам тебе время подумать. А летом я еще раз спрошу, не хочешь ли ты взять меня в мужья. — Ты увидишь, Вига-Льот, что моя воля так же сильна, как и твоя. И с этими словами она вошла в усадьбу. Она пошла к себе и сразу легла. Оса заметила, что Вигдис почти не спала той ночью, а во сне все время ворочалась, Но она ничего не рассказала Осе. Льот же вернулся в лес, отвязал своего коня и уехал. Он скакал всю ночь и добрался до Хакедала, а оттуда направился в Ромерике, а там уж было недалеко до Трондхейма. И он не обращал внимания на ненастье, что установилось сразу же, как он отправился в путь. Он чуть не погиб в горах, так что его приемные братья, сыновья Торбьёрна, посчитали чудом, что он смог до них добраться.
XIII
Вигдис сидела дома и так горевала, что ничего не могло ее порадовать. Она не хотела ни есть, ни пить, ни одеваться, ни расчесывать волосы; и никак не могла забыть позор, который навлек на ее голову Вига-Льот. Каждый вечер она боялась ложиться спать, боялась остаться со своими мыслями наедине; и каждое утро она боялась вставать и заниматься работой по дому и говорить с другими. Она сказала себе: «Я как птица с перебитыми крыльями; не могу улететь от того места, где упала, и не могу видеть дальше того места, где растеклась моя кровь. Если я думаю о том, что случилось раньше, то вспоминаю то, что случилось сейчас. И если я вспомню то время, когда ходила веселая и влюбленная, то пойму сама, что заслужила этот позор». Часто она так думала, и больше всего ей нравилось ходить и смотреть на реку. И когда дело пошло к зиме, Вигдис поняла, что ждет ребенка. Однажды ночью она проснулась; Оса и другие женщины спали; и Вигдис встала, набросила на себя плащ и вышла во двор. Она пошла вниз к реке. Вигдис никогда не бывала одна во дворе ночью, и ей показалось это еще ужаснее, чем она могла себе представить. Это было время равноденствия, шел дождь, и дул ветер; и было так темно, что она не могла отличить землю от неба. Но иногда между облаками появлялся просвет, и тогда она видела звезды. Она не далеко отошла от усадьбы, когда почувствовала под ногами мягкую почву и поняла, что сбилась с дороги. Она не видела, куда ступала, и иногда шла по колено в мокрой снежной каше, а иногда ноги ее проваливались в ямы, которые были запорошены снегом. И вскоре она уже не знала, куда забрела, где усадьба, и где река… Вадин лежал около реки, но в темноте казалось, что до реки очень далеко. И тут она споткнулась, упала и заскользила вниз с холма. И врезалась во что-то твердое. Она поняла, что это ель, поскольку ветви хлестали ее по лицу. И когда она падала, то почувствовала, как в ней шевельнулся ребенок. Вигдис села под деревом. Она так промокла и замерзла, как будто только что искупалась в ледяном море. Она прижалась к стволу ели, и ветви защитили ее от дождя. Но в вершинах деревьев завывал ветер, и ей стало очень страшно. И она не знала, кто ворочается и стонет вокруг нее в темноте. Так она и лежала до рассвета; а когда начало светать, она увидела, что лежит на обрыве у самой речки, и склон весь покрыт льдом, а внизу несутся потоки черной воды. Но силы оставили ее, и она направилась обратно в усадьбу; сейчас, при свете дня, она была совсем рядом. Вигдис разделась и легла в постель. И еще она злобно подумала, что наверняка заболеет после ночной прогулки, и это было бы хорошо. Оса утром спросила: — Девочка, почему у тебя такое мокрое платье? Вигдис отвечала, что ходила ночью в хлев — этой зимой у них болели коровы. «И там было так темно, что я с трудом нашла дорогу обратно в дом». Оса ничего не ответила, но подумала, что Вигдис стоило бы с ней поговорить. Однажды Оса сказала, что Вигдис, должно быть, заболела, поскольку она с трудом сидела на скамье. И она попросила девушку довериться приемной матери. Но Вигдис отвечала, что беспокоиться не стоит. У Гуннара в ту зиму тоже было плохое настроение, и поэтому мало кто решался заезжать к нему в усадьбу. И когда пришло время, Оса сделала так, что в Вадине не осталось женщин, кроме нее и Вигдис. Вигдис сшила себе специальное платье со шнуровкой, которое надела под свою обычную одежду, и большую часть времени проводила в доме. И так уж получилось, что никто не заметил, что с ней произошло, кроме Осы, но она боялась говорить об этом.XIV
Когда наступила весна, Вигдис сказала, что этим летом она хочет отправиться вместе с Осой на сеттер. Так и решили, хотя Гуннару это совсем не понравилось, но Оса долго говорила с ним, и он уступил. Они отправились в горы очень рано и взяли с собой работника по имени Скофте. Он был сыном Осы и вольноотпущенника Гуннара. Он должен был следить за лошадьми и охранять дом от диких зверей. Однажды к вечеру, когда Оса стояла в дверях хлева и пересчитывала коров, возвращавшихся с пастбища, к ней прибежала в ужасе Вигдис и сказала: — К нам едет Гуннар. И я не знаю, что делать. Сдается мне, что он убьет меня, увидев такой, какая я сейчас. — Ложись в постель, — отвечала Оса. — Я скажу ему, что ты больна, а долго он тут не пробудет. Вигдис так и поступила и лежала два дня, что Гуннар провел на сеттере. Он сказал, что нет ничего удивительного в том, что она заболела, а коровы дают мало молока, ибо они так рано собрались в горы — по утрам еще случались заморозки, а в лесу было мало травы. После этого Оса решила поговорить с Вигдис и дать ей совет. И однажды, когда Вигдис мыла подойники в ручье, она сказала: — Дай я сама вымою. Тебе нельзя заниматься такой работой. Вигдис швырнула ведро на берег, и в ее глазах была такая ненависть, что Оса испугалась. А Вигдис громко закричала: — Не говори со мной об этом! Или я не знаю, что могу с тобой сделать! После этого Оса никогда больше не заводила речь о ребенке. Наступило лето. Однажды ночью Вигдис проснулась и вышла из дома. Была уже средина лета, тихо и темно. Она поднялась немного вверх по склону и дошла до изгороди усадьбы. И тут она легла на землю и застонала. На опушке леса щипал траву вороной конь. Он никогда не пасся вместе с другими лошадьми, а держался поближе к жилью и особенно любил Вигдис. И сейчас он подошел к ней и полизал ей лицо. Он стоял и ждал, пока она встанет. Когда воды отошли, она поднялась и поплелась в лес. Конь все время шел за ней. Каждый раз, когда начинались новые схватки, она обнимала коня за шею, и он поворачивал к ней голову, покусывал за плечо и стоял совершенно неподвижно. Наконец она подошла к большому темному горному озеру. В затянутом тучами небе слабо голубела луна, которая отражалась в воде. Кругом все было серо и неприветливо. Один раз она громко закричала. И эхо, вернувшееся с другого берега озера, было столь ужасающе, что Вигдис испугалась, сняла с себя плащ и вцепилась зубами в его ткань. Она рвала его на мелкие кусочки, и скоро во рту у нее была настоящая каша из ниток. И ей показалось, что она теряет сознание. Она слушала журчание ручейка неподалеку, и один раз, когда она приоткрыла глаза, то увидела, что начало светать. И совсем рядом с ней озеро катило свои черные воды. Но у Вигдис не было сил доползти до него, и ночь близилась к концу. Взошло солнце и принялось колоть своими лучами ей в глаза. И Вигдис потеряла сознание, но потом почувствовала, как солнце согревает ее, и услышала плач ребенка. Она посмотрела на него. Это был мальчик. Она даже не осмелилась потрогать его, но сняла платок, что был у нее на голове и плечах — белый с зелеными полосами. Он был влажный от пота, росы и крови. Она сложила его пополам и завернула в него ребенка, а потом засунула сверток между камней и покрыла его мхом и ветвями. А затем спустилась к ручью и напилась. Рядом с озером начинался крутой обрыв, и Вигдис прислонилось спиной к нагретым солнцем камням. Она отдохнула немного, а затем встала и отправилась домой. Оса очень беспокоилась. И Скофте уже искал ее вокруг усадьбы. Вигдис пошла в дом и легла. У нее был жар, и несколько дней она лежала в постели. Оса ухаживала за ней и втирала ей в грудь теплое масло. Но никто из них и словом не обмолвился о том, что произошло.XV
Был жаркий летний день. Коровы даже не пришли домой, а остались в лесу. Оса и Скофте долго искали их на горных пастбищах, чтобы привести на сеттер. Вигдис совсем не нравилось быть одной на сеттере. Она боялась леса и очень хотела вернуться домой. Она сидела большей частью на пороге и смотрела вдаль. Сеттер находился высоко в горах. Кругом были ущелья и лес. Но Вигдис все равно видела далеко внизу усадьбу и фьорд. Так она сидела однажды вечером и смотрела на море. Но вдруг собака, что лежала рядом с ней, заволновалась, вскочила и с лаем бросилась вниз по дороге. Тут и Вигдис разглядела человека, который только что слез в лошади и привязывал ее к ограде. Она испугалась и встала. Она хотела броситься в лес и спрятаться, но тут человек обернулся, и она узнала в нем Льота. Он крикнул и попросил ее не пугаться. Вигдис осталась стоять в дверях, и она сказала: — Я и так знаю, что мне нет причин бояться тебя. Льот остановился, посмотрел на нее и медленно произнес: — Что ты хочешь этим сказать? Тогда Вигдис зловеще рассмеялась, но ничего не ответила. Льот прислонился к двери, посмотрел на землю и оперся на свое копье, которое держал в руках. Он сказал: — Я собираюсь отправиться в Исландию. В Тунсберге находится корабль моих родичей, что должен отвезти меня домой. И я знаю, что прошу тебя о многом — я прошу простить мне все то зло, что я причинил тебе. Но если случится так, что ты отправишься со мной, то ты получишь такое уважение и любовь, которой никогда еще не удостаивалась ни одна женщина. Вигдис рассмеялась и ответила: — Малого стоять твои обещания, Льот. И своими красивыми речами ты однажды уже заманил меня в ловушку. И ты так опозорил меня и причинил мне столько боли. И сдается мне, что большая честь достанется той, которая станет твоей женой, — большая честь набрасываться на людей, убивать лошадей, позорить честных девушек и складывать висы. И не думаю, что тебе удастся совершить что-нибудь достойное мужчины, презренный устрашитель жен. Льот отвернулась и ответил: — У тебя есть причины говорить мне такие вещи. Но мне и не такие подвиги приходилось совершать — и настанет день, когда ты услышишь о них. И тогда не покажется тебе позором, что ты целовала меня и привечала. Но мало было мне радости с тех пор, как мы говорили в последний раз. И много я думал о нашей встрече. — Может, ты надеялся увидеть меня в слезах и с мыслями о тебе? — спросила Вигдис. И Льот посмотрел ей в глаза и ответил: — Да. После этого они оба долго молчали. А потом он спросил: — Скажи мне, Вигдис, есть ли у меня ребенок в этих краях? Вигдис рассмеялась и ответила: — Может, и есть, но только мне об этом ничего неизвестно. Я не спрашивала тебя о твоих похождениях. Льот покраснел и замолчал. А Вигдис продолжала: — Сложи-ка висы о своей храбрости и о том, как ты смел наедине с девушками. Но не думай, что тебе поверят в наших краях — все сочтут тебя выжившим из ума хвастуном. Льот постоял в молчании, он не знал, что ему делать или что сказать ей. И он не хотел уезжать. Он понимал, что она не изменит своего мнения и вряд ли ему придется видеть ее вновь. И больно было ему терять ее. И тут он вспомнил о жреческом ноже, достал его из мешка и протянул ей: — Помнишь, ты потеряла его в тот первый раз, что мы были вместе? Вигдис взяла нож, наклонилась вперед и одним движением постаралась перерезать горло Льоту. Она попала в ключицу, порвала его одежду и разрезала кожу. Хлынула кровь. Тогда Льот схватил ее и притянул к себе. Он сказал: — Я бы мог взять тебя, Вигдис, с собой силой, но не хочу я идти против твоей воли. Но если ты поедешь со мной, то я отплачу тебе добром за все зло, что ты мне причинишь. Вигдис отвечала: — Живой ты не привезешь меня в Исландию. Он поцеловал ее и сказал: — Желаю тебе счастья, но я не забуду никогда своего горя. Вигдис ответила: — Дай тебе бог самой ужасной смерти — и жить долго в страданиях — и тебе, и твоим близким. И дай тебе бог увидеть ужасную смерть твоих детей. Льот выпустил ее и пошел вниз. Он отвязал лошадь. Потом повернулся, постоял и посмотрел на сеттер. А затем повел лошадь вниз. И много прошло времени, и многое случилось, прежде чем довелось им с Вигдис встретиться.
XVI
Они вернулись домой с сеттера, когда наступила осень. И Вигдис была не в себе и ту зиму тоже. И ее очень волновало, что Коре из Грефсина и его родичи много говорили о том, чтобы Вигдис стала его женой. Вигдис ответила, что просит дать ей время и что она не хочет такой молодой выходить замуж. И дело закончилось тем, что Гуннар пообещал дать ответ Коре следующей осенью. Но Вигдис поняла, что отец ответит согласием. Вигдис сказала, что не хочет отправляться на сеттер летом. Однажды вечером весной — как раз в то время, когда начинает распускаться береза и громче поют птицы, — она вышла за ворота усадьбы и отправилась гулять по лугам. Была солнечная и теплая погода. Приятно пахло почками и травой, и Вигдис подумала, что хорошо бы ей подольше погулять и постараться забыть свое горе. К югу от Вадина в маленьком домике жила бедная женщина. Она была замужем за одним из работников Гуннара. Она сидела на пороге и пряла, когда мимо проходила Вигдис. Она остановилась, чтобы поговорить с женщиной, и в эту минуту в доме заплакал ребенок. Вигдис сказала: — Этот ребенок плачет, как будто у него большое горе, но не думается мне, что это так. Никогда раньше не доводилось мне слышать, чтобы младенцы так ужасно кричали — как котенок или сова, но уж только не как человеческий детеныш. Женщина пошла в дом и вынесла ребенка. Это была девочка — лет двух или чуть больше. И она тут же успокоилась, как только оказалась на руках у матери, а вскоре сползала на землю, принялась бегать и срывать цветы. Она была так мала, что, когда нагнулась за цветком, наступила на подол своего платья и упала. Вигдис помогла ей встать на ноги, и ребенок отдал ей сорванные цветы. Но девочка рвала одни только головки, и Вигдис не смогла удержать их в руках. Тогда мать сказала ей: — Эти цветы называются мать-и-мачеха. Дай мне одни из них, и я погадаю тебе на нем. Вигдис так и сделала, и женщина сказала: — Вот смотри. У этого цветка сначала два темных листика, а потом два светлых. Но самый нижний — с темной полоской по краям. И значит это, что сначала у тебя будет много горя, а потом много радости. Хуже обстоит дело с последним листком. Темная полоска по его краям не предвещает тебе ничего хорошего в старости. Вигдис отвечала: — Сдается мне, что не нагадала ты мне ничего хорошего, да я и не просила тебя об этом. Но тем не менее я награжу тебя. И с этими словами она сняла маленькую селье [2] со своего платья и отдала ее женщине. А затем ушла. На краю луга были скалы, и рядом росли несколько рябин и кусты шиповника и целая лужайка мать-и-мачехи. Вигдис села там, обняла руками колени и стала смотреть на фьорд, водная гладь которого красиво блестела на солнце. Солнце спускалось за горы. Она просидела так долго — и мало хорошего она могла вспомнить — думала ли она о Льоте или о том, кого похоронила в лесу. Она гадала, лежит ли он все еще там или давно исчез. Она припоминала, что в ту ночь кругом было полно муравьев и других ползучих тварей, и хотя ребенок не вызывал у нее радости, ей казалось ужасным, если муравьи принялись за него, когда мальчик был еще жив. Она встала, когда уже начало смеркаться и почти бегом отправилась домой. Недалеко от усадьбы ее повстречала Оса и сказала: — Ты очень меня испугала, девочка. Я не знала, что и думать. Ведь ты пропала так надолго, а я знаю, что ты боишься темноты. Вигдис ответила: — И темноты я боюсь, и самой себя в собственном доме. Жизнь моя отвратительна, и будет лучше, если я положу ей конец. — Не говори такие страшные вещи, — ответила Оса. — У тебя все еще может быть хорошо. И ты еще так молода, да и не знает никто о твоем позоре, а все считают тебя порядочной девушкой. Коре любит тебя, и с ним у тебя будет хорошая жизнь. — Именно это и гнетет меня больше всего, — сказала Вигдис. — И хотелось бы мне, что все знали о моем позоре — и чтобы мой отец выгнал меня из дома. И ужасно, что приходится мне улыбаться и делать вид, что я та же, что раньше… И не радует меня, что все считают Вигдис честной и порядочной, ибо есть трое, которые знают, что это неправда. И на теле моем есть тому позору отметка, и не знаю, как уберечься мне от стыда, когда Коре заведет разговор о женитьбе. Они сидели одни вечером в доме, Оса и Вигдис; и тогда девушка вновь заговорила об этом. — Не можешь ли ты, матушка, отправиться на юг к своим родичам — ведь ты говорила, что они влиятельные и богатые люди? И рода еще более древнего, чем мы. Оса отвечала: — Я не знаю, живы ли мои родичи, и стара я уж стала ехать к ним. Но почему ты заговорила со мной об этом? Вигдис долго молчала, а потом сказала: — Раньше, когда у меня была печаль, я всегда приходила к тебе и все рассказывала. Но сейчас случилось так, что от тебя я больше всего таю свое горе. Оса ничего не ответила, и Вигдис продолжала: — И сейчас я жалею, что похоронила ребенка, ибо каждую ночь он будит меня своими ужасными криками. Но пусть меня мучают злые духи, как я того заслужила. — Что ты хочешь этим сказать? — спросила Оса. — И это самая лучшая месть, что сын Льота стал его проклятием. И хотелось бы мне, чтобы он сам отомстил своему отцу. И тогда Оса тихо спросила: — Я хочу знать, действительно ли ты так думаешь. — Да, — ответила Вигдис. И ее приемная мать тогда сказала: — Тогда тебе лучше знать, что мальчик, которого ты родила в прошлом году, воспитывается у моего сына Скофте. Вигдис вскочила со скамьи, на которой сидела. Она стояла смертельно бледная, не говоря ни слова. Но затем рухнула на скамью, опустила голову на стол и разрыдалась. Оса сказала: — И нет смысла говорить об этом всем, и сдается мне, что лучше все скрывать, но я сказала тебе это затем, чтобы ты могла повидать своего сына, если захочешь. Вигдис плакала, а потом сказала: — Мне казалось, я так несчастна, что хуже и быть не может. Но сейчас я не могу жить в этой усадьбе, когда я знаю, что в любой день мальчик может попасться мне на глаза. И так плохо мне было, что не смогла я бросить его в озеро. И не верю тебе, что сказала ты мне правду. Тогда Оса подошла к своему сундуку и достала из него льняной платок и протянула его Вигдис. Она посмотрела на него и узнала — это была шаль, в которую она завернула ребенка в ту страшную ночь. На ней виделись пятна крови, и кое-где прилипли мох и сухие травинки. Она бросила тряпку на пол, заплакала и сказала: — Я хочу обо всем рассказать отцу. Не могу я больше так жить. И не могу прятаться за спиной Скофте или еще кого-то. И никогда не думала я, что ты предашь меня. Оса ответила: — В ту утро я проснулась и увидела, что нет тебя рядом. Я испугалась и попросила Скофте поискать тебя. Тогда он нашел мальчика и принес его. И он был так красив, что Скофте попросил меня разрешить ему воспитать ребенка. И я рассказала тебе об этом сегодня, потому что думала, что это утешит тебя, особенно, когда ты узнаешь, что у тебя самый красивый в мире ребенок. — Пусть будет, как будет, — сказала Вигдис. — И очень устала я от такой жизни. Оса ответила: — Ничего не делай с собой. И позор тому, кто сгибается под своей ношей. И хочу я тебе кое-что рассказать, а уж решать будешь сама.XVII
Оса принялась рассказывать: — Отца моего звали Харальд Золотая Борода, и я уже рассказывала тебе, что жизнь у меня и моих сестер дома, на Шелланде, была хорошая. Ингрид и Астрид были уже совсем взрослые, а мне только исполнилось тринадцать лет. Однажды вечером мы вместе со служанками отправились искупаться. И случилось так, что мимо проплывали корабли. Это были викинги из Елунда. Они сошли на берег и захватили нас в плен. И никто не смог от них убежать. Владели теми кораблями три брата, и они взяли нас себе в наложницы. Они быстро смогли разобраться, кто из девушек были дочерьми хёвдинга. Старшего из братьев звали Арнгрим; и с ним я провела первую ночь, а потом оставалась у него еще два года. Братья вскоре расстались. Двое других отправились домой, но Арнгрим и летом, и зимой плавал по морям. Он был сильным, храбрым и красивым мужчиной, но жестоко обращался со мной, потому что я никогда не показывала ему своей любви. Сестер своих я больше не видела и не знаю, что с ними сталось, потому что Арнгрим никогда не отвечал мне на вопросы о них. Он много плавал по морям и везде одерживал победы. Меня он держал в закутке под палубой. Он боялся, что я убегу и спрятал мою одежду, но одарил дорогими мехами, коврами и украшениями. На борту драккара был один молодой дан по имени Асбьёрн; и я подговорила его сбежать вместе со мной и прихватить с собой золото, но Арнгрим узнал об этом. Он убил Асбьёрна и стал относится ко мне еще хуже. Однажды мы были у островов Сюдерь и повстречали там норвежских викингов. В сражении с ними Арнгрим пал. Гуннар, твой отец, был хёвдингом норвежцев. И когда он вывел меня на палубу, я подошла к телу Арнгрима. Я встала на колени и смочила свои волосы его кровью. И не было для меня слаще времени, ибо я помнила, что Арнгрим по ночам обычно завязывал мои волосы узлом у себя на шее. И тогда Гуннар спросил меня о моем имени и роде, «ибо, — добавил он, — я думаю, что ты так же знатна, как и красива». И мы проговорили с ним весь день и всю ночь. Гуннар пообещал отвезти меня домой в Данию, и он подарил мне красивые платья, и так хорошо относился ко мне, что я полюбила его. И тогда он сказал, что хотел бы отказаться от своей жены. И он хотел оставить меня у моих родственников. Но я решила не расставаться с ним. И жила у него на корабле, и вскоре поняла, что жду ребенка. И тогда он обрадовался еще больше, потому что у Альвсуль, его жены, детей не было. Он привез меня в Вадин; но вскоре ярл призвал его в свою дружину, и он уехал. Он попросил Альвсуль хорошо относиться ко мне и ребенку. И ухаживать за ребенком как за своим собственным. И затем мы расстались, и я очень тосковала и печалилась. Альвсуль и ее приемная мать были со мной, когда я рожала, и когда появился на свет мальчик, они тут же забрали его и отправили с ним раба в лес, а всем в усадьбе приказали говорить Гуннару, что ребенок родился мертвым. А меня обещали убить самым ужасным образом, если я вдруг решусь пожаловаться. Вскоре пришло известие, что Гуннар тяжело ранен и долго еще не сможет приехать домой. Тогда Альвсуль приказала мне переселиться в дом, где жили ее рабы. Одного из них звали Сварт [3]. Он защищал меня и был добр ко мне, и он взял меня в жены. Альвсуль построила для него дом в лесу, там, где сейчас живет Скофте, и объявила всем, что теперь я жена трелля. Когда Гуннар вернулся домой, она сказала ему, что я живу теперь со Свартом, и Гуннар тогда так разгневался, что сказал, что убьет нас обоих — и меня, и Сварта. Но я рассказала ему все о мальчике, которого отнесли в лес, и обо всем остальном тоже. Гуннар выгнал Альвсуль из усадьбы и предложил мне уйти от Сварта и переселиться к нему в дом. Но я посоветовала ему найти себе другую жену; и он выбрал Хердис, твою мать, и она была моложе и красивее меня. Ты знаешь, что во время родов она умерла, и тогда я попросила Гуннара отдать мне тебя на воспитание. И с тех пор все так и было, и Гуннар хорошо относился ко мне и моим сыновьям, и всех их освободил. И всю жизнь я видела от него только добро.XVIII
Вигдис сказала: — Больше всего меня удивляет, что осталась ты с рабом, который силой взял тебя. Я бы попросила Гуннара, чтобы он разорвал его лошадьми. Оса ответила: — Для Гуннара было больше чести взять в дом богатую жену из хорошего рода. И еще у меня был ребенок от Сварта. Я не хотела, чтобы у меня отняли еще одного сына. — У тебя совсем иное в голове, чем у меня, — отвечала Вигдис. И помолчав, добавила: — Не много радости было у него с моей матерью, да и вряд ли он обрадуется, когда услышит о моем ребенке. — Оставь мальчика там, где он находится сейчас, — сказала Оса. — Хотя бы пока Гуннар жив. А потом можешь взять его к себе и утешишься этим. А с Коре мы уладим дело. Вигдис сложила руки на груди и посмотрела на огонь в очаге. — Не хочу я больше жить в страхе и горечи и надеяться, что все уладиться само собой. И пусть будет, как будет, и хуже чем будет, уже не бывать. Она взяла шаль, пошла к двери и кликнула работника, что колол во дворе дрова. — Возьми это, — сказала она и отдала работнику шаль. — Иди к Скофте и передай, чтобы он вечером вернул мне то, что нашел вместе с этой тряпкой. После этого она вернулась в дом и села на скамью у очага. Долго они молчали. А потом Оса произнесла: — Не скоро еще Скофте придет сюда. Давай ляжем и поспим. — Ложись, — ответила Вигдис. Оса ничего не сказала и осталась сидеть. Через некоторое время Вигдис сказала: — Ложись спать, Оса. И приемная мать Вигдис поняла по ее голосу, что лучше девушке сейчас не перечить. Поэтому она пошла и легла, но не заснула. Вигдис все сидела, она совсем не шевелилась, только подкладывала дрова, когда огонь начинал гаснуть. И так просидела она до первых петухов. Вскоре в дверь постучали. — Открой, Оса, — попросила Вигдис. Оса так и сделала, и в комнату вошел Скофте. На руках у него был мальчик, завернутый в шкуру. Вигдис встала, взяла лучину и зажгла ее. Скофте снял шкуру и поднес ребенка ближе к свету. Мальчик заплакал, потому что они разбудили его. Вигдис долго смотрела на ребенка, но на руки его не брала. Он был слишком мал и худ для своего возраста, с длинными темными волосами и голубыми глазками. Он очень походил на Льота. Скофте опустил его на пол — он хотел показать, что мальчик уже может стоять, держась за его руку, но вот ходить он еще не научился. Он все время плакал и держался за одежду своего приемного отца. Вигдис бросила лучину в огонь и вновь села у стола. Мальчик все не унимался, и Скофте сказал: — Он плачет, потому что еще не проснулся, а характер у него спокойный. — Тогда уложи его спать, — ответила Вигдис, — а то он перебудит всю усадьбу. Оса взяла его на руки и хотела отнести на кровать, но тут Вигдис сказала: — Не хочу его там видеть. Найди ему другое место. А ты, Скофте, отправляйся в большой дом и ложись спать. Я заплачу тебе, хотя этот мальчишка ничего и не стоит. Оса положила ребенка на скамью и сама села рядом. Вигдис не ложилась спать этой ночью.XIX
Оса дочь Харальда пришла к Гуннару на следующее утро, когда он еще лежал в кровати. Она попросила всех выйти из зала и села к нему на кровать. Они долго говорили в тот день. После этого разговора он встал, оделся и пошел к Вигдис. Вигдис встала, когда он вошел к ней, бледная и испуганная. Но Гуннар мало говорил, и Оса старалась держаться к нему поближе. Он посмотрел на мальчика и сказал: — По нему сразу видно, кто его отец. Вигдис ничего не ответила, и Гуннар тогда продолжил: — Мне всегда было тяжело, что у меня всего один ребенок и нет сыновей. Но сдается мне, я всегда относился к тебе с любовью и не был жесток. И думалось мне, что увижу я тебя радостной и счастливой. Но было бы лучше, если бы у меня вообще не было детей, чем видеть твой позор и знать, что по двору бегает бастард. Вигдис отвечала: — Да, отец, ты прав, и было бы лучше, если бы у тебя вообще не было дочери. Гуннар ничего больше не сказал и ушел.XX
Время шло, и в Вадине все было спокойно. Во дворе работало мало человек, и Гуннар и его работники редко выезжали из усадьбы. Гуннар очень тяжело переживал свой позор и быстро состарился, согнулся и иссох. Мальчик остался в доме. Оса ухаживала за ним и очень к нему привязалась. Но Вигдис относилась к сыну безо всякой любви и не дала ему никакого имени. Она была очень печальна и никогда не выходила за пределы усадьбы Вадина. Однажды Вигдис с Осой были заняты выпечкой хлеба. Мальчик вбегал и выбегал из дома; ему в то время было два года. Оса замесила два маленьких хлеба и показала их ребенку. Она хотела испечь их для него. Мальчик так обрадовался, что принялся бегать вокруг женщин и спрашивать про свои хлеба и нечаянно опрокинул опару. Вигдис подхватила сына, потрясла его и ударила. И при этом она сказала: — Всегда от тебя одни беды. Малыш закричал и заплакал, и Вигдис отнесла его на скамью. — Сиди здесь, — сказала она, — и замолчи. Я не хочу слышать, как ты плачешь из-за пустяка. Она вернулась к тесту и молча стала работать, но вскоре сказала Осе: — Не много мне радости от этого ребенка. И не думаю я, что принесет он кому-нибудь счастье в жизни. И он совсем не похож на меня, и не плакала я, когда он был зачат, — но отец его, быть может, был недалек от слез в тот миг. — Не стоит тебе говорить такие вещи, — ответила Оса. Вигдис помолчала и продолжала работать. Мальчик все плакал и никак не мог остановиться, он закрывал лицо ручонками и, когда мать посмотрела на него, спрятал лицо между мешками, которые лежали на скамье. Вскоре Оса вышла во двор. Вигдис взяла с круглого противня маленькие хлеба и дала их мальчику. — Вот возьми и молчи, — сказала она и положила хлеба ребенку на колени. Мальчик сидел тихо и смотрел на мать. Он попробовал хлеб пальцем, но он показался ему очень горячим, и было заметно, что мальчик напуган. Тогда Вигдис погладила сына по голове. А потом попросила его пойти к Осе.
XXI
Зима прошла, и не случилось ничего, достойного быть тут упомянутым. Это было уже после зимнего солнцестояния, и солнце все сильнее пригревало. Днем с крыш капало. Бонды послали своих людей в лес рубить деревья. И однажды утром Гуннар тоже отправился на восток в лес, проверить, как идет работа. В тот же день, когда Оса и Вигдис накрывали на стол к обеду, Оса посмотрела в раскрытую дверь и сказала: — А вот и Гуннар возвращается домой. Только как-то странно он едет — сдается мне, что либо он пьян, либо болен. И она вышла к нему навстречу. Вигдис сняла с огня котел с кашей и стала раскладывать на столе ложки. И тут она услышала крик Осы. И когда они вошли в дом, Вигдис увидела, что Скофте и еще один работник ведут Гуннара под руки. Оса отошла в сторону, и Вигдис заметила, что Гуннар очень бледен и что его седая борода, спускающаяся на грудь, вся в крови. Руки у Вигдис разжались и все, что она держала, упало на пол. Она подбежала к отцу и спросила, что случилось. Гуннар сделал знак, что они должны усадить его на скамью. Он посидел немного, прислонившись головой к стене, и сказал: — Случилось так, что я поговорил с Эйульфом из Гримелюндара, и больше уж нам с ним говорить не придется. Вигдис быстро спросила: — Так ты убил Эйульфа? — Нет, — ответил Гуннар, — но сдается мне, что смерть моя близка. Оса и Вигдис сняли с Гуннара рубашку, осмотрели его рану и поняли, что он был прав. Вигдис тогда сказала: — Теперь, отец, расскажи нам, как все было. Гуннар ответил: — Мы с Эйульфом встретились с лесу, и он заговорил со мной о тебе, Вигдис. И тебе понятно, что не стал я молча стоять и выслушивать его речи о моей обесчещенной дочери. Вигдис промолчала. И они положили Гуннара на кровать. Гуннар приказал Скофте скакать на север, в лесную избушку, где сейчас жили его работники, и сказать им, чтобы они возвращались домой, потому что неизвестно, что решат теперь предпринять сыновья Арне, «и, — добавил он, — Эйульф сказал, что Вигдис вскоре станет его наложницей». Оса осталась сидеть у кровати Гуннара, а Вигдис отвела в сторону Олава, работника, который ездил вместе с Гуннаром в лес, и спросила его: — Как защищал ты своего хозяина, Олав? — Как подобает настоящему воину, — отвечал ей работник, — да и сам Гуннар вел себя достойно. Мы каждый убили по одному из людей сыновей Арне, но их было шестеро. И когда Гуннару была нанесена тяжелая рана, я догнал того человека и расправился с ним. И он свалился с лошади, а остальные ускакали. — А ты не знаешь, где находится их избушка в лесу? — спросила его Вигдис. — Я знаю, что люди из Гримелюндара живут около озера, что в лесу Гаутестада, и называют то озеро Детским. Вигдис немного помолчала, а потом сказала: — Эйульф наверняка думает, что хорошее дело сделал сегодня. И сдается мне, что спит эта свинья, нажравшись помоев за обедом. И с этими словами она вышла из дома и зашла в кладовую, достала из своего сундука жреческий нож, надела черный плащ и повязала голову темным платком. После этого она нашла свои лыжи и палки, и отправилась вдоль опушки леса на север по направлению к Гаутестаду. Она шла все время на север, вдоль гор позади усадьбы. В лесу все еще лежал плотный снег, и идти на лыжах было легко. И вскоре она уже увидела вдалеке озеро и избушку, в которой жили люди из Гримелюндара. По следам вокруг было заметно, что много людей там жило и много бревен они срубили. Кругом валялись щепки и опилки. Но никого не было видно. Вигдис старалась держаться в тени деревьев, и ей удалось незаметно подобраться к избушке. Она сняла лыжи и заглянула внутрь. У двери лежали секира и щит, которые, как она знала, принадлежали Эйульфу. Избушка была низенькой и очень маленькой. Вигдис вошла внутрь и увидела, что в избушке спят два человека. Один из них был Эйульф. Вигдис сначала подошла к другому человеку, стащила с него одной рукой плащ и закутала его голову, а другой всадила ему нож в горло. Мужчина умер мгновенно. После этого она подошла к месту, где спал Эйульф. Вигдис положила ему руку на грудь и разбудила его: — Просыпайся, Эйульф, сейчас ты получишь то, за чем так долго гонялся. К тебе пришла Вигдис из Вадина. Эйульф очнулся ото сна; в избушке было темно, и он никак не мог разглядеть ее. Вигдис тогда сказала: — Это правда, что я обесчещена, если уж пришла к тебе в постель. И в тот же миг она вонзила в него свой нож. И на этот раз она тоже не промахнулась, но Эйульф отпрянул назад, и из его горла ручьем хлынула кровь. Она еще два раза ударила его ножом, и в последний раз не стала вытаскивать нож, а оставила его в теле. Она посмотрела, умер ли Эйульф, и затем вымазала в его крови руки и вытерла их о его волосы. Эйульф испустил дух, и Вигдис вышла из дома, надела лыжи и пошла вниз к своей усадьбе. Похолодало, и Вигдис легко скользила по склону, она сделала все, что хотела. Но изредка ей приходилось останавливаться, потому что руки у нее дрожали, и все время перед глазами у нее был мертвый Эйульф. И она отомстила не только убийце Гуннара, но и защитила свою честь. И она так была этим возбуждена, что с трудом разбирала дорогу и не очень понимала, куда направляется. И так случилось, что неожиданно оказалась она на дороге, по которой возили спиленные деревья, и там ей повстречался Коль сын Арне со своими людьми. Они везли пустые сани и, заметив ее, стали кричать что-то ей вслед. Коль и еще один человек бросились за ней в погоню, но провалились в снег, а лыж у них с собой не было. Вигдис побежала к небольшой речке и перебралась на другой берег по льду, хотя он уже заметно потемнел и подтаял. И так ей удалось уйти от погони. Она не останавливалась и не отдыхала, пока не добралась до своей усадьбы, и тут же отправилась в дом, где лежал ее отец. Он спал, а Оса сидела возле него. И Вигдис крикнула: — Проснись, отец, ибо есть у меня новость, которая тебя сильно обрадует. Я отомстила за нас и убила Эйульфа сына Арне, что посмел позорить твой род. Гуннар тут же проснулся и приказал помочь ему сесть и потребовал, чтобы Вигдис рассказала ему о своем поступке. И после ее рассказа, он попросил дочь наклониться, поцеловал ее и сказал: — Ты показала себя взрослой и мужественной женщиной — я всегда знал, что такой ты и станешь. И не сержусь я больше на тебя за то, что дала ты себя обмануть исландцу. И я желаю тебе и твоему ребенку хорошей судьбы. Затем Вигдис рассказала ему о встрече с Колем, и Гуннар спросил, узнал ли ее сын Арне. — Не знаю, — ответила ему Вигдис. — Но уж мой жреческий нож он узнает наверняка. А его я забыла у Эйульфа. Тогда Гуннар сказал: — Не смогу я защитить тебя, и не думаю я, что успеют сюда вовремя Скофте с нашими людьми. И будет лучше, если ты возьмешь мальчика и пойдешь с ним в Грефсин. Кажется мне, что не забудет Коре добра, что я ему сделал. А Олав тем временем соберет все ценные вещи, что тут есть и спрячет их в пещере на берегу реки, неподалеку от нашего сарая. — Не хочу я оставлять тебя, отец, — сказал Вигдис, но Гуннар ей ответил: — Я хочу, чтобы ты спаслась сама и спасла ребенка. И не хочу я, чтобы род наш прервался, а я уже и так долго прожил на этом свете. И собирайтесь побыстрее. И ты, и Оса. Оса ответила: — Не решусь я сейчас идти на лыжах, и не собираюсь я бросать тебя, Гуннар. И был ты мне и моей семье хорошим хозяином. И не уверена я, что Коль придет к нам сегодня — но пусть Вигдис отправится к Коре и попросит его помочь нам. И решили они, что Оса останется с Гуннаром, и никто не мог отговорить ее от этого. Вигдис пошла к себе, разбудила сына и одела его. Она собрала все свои украшения из серебра и золота в кожаный мешок и положила туда еще хлеба и копченого мяса, потому что у нее не было времени покормить мальчика. Затем она взяла его на руки и пошла к своему отцу попрощаться. Гуннар поцеловал их обоих. А затем она с любовью и нежностью простилась с Осой и помолилась, чтобы они остались живы.XXII
Вигдис вышла из дома и надела лыжи, привязав их покрепче к ногам ремнями. Она выбрала лыжные палки с длинными шипами на конце и большими кольцами. Затем покрепче привязала мальчика к спине платком и быстро пошла на север. Солнце еще только клонилось к закату, но снег уже покрылся таким настом, что на нем почти не оставались следы от лыж, хотя Вигдис несла на спине мальчика. Она спустилась к реке и шла некоторое время против течения вверх, пока не нашла место, где лед был достаточно крепким для переправы. Она очень устала в тот день. Когда она взобралась на гору, то остановилась и оглянулась. Над фьордом небо окрасилось в красный цвет. Людей нигде видно не было. Но ведь вокруг их усадьбы рос густой лес. Вигдис пошла к Грефсину. Она шла не очень быстро, и на небе уже появились звезды, когда она приблизилась к усадьбе. Но нигде не было ни огонька, и все двери были заперты. Вигдис постучала в дверь лыжной палкой, но никто не вышел и нигде не было слышно ни звука, не считая мычания коров в хлеву. Тогда она поняла, что в усадьбе никого нет. Пока Вигдис стояла и раздумывала, что же делать, она опустила мальчика на землю. И вдруг он дернул ее за плащ и указал на небо. Вигдис посмотрела и увидела, что над Вадином на небе появилось красное зарево. Оно становилось все ярче и ярче, и вскоре показался черный дым. Мальчик испугался, заплакал и спрятал лицо в одежде Вигдис. Тогда она взяла его на руки и сказала: — Там сжигают твоего деда и Осу, твою приемную мать. Посмотри на это, малыш, и не забудь об этом. Она знала, что именно горит, потому что внезапно дым окрасился в красные и золотые тона. Это горели сеновал и амбары, и солома и зерно разлетались искрами по темному небу. От зарева было светло, как днем. И тут она увидела, как к Грефсину устремилось множество мужчин на лыжах, и поняла, что оставаться ей тут нельзя. Вигдис подхватила мальчика и изо всех сил бросилась к лесу. Она решила, что будет разумнее всего некоторое время идти по лыжне, которойпользовались обитатели усадьбы, и тогда найти ее будет не так легко. Она направилась на север, потому что знала, что в горах у Большого озера живут люди, и она надеялась, что там ей удастся спастись. В лесу было совсем темно, и она двигалась очень осторожно между деревьями. Ей было тяжело идти в гору, потому что крутой склон обледенел, и Вигдис несколько раз скользила и падала. Она ободрала себе руки и оцарапала до крови лицо. Ночь была морозная, но Вигдис ничего не замечала, она вспотела и сердце ее билось так сильно, как будто готово было выпрыгнуть из груди. Но хуже всего было то, что мальчик обхватил ее за шею, и когда она взбиралась наверх, он чуть не задушил ее. Наконец она заметила, что выбралась на гребень горной гряды, и идти стало легче, но ей казалось, что тут никогда не ступала нога человека. И когда Вигдис оборачивалась, она видела над верхушками елей зарево пожара, но теперь оно было не таким ярким. Через некоторое время мальчик опять заплакал; он замерз и хотел есть. — Не плачь, малыш, — сказала мать. — Мы скоро доберемся до людского жилья, я дам тебе каши и уложу спать. — А мы скоро туда придем? — спросил мальчик. — Да, скоро, — ответила ему Вигдис. Она сняла плащ, завернула в него ребенка и привязала этот сверток к спине. Вскоре она заметила просвет между деревьями, уходивший вниз, и изо всех сил упираясь палками, стала спускаться вниз. Спуск был очень трудным, и каждый раз, останавливаясь отдохнуть, Вигдис чувствовала, как дрожат колени и струится по лицу пот. На небе появилось множество звезд, но в лесу по-прежнему было темно, потому что луна всходила теперь только ближе к рассвету. Наконец она увидела впереди светлую полоску и поняла, что это река. Она постаралась спуститься на ее берег, но зацепилась за дерево и упала и почувствовала, что порвала ремни на левой лыже. У нее был с собой нож, и она нарезала тонких березовых веток и постаралась закрепить лыжу, как могла. Мальчика она посадила пока на снег. Она довольно долго провозилась с лыжей, а когда закончила, взяла сына на руки и спросила: — Ты замерз, мой мальчик? — Нет, — ответил он. Вигдис потрогала его руки — они были ледяные, и она поняла, что мальчик их отморозил. Тогда она принялась растирать сыну руки снегом, пока он не заплакал и не сказал, что ему больно. Тогда она получше укутала его и пошла вниз по течению реки туда, где, она знала, находилась усадьба. Она почувствовала, что замерзла, пока возилась с сыном. А возле реки дул сильный северный ветер. Он дул Вигдис в лицо и пронизывал ее одежду насквозь. Она шла и смотрела вокруг, пытаясь разглядеть дома, но ни одного не видела. Наконец на одной горе она заметила дом и, когда подошла поближе, увидела, что это сеновал. Вигдис так устала, что была не в состоянии идти дальше. Она нашла дверь, которая оказалась не заперта, и вошла внутрь. В сарае было так же темно, как и наружи, и ненамного теплее. В углу Вигдис отыскала немного сена и зарылась вместе с сыном в него, но сено оказалось холодным и совсем не согревало. Мальчик спросил, добрались ли они до людского жилья и когда он получит кашу. — Хозяев нет дома, — ответила Вигдис. — И ты, наверное, устал, но мы сейчас ляжем спать, а хозяева вскоре придут. — Я очень голоден, — пожаловался ребенок. Тогда она нашла в своем мешке немного хлеба и мяса, разжевала их и положила ребенку в рот. Он замолчал, но весь дрожал. Вигдис тоже трясло. Тогда Вигдис расстегнула свое платье спереди и прижала малыша к голому телу, а потом завернулась в плащ и постаралась прикрыться сеном. Мальчик заснул, и ей было тепло от его дыхания. Вигдис тоже задремала, но ей приснилось, что она в темноте блуждает по лесу и никак не может найти дорогу, и тогда она вздрогнула и проснулась сама и разбудила сына — но тут же успокоила его ласковыми словами, которыми женщины обычно успокаивают своих малышей. Так они лежали в темноте, а стены сарая даже потрескивали от мороза. Сквозь щель она увидела, как взошла луна и осветила лес. Мальчик снова проснулся и попросил пить. Ей тоже хотелось пить, и она сказала, что пойдет за снегом и растопит его. Вигдис замерзла, и ей нужно было немного подвигаться, чтобы согреться, но малыш заплакал и не хотел отпускать ее. Тогда Вигдис взяла сына за ручку, и они вместе подошли к двери. — Ну вот, те, кто живут здесь, возвращаются домой, — сказал ребенок, и Вигдис увидела, что вдоль реки с юга идут люди. У них был факел. Она надела лыжи, и когда прошла немного, поняла, что чувствует себя лучше, чем в сарае. Но она не знала, чем закончится ее путешествие. Она дошла до реки и пошла вниз по течению. Вигдис знала, что из озера в Хакедале вытекала река, и она решила идти вниз и постараться добраться до людского жилья, но она не знала, как далеко ей придется идти. И с каждым шагом она уставала все больше и больше и, наконец, решила лечь под ель с малышом и остаться там навсегда — и большой беды в том не видела. Но она все шла и шла и дошла до большого озера, и в лицо ей опять стал дуть ветер — и тут издалека донесся волчий вой. Она ускорила шаг и подумала, что было так холодно, что вряд ли волки могли ее учуять. Потом вой стих, и она слышала лишь шум речки под обрывом, по которому шла. Луна светила холодным светом, на снегу лежали длинные черные тени, и вдруг Вигдис увидела под деревьями большое темное пятно. Силы оставили ее, и Вигдис забралась под еловые лапы и постаралась как можно плотнее закутаться в плащ. Она обняла мальчика, чтобы согреть его, оперлась о его головку подбородком и провалилась в сон.XXIII
Рассвело, и Вигдис увидела, что сидит на уступе, и над ней возвышается отвесная скала, а внизу, под обрывом, в узкой долине, бежит быстрая речка. Мальчик спал, и по нему не было заметно, чтобы он особенно пострадал в эту ночь. Вигдис решила поспешить к людям, но не знала, куда идти. И она так устала, что не могла заставить себя двинуться с места. Немного погодя она попыталась пошевелиться, но не успела встать, как в воздухе зазвенело и прямо над ее головой в ствол ели воткнулась стрела. И когда стрела все еще покачивалась, из леса показался человек на лыжах. Он остановился, увидев ее, и был так удивлен, что некоторое время стоял молча, а потом спросил: — Здесь люди? Вигдис была не в состоянии отвечать. И тогда он сам подошел к ней, и когда увидел, что на руках у нее ребенок, удивился еще больше. Это был высокий мужчина со светлыми длинными кудрявыми волосами и бородой, и вся его одежда была сшита из кожи, с топором на поясе, луком на плече и копьем в руке. Он заговорил с Вигдис и стал спрашивать, откуда она пришла, но девушка только сидела и смотрела на него и не могла говорить, и тогда мальчик сказал: — Они сожгли двор дедушки. — Когда это случилось, — спросил мужчина, — и где находится ваш двор? — Я из Вадина, — ответила Вигдис, — и все это случилось сегодня ночью. — Так вы дошли сюда за одну ночь? — удивился человек. — Никогда еще не слышал, что женщина может совершить такой переход на лыжах. Через некоторое время он сказал: — Вам надо согреться, и мой дом не так уж велик, но все-таки там вам будет лучше, чем здесь. Он помог Вигдис встать и обнял ее, а ребенка хотел взять на руки, но мальчик вцепился в мать и не хотел идти на руки к незнакомому мужчине. Тогда Вигдис сказала, что может нести его сама. Мужчина поддерживал Вигдис, и так они стали спускаться к реке. Но вскоре он заметил, что она не держится на ногах, и тогда поднял ее на руки, снял с нее лыжи и понес и ее саму, и ребенка, и лыжи, и Вигдис не помнила, как они добрались до дома. Его жилище было в узкой долине среди гор. Он сказал: — Ты отморозила себе кисть, — и взял ее за левую руку, и Вигдис увидела, что она зеленоватая и блестит, как лед. Он снял с нее чулки и башмаки и долго растирал ей ступни и руки снегом, но рука все равно выглядела ужасно. Наконец он повел ее в дом и уложил на кровать. Он дал ей выпить из рога, и Вигдис сразу заснула, хотя рука ее и болела. Вечером Вигдис проснулась и увидела, что в очаге горит огонь, а рядом сидят трое мужчин в рваной и бедной одежде, но хорошо вооруженные и с красивыми украшениями. Один из них был тот человек, которого она встретила в лесу. Рука очень болела и она не могла даже попробовать то угощение, что предложили ей хозяева. И к ночи ей стало еще хуже, теперь уже болела вся рука до плеча. Утром к ней подошел тот мужчина, что нашел их в лесу — его звали Иллюге, — и спросил, как она себя чувствует. Вигдис отвечала, что никогда еще не испытывала столь сильной боли, и спросила, не думает ли он, что ей может быть лучше. Он посмотрел на руку Вигдис и ответил, что дела ее плохи. Тогда Вигдис сказала: — Ты должен помочь мне и отрубить вот эти три пальца. Иллюге посмотрел на нее, но потом согласился, что это будет правильное решение. Так они и сделали. Один из его друзей крепко держал ее, чтобы она не могла двигаться, а Иллюге отрубил ей три пальца на левой руке. Вигдис даже не вскрикнула, а только сказала Иллюге: — Ты сильный мужчина, Иллюге, и у тебя легкая рука. Иллюге перевязал ей рану и уложил в постель. Вигдис вскоре поправилась и смогла рассказать им обо всем, что случилось.
XXIV
Эти трое были лесными разбойниками, и Вигдис припомнила, что слышала разговоры о том, что поездки через лес на север небезопасны. Двое из них были братьями, и звали их Хермод Злой и Эйнар Хаделандец. Иллюге же пришел в их леса с севера. Он был очень привлекательный мужчина, высокий и стройный, с маленькими руками и ногами, красивыми чертами лица и орлиным носом, голубыми глазами и длинными светлыми кудрями и бородой. Однажды утром, когда Вигдис чувствовала себя намного лучше, Иллюге пришел к ней, когда она одна играла с ребенком. Они немного поговорили, а потом он сказал: — Мы с Хермодом и Эйнаром говорили о том, что не так уж и легко найти себе в горах жену. И положение твое не на много лучше нашего, ведь тебя тоже выгнали из дома. И решили мы, что с сегодняшнего дня мы с тобой будем делить постель, а весной я выстрою дом к северу от озера, а Эйнар с Хермодом тоже постараются найти себе жен. Вигдис держала ребенка на руках. Она ответила: — Не думала я, Иллюге, что станешь ты принуждать меня. Иллюге помолчал немного, а потом сказал: — Принуждать я тебя не стану, но чего ты ждала? Потому что тебе придется выбрать себе когда-нибудь из нас в мужья, и сдается мне, что я имею на тебя больше прав. И тут у озера, что мы зовем Медвежьим, хорошая охота и рыбная ловля. Для тебя и ребенка жизнь будет лучше, чем ты могла ожидать, когда я нашел тебя. Вигдис ответила: — Вы намного лучше, чем о вас думают в округе, если хотите расчистить для жилья себе и другим место в густом лесу. И не понимаю я, почему вы не спуститесь к людям в долину. Думается мне, что никто не посмеет возразить вам, если вы захотите поселиться рядом с моей усадьбой, потому что не знаю я никого, кто мог бы померяться силами с любым из вас. Иллюге сказал, что не так им легко выйти из леса, как она думает. Вигдис же возразила ему: — Не собираюсь я доставить радость Колю сыну Арне, кто сжег моего отца, выгнал меня и моего сына из отчего дома — хотя я и одинокая женщина, и молода еще. И знаю я, где отец спрятал свое золото перед смертью, и собираюсь пойти туда и забрать его. И если ты и твои друзья поможете мне, то поделюсь я с вами богатством и будет тогда у нас одна судьба. — Ты достойная женщина, — заметил Иллюге, — но недалеко мы от поселения Осло, а там наши подвиги хорошо известны. Хотя и не было этой зимой конунга Олава в Хаделанде. Тогда Вигдис сказала: — Может, это и к лучшему для нас всех. У меня есть дело к королю. И еще я слышала, что он пытается сейчас обратить всех в свою новую веру и очень добр к тем, кто принимает ее. Но дома у нас многие держались старой веры и приносили жертву богам в Торсхове [4], и решила я теперь поехать к конунгу Олаву, и если никто из вас не посмеет поехать со мной, то я буду благодарна и за то, что вы укажете мне путь. И обещаю вам, что тогда и жизнь ваша изменится, и будет такой же, как и моя. Вигдис еще много говорила с лесными разбойниками об этом деле. Эйнар Хаделандец, самый молодой из них, хотел попробовать добиться возвращения отцового двора, да и Хермод был не прочь расстаться с разбойничьей жизнью, купить корабль и уплыть из страны. Лишь Иллюге возражал против предложения Вигдис и часто говорил с ней об этом, когда они оставались вдвоем, и просил стать его женой. И она отвечала, что они поговорят об этом, когда она получит обратно Вадин. Тогда Иллюге согласился поехать с ней на север к королю в Хаделанд.XXV
Вигдис и Иллюге приехали к королевскому двору, когда конунг Олав со своими дружинниками отмечал вербное воскресенье. Им отвели жилье на хуторе неподалеку. После службы они отправились к конунгу, и Вигдис попросила разрешения поговорить с Олавом. Она привела себя в порядок и украсила, как смогла. И она держала себя с достоинством и хорошо говорила о своем деле. Конунг сидел и смотрел на нее, а когда она закончила рассказ, сказал: — Тебе было причинено несправедливое зло, Вигдис, если все было так, как ты рассказываешь. И об этих сыновьях Арне доводилось мне слышать много плохого и раньше. Но кто твой спутник? Иллюге вышел вперед и сказал: — Меня называют Иллюге Светлый, господин, и последние годы я провел в здешних лесах. Конунг нахмурил брови и ответил: — И твое имя слышал я раньше — и было бы для тебя лучше, Вигдис, если бы были у тебя другие советчики и защитники в этом деле, чем объявленные вне закона лесные разбойники. — Но так уж получилось, конунг, — ответила Вигдис, — что эти люди помогли и спасли жизнь мне и моему сыну, когда я бежала из дома как преступница. И Иллюге показал мне дорогу сюда, когда я попросила его об этом, хотя и знал, что для него эта поездка может оказаться последней. И поэтому, господин, не соглашусь я принять никакой помощи, пока не будет мне обещано, что Иллюге отпустят домой и не схватят, если не решит конунг простить его. Конунг решил, что во время Пасхи никто не может притронуться к Иллюге, а потом они еще раз поговорят о его деле. И Олав пригласил их быть его гостями до тинга, и часто разговаривал с Вигдис, и она все рассказала ему об убийстве Эйульфа сына Арне и о своем путешествии к нему. В Светлое воскресенье Олав позвал ее к себе: он один сидел в зале и приказал ей сесть рядом на скамью. Дело было к вечеру. Конунг спросил ее об Иллюге и о том, не он ли отец ребенка. Вигдис ответила, что нет и сказала, что между ней и Иллюге ничего не было. Тогда конунг Олав спросил, кто же отец ребенка, где он сейчас и почему она не замужем. — Мне мало о нем известно, господин, — ответила Вигдис, — он не из нашей страны. Я была молода и глупа, и поэтому дала себя обмануть — но не хочу я говорить о нем и прошу больше не спрашивать меня об этом деле. Тогда конунг обнял ее и сказал: — Но недолго тебе быть вдовой, Вигдис, с твоей красотой и мудростью. Вигдис хотела встать, но Олав взял ее за руки и посадил себе на колени, и тогда она сказала: — Так уж случилось, что не любила я многих мужчин, и прошу сейчас отпустить меня, потому что уже очень поздно. Конунг Олав рассмеялся, поцеловал ее и ответил: — Больше всего хочу я, чтобы осталась ты, ибо сдается мне, что мы подходим друг другу. И не будет тебе стыда, Вигдис, стать моей наложницей. А я уж смогу отблагодарить тебя за любовь. — Недостойные это конунга речи, — сказала она, — и можешь ты получить, кого пожелаешь, и не стоит пить из чаши, из которой уже отпил другой. Тут конунг опять засмеялся и вновь поцеловал ее, а потом сказал: — И тем не менее сладок мне твой поцелуй, Вигдис. И он поднял ее и хотел уложить на скамью и позабавиться с ней. Но Вигдис уперлась ему рукой в грудь и сказала: — Много пришлось страдать за тебя твоему Богу, и придется страдать Ему еще больше, если причинишь ты мне сейчас зло. Олав отпустил ее, а потом встал сам и сказал, что если она хочет, то может уйти. Вигдис спустила ноги на пол, но не хотела уходить от конунга. Однако Олав сидел молча и не хотел говорить с ней, и тогда Вигдис встала и вышла из зала и пошла в дом, где спали женщины. Следующие два дня были праздники, и конунг не говорил с ней в эти дни. Но на третий день он послал за Вигдис. И когда она пришла, он сидел в зале и там было много его воинов. И он сказал, что хочет послать с ней дружину в Грефсин и помочь ей в ее деле, чтобы получила она все принадлежащее ей по праву. И он пообещал простить Иллюге и его друзей. А затем отвел Вигдис в сторону и спросил, глядя ей в глаза: — Скажи мне честно, Вигдис, не собираешься ли ты выйти замуж за Иллюге Светлого, когда получишь обратно Вадин? Вигдис прямо посмотрела на него и ответила: — Плохо же ты обо мне думаешь, конунг, если решил, что я предпочту волка льву. Но сейчас, когда ты был так добр ко мне и показал, что нету равных тебе среди хёвдингов, есть у меня еще одна просьба. Отпусти одного из своих священников со мной в Вадин, и пусть он обучит меня христианству и окрестит. Ведь отец мой полагался на одну лишь свою силу, так же думала и я, а теперь вижу, что ошибалась. Конунг Олав обрадовался. И Иллюге тоже принял новую веру и остался у конунга, и Эйнар Хаделандец потом присоединился к нему, когда дела их были решены, а Хермод купил себе корабль и уплыл из страны. Олав отправил часть своей дружины с Вигдис на юг и дал ей священника. Они приехали в Грефсин, и Коре хорошо встретил ее. И она узнала, что в ту ночь, когда сгорел Вадин, все они были в гостях. И когда Коре увидел пожар, он собрал своих людей и бросился на поиски Коля сына Арне и убил его. А потом они разыскивали Вигдис, но не нашли ее следов и решили, что она погибла. Дело разбирали на тинге, и против сыновей Арне уж нельзя было свидетельствовать, но тем, кто помогал им, присудили выплатить виру за убийство Осы и ущерб, который они нанесли усадьбе Вадин. И это была большая вира. Вигдис отстроила новые дома летом, и вскоре все стали уважать ее за рассудительность и мужество. Она окрестила своего сына и назвала его Ульваром [5], потому что пронесла его в ту ночь через волчий лес. А вскоре она выстроила небольшую деревянную церковь на холме к югу от Фресьи. В поселении Осло люди тоже стали в большинстве своем придерживаться новой веры, и Вигдис гордилась своим крещением. Но она была не очень усердна в вере, потому что много у нее было дел по хозяйству. И прошло много лет, когда все было спокойно в Вадине. Но сейчас пора рассказать о Льоте.
XXVI
В этой саге уже говорилось о Торбьёрне Холегге из Эйре, который воспитывал Льота сына Гицура. Это был могучий и богатый хёвдинг. У Торбьёрна было много сыновей, но о них в этой саге речь не пойдет. Старшего звали Лютинг, и к тому времени, о котором идет речь, он уже умер. Вдовой Лютинга была Гудрун, и ее прозвали Солнцем Восточных фьордов, потому что не было равной ей по красоте женщины в Исландии, и она была очень богатой, умной и мудрой, верной в дружбе и доброй со слугами, но вспыльчивой, упрямой и очень строптивой. У Лютинга и Гудрун была всего одна дочь, и звали ее Лейкни. Люди говорили, что она похожа на мать, но унаследовала от нее только хорошие черты, и все очень любили Лейкни дочь Лютинга. И Лютинг обещал ей, что никогда не выдаст ее замуж против ее воли, и многие пытались посвататься к Лейкни, но все получили отказ. Льот вернулся в Исландию в ту же осень, когда разговаривал с Вигдис на сеттере. И первое о чем он узнал, — это свадьба Ветерлиде и Гудрун, которая должна была состояться через шесть недель после праздника середины зимы. Льот уехал на свой хутор Скомедал и там провел всю зиму и почти не встречался с людьми. Он даже не приехал на свадьбу своего родича, и многих удивило такое его поведение. Летом, когда люди стали собираться на тинг, Льот остался дома. Ветерлиде и Гудрун были на тинге и затем заехали в Скомедал. Они не показали обиды из-за того, что Льот не приехал на их свадьбу, но попросили его проводить их до Холтара, и, наконец, он согласился поехать с ними, хотя долго отказывался. Ветерлиде устроил большой пир, на который приехало много гостей. Угощение было очень хорошее, и все шло как надо, только люди замечали, что Льот сидит нахмурившись и чем-то недоволен. Он мало говорил и не хотел принимать участия в игрищах. В первый же день праздника Ветерлиде надел красивый вышитый плащ, который ему подарила Вигдис. А днем снял его и положил на скамью. Льот тогда взял плащ и положил его себе на колени. Когда Ветерлиде подошел к нему, Льот сказал: — Давай обменяемся с тобой, родич, отдай мне этот плащ, а взамен проси, что хочешь. — Не продаю я то, что получил в подарок, — отвечал Ветерлиде. — Тогда подари его мне, — сказал Льот: — Никогда я ни о чем не просил тебя. Ветерлиде сначала ничего не ответил. Тогда к ним подошла Гудрун, она слышала, о чем они говорили. И она сказала: — Мало тебе будет чести, Ветерлиде, если откажешь ты в этой просьбе своему родичу. И хозяин должен делать гостям подарки. Так что ты должен, Льот, теперь развеселиться и понять, как хорошо мы к тебе относимся. Сразись с другими воинами в игрищах и покажи нам свою ловкость и смелость. Она попросила Льота встать и накинула ему плащ на плечи; он очень ему шел, сказала она, как будто был сшит для него. И после этого Гудрун отошла от мужчин. Льот остался стоять с плащом на плечах. Ветерлиде тогда проговорил: — Никогда бы ты не получил его, не будь на то желание Гудрун. И не заслужил ты его, а ту, кто сшила его, тебе лучше выбросить из головы. Льот ответил: — Девушка мне нравилась — но сейчас мне приглянулся плащ, уж очень хорошо он сшит. И я благодарю тебя за подарок, который ты не хотел мне сделать, родич. Он улыбнулся, снял плащ и спрятал его в свой мешок. А потом вышел во двор, где устраивались военные игрища. Жили в Исландии в то время два брата, которых звали Одд и Сигурд сыновья Бейне, и были они отличными воинами. Одд был самым сильным мужчиной в той части Исландии. Льот тоже показал себя ловким в игрищах, хотя и не тренировался долгое время. И постепенно он распалялся, и те, кто смотрели на игрища, решили, что он лучший в том, что касается гибкости и быстроты, но уступает Одду в силе. — Тогда хочу я посмотреть, как в борьбе Одду удастся уложить меня на спину, — сказал Льот. И они стали бороться, и вскоре Льот заметил, что по силе уступает Одду, и тогда решил он победить его ловкостью, а Одд слишком полагался на свою силу и не очень следил за противником; и Льоту удалось бросить его на спину. На этом игрища в тот день и закончились. Льот спал в ту ночь в доме для гостей, и когда проснулся, то не спешил вставать. И он услышал разговор двух женщин за стеной. Одна из них сказала: — Ну и как тебе понравилось, что вчера Одда сына Бейне уложили на спину — не будет он больше хвастать, что не знает равного себе по силе! Другая девушка засмеялась и сказала: — Мне все равно, нашел себе Одд равного по силе или нет, но рада я, что победил этот красивый воин. — Это Льота ты называешь красивым? — спросила первая. — Он ведь бледен, как мертвец. — Именно о нем я и говорю, — отвечала ей вторая. — Ибо не знаю я никого другого, кто бы победил Одда. Льот встал, оделся и пошел в соседнее помещение. Там было несколько женщин, но Льот обратил внимание на девушку, которую раньше не видел. Она была в светло-зеленом свободном платье и очень красива; скорее маленькая, чем высокая, но с радующими глаз формами, с маленькими руками и ногами, светлым прекрасным лицом и голубыми веселыми глазами, но самыми замечательными были ее волосы, такой длины, что она могла бы завернуться в них, как в плащ, золотистые, как лен, и блестящие. Она только что встала и расчесывала волосы. Льот принялся разговаривать с девушками, но сам все равно посматривал в сторону светловолосой. Когда она расчесала волосы, он подошел к ней и попросил одолжить ему гребень. Она дала ему. Тогда он сказал: — Это ты назвала меня красивым воином? Она слегка покраснела, но улыбнулась и ответила: — Не стала бы я говорить такое, если бы знала, что ты все слышишь, но не считаю я зазорным сказать доброе слово о человеке, которого знаю с детства. Льот удивился и через некоторое время спросил: — Скажи мне свое имя, ибо не могу я узнать тебя. — И не важно это, — отвечала девушка, и Льот понял, что она обиделась. Тогда он сказал: — В последний раз, когда я видел тебя, ты не была и в половину так красива, как сейчас, Лейкни дочь Лютинга. — И не смотрели вы тогда в мою сторону, ты и остальные мальчишки, когда воспитывался ты у моего отца в Эйре, — ответила Лейкни, а остальные женщины засмеялись, хотя они и поняли, что понравился ей ответ Льота. И она рассказала, что гостила у Торбьёрна, а домой вернулась только вчера. Льот спросил о новостях из Эйре, и долго говорил с Лейкни, потому что была она умной женщиной. Вечером он сел рядом с ней и пил пиво. И он сказал ей: — Странно, что не замужем ты, Лейкни, но сдается мне, что считаешь ты, что ни один мужчина тебя не достоин. — Ты не прав, — отвечала она ему, — но не будет большого вреда в этой торговой сделке быть поосмотрительней. И не хочу я жалеть потом, что сделала неправильный выбор. Льот засмеялся и сказал: — Трудно тебя склонить на свою сторону, и не буду я больше задавать тебе вопросов. Лейкни ничего ему на это не возразила, и они стали говорить о других вещах.XXVII
Поздней осенью Гудрун родила сына, Ветерлиде окропил его водой и дал имя Атле. Гудрун все еще не вставала с постели, и однажды утром они с Лейкни остались одни в доме. Лейкни сидела у постели матери и пеленала ребенка. Когда она закончила, то продолжала держать его на руках, а потом принялась целовать и гладить малыша и сказала: — Какой красивый и спокойный ребенок, мама. И хотелось бы мне, чтобы он был моим, а не твоим сыном. Гудрун лежала на кровати, и она зло ответила: — Отдай мне ребенка, и не причитай — тебе еще самой не поздно завести такого. И не понимаю я, почему ты никак не выберешь себе мужа, как другие девушки. Ведь тебе уже двадцать лет. И если бы выбрала ты себе в мужья Одда сына Бейне, то не знала бы ни в чем недостатка. Лейкни ответила: — Но говорила же я, что не соглашусь выйти замуж за человека ниже годи. — Тогда тебе надо было выбрать Рунольва Доброго, — сказала мать. Лейкни засмеялась и проговорила: — Ты не можешь говорить это всерьез, мама. Слышала я, что слуги должны поднимать старика из постели и укладывать в нее. — Ты тоже состаришься, — отвечала ей Гудрун, — и людям в конце концов надоест приезжать сюда за отказом. — Ну, когда-нибудь я выберу себе мужа, — успокоила ее Лейкни. А немного погодя добавила: — Если бы Вига-Льот из Скомедала приехал сюда посвататься ко мне, я бы согласилась взять его в мужья, хотя он и не годи, и ты перестала бы сердиться, что я надоедаю тебе своим присутствием. Мать ответила: — Ты такая же строптивая, каким мог быть Лютинг. И этот двор — последнее место, куда я бы хотела переехать, — в самую дальнюю долину, куда почти никогда не заглядывают люди. — Но говорят, это хорошая усадьба, — сказала Лейкни, — и все наши родичи радовались бы этой свадьбе. Всегда хорошо порадовать свою семью. — Да, — отвечала мать, — Ветерлиде был бы доволен. Он будет рад хорошему выбору, который сделает сын его сестры. Но я бы хотела, чтобы ты выбрала себе более богатого и влиятельного человека в мужья. — Но у нас будет много добра, — возразила ей Лейкни, — когда соединяться наши усадьбы. И слышала я, что Льот — из рода хёвдингов. — Она помолчала немного, а потом сказала: — Поговори с Ветерлиде об этом деле, мама, но не говори, что я просила тебя сделать это.XXVIII
Льот был дома в Скомедале, когда сразу после праздника середину зимы к нему в гости приехал Ветерлиде. Льот хорошо принял родича, и они оба были рады встрече. Усадьба Льота находилась в долине, которая тоже называется Скомедал, и по обе стороны там возвышаются высокие горы, а через долину протекает река. По берегам ее растут березовые рощи, и для овец там хорошие пастбища, а в реке водится много рыбы. Льот хорошо вел свое хозяйство, Ветерлиде внимательно наблюдал за ним и понял, что Льот рачительный хозяин и более муж, чем это можно было бы ожидать от человека его возраста. Он сказал ему об этом. — В твоем отлаженном хозяйстве не хватает только одного — хорошей хозяйки, которая могла бы смотреть за домом. Лишние руки никогда не помешают. Твоя домоправительница хороша, но она ужа стара. И ты мог бы увеличить свое добро, если бы удачно женился. Льот же отвечал, что его вполне устраивает домоправительница, которая присматривала за усадьбой со дня смерти Стейнвор. — Да и женюсь я в свое время. — Так вот, значит, как ты думаешь, — сказал Ветерлиде, а когда Льот промолчал, продолжил: — Сдается мне, что ты все еще думаешь о Вигдис дочери Гуннара? Льот покраснел и быстро ответил: — Не вижу я никого, кого бы мог взять себе в жены. — Ты говорил с Лейкни дочерью Лютинга летом, — сказал Ветерлиде. — И что ты думаешь о ней? — Она хорошая девушка и разумная и красивая, но я не хотел бы брать ее в жены, — отвечал ему медленно Льот. — Она достойна всяческого уважения, — продолжал Ветерлиде. — И добра к людям, и работяща. Я говорил с ней о тебе и не думаю, что она ответит тебе отказом. И о ее свадьбе будут говорить с тобой Торбьёрн и она сама и Гудрун. И сказать правду, так я буду рад, родич, если сладится у нас дело. Да и многим другим доставишь ты радость. — Я понимаю, родич, — отвечал Льот, — что ты даешь мне хороший совет в этом деле. И благодарен я тебе за столь выгодное во всех отношениях предложение, но не думал я жениться так рано. Ветерлиде попросил его подумать, но больше не заговаривал с ним об этом. Он продолжал наблюдать за Льотом и заметил, что он плохо спит по ночам. Да и по всему остальному заметно было, что на душе у него неспокойно. Перед своим отъездом Ветерлиде вновь спросил Льота об их деле, и Льот ответил: — Благодарен я тебе, родич, за хороший совет, и пусть будет по твоему, ибо вижу я, что желаешь ты мне добра. И Льот поехал вместе с Ветерлиде к ним домой. Гудрун и Лейкни были очень добры к нему, и вскоре они договорились о свадьбе. Свадьба состоялась весной, и Ветерлиде не поскупился на угощение. Льот с Лейкни отправились с Скомедал и стали там жить.XXIX
Однажды летом Льот отправился с двумя своими работниками на луга косить сено. Его люди переправились на другой берег реки, а Льот работал в одиночку. Был один из самых красивых дней в то лето, стояла жара. Льот снял верхнюю тунику и остался в рубахе и штанах. Они были так далеко от усадьбы, что не имело им смысла идти обедать домой, и Льот решил уж было переправиться на другой берег и поесть вместе с работниками, как вдруг увидел Лейкни, идущую вдоль реки. Она была очень красиво одета — в бледно-зеленое платье, которое надевала только, когда к ним приезжали гости. И в руках у нее был большой узел. Она остановилась и поговорила с работниками и дала им что-то из узла, а потом перешла по камням через речку и подошла к Льоту. — Моя мать прислала мне меду, — сказала она, — и подумала я, что могу порадовать вас, работающих на сенокосе в такую жару. — Но тебе не стоило уставать и идти так далеко, — ответил он. — Не беда, — возразила Лейкни, — и погода стоит прекрасная, да и хотелось мне самой посмотреть, какое сено у нас будет в этом году. Льот сказал, что они могут теперь пойти к работникам, у которых была с собой еда, но Лейкни засмеялась и показал на узел, который держала в руках. — Мог бы и подумать, что жена твоя не забудет о еде, если уж пришла к тебе в такую даль. Давай сядем тут на холме, тут сухо и тепло. И она взошла на холм, нагнулась и понюхала скошенную траву. На краю луга росли березы, и Лейкни направилась к ним, вдыхая душистый аромат молодых листьев. И наконец она нашла в тени под деревьями между камнями впадину, в которой росла густая трава. Там было место как раз для двоих, и Лейкни позвала Льота. — Тут ты можешь поспать, когда наешься, — сказала она. Она поели, и Лейкни была настроена очень весело и игриво. После еды Льот захотел спать, вытянулся на спине и, чтобы защитить глаза от солнца, прикрыл их рукой. Тогда Лейкни развязала свой платок и прикрыла им глаза Льота. Через некоторое время она сказала: — Ты можешь положить мне голову на колени, и тогда тебе будет удобнее. Льот так и сделал и посмотрел снизу на лицо Лейкни, которая сидела с непокрытой головой под ярким солнцем. Он сказал: — Ты сейчас выглядишь так же, как тогда, когда я увидел тебя в первый раз в Холтаре. Лейкни улыбнулась и спросила: — Скажи мне, Льот, доволен ли ты, что встретил меня в тот день, и что ты вообще думаешь о нашей жизни. — Ты и сама знаешь, что я доволен, — отвечал Льот. — Откуда мне знать, — возразила Лейкни. — Ибо думала я, что это зима так плохо действует на тебя, но не был ты прежним, как в детстве, с тех самых пор как я увидела тебя в Холтаре. Потому что помню я тебя веселым и гораздым на выдумки мальчиком, которого никто не мог обуздать. — Но ведь, — отвечал ей Льот, — все мы вырастаем из своих детских шалостей. — И еще говорили, — не отставала она, — что хорошо ты умеешь слагать висы и петь старые песни. Может, скажешь сейчас какую-нибудь из твоих вис? — Люди, которые говорили тебе об этом, врали, — сказал Льот, — и не умею я складывать настоящие висы. — Так скажи, какие ты слагал, — попросила Лейкни. — Я не помню ни одной, — ответил Льот. — Давно это было. Лейкни взяла его лицо в свои ладони и, покачиваясь, произнесла:Вспоминаю я деву прекрасную
И спать не могу от тоски.
Каждую ночь мои мысли
К ней через море летят,
Крылья расправив широкие.
А она спит и не знает
О мыслях моих, что
Птицами к ней устремляются.
И трудно мне утром вставать.
XXX
В этой саге уже говорилось, что в долине жило мало народу. В самом Скомедале жили несколько работников и вольноотпущенников, далеко на юге находилась усадьба под названием Холм Черного ручья. Там жил бонд по имени Осбранд. Он был беден и с трудом мог прокормить семью, у него было десять детей, но все они были очень малы, и лишь старший сын мог помогать по хозяйству. Мальчика звали Хальстейн, и был он крепким и сильным парнем, очень работящим и добрым, а вообще-то он был очень вспыльчив, своенравен и подозрителен. И его не любили в округе. И Хальстейн часто поддразнивал Льота, потому что завидовал его богатству, но Льот не обращал на его нападки внимания, потому что считал неразумным ребенком и жалел Осбьёрна. И Льот не обращал внимания, если Хальстейн брал больше, чем им было положено, и на рыбалке, и на охоте. Черный ручей протекал через Скомедал и был быстрым и узким и часто глубоко уходил под землю, но неподалеку от усадьбы Льота он расширялся и водопадом низвергался вниз. На горе возле водопада у Льота были лучшие земли, где вызревало много зерна. И в долине не бывало много влаги, потому что облака редко перебирались через окружавшие ее горы, и Льот задумал построить плотину на ручье и подвести воду к полям и лугам. И он выполнил задуманное. Хальстейн же рассердился и сказал, что Холму Черного ручья тем будет нанесен большой ущерб, и он принялся ездить по окрестным усадьбам и говорить о несправедливости Льота, и об этом вскоре узнал сам Льот. Но он только засмеялся и сказал, что у мальчишки не много ума и ничего разумного от него и ждать нечего. Тогда Хальстейн сам явился к Льоту, когда он строил со своими людьми плотину, и прямо потребовал прекратить строительство. И он сказал, что будет говорить о своем деле на тинге, и тогда все увидят, какой ущерб Льот наносит бедным людям и как он притесняет их. — Да уж, тебе стоит поехать на тинг, Хальстейн, — засмеялся Льот. — И отец твой видит свою выгоду в том, что я делаю, ибо и он сможет теперь пользоваться водой. А сейчас уезжай, потому что нет у меня времени на пустые разговоры с тобой. — Ты слишком занесся, Льот сын Гицура, — ответил Хальстейн, — и считаешь себя самым уважаемым человеком в округе. Но подожди, и ты увидишь, на чьей стороне правда, ибо есть у нас родичи, которые обладают властью, и будут они говорить за нас на тинге, и они ровня тебе. — Да что ты? — вновь засмеялся Льот. — Уезжай же тогда, Хальстейн, мне будет приятно с ними познакомиться. Тут к ним подошла Лейкни, она как раз приходила промыть в ручье пряжу. Она сказала: — Осбранд должен быть благодарен Льоту за доброту — особенно этой осенью, когда мы загоняли овец на зиму. Хальстейн побагровел и крикнул: — Ты обвиняешь нас в воровстве? — Нет, — отвечала Лейкни, — ибо припоминается мне, что это Льот нашел в горах овец, которых ты потерял, и он присмотрел за ними и так пересчитал их, что вы были довольны в тот раз. Тогда Хальстейн сказал: — Это хорошо, Лейкни, что ты так довольна мужем, особенно если вспомнить, с каким трудом ты его заполучила. Лейкни хотела ему ответить, но Льот сказал: — Не стоит тебе слушать неразумные речи, и нет у нас времени на пустые разговоры, так что уезжай отсюда поскорее, Хальстейн. Хальстейн немного отошел, а потом обернулся и крикнул: — Это хорошо, Льот, что ты наконец нашел себе жену, потому что слышал я, как в Нидаросе ты хотел заполучить одну девушку в жены, да не поняла она твоей мужской силы и предпочла другого. Тогда Льот закричал, схватил копье, которое лежало рядом на холме, и кинул его в Хальстейна. Копье попало парню в глаз, и он тут же умер. Льот приказал своему работнику отвезти известие об убийстве в усадьбу Холм Черной речки, а сам пошел домой. Лейкни шла за ним следом. Позже она спросила его: — А о чем говорил Хальстейн, кто была та норвежская девушка? — Это старое дело, — отвечал Льот, — о котором тебе нечего беспокоиться. И не говори мне больше о нем.XXXI
Осбранд так переживал из-за смерти Хальстейна, что совершенно потерял разум. И он решил, что Льот хочет разорить его, и очень воспротивился строительству плотины. И когда Льот на следующий после убийства день приехал к нему в усадьбу, Осбранд отправился за помощью к сыновьям Бейте, которые приходились дальними родственниками его жене, и попросил их решить это дело. Одд ответил, что Льот не тот человек, который платит виру за убийство, и скорее уж, у него было самое плохое в мыслях. Но, сказал Одд, ему хочется проучить Льота, и поскольку сыновья Бейте придерживаются закона и у них есть друзья, то он возьмется говорить об этом деле на тинге. Осбранд остался у Одда до тех пор, пока не пришло им время ехать на тинг. Льот тоже собрался на тинг, и Лейкни пожелала поехать с ним, хотя он и просил ее остаться дома, поскольку она ждала ребенка, а поездка была долгой и трудной. Но Лейкни плакала и просила взять ее с собой, и она сказала, что не будет ей покоя до тех пор, пока не узнает она, как решат они дело с Оддом. И наконец Льот разрешил ей поехать с ним. И они взяли с собой сына; его звали Лютинг, и было ему два года. Они ехали очень медленно и опоздали на два дня на тинг. Они остановились у Ветерлиде, который жил там. Ветерлиде приехал на тинг вместе с Гудрун. На следующий день после приезда на тинг Льота, старый Осбранд утром бродил между землянками и встретил Геста сына Одлейва и стал с ним говорить. Он рассказал, кто он и откуда и какое у него дело к Льоту. Тогда Гест сказал: — Я знаю, что Льот хотел выплатить тебе виру за убийство сына, но теперь он заупрямился, потому что ты поручил дело Одду. Они немного поговорили об этом, и Гест ушел от Осбранда. И старик еще побродил в одиночестве и подумал о разговоре, и под конец он испугался, что Одд все испортит, и решил он пойти к землянке Льота и решить с ним это дело мирно. Так он и сделал. В землянке у Льота все только что встали, а сам Льот с Ветерлиде и другими родичами сидел за столом и ел. Гудрун и Лейкни тоже были там. Тогда Осбранд испугался и решил уйти, но Льот крикнул ему: — Куда же делись твои помощники, Осбранд, или Одд уже отказался от ведения твоего дела? Осбранд стоял, молчал и дрожал, а потом спросил, не может ли он поговорить о своем деле наедине с Льотом и уладить его мирным путем. После этого он заплакал. Льот тогда ответил: — Хотя Хальстейн все время досаждал мне, и никого не удивит, что разозлил он меня, я все равно жалею, что убил его, потому что известно мне, что Хальстейн был твоим единственным помощником, а ты уже стар и беден. Поэтому я решил предложить тебе виру за мальчика как за взрослого мужчину. И если ты тут же примешь мое предложение, я неотступлю от него. Но если решишь ты посоветоваться с Оддом, то не думаю я, что выиграешь ты от этого. Потому что с ним я иметь дела не буду и не уступлю ему. Если же ты примешь мое предложение, то я помогу тебе людьми и всем, что тебе и твоим детям потребуется. И не будете вы ни в чем знать нужды. Делай, как сочтешь нужным, но помни, что никому еще не платил я виры до тебя. Осбранд тут же принял его предложение, а Ветерлиде отдал ему серебро за Льота. На прощание Ветерлиде подарил старику серебряный пояс, и Осбранд отправился к себе довольный. Но Одд страшно разозлился, когда услышал об этом, и принялся осыпать Осбранда бранью. Люди много говорили об этом деле и считали, что Льот стал сговорчивым в последнее время. Но Лейкни очень хвалила своего мужа и всем, кто был готов слушать ее, рассказывала, как добр и справедлив Льот и что он согласился выплатить виру старику, который сам не мог постоять за себя. Но люди насмехались над ней и говорили, что Льот может быть своенравным или добрым, как ему самому того захочется, но жена его всегда будет им довольна.
XXXII
После тинга Льот и Лейкни отправились погостить в Холтар. Однажды Льот поехал на пастбище в горы посмотреть на табун коней Ветерлиде и по дороге встретил Одда Бейнессона и его дружинников. Одд поздоровался с Льотом и сказал: — Если уж едем мы в одну сторону, то почему бы не поехать нам вместе, ведь теперь ты помирился с Осбрандом-старикашкой. И значит, мы с тобой можем теперь стать друзьями. Льот же отвечал, что если Одду так хочется, он может поехать вместе с ним. Одд спросил, как идут дела в Холтаре и как себя чувствует Лейкни. Льот отвечал, что все хорошо. Они нашли табун и посмотрели на лошадей. А потом отправились в обратный путь в долину. Одд много говорил, и очень дружелюбно. Льот почти не отвечал ему. Наконец, они остановили лошадей и спешились, чтобы перекусить. И когда они ели, Одд сказал: — Удивительно мне то, Льот, что случилось между тобой и Хальстейном. Ведь ты так силен и великодушен. Но поговаривают, что речь зашла о старом деле, о котором тебе не очень приятно вспоминать, — о твоей неудавшейся женитьбе, Льот. — Если ты так хочешь моей дружбы, — отвечал Льот, — как это стараешься показать мне, то для тебя же будет лучше не заговаривать со мной о том старом деле. Или, быть может, это ты сам распускаешь обо мне слухи? — Нет, это не я, а люди, что были в Нидаросе, когда ты ходил там и грустил об одной девушке, а вот ее приданое получил бедный Осбранд. Льот вскочил и схватился за меч. Одд тоже встал и постарался прикрыться щитом и выставил копье. — Да, твоим родичам мало что достанется, — сказал Льот и перерубил одним ударом древко копья. — Но тебя я немного поразвлекаю, если уж ты так добивался этого. И с этими словами он размахнулся и ударил по щиту Одда. Щит разлетелся на две половинки, а меч вошел в плечо сына Бейне и нанес ему смертельную рану. Дружинник Одда был еще очень молод. Он испугался и убежал. Льот вернулся в Холтар и рассказал, что случилось. Ветерлиде спросил, что Льот теперь будет делать. — Ничего, — отвечал Льот, — но не получит радости и удовлетворения от этого дела тот, кто возьмется за него, — добавил он. Через некоторое время Ветерлиде вышел из дома. Льот остался наедине с Лейкни, если не считать двух мальчиков — Атле и Лютинга, которые играли на скамье. Льот лег на кровать, на которой они спали, а Лейкни стала прибирать в доме. Она задавала ему вопросы о том, что произошло, но Льот лишь коротко отвечал на них. Тогда Лейкни сказала: — Сдается мне, что мог бы ты рассказать мне о том, что привело к убийству. — Мы ничего особенного не говорили, — отвечал Льот. — Просто Одд хотел сразиться со мной с тех пор, как увидел меня на игрищах. — Думаю, что говорили вы не обо мне, — сухо заметила Лейкни. — Нет, не о тебе, — ответил ей Льот, — но кажется мне, что во время нашего разговора Одд думал прежде всего о тебе. Лейкни подошла к кровати, села на край, посмотрела на Льота и сказала: — Не верю, что ты сделал это, Льот. Льот приподнялся и хотел было ответить Лейкни, но она положила руку ему на грудь и проговорила: — Известно мне, что не по моей вине ты был так грустен и молчалив после возвращения своего из Норвегии, и не обо мне ты думал денно и нощно. Но не знаю я ничего о твоей печали или о том, что произошло между тобой и Оддом. Льот ответил: — Хотелось бы мне, Лейкни, чтобы была ты довольна своим замужеством. И всегда я старался удовлетворять твои желания. Но если уж и скрываю я что от всех, то значит, тяжело мне, и не стоит тебе расспрашивать меня больше. Она хотела что-то сказать, но тут увидела в изножье кровати плащ, который Вигдис подарила Ветерлиде, схватила его и бросила на пол. И крикнула: — В десять раз больше думаешь ты о той норвежской девушке, которая, как говорят, отвергла тебя, чем обо мне. Хотя всегда я старалась угодить тебе во всем. Льот вскочил с постели и хотел поднять плащ, но Лейкни оказалась проворнее и успела первой схватить плащ и подбежала к очагу, чтобы бросить его в огонь. Льот захотел отобрать плащ, но Лейкни вцепилась в него обеими руками и не отпускала. Тогда он стиснул ей запястья с такой силой, что Лейкни вскрикнула, но плащ не выпустила, и Льоту пришлось стукнуть ее кулаком по рукам. Тогда Лейкни разжала пальцы, села на пол и заплакала. А Льот схватил плащ и отошел. Лейкни вышла во двор и села на порог. Она все плакала, закрыв лицо руками, и даже не заметила, как к ней подошла мать. Гудрун спросила, что с ней случилось, но Лейкни отвечала, что ничего. Но Атле вышел из дома и сказал: — Она плачет, потому что ее муж сильно ударил ее — около очага. — Это неправда, — быстро проговорила Лейкни, но Гудрун не послушала ее и пошла в дом. На полу в доме сидел Лютинг и плакал, потому что его отец слишком жестоко обошелся с его матерью. Гудрун пришла в ярость и крикнула Льоту: — Мой первый муж, Эгиль, знал, что нельзя меня бить, потому что когда он ударил меня, я сбежала, а сам он умер, когда отказался вернуть мне мою усадьбу. И с тех пор ни Лютинг, ни Ветерлиде не поднимали на меня руку. — Успокойся, мама, — стала успокаивать ее Лейкни, — и не бил меня вовсе Льот, а просто толкнул на пол, и сама я начала эту ссору. Тут к ней вышел Льот — он не обращал внимания на Гудрун, но наклонился к жене и сказала: — Плохо я с тобой обошелся, моя Лейкни, и права ты, когда говорила, что всегда старалась угодить мне во всем. Лейкни вновь заплакала, закрыла лицо платком и убежала в дом. Льот пошел за ней, и недолго они пробыли в доме, но когда вышли, Лейкни больше не плакала, а шла рядом с Льотом и выглядела счастливой. На следующий день они уехали домой. Предполагалось, что они останутся подольше, и Гудрун хотела, чтобы дочь ее осталась на все лето, до самых родов, и было бы лучше — по многим причинам — Льоту сейчас побыть одному, без жены и сына. Но они оба — и Лейкни, и Льот — решили отправиться домой в Скомедал. Ветерлиде и Гудрун предложили взять на воспитание Лютинга, чтобы рос он вместе с их Атле, который был всего лишь на год старше. Льот и Лейкни согласились. И они уехали домой. И все по дороге было хорошо, но в последний день пути они спускались по склону горы. Работники ехали впереди, а Льот спешился и вел на поводу лошадь Лейкни. Его конь шел за ними следом. Была ненастная погода, и вскоре пошел снег, а ветер дул прямо в лицо. Лейкни сказала Льоту: — Я думала все это время о том, что сказал ты мне в Холтаре. И если правда то, что больше всего тебя удручает отказ, который получил ты в тот раз, то должен ты утешиться тем, что мы сами предложили тебе взять меня в жены и что была эта удачная женитьба и люди много говорили об этом. — Не удручает меня это, — ответил Льот, — но ты должна понять, что не нравится мне, когда сыновья Бейне и их люди напоминают мне о том случае. — Не понимаю, — сказала она через некоторое время, — почему ты так бережешь этот плащ, если не думаешь ты больше о той, что сшила его? — Он подходит мне, — отвечал Льот. Снег залеплял им глаза и рот, и они долгое время ехали молча. Но когда снегопад стал утихать, Лейкни вновь спросила: — Она была красивее меня, та норвежка? — Нет, — ответил Льот и посмотрел прямо перед собой. — Многие бы сочли тебя красивее. — Может, она была богаче? — не унималась Лейкни. — Думается, что по богатству вы равны, — отвечал Льот. — И тем не менее, она тебе милее меня, — с неудовольствием заметила Лейкни. — Чем же так прельстила она тебя? — Думаю, тем, — усмехнулся Льот, — что задавала намного меньше вопросов, чем ты. Тут Лейкни наклонилась вперед, чтобы посмотреть на Льота, — и замерла: лицо его было серее камня. И прошло долго времени, прежде чем они заговорили. Когда они спустились в долину, снегопад совсем прекратился. Перед ними были торфяные болота. Льот отдал поводья Лейкни и собирался уже сесть на своего коня, когда она осторожно сказала: — Обещаю тебе, что никогда больше не заговорю об этом с тобой. Но прошу тебя напоследок — скажи мне ее имя. Льот постоял, прислонившись к боку лошади, и долго ничего не говорил, а потом медленно произнес, не глядя на жену: — Вигдис. После этого он сел на лошадь. И они долго ехали рядом, ничего не говоря. Но Лейкни была грустна и молчалива, когда они наконец приехали домой. И была она такой до осени, пока не родила сына. Льот окропил сына водой и дал ему имя Гицур. После этого Лейкни стала больше походить на себя.XXXIII
На следующую осень, когда они загоняли овец на зиму, обнаружилось, что не хватает нескольких ягнят. Льот со своим работником отправились в горы, чтобы найти пропажу. На третий день работник вернулся домой с овцами один. Лейкни спросила, что стало с Льотом, и работник ответил, что он остался на сеттере починить дом. Лейкни никак не могла успокоиться, все ходила и поглядывала на горы. Погода была хорошая, и солнце ярко освещало снежные шапки на вершинах. Через некоторое, время она сказала, что сама поедет на сеттер — если уж Льот решил заняться починкой дома, то она хотела бы, чтобы он поправил кое-что еще, и будет лучше, если она сама скажет ему об этом. Работники улыбнулись, слушая такие речи хозяйки, но Лейкни все продолжала говорить об этом и, наконец, твердо решила поехать на сеттер и не брать с собой никого, кроме старого трелля, который присматривал за ней с тех пор, как она была совсем маленькой, и который ходил за ней по пятам, словно собачонка. Они приехали на сеттер до заката. Но Льота нигде не было видно. Хотя они и заметили, что он снял дерн со стены, а рядом лежала лопата и молоток. Они вошли в дом, и в очаге еще теплился огонь. Дом на сеттере был построен из камня, а сверху покрыт дерном, как и многие другие дома в Исландии. Внутри дома вдоль стен шли скамьи, тоже сделанные из камня и дерна. Поперечная балка была столь широка, что на ней могли улечься на ночь двое. Там была постлана постель, которую от дыма и сквозняка из двери защищал полог из шкур. Лейкни немного подождала Льота в доме. Но он не появлялся. Тогда она сказала рабу, что он может устроиться на ночь в хлеву. Вскоре стало холодно, но Лейкни не хотела зажигать огонь до прихода мужа, потому что немного оставалось у них дров. Она легла, накрылась шкурой и тут же заснула. Ночью она проснулась — ей показалось, что в доме говорят. Она выглянула в щель между шкурами и увидела, что в очаге горит огонь. На длинной скамье, прямо напротив нее, сидел Льот. Но в доме был еще один человек, и когда он заговорил, она узнала в нем мужа своей матери. Она слышала, как он сказал: — Глупым мне кажется, что ночуешь ты один на сеттере, когда Сигурд сын Бейна и его родичи хотят отомстить тебе. И большим горем будет для Лейкни твоя смерть, да и сыновья твои еще слишком малы. Льот сидел, прислонившись спиной к стене, и отвечал: — Не думаю я, что из-за этих людей надо мне ездить с острасткой и не хочу я прятаться. И знаю я, что не они принесут мне смерть. И знаю я человека, который желает мне ужасной смерти, и его проклятие сбудется, а больше меня ничто не волнует. — О чем ты говоришь? — удивился Ветерлиде. Но Льот ничего не ответил, а через некоторое время сказал: — И будет лучше для Лейкни, если станет она вдовой сейчас, когда еще молода и может найти себе другого мужа. — Тогда совсем ты ее не знаешь, — проговорил Ветерлиде, — ибо никогда не пойдет она больше замуж, потому что очень любит тебя. Льот ничего не ответил, а продолжал все так же сидеть на скамье, и Ветерлиде добавил: — И должен ты понять, что досталась тебе лучшая жена не только в Исландии, но и во всем мире. — Это правда, — ответил Льот. — Но я больше люблю родимое пятно у нее на груди у той женщины, чем красоту Лейкни, и я больше любил ту женщину, когда она вонзала мне в грудь нож, чем я люблю Лейкни, когда она обнимает меня. И меньше грустил я, когда ехал через горы Довре и думал о ее проклятии, чем когда еду домой в Скомедал и знаю, что на пороге ждет меня Лейкни с приветливым словом на устах. И уж лучше мне оказаться в лапах белого медведя, чем слышать, что ту женщину получил Коре. Тут Ветерлиде очень рассердился и сказал: — Плохо ты поступил, родич, и хуже всего, что не сказал ты об этом раньше. — Да, — отвечал Льот. — Но думал я, что смогу забыть ее, если женюсь на Лейкни. Но сейчас я вижу, что все зло, которое я ей причинил, обернулось против меня самого. Потому что буду я скорбеть всю жизнь, что обладал той златовласой девушкой, а потом потерял ее. — Сдается мне, — заметил Ветерлиде, — что отплатил ты злом за добро и гостеприимство Гуннара. — Все хуже, чем ты думаешь, — проговорил Льот. — И самым счастливым днем в моей жизни был тот, когда мы с Вигдис ели ягоды в лесу на поляне. И в тот день был я даже счастливее, чем тогда, когда мальчишкой расправился с убийцей моего отца в Хаукетинде. Но когда она возвращалась домой после последней нашей встречи, то была в большом горе, хотя потом я понял, что самое большое зло я причинил себе. Ветерлиде тогда сказал с яростью: — Если ты силой взял дочь Гуннара, то совершил ты плохое дело, на которое, я думал, ты не способен. Льот усмехнулся и ответил: — Может быть, и сам я не знал, что способен на такое. Ветерлиде вновь сказал: — Плохое это дело, родич… А Льот засмеялся и ответил: — Да уж, хорошим его не назовешь. После этого они долго сидели в молчании, а затем Льот встал и начал раздеваться. Он спросил, не кажется ли Ветерлиде, что уже пора спать. Лейкни прижалась к стене. Она дрожала как осиновый листок, но старалась сделать вид, что крепко спит. Когда Льот разделся, он откинул в сторону полог из шкур и тут увидел ее. Он побагровел и опустил полог. А затем осторожно наклонился и позвал ее по имени. Лейкни ничего не ответила и лишь глубоко вздохнула, как будто спала. Льот тогда повернулся и сказал: — Я постелю тебе на скамье, родич, потому что ко мне приехала Лейкни. Ветерлиде вскрикнул, но Льот шикнул на него и сказал: — Похоже, что она спала во время нашего разговора. Молча приготовил он постель для Ветерлиде. А затем пошел к своей постели и лег рядом с Лейкни, позвал ее и положил ей руку на грудь, и только тут заметил, как она дрожит, почувствовал, как бьется ее сердце — как рыба в сетях. Он лежал и не знал, что сказать, — и потому молчал. И в ту ночь они оба так и лежали рядом и делали вид, что спят, но каждый из них знал, что другой не спит. Уже под утро Льот задремал, и Лейкни тогда смогла тихо поплакать, и плакала она, пока не заснула. Когда она проснулась, мужчины уже встали и готовили еду. Она быстро оделась и поздоровалась с ними. Ветерлиде спросил, когда она приехала и не слышала ли, как они разговаривали вечером. Тогда Льот быстро встал и сказал, что пойдет посмотрит, как там их лошади. Лейкни ответила, что приехала перед закатом и просто прилегла отдохнуть, дожидаясь мужа, но заснула и проспала до утра. И еще она спросила, где вчера пропадал Льот и откуда взялся Ветерлиде. Льот ответил, что проверял силки для птиц, а на западе, у Гаглемюрен, встретил Ветерлиде, который ехал к ним в Скомедал, и пригласил его поехать на сеттер. Льот показал Лейкни двух куропаток, лежавших у двери, и попросил приготовить их на обед. Она стала готовить еду и рассказала Льоту, зачем приехала к нему. Он пообещал ей сделать те полки, о которых она просила. А затем они с Ветерлиде отправились на хутор. Льот приехал домой вечером, и Лейкни стояла на пороге, но когда увидела его, сразу ушла к ней. Он пришел, положил ей руки на плечи и сказал, глядя в глаза: — Я и сам знаю, как мог бы быть счастлив с тобой, если бы мог радоваться твоей любви — никого на свете нет лучше тебя. Лейкни ответила: — Не такой уж бедой и было для меня услышать ваш разговор вчера вечером, но настоящим горем было услышать, как произнес ты ее имя на болоте. — И как же мы теперь будем жить? — спросил Льот. Лейкни ответила: — Как ты захочешь, потому что всегда я буду делать то, что любо тебе. Льот постоял и подумал, а потом поцеловал Лейкни и ушел.
XXXIV
Известно, что время лечит раны. Годы шли, и Лейкни и Льот забыли о своем горе. Они всегда были добры и внимательны друг к другу, и большую часть времени проводили дома в Скомедале, и люди почти не видели их. У Льота и Лейкни было трое детей. Лютинг был старшим, он воспитывался у своей бабушки в Холтаре, и там же он умер совсем маленьким. Другого сына звали Гицур, а дочь — Стейнвор. Стейнвор Льот любил больше остальных своих детей. Стейнвор и Гицур утонули. Вот как это случилось. Однажды вечером весной дети в Скомедале играли во дворе. Гицур вместе с детьми работников стрелял из лука. Ему пошел седьмой год, а Стейнвор было четыре. Она играла одна у ручья, который протекал у ограды и впадал в Черный ручей. Ручей этот летом пересыхал, но сейчас, весной, был довольно глубоким, да и мальчишки сделали на нем плотину, по подобию той, что выстроил Льот в реке. И вода теперь в ручье в самом глубоком месте человеку доходила до колен. И вот Стейнвор бродила по берегу ручья, разговаривала сама с собой и вдруг увидела, как солнце высветило на другом берегу ручья песчаную отмель. Она была еще так мала, что почти не помнила прошлого лета, но решила, что на той отмели могут расти цветы. И она пошла вброд там, где, ей казалось, было мелко. Она сложила на отмели ограду из песка и камней и представляла, что это ее усадьба и в ней много лошадей, коров и овец. Мальчики тем временем закончили игру, и Гицур стал искать сестру. Он тоже перешел ручей, чтобы посмотреть, во что она играет. — Этих лошадей надо пригнать домой, — сказала Стейнвор, указывая на кучку желтых камешков. — Ты не поможешь мне вот с этим жеребцом? Он так дик и никак не хочет слушаться меня. С этими словами она кинула камень на край отмели и бросилась за ним. Гицур тут же поддержал ее игру. Но он решил, что ее усадьба очень бедна. — Я отправлюсь в Норвегию, — сказал он. — И постараюсь купить бревен, чтобы отстроить настоящий дом. Он взял башмак Стейнвор и положил туда сучки и пустил его плыть по ручью. Он привез на нем лес для усадьбы. И они выстроили настоящий дом из бревен, но когда строительство было закончено, солнце уже спряталось, а дети замерзли и проголодались. Они хотели побыстрее попасть домой. Башмак Стейнвор куда-то запропастился, и она стала хныкать, что ей придется босиком идти по холодной воде. — Я перенесу тебя, сестра, через ручей, — сказал мальчик. Он поднял ее и понес. — Смотри, вон отец возвращается домой, — закричала Стейнвор, и дети посмотрели на склон горы, по которому на коне ехал Льот. Они оба решили помахать ему, но тут Гицур наступил на льдинку и упал в воду вместе с девочкой. Льот ехал по дороге для скота, огороженной с обеих сторон камнями, он увидел детей и помахал им, но когда они упали и не встали, он забеспокоился, соскочил с коня и бросился в Черный ручей, полноводный и быстрый, и вскоре уже был рядом с малышами. Дети лежали неподвижно у самого берега. Он приподнял Гицура и увидел, что мальчик ударился виском о камень и придавил сестру, а она не смогла выбраться — так крепко Гицур держал ее. Они оба захлебнулись. Льот сразу же понял, что дети мертвы, но все-таки принес их в дом и приказал согреть шкуры и вскипятить молоко. Лейкни стала белой как полотно, когда увидела детей, но спокойно сказала, что нет ничего страшного и они скоро придут в себя. Но чтобы они ни делали, малыши не приходили в себя. И под конец Льот просто сел у очага, опустив голову на руки. Лейкни же все не хотела сдаваться, она все пыталась напоить детей молоком и растирала их теплыми шкурами, хотя все и говорили ей, что это бесполезно. Тогда она взяла два неподвижных тельца на руки и закричала: — Я все равно оживлю их — я буду укачивать их до тех пор, пока они не вернутся ко мне. Она легла вместе с ними на кровать и стала дышать им в рот. Льот встал, подошел к ней, обнял и сказал: — Дай же им покой, не должно так обращаться с телами умерших. Тогда она отпустила трупики, но продолжала кричать, сорвала платок с головы и стала рвать на себе волосы, а потом кинулась к дверям, чтобы бежать к реке и утопиться. Но Льот поднял ее на руки и отнес в постель. Ему пришлось применить силу, чтобы заставить жену снять одежду, а потом он сидел и укачивал ее. Всю ночь провел он так, а Лейкни все не успокаивалась, и Льот боялся, что она потеряет разум.XXXV
Пришло лето, и вскоре настало время тинга, но Лейкни все так же горевала и не хотела ехать с Льотом, хотя он и предлагал ей поехать вместе. Когда он вернулся домой, то в первый же вечер Лейкни сказала ему, что спала одна в ткацкой, и попросила разрешить ей спать там одной. Льот ответил, что не может отказать ей, если она сама того желает. Лето уже кончалось, а Лейкни почти все дни проводила в ткацкой и там же спала. Она совсем забросила хозяйство, просто ходила взад-вперед по ткацкой и ничего не делала. И каждый вечер отправлялась она в церковь, что Льот построил на горе, вставала на колени и подолгу молилась. Но однажды вечером, когда Лейкни как раз собиралась в церковь, к ней подошел Льот и сказал: — Когда ты, Лейкни, собираешься вернуться ко мне в дом? Лейкни ничего не отвечала, и Льот тогда добавил: — Не кажется мне, чтобы была кому-то из нас польза, что скорбим мы каждый сам по себе. И не следует тебе быть одной, а лучше вернуться в дом и заняться хозяйством, и, может, тогда тебе станет легче. — Не могу я, — отвечала она, — быть в доме и заниматься хозяйством, потому что кажется мне, что забыла я что-то, и когда вспоминаю, что я забыла, то становится мне еще горше — потому что забыла я своих деток. Льот помолчал, а потом спросил: — Может, ты хочешь поехать к своей матери? Я провожу тебя к ней. Лейкни медленно проговорила: — Я хочу одного — чтобы ты позволил мне делать так, как я считаю нужным. — Ни в чем не будет тебе отказа, — ответил он. — Тогда разреши мне никогда больше не быть твоей женой. И позволь мне жить в чистоте и покое, как живут некоторые женщины в христианских странах. Льот нахмурился и сказал: — Я знаю, что никогда ты не была счастлива со мной, и никогда бы не привез я тебя в Скомедал, если бы знал, что все так получится. Но однажды я уже спрашивал тебе, как нам жить дальше, и ты сама решила остаться со мной. И с тех пор я всегда старался угождать тебе, и не сказали мы друг другу дурного слова, и никогда больше не поднимал я на тебя руку. И все дела мы решали вместе. И никогда не принес я тебе позора, не лежал с другими женщинами, и ни с кем у меня не было детей, кроме тебя. — Нет у тебя детей и со мной, — воскликнула Лейкни, закрыла лицо ладонями и зарыдала. — Об этом я скорблю не меньше тебя, — отвечал Льот. — И именно поэтому я удивлен твоим решением положить конец нашей совместной жизни. Лейкни встала и сказала: — Ты можешь развестись со мной — мне кажется, достаточной причиной будет то, что не хочу я больше делить с тобой постель. И ты можешь найти себе другую жену и уехать из этой забытой Богом долины. Ибо никогда за все те годы, что прожили мы вместе, не видела я тебя счастливым. Тогда Льот осторожно спросил жену: — Скажи мне честно, Лейкни, неужели ты никогда больше не хочешь быть моей, если так стремишься уехать отсюда? — И с этими словами он посадил ее к себе на колени, а она так задрожала, что не смогла ничего ответить. И Льот продолжал: — Однажды ты сказала, что всегда сделаешь так, как я хочу. Тогда Лейкни заплакала, спрятала лицо у него на плече и ответила: — Я думала, что ты хочешь отделаться от меня. Льот поглядел на нее и сказал: — Так было раньше, но не знал я тогда, что не могу жить без тебя, Лейкни. В тот же вечер Лейкни пришла в дом и села на свое место за столом, как и раньше. И никто больше не слышал от нее, что хочет она стать монахиней. Они с Льотом жили в любви и согласии. Но Лейкни очень тосковала по своим детям, хотя и не говорила об этом. Однажды вечером они пошли в баню, и Лейкни ходила с распущенными волосами, чтобы просушить их. Льот подошел к ней и взял ее волосы в руки. Он сказал: — Кажется мне, что волосы твои стали еще светлее и краше, чем раньше, Лейкни. Она покраснела и отошла от него, но Льот заметил, что волосы ее поседели.XXXVI
Прошел еще год, и Льот как-то заметил, что Лейкни теперь плачет по ночам. Он ласково спросил, что ее так расстраивает, но она не хотела отвечать. Однажды он сказал: — Думаю, ты так и не сможешь по-настоящему радоваться, пока не родишь того ребенка, что носишь сейчас под сердцем. Тогда она заплакала еще сильнее. Как-то раз Льот зашел в стаббюр [6] и увидел, что Лейкни стоит на коленях перед большим сундуком и перекладывает в нем вещи. Льот сказал ей не делать этого — он не видел в том особой нужды. — Да нет, — отвечала Лейкни, — я хочу, чтобы после меня в доме был порядок. — Не говори так, — сказал Льот и сделал вид, что смеется. — Или ты думаешь, что скоро умрешь? И заставил ее встать и сесть рядом с ним на сундук. Тогда Лейкни сказала ему: — Каждую ночь во сне вижу я, как приходят ко мне Гицур и Стейнвор и хотят лечь с нами в постель. И с них потоками течет вода. И говорят они мне, что хотят, чтобы я пришла к ним и согрела их, обняла бы их и легла рядом с ними. Я отвечаю им, что не могу из-за ребенка, которого сейчас жду. Тогда они говорят, что должна я пообещать им прийти, когда родится их брат. И я обещала им это. — Все это сон, — возразил ей Льот. — Ведь ты и сама знаешь, что дети наши на небе у Господа, и лишь язычники являются так ночами, как тебе привиделось. А наши дети были крещены и лежат в освященной земле. Не говори так и выброси подобные мысли из головы. — Я видела их так же ясно, как сейчас вижу тебя, — возразила ему Лейкни. — И они взяли меня за руку, и руки их были так холодны, что меня мороз пробрал. — Это сквозняк, — ответил Льот, обнял ее и посадил к себе на колени. — Я починю стену за кроватью. И не хочу я больше слышать разговоров о твоей смерти, детям нашим сейчас хорошо, и ты нужна мне больше, чем им. Вскоре после этого разговора Лейкни родила сына. Льот все время спрашивал женщин, которые были с ней, как проходят роды, и они отвечали, что все хорошо. Но когда они вынесли Льоту сына, он был столь ужасен, что все посоветовали Льоту отнести сына на съедение диким зверям. Потому что никогда из него не вырастет мужчины, и никому не будет от него радости. — Неподобающее это христианину дело, — отвечал Льот. — И никогда не совершу я такого поступка. Бог поможет мальчику и спасет его. Он окрестил ребенка и назвал его Торбьёрном. Лейкни заплакала, когда узнала об этом. Она тоже считала, что лучше мальчику было бы умереть. У него были заячья губа и волчья пасть, а правая рука намного меньше левой и вся скрюченная. Но когда она заговорила об этом, Льот засмеялся и сказал, что левая ручка у их сына тоже не особенно большая. Лейкни хорошо себя чувствовала и на десятый день уже встала. Но в тот же вечер у нее случился жар, и она слегла. На следующий день ей стало совсем плохо. Льот сидел на краю кровати, и тогда Лейкни сказала: — Боюсь, что так и случится, как я говорила и чего боялась все это время. Хотя и просила я Бога, чтобы не разлучал Он нас. И две вещи печалят меня — что останешься ты с больным сыном на руках и что на этот раз будешь ты скорбеть обо мне. Льот поцеловал ее и ответил: — Не верю я твоим снам, и что бы ни было, я всегда был счастлив с тобой. Лейкни заснула, а Льот сидел рядом с ней всю ночь. Ближе к утру она вдруг встала на постели и протянула руки к двери. После этого она обняла его и откинулась назад, так что оба они упали на постель. Но тут же разомкнула она руки и вытянулась. Она была мертва. Льот очень горевал по своей жене, но люди говорили, что вел он себя как и подобает настоящему мужчине и не жаловался. Он ухаживал за ребенком и очень любил его. И всегда говорил, что ребенок вырастет и станет здоровым, но все считали, что лучше бы ему было умереть. Торбьёрн весной умер. Тем же летом на тинге Льот объявил, что продает свой дом, купил корабль и отплыл из Исландии. В Нормандии он расстался с теми исландцами, с которыми уехал из страны. Больше о нем в Исландии никто не слышал.
XXXVII
После смерти Олава сына Трюггве Иллюге Светлый приехал в Осло. Он никому не хотел служить после этого святого человека. Иллюге собирался жениться и заиметь собственную усадьбу. Он вновь посватался к Вигдис. Вигдис хорошо приняла его и устроила большой пир. Был приглашен на пир и Коре из Грефсина. Обоим мужчинам Вигдис оказывала почет. Однажды она попросила их пойти с ней в стаббюр. Она сказала, что хочет поговорить с ними наедине. — Каждый из вас просит меня стать его женой. И это большая честь, что два таких уважаемых человека хотят взять меня в жены. Но не могу я выйти замуж — ибо хочу я сделать так, чтобы сын мой был бы богат и счастлив и не страдал без отца и родичей. И не хочу я, чтобы были другие наследники у меня, кроме него. И оба вы столько сделали для меня, что не могу я предпочесть одного из вас. И потому хочу я предложить вам, чтобы ты, Коре, отдал Иллюге в жены свою сестру Хельгу, а ты, Иллюге, купишь усадьбу Баугстадир за горой. И ты, Коре, возьмешь в жены Рагну дочь Грьетгарда, которая тоже была на пиру. Она мне родня. Это самые богатые и красивые девушки в округе, и если вы станете родственниками, то сильнее вас никого в наших краях не будет. Я прошу вас подумать об этом и сказать о своем решении. Коре ответил: — С радостью увижу я Иллюге своим родичем, и не покажу я себя жадным на свадьбе сестры. И сдается мне, что пора нам закончить это дело. Иллюге сказал: — Ты поговоришь с Рагной в день моей помолвки с Хельгой. Коре ничего не ответил, и Вигдис тогда промолвила: — Никогда я не выйду замуж, а вы сейчас можете приумножить свое богатство и взять в жены достойных девушек. И равны вы друг другу по силе и богатству, но если соединить свои усилия, то станете в два раза могущественнее. Коре протянул руку Иллюге, и они пожали друг другу руки и обсудили дело в подробностях. Вигдис подошла к сундуку, открыла его и предложила мужчинам выбрать себе подарки из тех богатств, что лежали там. — Хочу я, чтобы оставались вы моими друзьями, и хочу я попросить вас обоих, чтобы обучили вы Ульвара военному искусству. чтобы вырос он настоящим мужчиной, похожим на вас. Они обещали ей это и поблагодарили за богатые дары. И все присутствующие на том пиру тоже получили хорошие подарки, и Вигдис с тех пор стали уважать еще больше.XXXVIII
В церкви, что построила Вигдис, отправлял службу священник по имени Эрик. Он приехал из Дании. Вигдис он нравился, и она часто приглашала его в Вадин. Однажды после вечерни сидели они у огня в доме, и Вигдис попросила священника рассказать какую-нибудь сагу. Эрик знал очень много разных историй. Священник тогда рассказал вот что: «В Одинсе жила женщина по имени Тора, и была она очень красива. И однажды ее соблазнили, но скрыла она случившееся, а когда родился ребенок, бросила его в море. Через некоторое время она удачно вышла замуж, достойно вела себя и была всеми уважаема. И было у нее много детей, которых она очень любила. Но затем она заболела, и ей стало так плохо, что все подумали, что она умерла — так неподвижно она лежала. И сама она тоже решила, что умерла, но слышала она, как вдалеке плакали ее малые дети и звали свою мать. И хотелось ей утешить их. Тут показалось ей, что в курган ее кто-то вошел, кто-то, одетый в темный плащ, и взял он ее за руку и сказал: «Вставай, Тора, и пойдем со мной». И показалось тогда Торе, что она жива, и попросила она, чтобы пошли они к ее детям. Человек в плаще кивнул и повел ее за собой. «Но мы идем совсем не туда», — возразила Тора. «Нет, туда», — ответил ей человек. Они шли довольно долго и пришли наконец в темную долину, расположенную среди высоких гор. По дну ущелья текла черная река. Но на вершине горы на другой стороне реки стоял прекрасный замок из чистого золота, который весь сверкал, а у врат его на конях сидели рыцари в золоченых доспехах. А в замке пели и веселились, и никогда не думала Тора, что доведется ей увидеть такую красоту. Она спросила, кто хозяин этого чудесного замка. «Я, — сказал незнакомец в плаще. — А ты, Тора, хочешь пойти со мной и посмотреть на замок?» Да, она очень хотела, но потом она хотела побыстрее вернуться домой к своим детям. И вот они стали спускаться по склону вниз в долину. И казалось Торе, что по склонам бродят стада белых овечек, но когда приблизились они к ним, увидела она, что это не ягнята, а новорожденные голенькие младенцы, но с лицами стариков. Многие из них были с ужасными ранами и все в крови. А кто-то был совершенно мокрый. И все они хотели выбраться из темного ущелья, но не могли они вскарабкаться по отвесным скалам, и все время скатывались вниз, на дно. Торе было очень больно смотреть на малышей, и она заплакала. Она спросила у человека в плаще, кто эти дети и как попали они сюда. «Родители принесли их сюда, — ответил незнакомец. — Они не хотели оставить их себе». «Не могу я поверить в это», — сказала Тора. Но дети могли говорить, и они обратились к Торе: «Правда все это, и теперь обречены мы быть здесь. И очень бы хотелось нам выбраться отсюда и посмотреть на мир. И хотели бы мы заглянуть за гору, но слишком малы мы и не можем выбраться из ущелья. И суждено нам остаться тут, хоть нам и холодно». Тогда Тора сняла свой плащ и разорвала его на тряпки и завернула в пеленки тех, кто был к ней ближе. Но тогда остальные младенцы стали просить завернуть в пеленки и их, и Торе пришлось разорвать на тряпки и свою рубаху, и под конец осталась она совсем без одежды, как и младенцы. И тем не менее много оставалось еще малышей, которым не досталось пеленок. В долине были многие тысячи голых малышей. И все они хотели подойти к ней и просили, чтобы взяла она их на руки и унесла с собой, чтобы могли они посмотреть на мир. «Он не таков, чтобы на него смотреть», — отвечала Тора. «Но почему же тогда те, кто приходят сюда, не спешат с ним расстаться?» — возразили дети. «Я лишь хочу домой, к своим детям», — объяснила Тора. И тут незнакомец и Тора вошли в реку. Там тоже стояли младенцы, по горло в воде. Их было там так много, как сельдей в косяке. Они мерзли и дрожали и хватали Тору за руки. Ей стало так их жалко, что взяла она на руки столько детей, сколько смогла, заплакала и спросила человека в плаще, не может ли она взять их с собой в крепость. Он с радостью разрешил ей это. Вскоре Тора уже не могла взять больше детей на руки, и она попросила у незнакомца его плащ, чтобы сделать из него мешок. Он снял плащ, и под ним Тора увидела золоченые доспехи с выложенным на груди драгоценными камнями крестом. На голове у незнакомца была красивая золотая корона. И лицо его светилось таким неземным светом, что Тора и представить себе не могла более красивого и величественного короля. И вскоре он сказал: «Тут начинается крутой подъем, и не сможешь ты нести детей. Ты хочешь, чтобы я поднял сначала тебя или младенцев?» «Сначала детей, — отвечала Тора, — и если не сможешь поднять сразу всех, то я посижу и подожду тебя, сколько потребуется». «Долго же тебе придется ждать, — отвечал рыцарь, — ибо великое их множество в этой долине, и все время появляются новые. А ведь ты хотела лишь посмотреть мою золотую крепость, а затем вернуться домой к своим детям. Здесь же ты можешь просидеть до конца света, потому что не успею я до тех пор перенести всех детей в свой замок». «Я подожду столько, сколько будет нужно, — отвечала Тора. — Не могу я уйти от этих несчастных малышей. Мои дети под присмотром дома, и больше нужна я здесь, чем там». Тогда рыцарь сказал: «У твоей груди лежит твой старший сын, Тора, потому что в этом ущелье находятся те, кто не успел родиться на свет и не успел сам узнать дорогу в мое царство». Тора упала на колени и в ужасе спросила: «Кто ты, великий хёвдинг? И как тебя зовут?» «Меня зовут Христос», — ответил рыцарь, и в тот же миг от него стал исходить такой яркий Божественный свет и тепло, как будто в долину заглянуло солнце и согрело всех младенцев. Но Тора должна была закрыть глаза от нестерпимого сияния, а когда открыла их, то была в своей постели дома. Она тут же позвала своего мужа и всех родичей и рассказала им о своем видении и о грехе, который не была больше в состоянии скрывать. Ее муж пришел в такую ярость, что тут же приказал ей встать из постели и убираться из усадьбы, хотя на дворе была ночь. И вот пошла Тора через весь город, и все собаки лаяли ей вслед. Она была так несчастна и раскаивалась в своем грехе, что думала, что не достойна жить на этом свете. И поэтому отправилась она на берег моря и вдруг услышала там плач ребенка и среди камней нашла новорожденного мальчика. Он был жив. Тора закутала его в свою одежду и дала грудь. И она решила, что воспитает этого ребенка. И она пошла через лес и пришла наконец в селение, где никто ее не знал, она построила себе дом и стала там жить с ребенком. Вскоре она получила все свое золото и серебро, которым владела до замужества, и сказала, что готова брать на воспитание всех детей, от которых хотели отказаться родители. Она продала все свои богатства, чтобы купить еду для приемных детей, но сама питалась лишь травой и ключевой водой. И когда в страну пришли священники, чтобы проповедовать новое учение, были они удивлены, увидев женщину, которая уже познала веру Христову. И они окрестили и ее, и детей, а после смерти провозгласили святой за все ее добрые дела». Вигдис поблагодарила священника за рассказ и оставшийся вечер просидела молча, углубленная в свои мысли. А когда пришло время ложиться спать и люди ушли к себе, она позвала Ульвара. Ему было уже девять лет, и он очень любил мать. Он уселся у нее на коленях и обнял за шею. — А ты бы стала сидеть в той долине до конца света и ждать меня, мам? — спросил он и поцеловал Вигдис. — Я думаю, что да. Вигдис крепко обняла его и сказала: — Я поняла это однажды ночью, как и Тора. И так же, как Тора, хотела я идти на край света, чтобы спасти тебя. Я была рядом, когда тебе действительно понадобилась мать. Мальчик стал целовать ее. А через некоторое время сказал: — Никогда не хотела сказать ты мне, кто мой отец. — Не напоминай мне никогда о нем в минуту радости, — ответила Вигдис. — И не спрашивай. — Когда я вырасту, — сказал мальчик, — я обязательно найду его и заставлю взять тебя в жены, а если он откажется, придется ему о том пожалеть. Вигдис улыбнулась и проговорила: — Ты еще не скоро станешь взрослым, сын, и не скоро ты уедешь от меня. И никогда мы не будем говорить о нем, и никогда он не увидит тебя и не причинит тебе зла, а я буду о тебе заботиться и постараюсь забыть то, что не в силах помнить.XXXIX
Ульвар вырос и стал красивым и сильным парнем. Он был высок, но тонок в кости, с узким лицом, голубыми глазами и длинными каштановыми волосами, отливающими рыжиной. Он рано повзрослел, потому что мать с ранних лет заговаривала с ним об управлении хутором и спрашивала его совета. Она говорила с ним как со взрослым мужчиной, который может поддержать и защитить ее. Он стал из-за этого серьезным и немногословным, но мягким и вежливым в обращении с людьми, и всем он нравился. Он и его мать очень любили друг друга. Но она никогда не говорила, кто был его отцом. Она отвечала, что нечего ей сказать хорошего о его отце и что надеется она никогда больше не услышать его имени. И она всегда так сердилась, что Ульвар не решался расспрашивать дальше. Коре, Иллюге и Вигдис дружили и каждый год устраивали друг для друга богатые пиры. Коре и Иллюге заботились об Ульваре и научили его всему, что положено знать мужчине. Чаще Ульвар бывал в Грефсине, потому что он был ближе к Вадину, но больше нравилось мальчику гостить в Баугстадире, потому что Иллюге много повидал на своем веку и с удовольствием рассказывал обо всем Ульвару. Однажды вечером, когда Ульвар был в Баугстадире, туда приехал Эрик, священник, и Иллюге попросил его рассказать им какую-нибудь историю, чтобы скоротать время. Священник тогда рассказал о святом Георгии, который убил дракона. Иллюге сказал: — Это подвиг, достойный мужчины, — второй по величине после подвига Христа, и лишь два человека равны им в своих делах — Сигурд Победитель дракона и Олав Трюгвассон, который одержал победу при Сволдре. Подобного ему не было с тех самых пор, о которых ты рассказывал, и не будет впредь, пока море омывает берега северных стран. Эрик отвечал, что Олав действительно великий хёвдинг Севера, но теперь он хочет рассказать о страданиях святых мучеников с Юга. И чтобы они поняли силу веры, он рассказал им историю об одной молодой девушке — святой Агате. Иллюге сказал: — Мужественной была эта дева, и никогда не забудутся ее деяния. Но сейчас и я хочу рассказать о самой мужественной женщине, которую я встречал в своей жизни. И ты, Ульвар, расспрашивал меня об этой истории, но, сдается мне, никогда не слышал ее целиком. И он рассказал им о той ночи, когда сожгли Вадин, и о пути, проделанном Вигдис. Он не назвал ее имени, но, закончив свой рассказ, сказал мальчику: — Тызнаешь, о ком я рассказывал, или, может, ты знаешь женщину, у которой не хватает трех пальцев на левой руке? Ульвар кивнул и взял Иллюге за руку, а тот добавил: — Если ты пойдешь в свою мать, то совершишь много великих дел. Когда на следующий день Ульвар вернулся домой, во дворе стояла Вигдис и кормила жеребят хлебом. Ульвар спрыгнул с коня, подбежал к матери и обнял ее. Она засмеялась и спросила, что это с ним случилось. — Ничего, — отвечал он, — кроме того, что решил я, что нет тебе равной. — И тут он взял ее левую руку и поцеловал обрубки пальцев. — Что еще тебе рассказал Иллюге? — вновь засмеялась его мать. — Ты знаешь, о чем я подумал? — спросил Ульвар. — Что надо было бы тебе взять в мужья конунга Олава сына Трюггве. Вы очень хорошо подошли бы друг другу. Вигдис покраснела и ничего не ответила. Она поцеловала сына в щеку и сказала, что надо идти в дом — у нее готова еда.XL
Однажды вечером в Вадин приехали два исландца, купцы, которые направлялись в Тунсберг, и попросили разрешения переночевать в усадьбе Вигдис. Вигдис хорошо приняла их и угостила. Это были красивые и достойные люди. Они сидели и разговаривали с Вигдис. И напоследок она спросила, не знают ли они человека по имени Вига-Льот и жив ли он? Да, отвечали они, они слышали о Вига-Льоте из Раудасанд, но его убили, еще когда они были мальчиками. Тогда Вигдис сказала, что вряд ли это он, «потому что тот человек приезжал в Норвегию не так давно». Тогда один исландец спросил другого: — Разве не так звали Льота сына Гицура из Скомедала, потому что он отомстил за своего отца, когда был еще совсем маленьким и пас овец Торбьёрна из Эйре? Вигдис сказала: — Того, о ком я говорю, звали Льот сын Гицура. Не знаете ли вы, жив ли он? Ульвар сидел на скамье, он наклонился над столом и попросил: — Расскажите о нем — о том, кто отомстил за своего отца, когда был еще мальчиком и пас овец! Вигдис посмотрела на сына и ничего не сказала. Один из исландцев кивнул другому: — Расскажи об этом, Хельге, если хозяйка захочет послушать. — Хорошо, — медленно ответила Вигдис, глядя на пол. — Расскажи, если ты не устал. Хельге сказал: — Этот Льот был единственным сыном Гицура, которого убили Гуннар с Овечьего холма и его родичи. С Гуннаром тогда было семь человек, и одним из них был Арне сын Коля, он больше всех желал убийства. Гуннар заплатил виру за Гицура, и люди до сих пор считают, что те, кто вели это дело, хорошо показали себя, потому что не могли они тягаться с родом Гуннара. Но против Арне дело не мог возбудить никто. Льоту тогда было два или три года. И вот однажды зимой, когда Льоту было тринадцать лет, он вместе с другими мальчишками искал в горах пропавшую овцу. Мальчики сели отдохнуть под обрывом поесть и начали хвастаться своими успехами в военных искусствах. Льот сказал, что хорошо бросает копье и ни разу еще не промахнулся. Тогда один из мальчиков посмотрел в долину и сказал: «Видишь всадников, что едут у Хаукетинда? Если я не ошибаюсь, во главе их Арне сын Коля. И если ты попадешь в эту цель, Льот, то будет это лучше для твоего отца, чем все золото Гуннара». У мальчиков было с собой три копья. Льот взял их и побежал вниз. Горная дорога шла между скал и в самом узком месте над ней нависал уступ, а с другой стороны была гладкая стена в три или четыре человеческих роста высотой. Льот спрятался на уступе за камнем. Арне тем временем въехал в расселину; с ним было четверо его людей. Дорога тут шла резко вверх. Когда пятеро подъехали к уступу, на котором спрятался Льот, мальчик вскочил на камень и метнул свое первое копье. Оно попало в человека, едущего рядом с Арне. Льот вновь спрятался за камень, и мужчины не увидели, кто бросил копье. Они остановились и огляделись. Льот тогда вновь вскочил на камень и кинул два оставшихся копья. Одно ни в кого не попало, а другое убило человека, ехавшего перед Арне. Льот крикнул: «Теперь у меня положение лучше, чем у моего отца, потому что тогда, Арне, вас было против него восемь, а сейчас против меня всего лишь трое». У него был с собой топор для дров на поясе, и когда Арне стал карабкаться к нему на скалу, Льот размахнулся и ударил Арне по голове. Топор раскроил ему череп и застрял в челюсти. Тут один из людей Арне метнул в Льота длинное копье, но он поймал его на лету. И побежал вверх на гору, петляя между камнями, так что люди Арне никак не могли поразить его. И когда Льот добрался до вершины горы, он оттолкнулся копьем от земли и перелетел на другую сторону расселины и быстро сбежал вниз к дороге, к тому месту, куда убежали лошади убитых им. Льот схватил одного из коней, вскочил в седло и поскакал в Эйре, где в то время жил. И люди тогда решили, что это самый большой из всех подвигов, которые совершали мальчики, и многие считали, что станет Льот великим воином, и с тех пор стали называть его Вига-Льотом. Вигдис через некоторое время спросила: — А ты знаешь, Хельге, что случилось с ним потом? — О, — отвечал Хельге, — в последнее время о нем мало говорили, потому что он женился и стал вести себя спокойно. — Он женат? — тихо проговорила Вигдис. — Да, — ответил Хельге. — А ты знаешь его жену? — не унималась Вигдис. — Я всего лишь видел ее, — сказал Хельге, — ее считали самой красивой девушкой в той части Исландии, она богата и добра, и с тех пор, как он женился на ней, они жили у себя в усадьбе. Вигдис немного помолчала, а потом опять спросила: — А у него есть дети? — Да, я слышал, что есть ребенок трех-четырех лет, — отвечал Хельге. Вигдис больше ничего не спрашивала. Но когда исландцы легли спать, Вигдис подошла к очагу и стала смотреть на угли. Ульвар сидел на скамье. И Вигдис сказала, не глядя на сына: — Ты хорошо запомнил все, что рассказали исландцы? Ибо рассказывали они о твоем отце. Ульвар вскочил со скамьи и закричал: — Это мой отец, который убил троих, когда ему было столько же лет, сколько мне сейчас! — Это твой отец, у которого красивая жена, — отвечала ему Вигдис. Ульвар тогда сказал: — Что бы он ни сделал тебе, мама, все равно он смелый человек, и хотел бы я встретиться с ним, чтобы он знал, что есть у него сын, похожий на него. — Если ты похож на него и если ты мой сын, — заметила Вигдис, — то принесешь ты мне голову Вига-Льота и положишь мне на колени. Ульвар побледнел и сказал: — Никогда еще не случалось, чтобы сын убил своего отца. Вигдис подняла тогда руки к груди и сжала их. Она сказала: — Если не хочешь ты отомстить за меня, как я отомстила за своего отца, то скажу я тебе, что много я настрадалась из-за твоего отца и так он повел себя со мной, что если бы рассказала я тебе все, то не успокоился бы ты до тех пор, пока не принес бы мне то, о чем я прошу тебя — или любишь ты меня меньше, чем говоришь. А сейчас не хочу я больше говорить об этом. Ульвар подошел и обнял мать, а она легла на скамью и зарыдала. И мальчик сказал тогда, что всегда он будет выполнять ее желания и она должна знать об этом.
XLI
Ульвару исполнилось семнадцать, И тогда он решил поговорить с матерью и сказать ей, что хочет поехать посмотреть мир. Вигдис посчитала такое его желание разумным и обещала купить хороший корабль, но она хотела, чтобы он поехал вместе со взрослым опытным мужчиной. Когда Иллюге услышал об этом, он сказал, что может поехать с Ульваром, потому что его жена к тому времени уже умерла. Однажды, ближе к концу зимы, Иллюге приехал в Вадин. Он говорил с Вигдис с глазу на глаз в зале, и Вигдис спросила его, что он решил. Иллюге ответил: — Ты ведь знаешь, что Ульвар хочет отправится в Исландию. Вигдис промолчала, и Иллюге продолжал: — И сдается мне, что известно тебе также, зачем он туда направляется, и потому вряд ли удивит тебя, что не хочется мне ехать в Исландию вместе с Ульваром. Вигдис тихо ответила: — Часто Ульвар бывал у тебя и много говорил с тобой — не рассказывал ли он тебе о своем отце? — И не редко, — сказал Иллюге. — Он хочет встретиться с ним и посмотреть, что он за человек. Как тебе это нравится? Или это твой совет? — Нет, — ответила Вигдис. А через некоторое время добавила: — Льот не знает, что у меня есть от него ребенок. И хотелось бы мне, чтобы отказался Ульвар от этой поездки. И тут мимо двери прошел Ульвар. Иллюге позвал его. — Мы с твоей матерью говорили о поездке в Исландию. Ульвар покраснел и быстро ответил: — Не должно удивить тебя, мама, что хочется мне встретиться с человеком, который зачал меня, и посмотреть, как он меня встретит. — Никогда он не вспоминал о нас, — резко ответила Вигдис, — и у него есть жена и ребенок. И не получишь ты от него ничего, кроме позора, если отправишься к нему. — Я твой сын, — с неудовольствием отвечал Ульвар, — и должно быть тебе известно, что не позволю я себя позорить. И сказала ты однажды, что больше всего хотела бы, чтобы положил я тебе голову Льота на колени. И он ушел. Вигдис быстро проговорила: — Не хочу я больше слышать его имя. Иллюге посмотрел на нее и сказал: — Очень сильно любила ты Льота, если сейчас так ненавидишь его, и сдается мне, что до сих пор ты его любишь. — Люблю я его так же сильно, как волка в лесу. И если доведется нам встретиться, то один из нас расстанется с жизнью. Иллюге спросил: — Так ты хочешь отомстить Льоту? — Да, — ответила она. Иллюге тогда сказал: — Я поеду с Ульваром в Исландию и буду следить за ним, как за собственным сыном, но тогда должна ты пообещать мне, что выйдешь за меня замуж, когда мы вернемся домой. Вигдис не ответила, и Иллюге добавил: — Не кажется ли тебе, что достаточно ты уже вдовела и скорбела из-за предательства того человека. Ты еще молода и красива — и могут у тебя еще быть радостные и счастливые дни в жизни. И знаешь ты, что всегда я буду добр к тебе и помогу твоему сыну. Тут Вигдис протянула ему руку, и он поцеловал ее, и они договорились о свадьбе. Она рассказала об этом Ульвару, и он ответил, что в таком деле мать сама должна все решить.XLII
Но случилось так, что не попал Ульвар в Исландию. В Северном море поднялась буря и дул такой ветер, что пришлось им выбросить за борт почти все свое добро, чтобы спасти жизнь. А потом они потеряли руль и никак не могли больше управлять кораблем, и вскоре их прибило к берегу, который, как сказал Иллюге, был шотландским. Там они поставили парус и на веслах вошли в бухту, где ветер и буря не могли уже добраться до них. Вечером они, бросили якорь в заливе с песчаной отмелью у устья реки и высокими горами по берегам. Нигде поблизости, насколько они могли судить, не было человеческого жилья. Ночью буря разыгралась вновь, корабль сорвало с якоря и выбросило на берег, но никто не пострадал. Иллюге тогда сказал, что по существующим законам те, кто владел прибрежными землями, могут их убить, и лучше бы им поскорее починить корабль и убраться отсюда. Поэтому они работали весь день и к вечеру спустили корабль на воду. Но у них не было еды, и Ульвар решил совершить набег на ближайшее поселение, которое было неподалеку за горой. Туда они и направились, вошли в самый большой дом, выгнали оттуда его обитателей и взяли себе еду, питье и одежду. И никто не оказал им сопротивления. Но когда они спустились на берег, там были люди, и на их корабле тоже. Иллюге сказал, что, наверное, это скотты, которые приплыли с другой стороны залива и сумели победить воинов, которых они оставили на корабле. Но тут они увидели, что по той дороге, по которой они проехали сами, вниз к берегу движутся всадники. Иллюге тогда спросил: — Ну и как нравится тебе эта поездка, Ульвар? — Это веселее, чем лежать на дне моря, — рассмеялся в ответ Ульвар. — Но лучше поторопимся на корабль, чтобы успеть скинуть с него незваных гостей и успеть подготовиться к битве с той многочисленной дружиной, что едет к нам. Иллюге сказал, что было бы умнее сначала разобраться с всадниками, а потом уж освободить свой корабль, «потому что те, кто на драккаре, могут отрубить нам руки, когда мы будем цепляться за борта, а то, что всадников больше — не велика беда». «Я не боюсь их, — заметил Ульвар, — но боюсь, что они уплывут на нашем корабле, а мы останемся тут в ловушке — как лисы в западне». И с этими словами он и большинство его дружинников попрыгали в воду и, прикрываясь щитами от обрушившихся на их головы стрел, направились к драккару. Но Ульвару скоро пришлось убедиться, что скотты умеют стрелять и рубить по рукам, и что положение их на корабле намного выгоднее, и что не все так легко, как он ожидал. Норвежцам с большим трудом удалось переманить удачу на свою сторону, и хоть они метали копья, которые тут же возвращались обратно, но вскоре скоттам пришлось спуститься в воду, и вскоре были они кругом, а норвегам пришлось сражаться по пояс в воде. Это была тяжелая битва. Ульвар сказал Иллюге: — Хорош был твой совет, приемный отец. — Ты стоишь двоих, — отвечал Иллюге, — и будет мне жаль, если потеряет Вигдис такого сына. Тут он бросился к кораблю, на корме которого стоял высокий рыжеволосый мужчина, это был хёвдинг скоттов. Иллюге отбросил в сторону свой щит, подпрыгнул и ухватил хёвдинга за ноги, но в тот же миг другой скотт раскроил ему череп. Оба упали в воду, и Ульвар убил скотта. И тогда его люди пришли в замешательство, и кто-то бросился в воду с корабля, а кто-то, наоборот, стал туда взбираться. Тут многим норвежцам удалось подняться на драккар. Ульвар взобрался на корабль последним, потому что хотел помочь Иллюге, но тот сказал: — Ты ничем не можешь мне помочь, и хочу я, чтобы спас ты свою жизнь и вернулся к матери и рассказал, как я погиб. — Ей не понравится, если я вернусь домой без тебя, — ответил Ульвар, вскарабкался на борт и втянул на корабль Иллюге. Но тот упал на палубу и умер. Теперь Ульвар был на своем корабле, и у него все еще оставалось тринадцать дружинников, но все они были ранены, а у скоттов было не менее полсотни человек, и все они лезли на корабль. Скотты начали рубить борта, чтобы затопить драккар, а часть воинов прикрывали их своими щитами от стрел и сами стреляли из луков по норвежцам. И тут Ульвар увидел большой корабль, который медленно скользил у самого берега. Ульвар крикнул своим людям: — Не долгой вышла наша поездка — но можем мы гордиться своей вечерней работой. Скотты потеряли много воинов. Тут большой корабль подошел вплотную к драккару Ульвара, и воины с него начали прыгать на судно норвежцев. Впереди был темноволосый человек. Он схватился за канат, перепрыгнул на драккар норвегов и побежал к мачте, у которой стоял Ульвар. Он крикнул по-норвежски: — Хорошо сражаешься ты, молодой хёвдинг, и повезло нам, что подоспели мы, чтобы помочь таким героям! Вскоре драккар норвегов был полон его людьми, и дело повернулось так, что скоттам пришлось прыгать в воду, но немногим из них удалось добраться до берега. И когда сражение было завершено, выбросили они павших скоттов за борт, и корабль Ульвара отошел от берега под прикрытием драккара незнакомца. И тут выяснилось, что драккар Ульвара был так поврежден, что не мог плыть. И незнакомец предложил ему и его людям перейти к ним на корабль. Да и ветер был хорош, а шторм к тому времени стих. Незнакомец перевязал Ульвару и его воинам раны, а они рассказали ему о битве. Он сказал, что его зовут Успак [7] и родом он из Исландии, но живет в Нортумберленде, и люди его норвеги и даны из этой области. Когда стемнело, они бросили якорь в заливе и легли спать. Успак и Ульвар лежали рядом в укрытии под палубой. Ульвар не спал, потому что раны его болели. И Успак стал говорить. Он сказал: — Ты сражался как и подобает настоящему мужчине, Ульвар, и похоже, ты знатного рода. Откуда ты родом и кто твой отец? Ульвар отвечал: — Я из Вингульмарка. Вадин у Фолдена зовется моя усадьба. Успак резко повернулся к нему и спросил: — Ну а твой отец, Ульвар, — как его имя? — Не хочу ничего скрывать от тебя, господин, — молвил Ульвар, — я незаконнорожденный. И поэтому зовут меня Ульвар сын Вигдис. Успак долго молчал, он хотел заговорить один или два раза, но не мог. А Ульвар ничего не заметил. Наконец Успак осторожно спросил: — А сколько лет тебе, Ульвар сын Вигдис? — После дня середины лета будет восемнадцать, — ответил он. Успак вновь улегся и долго молчал. Наконец он заговорил: — А твоя мать еще жива и все еще не замужем? Ульвар отвечал «да». Успак тогда сказал: — Хотел бы я узнать побольше о твоей матери, Ульвар. Сдается мне, что замечательная и смелая она женщина, если удалось ей воспитать такого достойного похвалы сына как ты. Она очень заботится о тебе, твоя мать? Ульвар ответил: — Когда мне было пятнадцать, она отдала мне Вадин и половину всего своего имущества, так что никто не может меня упрекнуть в бедности и отсутствии власти, хоть я и незаконнорожденный. А себе она построила усадьбу в лесу. Берг зовется тот хутор. Но сама она живет в Вадине. Но ты прав, и не знаю я другой столь же мужественной женщины. И совсем не жалею я, что не знал своего отца. И принялся он рассказывать о своей матери, и чем больше говорил, тем больше Успак спрашивал, и под конец узнал все и о смерти Гуннара, и о мести Вигдис, и обо всем, что случилось позже. И за разговором прошла почти вся ночь. А под конец Успак сказал: — Многим обязан ты своей матери и должен отплатить ей великой любовью и уважением. И нету ей равных, как я погляжу, по силе и уму, и никто сильнее нее не любил своего сына. — Твоя правда, — отвечал Ульвар. — И надеюсь я, что настанет день, когда смогу я отплатить ей за все. Успак сказал: — Ты потерял свой драккар и имущество, но если останешься ты у меня на лето, то не придется тебе жалеть об этом и не возвратишься ты домой бедным осенью. И будешь ты владеть этим кораблем на половинных началах, и получишь долю от добычи как хёвдинг. Ульвар его поблагодарил, а потом сказал, что собирался отправиться в Исландию. Успак спросил, есть ли у него там дело. Ульвар ответил: — Ты из Исландии, Успак. Не знаком ли тебе Вига-Льот сын Гицура из Скомедала? — A y тебя к нему дело? — немного погодя спросил Успак. — Может, и так, — заметил Ульвар. — Может, он друг твоей матери? — спросил тогда Успак. — Не друг он моей матери, — ответил Ульвар, — и ничего хорошего мы от него не ждем. Но хотелось бы мне посмотреть, как примет он меня, ибо он и есть мой отец. — Странно будет, — усмехнулся Успак, — если не обрадуется он такому красивому и мужественному сыну. И вряд ли мог он забыть такую женщину, как твоя мать. — Никогда он не спрашивал о нас, — ответил Ульвар, — и знаю я, что есть у него жена и ребенок в Исландии, но хочу я передать ему привет от матери, которую он обманул и бросил. Успак помолчал, а потом проговорил: — Нет его в Исландии, и слышал я, что уехал он из страны много лет назад — а жена его и дети умерли. — Он был твоим другом? — спросил Ульвар. — Нет, — сказал Успак, — не большим, чем твоей матери. Ульвар успокоился и почувствовал, что хочет спать. И немного погодя почувствовал он его руку на своем лице. Ульвар открыл глаза: Успак открыл люк в палубе, и на них теперь падали лучи солнца. Успак склонился над ним. — Ты стонал во сне, Ульвар, — сказал он. — Я просто хотел посмотреть, что с тобой. Спи.XLIII
Ульвар был с Успаком до поздней осени, они вместе с датскими викингами прошлись по побережьям Англии, Киннмареланда и Франции и были удачливы. Ульвар сын Вигдис выказал большое мужество, и о нем говорили с уважением. Осенью Успак и Ульвар гостили у Сигвальда ярла в Нортумберленде; он был другом Успака и хорошо принял Ульвара и щедро одарил его богатыми подарками. Однажды вечером они сидели у Успака и пили. Тогда спросил Успак: — Так ты, Ульвар, хочешь отыскать своего отца? — Когда я был дома, — отвечал ему Ульвар, — то хотел этого больше всего. И очень печалился, что я незаконнорожденный. И считал я, что должен быть сильнее и смелее тех, у кого есть отцы. И думал я, что отправлюсь к нему и потребую виру за свою мать и себя и все то зло, что он ей причинил. — Но могло получиться, что нашел бы ты его, — тихо сказал Успак. — И он мог бы принять тебя с любовью и порадоваться, что у него такой сын. — Но не мог бы он похвалиться тогда, — заметил Ульвар, — что его это заслуга. И не стал бы я благодарить его. И не кажется мне, что обязан я ему чем-то, кроме жизни. И от этого дела не будет ему большой чести. Но в походе я понял, что хорош сам по себе — и это твоя заслуга, Успак. И не нужен мне теперь отец, и не хочу я его любви. И все равно мне, кто он — мерзавец или еще кто. Успак сказал: — А твоя мать — если прознает он о тебе и приедет к Вигдис свататься? — Сказать правду, — отвечал Ульвар, — лучше бы не делать этого. Ибо сказала она однажды, что лучшей вирой было бы ей получить его окровавленную голову. И редко она говорила о нем, а потом всегда бывала подолгу грустна. И не нравилось ей, что хочу я поехать в Исландию. Успак сказал: — Это были суровые слова, Ульвар. Ульвар ответил ему: — Но в суровых условиях довелось жить моей матери в молодости, когда уехал он из страны и оставил ее с ребенком. И никогда он не хотел узнать о нас. — А ты точно знаешь, что не хотел он знать вас? — спросил Успак. — И еще говорила она мне, что он плохой и бессердечный человек. — Суровые слова это сына об отце, Ульвар, — вновь сказал Успак и вздохнул. — Он не научил меня лучшим, — засмеялся Ульвар, — и может статься, похож я на него. Успак посмотрел на него, но ничего не сказал, и больше они о том не говорили, и весь вечер Успак был задумчив и мало говорил. И перед тем как лечь спать, он достал из сундука красный шелковый плащ, красиво расшитый золотом и шелком, и протянул его Ульвару. Он попросил его принять этот дар. Ульвар поблагодарил. Когда осенью Ульвар собрался домой, Успак дал ему большой корабль и еще сделал подарки — кольчугу и позолоченный шлем, двух белоснежных соколов и тройной позолоченный пояс, который он попросил Ульвара передать его матери в знак дружбы, и под конец — зеленый шелковый плащ, расшитый золотом и подбитый мехом; но он сказал, что хочет получить назад красный плащ, потому что не новый он и не годится в подарок. Ульвар поблагодарил за внимание и любовь к нему, а потом предложил Успаку выбрать все, что ему хочется, из добычи Ульвара. — Больше у меня добра, — отвечал Успак, — чем мне нужно. Но хочу я получить на память о тебе то обручье, что носишь ты на левой руке, если только отдашь ты его мне. Ульвар снял обручье и дал его Успаку. Он сказал: — Не много оно стоит — и носил я его потому, что досталось оно мне от матери, а та получила его от своей матери. Но мал этот дар, и хочу я, чтобы попросил ты о большем. — Не надо мне ничего другого, — ответил Успак и надел обручье. — И любо оно мне еще и потому, что носил ты его на руке, что так славно рубила скоттов в том фьорде. Ульвар тогда сказал: — Хоть Вадин — и не усадьба ярла, но будет для нас великой радостью, если захочешь ты погостить у моей матери. — Конечно, захочу, — ответил Успак. — И не много пройдет времени, когда встретимся мы вновь. Ибо приехал бы я в Вадин, даже если бы ты и не пригласил меня. И он обнял Ульвара, поцеловал его и пожелал удачи. Ульвар отплыл в Норвегию и на четвертый день прибыл в Фолден.
XLIV
Вигдис с радостью встретила сына, и не надоедало ей слушать его рассказы о походе. Больше всего рассказывал он об Успаке, которого считал самым достойным из всех и лучшим другом. И Вигдис сказала, что будет для нее большой честью принимать его, хотя и не сможет никогда она отплатить добром человеку, спасшему жизнь ее сыну. Она очень горевала из-за Иллюге и устроила большую тризну по нему. Она обещала воспитать его детей, Олава и Ингебьёрг, как своих собственных. И с тех пор они жили в Вадине. Год шел к концу, и наступило Рождество. И в святую ночь, когда родился Господь наш, люди стали съезжаться на службу в церковь. И Вигдис с Ульваром со своими людьми тоже выехали из Вадина. В тот год выпало перед Рождеством много снега, и было холодно в полнолуние. И так ярок был лунный свет, что показалось Вигдис, когда она переступила порог церкви вместе со своим сыном, что темно там, хотя и горели лампады перед иконами. Священник красиво пел перед алтарем, и курились благовония. И вошедшие преклонили колена и перекрестились святой водой, читая молитвы. И когда Вигдис подняла голову и встала, увидела она человека у стены. Он был одет в темный плащ, который он придерживал у шеи, а голову наклонил, так что не видела она его лица, а лишь глаза из-под черных волос, закрывавших лоб. Но она тут же узнала его, это был Льот. Он смотрел на нее, и, когда встретил ее взгляд, руки его задрожали так, что опустил он их. И был он бледен, как мертвец. Вигдис и сама так задрожала, что вынуждена была прислониться к дверному косяку, и показалось ей, что пол у нее на глазах превратился в реку из крови, и текла река эта между мужчинами и женщинами, а перед алтарем было озеро и крови. Но тут встал с колен Ульвар, засмеялся от радости и протянул ему руку — и поняла тогда Вигдис, кто такой был этот Успак. Она захотела пройти в церковь, но не смогла пойти прямо, а пошла вдоль стены, придерживаясь рукой за бревна стены; и пришла она в угол, где и хотела встать на колени, но женщины подвинулись и освободили ей место у алтаря. Она обернулась и увидела, что Льот стоит у двери и смотрит на нее, а рядом с ним стоит Ульвар. И она пошла вперед, упала на колени и прижалась лбом к стене, а лицо спрятала в ладони. И под звуки песни бросало Вигдис то в жар, то в холод, и дрожала она, напуганная этой встречей. И поняла Вигдис, что ждала все эти годы, чтобы доиграть игру до конца. И чем дольше она лежала перед алтарем, тем больше боялась разговора с Льотом. В стене, рядом с которой она лежала, было отверстие у самого пола, и видела она сквозь него снег и слышала топот коней и позвякивание сбруи. И встала она в середине службы и вышла из церкви. В небе сияла луна. Вигдис побежала по снегу к коновязи и отвязала свою лошадь. Она вывела ее за церковную ограду. И тут за ней из церкви выбежали двое мужчин с такой поспешностью, что забыли даже закрыть дверь, и в церковный двор ворвалось пение псалмов и свет лампад. Льот схватил под уздцы ее лошадь, как раз когда она собиралась выехать со двора. — Позволь мне поговорить с тобой, Вигдис… Она посмотрела на него снизу вверх и сказала: — Ты совершил столько недостойных дел, Льот, что вынужден скрывать свое имя? И не успел Льот ответить ей, как стегнула она коня, и дернулся он так резко, что не смог Льот удержать его, и Вигдис направилась на север и все время подгоняла коня, чтобы ехал он быстрее. И когда она приехала в Вадин, то не остановилась там, а отправилась дальше — в Берг. Там жили только управляющий с женой и треллями. Вигдис вошла в зал — он был почти пуст, ибо дом недавно построили, и в зале были только скамьи вдоль стен да стол. Она подбросила дров в очаг и заперла дверь. И там сидела она одна всю рождественскую ночь.XLV
Когда Вигдис уехала, Ульвар и Льот некоторое время стояли и смотрели ей вслед. Потом Льот обнял Ульвара, поцеловал его и сказал: — Благослови тебя Господь, сын мой. Ибо не знаю я, что будет дальше. Ульвар взял его руку, поцеловал и сказал: — Не знаю, о чем ты говоришь, но если бы был ты моим отцом, то разве оставил бы ты нас? Льот ответил: — Правда в том, что не мог я ждать, а твоя мать не хотела поговорить со мной, и все твои слова, что сказал ты обо мне, были недостаточно суровы. И в тот вечер решил я сказать тебе, что я твой отец. Но потом решил я поговорить сначала с Вигдис. Но хочу я, чтобы знал ты, что не ведал я о тебе до тех пор, пока не назвал ты Вигдис своей матерью. И скажи Вигдис, что она уже достаточно отомстила — и всегда я буду скучать по тебе и ни разу не был я счастлив с последнего нашего разговора с ней. Тут Ульвар обнял его и стал умолять, чтобы поехал он с ним в Вадин. Вигдис никогда не забудет, что спас он ему жизнь и помогал с такой любовью. И, наконец, Льот согласился и поехал с ним в Вадин, но Вигдис там не было. Льот тут же повернул лошадь и проговорил: — Вот видишь, Ульвар, что ничто не поможет нам — и стоит мне и впредь называться Успаком, ибо никто не вел себя глупее меня — и слишком много времени прошло, чтобы мог я исправить сделанное. Ульвар соскочил со своего коня и попросил Льота войти в дом: — Мать наверняка сейчас в Берге, но войди в дом, поешь и отдохни. Льот выглядел ужасно. Ульвар усадил его на почетное место, но Льот почти не притронулся к еде и не сказал ни слова. И потому Ульвар сказал, когда настал следующий день, что хочет отправиться в Берг и переговорить с матерью, а Льот пусть пока останется в Вадине. Но Льот сказал: — Стоит положить этому делу конец, каким бы он ни был. И хочу я поговорить с ней, как хотел поговорить все эти семнадцать лет. И они пошли во двор, сели на лошадей и поехали в Берг. Дверь в дом оказалась заперта, но Ульвар постучал в дверь и крикнул: — Открой, мать, есть мне о чем поговорить с тобой. — Ты один? — через некоторое время спросила Вигдис. — Со мной отец, — ответил Ульвар. — Не о чем мне с ним говорить, — сказала мать. Тогда Ульвар крикнул: — Требую я от тебя, мать, и от него правдивого рассказа, почему я остался без отца — и не уйду я отсюда, и не выпущу Льота со двора, пока не отопрешь ты дверь. Тогда Вигдис отодвинула засов и впустила их в дом. Ульвар посмотрел на них и сказал: — Седыми стали волосы моего отца, да и ты, мать, состарилась — многое случилось со времени вашей последней встречи. И если бы могли вы починить сломанное, то был бы я рад, потому что люблю вас обоих. Вигдис подняла лицо и сказала: — Постарели глаза мои от слез, и никто, кроме тебя, Льот, не причинял мне боли. Он ответил: — И все же тебе было лучше — ты жила с нашим сыном, Вигдис, и понимаю я, что не можешь ты любить меня, ведь я предал тебя, и не скучала ты обо мне. Но я горевал из-за каждого шага и каждой волны, которые не приближали меня к тебе. Вигдис холодно засмеялась и сказала: — А жена твоя — что она думает, когда вот так ездишь ты из страны в страну к своим наложницам? — Лучше всех была она и достойна любви, — ответил Льот. — Но она умерла, и тяжко пришлось ей, когда жили мы вместе, ибо всегда думал я о тебе и мало любви выпало на ее долю. И это самый большой мой грех, ибо потеряла она радость жизни по моей вине — но ты можешь утешиться тем, что настигла нас твоя месть, и у меня на глазах утонули мои прекрасные детки и потерял я всех, кого любил, как ты и хотела. Тут Вигдис схватилась обеими руками за шаль с такой силой, что вонзилась фибула ей в грудь, и крикнула: — Откуда знать тебе, Льот, как велик был позор мой — или тебе, сын мой, как тяжела была мне месть — и никогда не доводилось мне слышать, чтобы мужчина был силой взят женщиной. И не знаешь ты, что значит чувствовать, как в тебе растет ребенок человека, которого ты желала, чтобы разорвали на части дикие лошади. И не ты ходил темной зимней ночью искать реку, ибо не знала я другой возможности избавиться от стыда. И тебе еще кажется, что должен он любить тебя — того мальчика, которого родила я в лесу — и не было рядом человека, который мог бы подать мне воды, когда испытывала я страшные боли. Ты и скучал обо мне; и это помогло мне очень, когда внесли в дом окровавленного Гуннара, его ранили и оскорбили по моей вине и из-за моего позора, который навлекла я на нас против своей воли. И много помогла нам, мне и твоему мальчику, твоя любовь в ту ночь, когда сожгли Вадин и моего отца, и убежала я с сыном в лес, и волки шли по нашему следу, пока не добрались мы до жилья разбойников. И показалось тебе достаточным извинением явиться ко мне и предложить уехать с тобой в Исландию, а когда не приняла я с благодарностью твоего предложения, то взял ты в жены другую девушку, подходящую тебе по красоте и богатству. А я тем временем не знала, что ответить своему отцу, когда он ругал меня, и своему ребенку, который спрашивал об отце, ибо никогда не смогла я рассказать, как поступил ты со мной. И злом ты платишь всем тем, кто любит тебя, Льот, и правда то, что ужасный ты человек. Льот был бледен, как снег, когда отвечал: — Более метко бьют твои слова, чем нож при последней нашей встрече. И с радостью расстался бы я сейчас с жизнью, чтобы утешить тебя — и все же скажу я тебе, Вигдис, что горе мое не меньше твоего, ибо не знаешь ты, что значит жить и тосковать по самому любимому человеку. — Правда твоя, — отвечала она, — и не знаю я о любви больше того, чему научил ты меня в тот вечер в лесу, и боялась я с тех пор каждого мужчины, который приближался ко мне. Тогда Ульвар сказал: — На беду довелось вам встретиться — но не забудь, мать, что спас он мне жизнь и относился ко мне с великой любовью. — И тут он заплакал. Вигдис посмотрела на сына и сказала: — А не забыл ли ты, что обещал однажды отомстить за меня? Льот сказал: — Я думал, что можем мы помириться ради Ульвара, но теперь понимаю я, что не можешь ты простить меня — слишком много зла я тебе причинил. И уеду я туда, откуда приехал, но Ульвар наследует все мое богатство. Вигдис закричала: — Однажды ты уже отнял все у меня, и теперь вновь ты хочешь ограбить меня. И отдала я на растерзание волкам и орлам ребенка, которого ты вынудил меня вынашивать — наши трелли нашли его и сохранили ему жизнь. А потом наступило время, когда пожалела я его, ибо был он таким же беспомощным, как и я перед тобой. Я спасла мальчика и сама стала увечной, но я воспитала его и любила все восемнадцать лет, а теперь являешься ты и хочешь отобрать его у меня. — Не хочу я отбирать его у тебя, — отвечал Льот, — с тобой он останется и тебя станет слушать, ибо нет у меня никаких прав на него — но должна ты знать, что люблю я его, я тоже сделал бы для него все, что смог, и не увижу я его никогда больше. — Ничего не хочу я делить с тобой, — сказала она и подняла изувеченную руку, — и не хочу делить с тобой ребенка. Выбирай, Ульвар, с кем из нас ты останешься. — Не могу я сделать такой выбор, — сквозь рыдания ответил Ульвар. — Тогда выбрал ты Льота, — сказала мать и пошла к двери. Ульвар бросился за ней и обнял ее. — Куда идешь ты, мама? Она ответила: — Не знаю. Но было бы лучше, если бы оба мы не пережили той ночи в лесу, чем сидеть мне и вспоминать в старости тот день, когда бросил ты меня ради этого человека. И сдается мне, что похож ты на своего отца, и не удивляет меня, что выбираешь ты его. — Мать, — крикнул сын, — известно тебе, что сделаю я все, что ты пожелаешь, и никогда больше не хочу я его видеть. — Не знаю, мать ли я тебе, — ответила она, — и не похож ты на меня, ты, которого вынашивала я в ненависти и позоре, а похож больше на Осу и рабов; тут же склоняешь ты голову перед тем, кто сильнее тебя. Тогда подошел к ним Льот и дрожащим голосом произнес: — Не знаю я, мой ли ты сын или Коре из Грефсина, но сделай так, как того хочет твоя мать, Ульвар. Обернулась тут Вигдис к Льоту, но взял он за руку Ульвара и вывел его во двор.XLVI
Льот и Ульвар ехали молча вниз по холму по лесу. И не смотрели друг на друга. Но, наконец, Ульвар проговорил: — Не думал я, что расстанешься ты с матерью, ведь ты и так постыдно вел себя с ней. — Она сама того хотела, — заметил Льот. — Но будет на этот раз правильно, если случится все так, как она того желает. Тут он спрыгнул с коня, привязал его, взял свой меч и щит и предложил Ульвару сделать то же самое. Льот сказал, что недалеко тут роща и туда они могут направиться, потому как никто им там не помешает. Ничего Ульвар ему на это не ответил, но пошел следом, и так шли они некоторое время по снегу. И когда пришли они в рощу, выбрал Льот подходящую для поединка поляну. Льот ударил первым и попал по щиту Ульвара. Тогда тот сказал: — Раньше доводилось мне видеть и удары получше, Льот. — Я устал и соблюдал пост, — ответил тот. — А ты молод и силен. И руби сильнее, ибо не буду я поддаваться тебе — а желание Вигдис, наконец, исполнится, и состоится поединок, которого она хотела. Тут Ульвар нанес удар, а Льот отбросил в сторону щит и схватился обеими руками за меч, и меч Ульвара попал ему в левое плечо, рука упала вниз, а сам Льот отшатнулся и прислонился к дереву. Ульвар отбросил меч и щит, когда увидел, что Льот истекает кровью, побледнел и сказал: — Хватит и этого. Больше не хочу я сражаться. — Нет, — отвечал Льот и упал на колени. Ульвар стоял теперь лицом к солнцу и не видел, что случилось. А Льот взял свой меч и воткнул его рукоять между коленей клинком вверх. И бросился он грудью на острие и упал на бок на снег. Ульвар подбежал к Льоту, склонился над ним и, приподняв его, усадил у камня. И сказал тогда Ульвар: — Никогда не стал бы рубиться с тобой, если бы не упомянул ты Коре из Грефсина. Льот улыбнулся перед смертью и ответил: — Об этом я и подумал, и потому сказал. Но не печалься об этом, ибо сам я хотел такого конца. И дай тебе Бог, сын, чтобы не наследовал ты нашего несчастья. И сделай так, как того хочет твоя мать. И давно уж хотелось мне, чтобы моя голова полежала у нее на коленях. И сразу же после этих слов он умер.XLVII
Вигдис ходила взад-вперед, она закуталась в шаль, а потом сбросила ее, хотя от мороза в доме были покрыты инеем стены. И вот, наконец, села она у очага, но тут же вскочила и подошла к двери, остановилась на пороге и стала смотреть вдаль, а красное солнце медленно опускалось в морозный туман. И тут увидела она на опушке леса всадника и узнала Ульвара. Он ехал один и очень медленно — и задрожали у нее ноги; она вошла в дом и села у огня. Она не смогла поднять головы, когда Ульвар открыл дверь. В руках у него был сверток, который он положил ей на колени, а сам прошел дальше, в спальню, не останавливаясь и не говоря ни слова. И он запер дверь изнутри. Вигдис сидела и осторожно ощупала то, что лежало у ней на коленях. Нечто было завернуто в красный шелковый плащ, и она сразу его узнала. Это был тот плащ, что она когда-то вышила и подарила Ветерлиде сыну Глума. Он замерз, и слипся, и затрещал, когда она захотела размотать его. Поэтому Вигдис решила подождать и продолжала сидеть как прежде. Но через некоторое время плащ оттаял, и с него полились вода и кровь и намочили ее платье. Тогда она развернула плащ и увидела голову Льота. Сначала увидела она обрубок шеи, а затем перевернула голову Льота и посмотрела на его лицо. Волосы упали на лоб и прилипли к коже; она отвела их в сторону и вытерла кровь плащом. И один раз провела она рукой по его губам — и показались они ей тонкими и жалкими, голубые на сером лице. Она пальцами разлепила ему веки и посмотрела в его глаза, но были они мертвые и глупые. И она закрыла их вновь. И вспомнила она, как сидела над Эйольвом сыном Арне — тогда познала она сладкий вкус крови, которая сняла боль ее страдающего сердца. И чем дольше смотрела она на голову Льота, тем тяжелее становилось у нее на душе; и было лицо его старым и несчастным, и показалось ей, что эта жалкая седая голова никак не может быть вирой за позор ее — и уж никак не стоит того, чтобы могла сказать она, что ради этого момента она страдала и горевала все эти годы. Вигдис прикрыла голову плащом и положила ее у своих ног. Она встала и направилась к двери Ульвара; она позвала его, но не получила ответа. Она подождала немного, а потом вновь позвала, и вновь не получила ответа; тогда пошла она и села, сложив на окровавленных коленях руки. Так прошло время до вечера; тогда открыл Ульвар дверь и прошел к двери на улицу; мать он не видел, потому что огонь в очаге почти погас. Он был одет для поездки и вышел во двор. Вигдис встала и последовала за ним. Ульвар вывел своего коня и оседлал его. Вигдис подошла к нему. Ярко светила луна, и никогда еще не был Ульвар так похож на Вига-Льота, как сейчас, решила мать. Она хотела спросить о поединке, но не посмела. Она только сказала: — Ты уезжаешь? — Да, уезжаю, — ответил сын. — Ты едешь в Вадин? — не унималась мать. — Я уеду оттуда завтра утром, не хочу я больше оставаться тут, — ответил он. Вигдис посмотрела ему в лицо. Она спросила: — Так ты не хочешь больше жить со мной? — Я отплатил тебе за любовь, мать, как ты меня и просила, — ответил Ульвар. — И не знаю, какую еще радость ты можешь получить от меня, так что можешь ты позволить мне уехать. — Не говори так, — попросила мать. Она помолчала, а потом сказала: — Если не хочешь ты меня больше видеть, то буду я жить здесь, в Берге, сколько ты пожелаешь. Но не уезжай из дома зимой. — Не могу я жить здесь, — проговорил Ульвар, — ибо знаю я, сколько зла тут совершилось, и знаю я, что не будет мне тут хорошо. Вигдис обняла шею лошади и прижалась к ней. Она не смела просить его остаться, и сердце ее превращалось в камень, ибо знала она, что ничего уже нельзя изменить. И уткнулась она в шею лошади и тут же вспомнила ночь, когда родила сына и когда конь был единственным живым существом, на которого она могла опереться. — Ты не любишь меня больше, сын? — осторожно спросила она. — Люблю, — ответил Ульвар. — Но позволь мне уехать, мать. — И, помолчав, добавил: — Прошу тебя, ради меня, предай останки Льота земле. — Обещаю, — ответила Вигдис. Ульвар тогда сказал: — И не благодари меня за его смерть — он сам решил свою судьбу. Он взял поводья и быстро спросил: — Скажи мне честно только одно, мама, — любила ли ты Вига-Льота? Она зарыдала и уткнулась лицом в гриву лошади и произнесла: — Потому и ненавидела я его так — и самое ужасное, что он был единственным, кого хотела я любить из всех мужчин. Ульвар нагнулся к ней, поднял лицо ее и поцеловал в губы. Тогда спросила его мать. — Ты вернешься? — Если буду жив, — отвечал Ульвар, — то когда-нибудь вернусь. А сейчас дозволь мне уехать, мать. Вигдис отпустила лошадь, и Ульвар ускакал.
XLVIII
Вигдис дочь Гуннара с тех пор жила в Берге. Она похоронила Льота сына Гицура у церкви, которую сама выстроила, и она прожила десять лет посленего. Она жила одна и никого не хотела видеть; но в последний год, когда она заболела, к ней приехала Ингебьёрг дочь Иллюге и оставалась в Берге до самой ее смерти. Олав и Ингебьёрг наследовали после нее Вадин; так решила она сама, но они обещали ей, что вернут усадьбу Ульвару или его наследникам, когда они вернутся. Но никогда не слышал никто больше в Осло об Ульваре сыне Льота, и люди считали, что так как обещал он матери вернуться, то расстался он где-то с жизнью. Олав и Ингебьёрг наследовали усадьбу и сделали богатые дары церкви, что была построена из камня в Обаккене у Фресьи на месте сгоревшей деревянной, и каменной церкви у Большого озера. Она была выстроена в честь святой Маргреты, и с тех пор долина у озера так и зовется долиной Маргреты. Возле той церкви и похоронили Вигдис дочь Гуннара.
__________
Вера Хенриксен • СЕРЕБРЯНЫЙ МОЛОТ


БЬЯРКЕЙ
Камень ударился о широкий выступ скалы. Вслед за ним сверху с шуршанием и шумом посыпалась земля, повисая в воздухе облаком пыли. Над домами, на вершине холма, лежала молоденькая девушка, в глазах которой сверкали искры гнева. — Хоть бы Хель[8] добралась до Турира! Хоть бы Финн-Моттул послал на него… — она невольно оборвала свою мысль. «Тролль может схватить за язык!» — обычно говорила Хильд. Нет, такого зла она не желала своему брату. Он же мухи не обидит, а ее — тем более. Глупый Турир! Когда-нибудь он будет о ней лучшего мнения. Конечно, в тот раз он был пьян. Он внезапно вырос перед ней, поднявшись со своего высокого стула, и, желая ударить кулаком по столу, опрокинул чашу с медом, после чего с пьяным достоинством призвал к ответу ее и Эрика. Язык у него заплетался, указательный палец указывал мимо обвиняемых… Вспоминая об этом, она едва удерживалась от смеха. Но Эрик… Мысль о нем снова зажгла в ней гнев. Несомненно, он тогда тоже поднабрался, но это не оправдывало его приставаний к ней, а тем более — его болтовни. Конечно, она ради забавы несколько раз состроила ему летом глазки, и еще она замечала, как учащается его дыханье, когда он подходит к ней. Она не забыла также и тот случай в прихожей, когда он взял ее руку и держал некоторое время в своей теплой ладони, а потом внезапно обнял ее другой рукой за талию и прижал к себе, торопливо и горячо. Он успел что-то шепнуть ей на ухо, что-то вроде того, что она ему нравится — а он ей? И она ответила со смехом: «Мог бы сам догадаться!» — и оттолкнула его от себя, но не грубо, потому что в его глазах было что-то, что удержало ее от этого. Глаза его светились в полумраке, и это напугало ее. Но в то же время у нее появилось смутное предчувствие, что такой он ей нравится. Эрик был красавцем: высоким и сильным, с живыми, веселыми глазами. Многие девушки в усадьбе провожали его долгим взглядом, когда он проходил по двору. В его жилах не текла кровь рабов, ни с отцовской, ни с материнской стороны. И хотя его отец не был особенно богат, у него имелось свое хозяйство. Эрик побледнел вчера, когда Турир назвал виру[9] за то, что он прикоснулся к его сестре. Это была большая сумма, превышающая все отцовское наследство, такая большая, что парню предстояло идти в кабалу. Сигрид топнула ногой о землю, так что вниз полетели мелкие камни. Глупый, самонадеянный Эрик! Как он мог только подумать, что она, дочь хёвдинга[10], придает значение тому, что было между ними? Как он посмел обратиться к ней за столом, на глазах у всех и Турира, который только что вернулся из дальнего похода? И как у него только язык повернулся сказать, что она его девушка! Правда, другие дворовые парни насмехались над ним, говоря, что он, положивший глаз на Сигрид дочь Турира, что-то присмирел, когда домой вернулся ее брат. Услышав с берега крик, она поспешно села. Ошибки быть не могло: там ставили паруса. Но она не знала, что кто-то сегодня отплывает; она была уверена, что все спят после вчерашнего пира. Она стала присматриваться, кто бы это мог быть. Это был — просто невероятно! — да, это был старый Халльдор Свейнссон, самый преданный из всех их людей. Но она не понимала, как его смогли вернуть к жизни — ведь в последний раз, когда она видела его, вчера вечером, он, будучи мертвецки пьяным, висел на руках двух молодых парней, тащивших его в постель. Халльдор давно уже так не напивался. В свое время он был силачом и смельчаком, не уступавшим никому по части выпивки, но это было во времена юности ее отца. Он был к тому же мудрым и рассудительным, и Турир относился к нему с уважением, тем более что после смерти отца Халльдор был для него опорой и поддержкой, как никто другой. Во дворе стало оживленнее. Кроме женщин и рабов, встававших рано, чтобы приступить к своим обычным делам, стали просыпаться и мужчины. Небольшая группа мужчин направлялась к морю, где был уже спущен на воду корабль. Судя по разговору, это были люди Халльдора: они добродушно переругивались, и это были большей частью грубые шутки по поводу ночной попойки и возни с женщинами. Их голоса доносились до Сигрид с порывами ветра. — Ни одна девка не захотела спать с тобой этой ночью! Ты ведь так набрался, Бьёрн! — кричал кто-то с драккара. — В самом деле, — ответил тот, подходя поближе, — даже девка Эрика! Мужчины захохотали. Халльдор же, выпрямившись во весь свой высокий рост, крикнул: — Заткни пасть, Бьёрн! Громкий смех тотчас же затих. Сигрид прерывисто вздохнула. Выходя утром из дома, она заметила, как девушки переглянулись. Но чтобы дружинники осмелились… Она с такой силой потянула цепочку, что у нее заныли пальцы, а цепочка порвалась, и ей пришлось снять ее. Это была необычайно красивая золотая цепочка великолепной заморской работы — Турир привез ее Сигрид в подарок. Ей пришла в голову мысль о том, что цепочка эта дорогая и может пойти в качестве уплаты части долга Эрика. Она вдруг разволновалась и стала прикидывать, какие еще ценные вещи у нее имеются. Но их было не так уж и много: несколько цепочек, брошей и браслетов, монеты, которые подарил ей брат Сигурд, вернувшись осенью из похода викингов, кусок шелка, привезенный Туриром и хранящийся у нее на дне сундука. Отцовское наследство она должна была получить только после замужества. Она опять с раздражением посмотрела на берег. Те парни, что были внизу, потешались над ней и Эриком — и им придется горько пожалеть о своих словах. Она все еще мысленно видела перед собой бледное, окаменевшее лицо Эрика, прогоняемого из зала. Она подложила руку под голову. В самом деле, Эрик вел себя глупо; но в этом была не только его вина. Она играла с ним, забавляясь этим. Возможно — да, это наверняка было так! — она тоже была виновата. На смену ее гневу пришла досада, она легла ничком в траву, прижав к лицу ладони. Кто-то тронул ее за плечо, и она вздрогнула. — Эрик… — произнесла она в полусне, — Эрик… Но на нее смотрели глаза брата. — Вот до какой степени ты захвачена этим! Его слова ранили ее в самое сердце. Будучи не в состоянии ответить ему, она села, стряхивая с себя остатки сна и пытаясь собраться с мыслями. Она видела во сне Эрика. Он был одет как раб и дробил тяжелые камни для изгороди. И камни становились все крупнее, все тяжелее. И под конец ей показалось, что он стучит молотом по ней и что она такая же тяжелая, как огромный валун. Слова брата опять разбудили в ней ярость. Да, она сделала шаг в сторону, не подозревая о последствиях, однако у него нет никаких оснований думать, что она стала любовницей одного из дружинников! Дрожа от уязвленной гордости, она повернула к нему лицо. Но ей удалось взять себя в руки, унять дрожь. Горький ответ, написанный на его лице, камнем осел в ее душе. Брат казался ей совсем чужим, не таким, как всегда; и, судя по всему, он явился не для того, чтобы выслушивать ее. Он сел рядом, упершись локтями в колени и переплетя пальцы. Взгляд его под густыми, черными бровями был направлен мимо нее, мимо домов и людей, к северу, в морские дали. Казалось, он смотрит на что-то, невидимое ей. Его поза напомнила ей детство, и ее душа вдруг наполнилась добрым, теплым чувством к брату. Турир, который был для нее одновременно отцом и матерью, начиная с трехлетнего возраста, когда отец погиб, а у матери начались причуды; Турир, который бранил и дразнил ее, научил скакать верхом и ходить под парусом, хотя в те времена не было принято, чтобы женщина управляла кораблем; Турир, который скрепя сердце наказывал ее, если она не слушалась, и забавлял ее, как только мог, не обращая внимания на слова окружающих: «Что получится из девчонки?» Ей было не по себе от его грустных, безнадежных слов. Поддавшись внутреннему порыву, она положила ему руки на плечи и сказала: — Дорогой мой Турир! Он медленно повернулся к ней, взгляды их встретились. Он тоже положил руки ей на плечи. — Ты должна рассказать мне обо всем, что произошло, — сказал он. Сначала ей приходилось выдавливать из себя каждое слово, потом дело пошло легче. — И ты уверена, что это все? — спросил он, когда она замолчала. — Ты уверена, что в отношениях с тобой он не заходил дальше? — Да, — ответила Сигрид, отводя взгляд. Она замолчала, и он ждал, когда она снова заговорит. — Эрик красив и отважен, — наконец сказала она, — но мне и в голову не приходило, что кто-то мог подумать, будто я спуталась с одним из дружинников! Мне казалось, что ты достаточно хорошо знаешь меня. — Речь идет не только о том, что я думаю о тебе, — ответил Турир сухо, хотя он уже не сердился. — Я разговаривал с Эриком сегодня утром, — продолжал он, — и его слова сходятся с твоими. Но когда я услышал, как ты назвала во сне его имя, лежа здесь, в траве, я решил, что он более крепкий орешек, чем я думал. Сигрид вздрогнула, представив себе, каким был этот разговор. Турир заметил это. — Он не заслуживал иного обращения после всего того, что натворил, — сказал он. — Пусть скажется спасибо, что его оставили в живых! — Заметив лежащую на траве цепочку, он поднял ее. — Ты могла бы потерять ее, — сказал он. — Или, может, ты хотела отнести это на курган? Он кивнул в сторону могильных курганов, находившихся на самой вершине холма, но блеск в его глазах говорил о том, что он шутит. — Нет, — сказала она. — Я думала, что это, возможно, пойдет на уплату части виры, которую ты наложил на Эрика. — Если я дарю тебе подарки, это не значит, что ты можешь их передаривать моим дружинникам, Сигрид. Впрочем, я уверен, что Эрик Торгримссон скорее согласится идти в рабство, чем взять что-либо от тебя. Оба некоторое время молчали. Потом он вполголоса, словно обращаясь к самому себе, произнес: — Сейчас тебе пятнадцать, весной, когда я уехал, тебе было четырнадцать. Мне следовало бы подумать об этом раньше, но ты всегда была такой шаловливой, словно мальчишка, и мне даже в голову не приходило, что ты начинаешь взрослеть! Он снова посмотрел на нее — долгим взглядом, в котором появилось какое-то не знакомое Сигрид выражение. С внезапной горячностью он произнес: — Ты должны уяснить себе, девочка, что так не годится вести себя! Это просто сумасбродство дразнить Эрика! Надеюсь, что тебя это, с помощью богов, чему-нибудь да научило! — Он замолчал, но потом произнес с расстановкой: — Но я боюсь, что ты уже не исправишься… — Почесав в затылке, он многозначительно добавил: — Должен признать, что-то я упустил в твоем воспитании. Сигрид испуганно слушала его, раньше он никогда так не разговаривал. Ей не хотелось, чтобы с ней так говорили, у нее было предчувствие, что этот разговор приведет к повороту в их отношениях. — Что ты думаешь сделать с Эриком? — С Эриком? — Он нахмурил брови, вид у него был растерянный. — Да, как же нам, во имя богов и духов, поступить с ним? Немного подумав, он заявил: — Лично мне его присутствие здесь кажется нежелательным, так что пусть убирается из Бьяркея! Сидя на земле, Сигрид чуть не вскрикнула. Он протянул ей золотую цепочку. — Лучше сохрани ее! — сказал он и тут же добавил: — Сигрид, тебе пора замуж! Это было так неожиданно, что она не нашла, что ответить. Потом она досадовала на себя за то, что ничего толком ему не ответила, а только уставилась на него и, заикаясь, произнесла: — 3-з-за кого?.. — Честно говоря, я пообещал тебя одному человеку из Трондхейма, — сказал Турир. — Его зовут Эльвир Грьетгардссон из Эгга. Он намного старше тебя, но, мне кажется, это не повредит. Я сказал ему, что ты еще слишком молода, так что пусть подождет годик-другой, но… На этот раз Сигрид обрела дар речи. — Вот уж не думала, что ты, Турир Собака, захочешь просватать меня за старого бонда! Турир рассмеялся. — Я предлагаю тебе лучшего жениха от Довра до… — До Бьяркея? — с издевкой вставила она. Турир сам был не женат, поэтому ему и хотелось подобрать ей жениха. — До Бьяркея, — спокойно продолжал он. — Мы с Эльвиром были летом в Англии, а на обратном пути я заехал к нему в Эгга. Нечасто увидишь такой двор, такой достаток. Он друг и родственник ярла[11] Ладе, да и сам уважаемый человек. Я не думаю, что Эльвир просит девушку дважды! Он снова засмеялся, потом продолжал: — Я вернулся домой, чтобы охранять твое девичество от поползновений моих дружинников и подготовить тебя к свадьбе с главным жрецом храма в Мэрине, самым могущественным, после ярла, хёвдингом во всем Трёнделаге. А ты хнычешь и жалуешься, что я выдаю тебя замуж за старого бонда! Он весь затрясся от смеха. — Но я не принуждаю тебя выходить за него, — он искоса, дразня взглянул на нее. — Если ты хочешь войти в дом Эрика, к его отцу и матери, в качестве молодой жены… Сигрид сделала вид, что не слышит его последних слов. Она засыпала его вопросами. Как выглядит Эльвир? Сколько ему лет? Храбрый ли он? Не вдовец ли? Как выглядит Эгга? Но Турир закрыл руками уши и перебил ее. — Успокойся, — сказал он, — у меня в голове гудит от твоих слов! К тому же я совершенно не выспался. Обещаю тебе ответить на все вопросы, но теперь оставь меня в покое! Сигрид была разочарована. — Если ты ответишь на один мой вопрос, я обещаю больше не мучить тебя. Турир неохотно согласился. — Но больше не приставай, — сказал он. — Куда собирается Халльдор? — В Трондарнес, с известием для Сигурда. Теперь ты довольна?* * *
Они встали и направились к дому; он — высокий и широкоплечий, с твердой походкой морского волка; она — тоже высокая, но хрупкая, гибкая и нежная. Сходство между ними было поразительным: высокий лоб, правильные, четкие черты лица. Но его лицо было грубее, нижняя челюсть выдавалась вперед, что говорило о силе воли и упорстве. А у нее волосы были светлее, темно-рыжие волосы отсвечивали на солнце, и по сравнению с ними его темно-русые волосы казались почти черными. Хильд дочь Инге направлялась на поварню, когда они вошли во двор. Она остановилась и с материнской гордостью посмотрела на них. Ведь это она с Халльдором, своим мужем, взяла на себя заботу о хозяйстве, когда пришла весть о том, что старый Турир, отец Турира Собаки, Сигрид и Сигурда, был сожжен где-то в Свейе. Альвхильд, его жена, заперлась в своей зале, отказываясь от воды и пищи. Приходилось вламываться к ней и насильно кормить. Со временем она совсем потеряла рассудок. И прошло уже несколько лет с тех пор, как она умерла. Когда погиб отец, Сигурду было четырнадцать, Туриру — двенадцать зим, а Сигрид была совсем маленькой и едва понимала, что произошло. Последующие годы были тяжелыми. В стране появился новый король, потомок властолюбивого Харальда Прекрасноволосого. Его звали Олав Трюггвассон, и он призвал народ отвернуться от своих богов и принять учение Христа и его священников. В Бьяркей он никогда не приезжал, но там было неспокойно. И находились такие, кто думали, что, благодаря распрям в стране и объявлению вне закона могущественных друзей бьяркейского семейства, можно легко обогатиться за счет подростков из Бьяркея. И сыновьям Турира пришлось взвалить на свои плечи мужские заботы. Они научились отвечать коварством на коварство, презрением на презрение, обманом на обман — и твердо стояли на своем. И они не только сохранили отцовское богатство, но и преумножили его, подчинив себе новые земли. Сигурд вступил в очень выгодный брак с Сигрид дочерью Скьялга, сестрой могущественного Эрлинга Скьялгссона из Сэлы, и переселился в Трондарнес, в Хинн. Теперь у него была там усадьба, такая же большая, как и усадьба в Бьяркее, и он был главным жрецом старинного, всеми почитаемого языческого храма. Еще будучи мальчиками, сыновья Турира проявили необычайные способности к военным играм. Но если Сигурд, повзрослев, превратился в силача, который одним своим видом наводил на всех страх, то Турир отличался большей сообразительностью, быстротой реакции и верностью глаза. Многие считали, что из них двоих наиболее опасным в схватке был Турир. Братья отличались друг от друга и во всем остальном. Если Сигурд, подобно большинству мальчишек, бывал временами хвастлив и жесток, то Турир отличался добротой. Отец нередко хмурил брови, когда сын вставал на защиту раба, которого наказывали.После смерти отца Турир занялся воспитанием сестры. И Хильд, заменявшая девочке мать, много раз была вынуждена откладывать наказание, потому что он становился между ними, с глазами, почерневшими от гнева. Поэтому Сигрид и выросла такой своенравной. Хильд давно уже перестала поучать ее, ведь все-таки она не была ее родной матерью. Слова Турира, сказанные им еще в мальчишеские годы, подействовали на нее. Сигрид выросла гордой и своевольной, словно норовистая кобыла. Но при желании она могла быть очень хорошей хозяйкой, проявляя сноровку во всем, за что бы не бралась. И теперь, после вчерашнего… нет, Хильд была не из тех, кто радуется, оказавшись правым в своих подозрениях. Она смотрела на обоих, идущих по двору, стройных, радостных, не обращающих внимания на взгляды окружающих, и с облегчением думала: «Все-таки дела не так плохи!»
Ночью подул крепкий западный ветер. А утром пришел торговый корабль с оленьими шкурами и другими товарами: оленьими рогами, волчьими шкурами, резными украшениями из кости и дерева. Люди на борту меняли все это на вяленую треску и зерно. У Турира были на берегу большие склады, где он хранил самые различные товары, занимаясь торговлей. Он стоял, деловито склонившись над лежавшими на берегу шкурами. — И где это вас только угораздило найти таких паршивых животных! — сказал он. — Если вам нечего больше предложить, отправляйтесь к югу, в Воган! Мужчины переглянулись; Турир был не из тех, кто терпел в торговле убытки. Шкуры и вправду были не из лучших, но все же достаточно хороши. Тот, кто вел с ним переговоры, был того же мнения. Поторговавшись, они сошлись в цене, после чего корабль разгрузили. Работники Турира принялись таскать на корабль связки вяленой рыбы и кожаные мешки с зерном.
Пока они занимались этим, Сигрид сбежала вниз по тропинке. Юбка ее колыхалась, волосы, завязанные узлом на затылке, распустились и развевались, словно флаг по ветру. Увидев суровое лицо брата, она тут же скрутила непослушные волосы, оправила платье и пошла дальше уже спокойным шагом. Но в глазах у нее сверкали веселые искорки. — Брат мой, — сказала она с нарочитой торжественностью, — я увидела корабль. Я принесла тебе весть о том, что Сигурд, наш брат, едет к нам в гости, а Халльдор сын Свейна возвращается обратно. Забыв о торжественности, она с горячностью воскликнула: — Сигурд уже огибает мыс! И крикнула во весь голос: — Он уже подходит к берегу! Турир покачал головой, с трудом сохраняя серьезность. — Во-первых, ты бы лучше занялась чем-нибудь полезным, чем просто валяться на траве и бегать по склону, — сказал он, — а во-вторых, я уже говорил, что сегодня тебе не следует ходить на берег. Но Сигрид и бровью не повела.
Драккар, на котором Сигурд входил в гавань, был очень красив, с изящными линиями и великолепной резной головой дракона на носу. Халльдор на тяжелой отцовской посудине остался далеко позади. Гребцы Сигурда работали ритмично и красиво; с мыса дул встречный ветер, и несколько человек принялись сворачивать парус. Потом убрали весла и втащили корабль на берег. Все это было сделано без всякой проволочки и без понукания — они могли бы проделать все это во сне, если бы потребовалось. Сигурд спрыгнул на землю с поразительной для его мощного сложения легкостью и ловкостью. Он был с непокрытой головой, под длинным коричневым плащом виднелась зеленая туника; кожаные штаны, обычно надеваемые в морских походах, плотно облегали бедра. Сыновья Турира не подражали в одежде чужеземцам, как это делали некоторые хёвдинги на юге. Они считали их помешанными на тряпках и насмехались над ними, одетыми в шелк и бархат. Единственное, что позволял себе Сигурд, так это золотую цепочку, закрепляющую на плечах плащ. Цепочка эта, выкованная искусным мастером, сверкала на солнце. Сигрид всегда немного побаивалась этого брата. Он часто говорил с ней таким тоном, словно делал ей большое одолжение. И она втайне надеялась, что наступит день, когда он поймет, что она кое-что из себя представляет. На этот раз он ее и вовсе не заметил, сразу заговорив с Туриром. Турир покачал головой, давая всем своим видом понять, что хочет сказать что-то еще, но не решается. Тем временем торговый корабль был разгружен, и один из купцов крикнул работнику Турира: — Твой хозяин говорит, что у него есть парень, который должен отправиться с нами… — Да вот он, — ответил работник. Сигрид знала, о ком идет речь, но даже не повернулась в ту сторону. — Что? — проворчал Сигурд. — У него в руках молот Тора! Похоже, он желает сразиться со своим хозяином? — Это Эрик Торгримссон, — ответил Турир. У него не было особого желания вдаваться в подробности домашних передряг в присутствии своих работников и людей Сигурда, а также тех, кто прибыл на торговом корабле. Но Сигурд был другого мнения: одним прыжком он очутился возле Эрика. Все повернулись в их сторону, в том числе и Сигрид. Он схватил Эрика за плечи и затряс его, Эрик скорчился в тисках его рук. — Пес поганый! Я покажу тебе, как волочиться за моей сестрой! Турир подошел к ним. — Не трудно заметить, что я уже приложил руку к этому парню, — сказал он. — Я бы утопил этого мерзавца, чтобы духу его не было в Бьяркее! — рявкнул старший брат. Одним ударом кулака он свалил Эрика с ног, рука его привычным движением потянулась к мечу. Но Турир остановил брата. — Это свободнорожденный, он должен заплатить виру. — Мне было бы гораздо приятнее видеть эту селедку корчащейся в предсмертных муках! — голос Сигурда был грубым, но уже более спокойным, он дал выход гневу. — Он уже получил по заслугам, Сигурд, — пытался успокоить его Турир. — Он отпущен на все четыре стороны, пусть плывет, куда хочет. Я дал ему слово и миром отпустил его из Бьяркея. На этот раз гнев Сигурда перекинулся на брата. — Да, ты всегда был мокрой курицей! Челюсти Турира сжались, взгляды братьев скрестились. Наконец Сигурд повернулся к бледному, как смерть, Эрику, начинавшему уже приходить в себя. — Ну, что скажешь, скотина? Ты понял, что нужно держать свои лапы подальше от дочери хёвдинга? Эрик попытался встать, но не смог. — Понял? — крикнул Сигурд. — Понял, — сквозь зубы процедил Эрик. Но Сигурду уже не было до него дела, он не слышал его ответа. Он уже собирался уйти, когда его остановил Турир. — Я не верю, что ты сказал это всерьез, насчет мокрой курицы… — Нет… — ответил Сигурд, озабоченно взглянув на брата, — вовсе нет… И он направился к своим людям, а Турир в это время приказал двоим работникам, чтобы те помогли Эрику сесть на корабль. Но Эрик встал сам, сказав, что не нуждается в помощи. Красивым его, едва державшегося на ногах, избитого, с опухшим лицом, расквашенным носом и струйками крови в уголках рта, назвать было нельзя. Сигрид отвернулась. Она не впервые видела подобную расправу, и это был не самый худший случай. Она вспомнила, как впервые увидела, как двое дружинников идут друг на друга с топорами. Братья направились к дому, Сигрид шла между ними. Они разговаривали, не обращая на нее внимания; сначала о всяких пустяках, потом о поездке Турира в Англию. Сигрид тошнило, но она терпела, крепко сжав зубы и стараясь держать спину как можно прямее. Но как только она осталась одна, ее тут же вырвало.
* * *
— Да, — на ходу произнес Сигурд Турирссон, — я слышал об Эльвире Грьетгардссоне из Эгга. Он прославился как мореход и как воин, принимавший участие в сражении с Олавом Трюггвассоном под Сволдром, на борту корабля ярла Эрика. Но чем он занимался после Сволдра? О нем ничего не слышно с тех самых пор, когда он, две-три зимы назад, удалился на покой к себе в Трондхейм. — Он служил у одного хёвдинга в какой-то южной стране. Он называл его калифом. И я слышал, что он не нажил там ни славы, ни богатства. — Да, этот человек не знает ни отдыха, ни покоя. В битве он свиреп, как рысь, и столь же коварен. Но об этом ты знаешь не хуже меня, после того как вы вместе сражались летом в Англии. — Да, — ответил Турир. — Но теперь речь идет не только об этом. Эльвир не женат, и теперь ему самое время обзавестись в Эгга сыновьями. Он спрашивал, нет ли у меня незамужних сестер, и я сказал, что есть одна, но она еще слишком молода. Он ответил, что подождет, если надо, и в конце концов я пообещал сообщить ему, когда она будет готова к замужеству. Турир говорил все это безразличным тоном, но его полуприкрытые глаза неотступно следили за братом. И слова его возымели немедленное действие: Сигурд, сидящий до этого за столом и играющий чашей для вина, так вздрогнул, что мед выплеснулся на стол. — Если тебе удастся выдать за Эльвира Грьетгардссона эту сумасбродную девку, я возьму назад свои слова о том, что по твоему недосмотру она бросилась в объятия первого попавшегося парня, состроившего ей глазки. Но мне кажется, сделать это будет не так-то легко, если ты не уломаешь ее до того, как она встретится с ним! — Ты уверен? — спросил Турир. Он кивнул в сторону Сигрид, сидящей за ткацким станом. Волосы ее блестели в свете жировой лампы, лицо раскраснелось. Сигрид никогда не бывала так счастлива, как во время работы над затейливым узором, проявляя при этом необычную для ее возраста сноровку. Даже известные мотивы из преданий и саг обретали под ее руками новое звучание, да и цвета она подбирала на свой вкус. Некоторое время Сигурд молча глядел на нее. На миг тень какой-то горечи пробежала по его лицу, словно он подумал о чем-то таком, о чем не хотел вспоминать. Потом он снова повернулся к брату. — Может статься, Турир, — сказал он, — не будет особого вреда в том, что он ударит ее до свадьбы…Для Сигрид настала горячая пора. На следующий день после разговора братьев Халльдор отправился на юг с известием для Эльвира. А Хильд, всплеснувшая руками при известии о том, что Сигрид станет хозяйкой усадьбы, принялась, не теряя времени, учить ее уму-разуму. Сигурд решил, что будет лучше, если его жена Сигрид приедет из Трондарнеса, чтобы наилучшим образом все подготовить. — Будем надеяться, — сказал он, подмигнув Туриру, — что она проявит лишь свои хорошие качества… Сигрид дочь Скьялга никогда не была дружна с Туриром, с первого взгляда они почувствовали неприязнь друг к другу. Да и Сигрид дочь Турира тоже не питала теплых чувств к жене брата, к этой крупной, работящей, злой на язык женщине, — и она пыталась воспрепятствовать ее приезду. — Вовсе не стоит обременять ее, Хильд и сама справится, — сказала она. Но Сигурд и бровью не повел, а Турир не поддержал ее. Он тоже считал, что твердая рука здесь не повредит.
И Сигрид дочь Скьялга торжественно прибыла в Бьяркей на корабле, полном служанок, еды и питья, мисок и чанов, а также одежды из шерсти и льна. А на палубе стоял ее сын Асбьёрн, крича во всю глотку, что хочет управлять кораблем. Она вошла во двор с таким выражением лица, будто заранее знала, что именно нужно привести в порядок. А навести порядок она собиралась во что бы то ни стало. Выходя замуж за Сигурда Турирссона, Сигрид дочь Скьялга была уже не слишком юной. Говорили, что ее брат Эрлинг пообещал Сигурду большое приданое, чтобы тот заключил с ним договор. Юная Сигрид все еще помнила препирательства обоих, когда они приехали в Бьяркей после свадьбы. И в памяти у нее остались крики, разбудившие ее зимней ночью, когда они еще жили в доме. Несколько дней после этого старшая Сигрид провела в постели. И когда она, наконец, вышла, на ее лице и теле были явные следы побоев. После этого она стала уважать своего мужа, зато люто возненавидела Хильд и служанок. Вскоре после этого братья поделили отцовское наследство, и Сигурд со своей женой отправился в Трондарнес.
С появлением в доме старшей Сигрид все лишились покоя. Она не могла скрыть разочарования при виде безупречного, экономного хозяйства Хильд. Но это не помешало ей командовать всеми подряд, не давая никому передохнуть. Но больше всего она прилагала усердия, чтобы поучать невестку. «Сигрид, иди сюда!», «Сигрид, посмотри туда!», «Сигрид, поторапливайся!». И Сигрид бегала с чердака в подвал, из погреба на поварню. Хильд бормотала про себя ругательства, проходя с подчеркнутым спокойствием через всю эту суматоху. Хильд собирала приданое для Сигрид уже несколько лет, и в больших сундуках лежала одежда и мотки шерсти, в количестве более, чем достаточном. Осталось только перешить кое-что. А с помощью служанок — своих и тех, что прибыли из Трондарнеса, — это было сделать не трудно. В погребах тоже хватало всего. В бочках и ведрах хранились мед и пиво; да и людей было достаточно для забоя скота и прочих приготовлений. Так что к приходу гостей всего должно было быть вдоволь.
Дома в усадьбе стояли тесно друг к другу, некоторые даже впритык. В восточной части усадьбы находились жилища рабов, а на холме, на круглой площадке — жилища работников. У Турира всегда было не менее восьмидесяти свободных работников, а то и больше, да еще множество слуг и рабов. Склады, амбары и прочие подсобные помещения были построены с расчетом на такое большое количество людей. И на просторной поварне ежедневно готовили огромное количество еды, хотя рабы питались отдельно. Большинство домов имели низкие стены из камня и глины и высокие, покрытые торфом крыши на деревянных стропилах. Но дом, в котором спали обе Сигрид и маленький Асбьёрн, был срублен из бревен, привезенных с юга.
По вечерам, когда наступало время ложиться спать, старшая Сигрид считала своим долгом передать свой супружеский опыт младшей Сигрид. Что касалось отношений между мужчиной и женщиной, то юная Сигрид знала об этом почти все. То, что ей не удалось отгадать, наблюдая за жизнью домашних животных, она узнавала в грубой форме из шуток работников и заигрываний служанок. Ей хорошо было известно, что у Турира была наложница в Грютее, и люди говорили, что он отец ребенка, родившегося прошлой весной у одной из трондарнесских служанок. Старшая Сигрид тоже об этом прекрасно знала, она сама выросла в такой обстановке. И все-таки ей казалось, им есть о чем поговорить. И стоило ей только начать, как из нее начинали литься потоки слов, сливавшиеся в реки и ручьи. Выйдя замуж, она ни разу не была на Сэле, и никто из ее родственников не приезжал на север. С ней не было никого из близких, если не считать прислугу, которую она привезла с юга, но со служанками она не хотела говорить по душам. Разумеется, она знала, что Сигурд взял ее из-за приданого. Ведь дома ей всегда говорили, что на красоту ее никто не польстится. И Сигурд не особенно скрывал, что серебро гораздо ближе его сердцу, чем она сама, и бывал с ней груб и бесцеремонен; рассказывая об этом, она ничего не приукрашивала. И она призналась, что на брачном ложе чувствовала себя как на смертном одре. — Как на смертном одре… — повторила она со слезами на глазах. И вдруг все преграды рухнули, и слезы хлынули бурным потоком. Гордая Сигрид дочь Скьялга рыдала так, что сотрясалась ее широкая спина, а кровать ходила ходуном. Вид этой спины представлял собой душераздирающее, безнадежное зрелище. Сигрид дочь Турира вспомнила, как однажды ходила под парусом с Туриром и вдруг их накрыло туманом: жалобные крики птиц, ощущение холодной сырости, страх никогда не добраться до берега, — и теперь у нее было точно такое же чувство. — Сигрид, — сказала она, словно перед ней был ребенок. — Говори, Сигрид, говори! Она сама не знала, откуда у нее взялись такие слова. Наверняка Сигурду было тоже не сладко. Но старшая Сигрид заплакала еще горше. Асбьёрн проснулся и начал капризничать, но мать даже не слышала его. Младшая Сигрид успокоила его, как смогла. Потом заставила лечь в постель и его мать; та лежала, дрожа всем телом, пока не уснула. Но Сигрид дочь Турира еще долго не могла заснуть. Она напряженно думала о криках, услышанных ею в ту зиму, когда брат с женой жили в Бьяркее. И она знала, что Сигрид дочь Скьялга сама отчасти виновата в своих несчастьях. Ведь в Сигурде были не одни лишь дурные качества. Оглядываясь в прошлое, она, вопреки всему, вспоминала моменты, когда он, на свой грубый манер, был с ней приветлив. Она вспомнила, как однажды плакала, разбив игрушку. И он сурово заметил: «Дочь хёвдинга не плачет, Сигрид!» Но все же починил ей игрушку, как смог. Она подумала о Фрейре, едущей в повозке, запряженной кошками: «Дорогая Фрейя[12], как тебе бывает трудно…» — засыпая, подумала она и пробормотала: — Я принесу тебе жертву… жертву… ради Сигрид…
После этой ночи Сигрид дочь Скьялга стала избегать свою невестку. В ее поведении появилось что-то просящее, почти собачье, какая-то молчаливая мольба. И между ними больше никогда не возникало подобных разговоров. Теперь у Сигрид дочери Турира появилось больше свободы делать то, что ей хочется, и посреди своих повседневных дел она выкраивала время, чтобы посетить те места на острове, которые ей больше всего нравились и с которыми она хотела попрощаться, прежде чем отправиться на юг. На берегу моря она не ощущала того напряженного чувства ожидания, которое поселилось в ней, как только она узнала о предстоящем замужестве. И после кризиса, происшедшего с женой брата, она совсем потеряла мужество. Ведь и ей предстояло покинуть родные места и своих близких; ее братья собирались выдать ее за человека, которого она никогда в жизни не видела. И, как знать, не будет ли он относиться к ней еще хуже, чем Сигурд к своей Сигрид? А Бьяркей… при одной только мысли о доме и об острове у нее обрывалось все внутри; она чувствовала привязанность к каждому камню, к каждой кочке, к крикам птиц и морскому прибою. Ей хотелось, чтобы то, о чем говорила Сигрид дочь Скьялга, было неправдой, чтобы она, как обычно, командовала ею, не оставляя времени на размышления.
Турира трудно было застать на месте, у него была масса всяких дел то на соседних островах, то на материке. И, бывая дома, он всегда был чем-то занят, часто беря на себя обязанности Халльдора. Но однажды ей удалось перехватить его на пути к морю. — Возьми меня с собой, Турир! — попросила она. — До следующего раза ждать долго! — Тебе предстоит плаванье из Бьяркея в Трондхейм, — напомнил он ей. — Но не с тобой, — сказала она. Он выполнил ее просьбу и взял на одну из лодок. Дни уже стали прохладнее, небо было облачным, серо-зеленые волны покрывались белыми барашками пены. Турир стоял у руля, а она сидела на дне, не говоря ни слова. Прошло немало времени, прежде чем он заметил, что она плачет. Увидев это, он рассердился. — Возьми себя в руки, девчонка! — сказал он. — Ты ходишь повсюду с таким видом, будто мы готовим не свадьбу, а похороны! По телу Сигрид пробежала дрожь. Она думала, не рассказать ли ему обо всем, что мучило ее, чтобы он, как всегда, успокоил ее. Она перестала плакать, чувствуя, что замерзает. — Хочешь стать у руля? — через некоторое время спросил он ее. Она кивнула, и они молча поменялись местами. Глядя на серые, холодные воды фьорда, она думала о счастливых днях, солнечных и теплых, когда они вместе плавали здесь. Они шутили, распевали веселые песни, и он посвящал ее в искусство хождения под парусом. Он поддразнивал ее, говоря, что она петляет по воде, словно угорь. Они причаливали к островкам и птичьим базарам. Он показал ей все места, известные ему с детства, и она боялась разозлить птиц, пролетающих прямо над их головами, когда они подходили слишком близко к гнездам. Но Турир только смеялся. — Сигрид, ты просто рехнулась! Он выхватил у нее из рук кормовое весло. Лодка угрожающе накренилась, дно задело за камни, но им удалось снова уйти на глубину. — Мы чуть не сели на мель. — Неужели? — удивилась она, становясь рядом с ним. — Думаю, нам лучше повернуть обратно, — сказал он. — Ветер крепчает. — А я и не знала, что ты боишься легкого бриза, — невозмутимо заметила она. — Сигрид! — Он ударил кулаком по верхнему краю лодки. — Ради всех богов, что на тебя нашло? — Я боюсь, — ответила она и снова заплакала. У нее никогда не было секретов от брата, и ему оказалось нетрудно вытянуть из нее все, что было сказано в ту ночь, когда у Сигрид дочери Скьялга приключилась истерика. Выругавшись, он раздраженно произнес: — Если эта баба считает, что лучше путаться с котами, чем с гадюками, она рано или поздно обнаружит, что… — он не договорил. — Поверь мне, — доверительно произнес он, — это вовсе не обязательно происходит так, как она говорит. И не так, как об этом болтают парни. Обдумав его слова, она осторожно спросила: — Сколько лет этому Эльвиру Грьетгардссону, и как он выглядит? Она все еще не получила ответа на тот шквал вопросов, который обрушила на голову Турира на следующий день после его приезда. Подумав, Турир сказал: — Он почти такой же высокий, как я, но на шесть-восемь зим старше. Он не светел и не темен, не слишком массивен, но силен. И даже если он и не добился особых почестей, ты сразу узнаешь в нем хёвдинга. Тебе этого достаточно? — Пожалуй, нет, — призналась Сигрид, уже перестав плакать. — Какие у него глаза? Турир задумался. — Думаю, голубые, — наконец произнес он и засмеялся. — У меня лучше получается, если я описываю женщин. — Он добрый? — Добрый? Конечно. Он честен и разбирается в законах. Немного помедлив, он добавил: — И я думаю, он больше заботится о других, чем все остальные. — А когда напьется, не становится ли он злым? В ее словах ему послышалась двусмысленность, но он понял, что она имеет в виду. — Сигрид, — сказал он, — с Сигрид дочерью Скьялга у тебя общее только одно: имя. И на этом сходство кончается. Разумеется, она не такая безобразная, как тролль, но троллиного упрямства в ней предостаточно. Да и поскандалить она не прочь. Самой большой ошибкой Сигурда было то, что он дал себя купить этой старой пиле! Сигрид снова почувствовала неприязнь к жене брата. Турир же казался ей грубым и бессердечным, и она не скрывала этого. Пожав плечами, Турир продолжал: — Я бы и сам с удовольствием устроил ей взбучку за то, что она до смерти перепугала такую молоденькую девушку, как ты. Горечь и протест закипели в груди Сигрид. — Да, Турир, ты считаешь меня глупой и безвольной. Поэтому ты думаешь, что меня можно увезти из Бьяркея как какого-то поросенка! И это поможет тебе сблизиться с Ладе, чего ты так желаешь… Ты отшатнулся от Сигурда, потому что он женился из-за богатства. И ты не хуже меня знаешь, что особой радости это ему не принесло, если не считать того, что он владеет кучей серебра. Но это не дает тебе оснований продавать меня ради богатства и связей! — Лицо ее исказила гримаса. — Что вынуждает тебя к этой спешке? Может, тебе не терпится привезти в Бьяркей Раннвейг дочь Харальда, когда я уеду? Последние слова она бросила ему в лицо. Но, произнеся их, она пожалела о сказанном. Они никогда прежде не упоминали в разговоре имя любовницы Турира. Турир с такой силой вцепился в край лодки, что костяшки пальцев побелели. Но голос его был спокойным, когда он произнес: — Думаю, будет лучше не впутывать в это дело Раннвейг дочь Харальда. Немного помолчав, он спросил: — Люди много болтают обо мне и о ней? — Ты же знаешь, ни для кого не секрет, что ты принудил ее стать твоей. Говорят, что ее отец, когда напьется, ведет себя неподобающим образом, угрожая дочери, что убьет ее, потому что ты ее опозорил. Но в отношении тебя он помалкивает, ведь ты такой могущественный! Турир изощренно выругался, таких слов она раньше не слышала от него, и даже дружинники не говорили такие гадости, когда бывали пьяны. — Ты забываешь обо всех приличиях только потому, что находишься в лодке? — раздраженно спросила она. Он ничего не ответил, но лицо его, обращенное к ней, было суровым. — Раннвейг никогда не придет в Бьяркей в качестве моей наложницы, — сказал он, — для этого она слишком хороша! Так что тебе нечего бояться! — Но разве, живя в доме своего отца, она не является твоей женщиной? — удивленно произнесла Сигрид. — Ты многого еще не понимаешь, — сухо ответил он. — Кто рассказал тебе о Раннвейг и обо мне? — Ты же знаешь, об этом говорят все, — ответила она. — Раннвейг никогда не говорила мне об этом, — сказал он, — и до сегодняшнего дня я не знал, о чем болтают люди. «Ты не знал об этом только потому, что не желал знать», — подумала она, но ничего не сказала. Она понимала, что затронула больное место. — Мне жаль, что я завела разговор об этом, — сказала она. — Ничего страшного, теперь я знаю, как обстоят дела, — сказал он и добавил: — Ты так выбита из колеи, потому что выходишь замуж за Эльвира? — Я не знаю, что со мной! Она искоса, испуганно взглянула на него. Она знала, что ей не следует задавать такие вопросы, но ничего не могла с собой поделать, слова произносились сами собой. — Турир, тебе очень нравится Раннвейг? Вам хорошо, когда… когда вы вместе? Он не рассердился, а только положил ей руку на плечо. — Да, — сказал он, — нам хорошо, когда мы вместе, хотя и не настолько хорошо, какмогло бы быть. Глубоко вздохнув, он продолжал: — Человек, которого я подыскал для тебя, вовсе не проходимец, Сигрид. Ты спрашивала, как он ведет себя, когда пьян. В тех случаях, когда я видел его пьяным — а их было немного, — он был более молчалив, чем обычно. Улыбнувшись, он добавил: — Кстати, я вообще бы посоветовал женщинам не перечить мужьям, когда те пьяны. Но я думаю, Эльвир тебе понравится. После того, что я видел летом в Англии, я могу сказать, что он скорее стряхивает с себя девушек, чем волочится за ними. Главное, будь с ним открытой и приветливой, не бойся его, и попробуй, насколько получится, полюбить его — и тогда, я уверен, все у вас будет прекрасно. И, поверь, у меня нет ни малейшего желания отделаться от тебя. Ты уже достаточно взрослая, чтобы понять, что для тебя лучше всего выйти замуж. Я ничего не имею против того, чтобы породниться с семейством Ладе, в этом ты права. Никому не повредит иметь могущественных друзей. Но это не главное. Для женщины брак означает куда больше, чем для мужчины. Ведь мужчина продолжает оставаться самим собой, даже если женится на женщине более низкого происхождения. Для женщины же дело обстоит иначе, и ты поймешь это, Сигрид, немного подумав. Более удачной партии тебе не найти. Я вовсе не думаю избавиться от тебя, чтобы тут же о тебе забыть. Я буду навещать тебя всякий раз, отправляясь на юг. И если тебе будет трудно, ты расскажешь мне обо всем, и я постараюсь помочь тебе. Я постараюсь сделать так, чтобы на твое имя были записаны усадьбы, позволяющие тебе ни от кого не зависеть. Мы, выходцы из Бьяркея, к нужде не приучены. У Сигрид появилось ощущение надежности. Теперь она знала, что связь между ними не разрывается, хотя ей предстоит жить в Эгга, в Трондхейме, а он остается в Бьяркее. И даже вдали от него она не будет чувствовать себя одинокой и беззащитной, зная, что к нему можно обратиться…
Она впервые увидела его, когда он сходил с корабля; его голубой плащ развевался на ветру, ножны меча сверкали — по крайней мере, он не был калекой. Турир и несколько парней вышли на берег встречать его. А во дворе, откуда было все видно, стояла Сигрид с другими женщинами и работниками. На ней было черное платье, отделанное цветной тесьмой, и сорочка из белого льна. Широкие бретели, с вплетенными в узор серебряными нитями, скреплялись на плечах бронзовыми фибулами. На ней были также бусы из цветного стекла и золотая цепочка, подаренная Туриром. Хильд помогла ей уложить волосы — они были красиво и изящно собраны на затылке, а сверху была надета тонкая шерстяная сеточка, чтобы прическа не растрепалась. Эльвир Грьетгардссон прибыл с двумя кораблями, на одном из которых паруса были из шелка, чего Сигрид никогда раньше не видела. Ходить под парусом он тоже умел, это она заметила, стоя на холме. Они с Сигурдом устроили отчаянную парусную гонку, проходя через фьорд от Трондарнеса, и ей было досадно, что она не увидела этого. Сигрид огляделась по сторонам. Повсюду был порядок; Сигрид дочь Скьялга ходила по усадьбе с видом хозяйки, хотя после той печальной ночи она как-то сразу постарела. Говорили, что в Хильд текла финская кровь, кое-кто называл ее Вёльва[13]-Хильд. Кое в чем она разбиралась лучше, чем все остальные: она могла предсказывать будущее, и Сигрид пыталась выведать у нее, что ее ожидает в жизни. Но то, что она узнала, явно не прибавило ей мудрости. — У тебя сложится все хорошо, лучше и не пожелаешь, — сказала Хильд. — Но тебе придется научиться ждать. И даже если она и знала больше, то не хотела об этом говорить.
После парусной прогулки с Туриром Сигрид успокоилась на мысли о том, что ей придется выйти замуж. Но по мере приближения срока прибытия с юга кораблей, ей все чаще и чаще приходила в голову мысль о том, что такого знатного хёвдинга, как Эльвир, мало интересуют девушки, подобные ей. Разглядывая свое отражение в луже, она приходила к выводу, что внешность ее никуда не годится. Глаза были по-детски распахнуты, а о волосах лучше и не говорить: они всегда были в беспорядке. В конце концов она пришла к выводу, что когда Эльвир увидит ее, он только посмеется над братьями, пытающимися женить его на такой девчонке. И тогда он направится прямиком на свой корабль и отплывет обратно в Трондхейм. Чем больше она думала об этом, тем сильнее была ее уверенность в таком исходе. И, стоя в ожидании посреди двора, она вдруг поняла, что не желает, чтобы все остальные были свидетелями ее унижения. Она уже слышала голос Сигурда, они были совсем рядом… И тут что-то в ней взорвалось. Еще не поняв, что делает, она бросилась со всех ног со двора, и никто не успел остановить ее. Она сама не знала, куда бежит; единственное, чего она желала, так это скрыться ото всех. — Это твоя сестра? — услышала она на берегу незнакомый голос. — Сигрид! — закричал Турир. И снова послышался чужой голос: — Нет, не нужно! Этого зверька я поймаю сам! Она не успела убежать слишком далеко, когда он настиг ее, но оба они были уже вне поля зрения остальных. Он схватил ее в охапку. Она пыталась освободиться, но он сжал ее плечи и повернул к себе лицом. Внезапно он замер, уставившись на нее. Сетка наполовину сползла с волос, которые золотой волной накрыли спину и плечо. Глаза метали молнии, она в ярости била ногой о землю. — Отправляйся обратно в Трондхейм! — крикнула она. — Хоть я и девчонка, но я не хочу тебя! Его глаза насмешливо сверкнули. — Значит, ты не хочешь? — сказал он. — А если я тебя не спрошу? Она хотела было ответить, но не успела она открыть рта, как он прижал ее к себе и впился в ее губы. Она колотила его кулаками, пытаясь освободиться, но он с такой силой сжимал ее, что она прекратила сопротивление. — Пойдем со мной обратно во двор, — сказал он, — и будь послушной! Но гнев Сигрид еще не прошел, в глазах ее стояли жгучие слезы унижения. — Нет! — яростно крикнула она. — Нет! Отпусти меня! По-мальчишески громко рассмеявшись, он поднял ее. — Вот так мы в походам берем в плен девушек! — сказал он. — И не выворачивайся, если хочешь хоть немного сохранить достоинство, когда мы покажемся во дворе! Все еще кипя гневом, она отворачивала в сторону лицо, в то время как он нес ее на руках во двор. Заметив это, он улыбнулся. Глаза его были вовсе не голубые, как говорил Турир, а серо-зеленые, а борода и волосы совсем темные. Ей было досадно сознавать, что он красив, и она поймала себя на мысли о том, скольких он до нее перетаскал таким способом. Однако, мотнув головой, она прогнала эти мысли прочь. Никто не сказал ни слова при их появлении, но ей стало не по себе, когда она взглянула на Сигурда: в таком гневе она раньше никогда его не видела. Эльвир тоже взглянул на Сигурда — и улыбнулся ей беглой улыбкой, как бы давая понять, что ей нечего бояться. Остановившись перед Туриром, он опустил ее на землю, по-прежнему крепко держа за руки. — Чем скорее ты будешь моим шурином, Турир, тем лучше для меня, — сказал он, — и если ты уже не справляешься с этой дикой кошкой, я охотно возьму это дело на себя. Сигрид бросила боязливый взгляд на Сигурда. У него был такой вид, будто он пытался проглотить целую пригоршню горячей каши. Но потом по лицу его медленно поползла улыбка — сначала улыбка удивления, потом — облегчения. Эльвир и Турир переглянулись — и громко расхохотались. — Все эти годы я только и занимался этим, и теперь осталось всего несколько дней, — сказал Турир. — Смотри, как бы она не выцарапала тебе глаза! — Я буду кротким, как овечка, — смеясь, ответил Эльвир. И тут же, с серьезным видом, протянул Туриру руку. Турир тоже был серьезен, когда они обменялись рукопожатиями.
Сигрид не присутствовала на переговорах между братьями и Эльвиром Грьетгардссоном. Она сидела вместе с другими женщинами в большом зале за праздничным столом. В этот день ничего не жалели. Свинину и сало, жареную оленину и дичь подавали на широких блюдах. Подавались не простые, испеченные на горячих углях лепешки, а блинчики, масло и сыр, пиво и мед, а также привезенное из южных стран вино. Турир, как обычно, сидел на возвышении, по одну сторону от него сидел Сигурд, по другую — Эльвир, все же остальные сидели согласно своему рангу и достоинству. Во время еды много пили, смеялись и разговаривали. Но как ни напрягала Сигрид слух, она не могла разобрать, о чем говорит Эльвир с ее братьями. Были зажжены все факелы, они бросали отсвет на стены, стол и сидящих на скамьях людей. Висящие на стенах ковры отливали теплыми красно-желтыми тонами; по стенам пробегали отблески танцующего пламени факелов. Сигрид вспомнила, как в детстве для нее оживали картины, вытканные на ковре и изображающие жизнь богов и героев; и она видела, как меч сверкает в руке Сигурда Победителя Дракона; слышала, как восемь копыт Слейпнира стучат о землю, когда одноглазый Один едет в сопровождении двух своих воронов. И когда в штормовые зимние вечера разговор заходил о дальних странствиях и походах викингов, ей казалось, что оживают все самые красивые сказки мира; прекрасные женщины Востока, короли и священники Запада растворялись в едином колдовском танце, напоминающем отсвет пламени на стенах, в то время как за окнами неистово завывал ветер… — Твой нареченный желает, чтобы ты налила ему вина, — сказала Хильд. Сигрид молча встала и пошла, стараясь держаться достойно. Она знала, что незадолго до этого все над ней смеялись, и она досадовала на Хильд, не проявившую ни малейшего сочувствия к ее жалобам. Впервые она надела платье до пят и плащ, как у взрослой женщины. И из страха запутаться в юбках, ступала более размеренно, чем обычно. Она остановилась перед Эльвиром, и одна из служанок протянула ей кувшин с вином. Она не смотрела на него, наливая вино; она ни разу не осмелилась посмотреть ему в глаза с тех пор, как он опустил ее во дворе на землю. Когда она поставила на стол кувшин, он взял ее за руку. — Сядь, — сказал он. — Я хочу поговорить с тобой. Ей освободили место на скамье, немного отодвинули стол, чтобы она смогла сесть рядом с ним. Он протянул ей чашу. — У твоего брата припасено хорошее вино! Сигрид смутилась. — Я… я никогда раньше не пила вина, — сказала она. — Я не знаю, осмелюсь ли я… — Тогда будь осторожна, — засмеялся он. — Я еще не имею права уносить тебя в постель — пока еще… Последние слова он произнес так тихо, что только она их услышала. Сигрид покраснела. Она подумала, что уже не в первый раз он понесет ее на руках, и интонация, с которой он произнес это, наполнила ее странным, незнакомым чувством. — Ты должна смотреть на меня, когда пьешь со мной! — сказал он. И только когда он подносил чашу к ее губам, она впервые взглянула на него, встретившись с ним взглядом. Она не знала, что она ожидала увидеть — снисходительность или сострадание или же отсвет того желания, которое светилось в его глазах, когда он поймал ее. Она знала только, что не ждет откровенного дружелюбия с его стороны. Она чувствовала, как напряжение между ними постепенно ослабевает, и, не признаваясь себе в этом, почувствовала облегчение, озарившее ее лицо, словно свет полной луны. Вино было сладким на вкус, и она выпила гораздо больше, чем собиралась. Он рассказал ей о переговорах с братьями. И он назвал несколько усадеб, о которых она никогда не слышала и названия которых ничего для нее не значили, и поняла, что они достанутся ей. — Первое время я буду управлять ими вместо тебя, — сказал он, — но как только ты войдешь в курс дела, ты займешься этим сама. Когда-нибудь тебе это пригодится. Свадьбу решено было отпраздновать, как только соберутся все родственники, живущие в окрестностях — возможно, через неделю. Ей так понравилось вино, что она не прочь была выпить еще, и он налил ей немного. Он стал расспрашивать ее о Бьяркее и о ее детстве. И она принялась увлеченно рассказывать ему о Турире и Хильд, Сигурде и Халльдоре, о своей собаке, которую взяла еще щенком и которая была такой ласковой, что даже ни на кого не лаяла. Он смеялся, когда она сказала, что Турир назвал собаку Фенриром, в честь кровожадного волка, который будет вырвется на волю и сожрет всех богов, когда наступит Рагнарок[14]. И она рассказала о своем излюбленном месте на холме, над домом. — Ты как-нибудь сводишь меня туда, — сказал он. — Туда не легко забраться, — ответила она, — и… Она запнулась и покраснела. — Может быть, нам удастся уговорить Турира пойти с нами, — сказал он и подмигнул ей, так что она еще больше покраснела. А он засмеялся заразительным смехом, и она присоединилась к нему. Во время разговора она время от времени делала глоток из его чаши. Но когда ей захотелось еще вина, он убрал чашу. — Нет, ты выпила уже достаточно, — сказал он. И голос его был таким мягким, что это ее не задело. Свернувшись ночью под одеялом, она чувствовала себя возбужденной и счастливой. Он проводил ее через двор, и возле дома снова прижал к себе. Не грубо, как до этого, а нежно и осторожно, гладя по голове. И она положила голову ему на плечо. Она улыбалась в темноте. Он не счел глупыми ее рассказы и… Внезапно ей пришла в голову мысль о том, что пока она болтала обо всем подряд, он не сказал ни слова о себе и об Эгга. Но она прогнала эту мысль, погружаясь в глубокое, темное море сна.
Сигрид смотрела на гладкие, коричневые предметы, лежащие в коробке, напоминающие плоские камешки. Потом быстро закрыла крышку и положила коробку в один из сундуков, которые собиралась взять с собой в Трондхейм. Хильд называла это «плавающими камешками»[15]. Они приплывают по морю, говорила она, и беременным женщинам очень полезно пить из них отвар. Хильд говорила Сигрид и о многих других вещах. Она научила ее пользоваться рунами: бьяргруны помогали при родах, хугруны развивали смекалку, лимруны излечивали болезни, а молруны защищали от злых духов. Она также давала ей советы, как расположить к себе богов и духов, как защититься от привидений и троллей. Она говорила, что опаснее всего ночь середины зимы[16], потому что все призраки и прочая нечисть празднуют тогда свое рождество. В эту ночь следует быть осмотрительным, потому что с наступлением темноты нечисть обладает наибольшей силой. Не следует поднимать с пола упавшие предметы, потому что пришельцы считают их своими и сердятся, если их отбирают. И не следует забывать о том, что нужно оставлять для домового еду и пиво, если хочешь, чтобы в доме был мир и покой. И когда весной солнце так высоко стоит на небе, что светит в отверстие для дыма, домовому следует оставить большой кусок масла. Хильд рассказывала ей еще и о многом другом — и Сигрид впитывала в себя каждое слово. Хильд дала ей зубило, с помощью которого вырезались руны, и маленький серебряный молоточек. На нем были начертаны странные знаки, разобрать которые Сигрид не могла. Хильд сказала, что их вырезал один финн и заколдовал и они защищают от дурного глаза и прочих напастей. Хильд дала ей еще один совет: как вести себя в замужестве и как лучше угодить мужу. И еще она сказала, что если даже Сигрид ожидают печали и неудачи — «ведь этим распоряжаются Норны[17], и большинство из нас переживают в жизни скорбь», — ей следует знать, что сидеть сложа руки еще хуже. — Найди себе какую-нибудь работу, — сказала Хильд, — и занимайся ею! Ведь если твои руки будут чем-то заняты, тебе будет легче, даже в случае большого горя! При этом Хильд смахнула рукавом слезу. Она потеряла сразу трех сыновей, отправившихся на китобойный промысел. О четвертом же ее сыне, отправившемся в викингский поход, давно ничего не было слышно. Закрыв сундук на замок, Сигрид встала и пошла на чердак, где Хильд, Сигрид дочь Скьялга и другие женщины должны были наряжать ее к свадьбе.
Во дворе кипела жизнь. Приехало множество гостей, как с Бьяркея, так и с соседних островов. Один из приезжих подростков нечаянно выпустил из свинарника целую стаю поросят, которые тут же разбрелись по двору. Все бросились загонять их, и Сигрид приходилось буквально прокладывать себе дорогу среди визжащих свиней, воющих от восторга детей, гогочущих гусей и бранящихся слуг. На помощь ей пришел Сигурд; от его смеха и хохота работников содрогались стены. И тут она увидела привязанного возле амбара жеребца, которого Эльвир собирался принести в жертву Фрейру[18]: это был обычный, косматый, рабочий жеребец. Он стоял и мирно щипал траву, посматривая на всех через свисающую на лоб челку. Не глядя под ноги, Сигрид нечаянно наступила на голову визжащему поросенку и шлепнулась на землю вместе с одной из работниц, которая хотела в это время поймать свинью. Сигурд помог ей подняться. — Скажи спасибо, что Эльвир не видит тебя! — сказал он. Работница бросилась на колени перед Сигурдом, плача и дрожа от страха. — Ступай себе и валяйся с остальными свиньями, старая ведьма, и не ори, как Оса-Локи[19]! — сказал он, отпихивая ее ногой. — И в следующий раз будь осмотрительнее! Она с таким проворством побежала прочь, что Сигрид рассмеялась.
Всю последнюю неделю Сигрид казалось, что она живет в каком-то нереальном мире, окруженная туманом. Она отчетливо видела лишь некоторые детали, выплывающие из пелены, зато картины эти навсегда оставались в ее памяти, словно руны на камне. Эти воспоминания касались, в основном, Эльвира. Однажды дружинники затеяли состязание в стрельбе из лука, и Эльвир с Туриром тоже решили попробовать. Трижды попав в цель, Эльвир пожал плечами и отошел в сторону. Но когда один из его парней, приехавших из Эгга, затеял драку с работником Турира из-за какой-то девчонки, в глазах Эльвира сверкнули зеленые искры, как у кота, и он быстро и проворно подбежал к дерущимся. — Если ты нарушишь мир в этом гостеприимном доме, будешь иметь дело со мной, — сказал он, не повышая голоса. Парень замер на месте и остался стоять, словно замороженный его взглядом. Сигрид почувствовала, как у нее мороз побежал по коже. Но вскоре она успокоилась, видя, что он добивается всего лишь послушания от своих работников. С нею же он был ласков и мягок. Она вспоминала, как он играл с ее собакой и ласкал ее; пес сразу же привязался к нему, как это делают животные по отношению к некоторым людям. И он сказал, что она может взять с собой собаку на юг. Он звал собаку Фенриром и не хотел слышать ни о какой другой кличке. Но среди всех этих забот Эльвир рассказал ей немного о своей усадьбе, а еще меньше — о себе самом.
И только когда в полутемном языческом храме в нос ей ударил резкий, удушливый запах крови, до нее дошло, что она выходит замуж за Эльвира и едет с ним на юг. Она взглянула на него, стоящего рядом и положившего руку на кольцо в ожидании торжественного момента. У нее появилось ощущение беспомощности и страха. Она боялась его зеленых кошачьих глаз, которые могли быть нежными, как шелк, и в которых могло вспыхнуть пламя ярости и гнева. Ей внушало страх его стройное, гибкое тело, хорошо натренированное и сильное. Она пыталась различить в полутьме изображения богов, и ей казалось, что они кривят в усмешке рот, глядя на нее. Сам Один был вовсе не удовлетворен обеими своими женами. И даже верный Тор желал большего от своей Сив. И все они теперь насмехались над ней, насмехались над ее ребяческими надеждами на то, что она сможет привязать к себе мужа любовью и добродетелью и что он не изменит ей. Рядом с ней стоял Турир, надежный, верный Турир. Откуда он мог знать, говоря в тот раз, что ей будет хорошо с Эльвиром? — Да поможет мне Фрейр и Ньёрд и другие всемогущие асы[20]… Голос Эльвира звучал мощно и спокойно, когда он давал клятву. И рука его была твердой и уверенной, когда он принес в жертву Фрейру коня, не запятнав ни единой каплей крови свой красивый плащ. Этот плащ был соткан из красивейшей пряжи, и когда она спросила, где сделали этот плащ, он ответил, что в Валланде[21]; плащ этот был заткан золотой нитью. Лошадиной кровью обрызгали изображения богов и стены храма. Сигурд настрогал лучинок, чтобы погадать на крови, какая судьба ожидает вступающих в брак. Руки его были в крови, одежда тоже была перепачкана; став на колени, он принялся рассматривать щепки, лежащие перед ним на куске материи. Смешав все щепки, он стал брать по одной и снова бросать в кучу. Все столпились вокруг, ожидая, что он скажет. — Я вижу, что у тебя будут только сыновья, Эльвир, — наконец произнес он. — Я не могу сказать наверняка, какой смертью ты умрешь, но вряд ли это будет из-за тяжелой болезни… — А что у меня? — испуганно произнесла она. — У тебя, Сигрид? — он улыбнулся. — У тебя тоже будут одни лишь сыновья. За столом Эльвир почти ничего не пил, но был не менее весел, чем все остальные. И он позволил Сигрид выпить не больше, чем в прошлый раз. Оказавшись с ним наедине, она почувствовала себя настолько возбужденной и сбитой с толку, что ей пришлось сразу лечь. Не раздеваясь, он лег рядом с ней и, опершись на локти, принялся играть с ее длинными, золотистыми волосами. Она недоверчиво смотрела на него. Она так боялась этого момента, так ждала его… нет, она в точности не знала, чего именно ждала, во всяком случае, она не ожидала, что он вот так ляжет и будет гладить ее по волосам. Его явно забавляло выражение ее лица. — Я не кусаюсь, — сказал он и добавил серьезно: — Фрейр был прав, говоря, что полночи ожидания кажется длиннее месяца. Но я не мальчишка, Сигрид. Я достаточно зрел, чтобы понять, что поспешность оборачивается ожиданием. Он улыбнулся, видя растерянность на ее лице. — Ты знаешь «Песнь о Скирнире»? — спросил он. — Песнь о Фрейре и Герд… — Я слышала о ней, но не знаю ее хорошо, — ответила она. И он принялся читать строфы из песни — не спеша, выделяя голосом отдельные места. При этом он останавливался и делал пояснения. Сердце Сигрид было размягчено историей Фрейра, который так горячо любил Герд, что онемел от горя, будучи не в состоянии обладать ею. Он так любил ее, что готов был отдать Скирниру все свое имущество, меч и коня, чтобы тот отправился в Йотунхейм и принес Герд весть от Фрейра. Но Герд, великанша, гордо отказалась изменить своему роду ради одного из богов. И ни дорогие подарки, ни угрозы не заставили ее изменить решение. В конце концов Скирнир в гневе выложил ей все как есть и описал ожидающую ее участь. Используя заклинания и руны, прикасаясь к ней волшебной палочкой, он угрожал ей проклятиями, в случае, если она откажется отдаться Фрейру:
На тебя гневен Один, из асов всех лучший,
И сам Фрейр врагом станет Герд.
Бессердечная дева! К себе возбудила
Вражду ты всех добрых богов.
Слушайте, йотуны! Слушайте, турсы!
Суттунга[22] семя! Слушайте, асы!
Околдую я деву, заклятье кладу я.
С мужем ей в счастье не жить,
С мужем утех не иметь.
Я вырежу «туре»[23] и три тайные знака —
Похоть, скорбь и безумие в удел тебе дам.[24]
Произнеся эти проклятия, Скирнир добавил, что они будут сняты, если Герд отдастся Фрейру. И на этот раз Герд испугалась:
Скирнир, постой! Меду апарого кубок
Я для свата с приветом подам.
Но не думала я, что отдать мне придется
Сыну ванов любви моей дар!
Барри зовется, обоим нам ведома,
Роща укромная в ближнем краю.
Герд в этой роще дарует Фрейру
Счастье любви через девять ночей.[25]
Скирнир привез известие в Асгард. Но радость Фрейра была омрачена мыслью о предстоящем ожидании:
Длинна одна ночь, длиннее две ночи!
Не знаю, как выдержать три!..
Месяц не раз мне короче казался,
Чем ожидания час.[26]
У Сигрид сжималось сердце при мысли о проклятии Герд. И теперь, когда Эльвир прижал ее к себе, произнося последнюю строфу песни, она задрожала. В ней пробудилась какая-то тоска, словно весенний ветер принес ей какой-то далекий зов, отзвук морского прибоя, словно ее прибило к незнакомой земле. — Ты поняла смысл песни? — тихо и нежно прошептал он ей на ухо. — Нет, — ответила она. — Герд — это семя, лежащее в холодной земле, Фрейр — плодородие, а Скирнир — свет, приносящий тепло. Напрасно Скирнир сулил ей богатство и изобилие жатвы, напрасно угрожал Герд смертью. Только поняв, что без Фрейра ей навсегда предстоит остаться в холоде и тьме, она решила добровольно отдаться ему. Но Герд — это не только семя в земле, Сигрид. Герд — это любая женщина, которая еще не проснулась к полной жизни и боится мужской любви. Сама этого не замечая, Сигрид прижалась к нему и положила голову ему на грудь. Его глаза тут же потемнели — и он с силой прижал ее к себе, грубо, как в первый раз. Потом отпустил и встал, чтобы задуть лампу.
Она проснулась оттого, что у нее затекла рука. Он еще спал, спокойно и беззвучно, как животное, положив голову на ее руку. И как бы ей ни было неудобно, она не хотела тревожить его. Воспоминания о прошедшей ночи волной накатывали на нее. Он был груб и в то же время нежен, и даже боль имела свою необъяснимую сладость. Если бы Герд хоть раз отдалась Фрейру, для нее уже не было бы пути назад. Он проснулся — просто открыл глаза, притянул ее к себе и положил голову ей на грудь.
И когда через три дня они отплывали из Бьяркея, она почти не оглядывалась назад.

СИГРИД
На поверхности воды не было ни малейшей ряби, и отражавшиеся в ней горы казались подернутыми легкой дымкой. Казалось, что земля и небо, фьорд, холмы и тяжелые облака устремились друг к другу и встретились в осторожном соприкосновении, напоминающем нежное прикосновение мужской руки к женскому телу. Тишину нарушали только удары весел и всплеск рыбы на поверхности воды. Свадебное плавание Сигрид дочери Турира подходило к концу. Рядом с ней на палубе стоял Эльвир, и она улыбалась, когда он клал ей на плечо руку. За эти несколько недель она научилась многому — и до отплытия из Бьяркея, и после, в темные ночи, когда корабли вытаскивали на сушу. На ночь корабли закрывались парусиной, и они с Эльвиром уединялись на самом маленьком корабле. Сигрид теперь знала, что любовь многолика и изменчива, как море и ветер. Еще не узнав Эльвира во всех его многочисленных обличиях, она ощущала в самой себе нечто новое, тоску о том, чтобы разделить с ним его страсть, дать себя увлечь могучему потоку. Повернув ее в другую сторону, Эльвир указал рукой на солнце, пробившееся сквозь пелену туч и повисшее, словно раскаленный диск, над гребнем холма, озаряя все вокруг красно-оранжевым светом. — Солнцу не хочется сегодня уходить от нас, — сказал он. — Смотри, как оно колеблется, повиснув над холмом! — Оно не сможет долго провисеть так! — ответила Сигрид, вспомнив о волке, который охотится за солнцем, чтобы потушить его[27], и с облегчением замечая, что солнечные лучи прячутся уже за гребень холма. Они пересекали теперь длинный рукав Намского фьорда, который, как пояснил Эльвир, назывался Обманным — и это была их последняя ночь на корабле. На следующий день корабли должны были вытащить на берег, протащить по суше и спустить в Бейтстадский фьорд, являвшийся частью Трондхеймского. Но Сигрид и Эльвир не должны были участвовать в этом переходе. Им предстояло взять лошадей в одной из принадлежащих Эльвиру усадеб в Элдуэйде, а оттуда ехать верхом до Эгга.Они остановились на ночлег в маленькой бухточке, где еловый лес подходил вплотную к воде. Сигрид, никогда раньше не видевшая елей, сорвала несколько веточек, стала трогать иглы, нюхать их, пробовать на вкус. Невысокие холмы, заросшие могучими елями, усыпанная хвоей земля — все это было так непохоже на светлые, прозрачные лиственные леса в Бьяркее, в которых день отличался от ночи. И ее охватила грусть при мысли об этом. Корабли затянули парусиной, так что только головы драконов возвышались над искусно выточенными креплениями. На берегу разожгли костер, вокруг которого все сели ужинать, и запах дыма смешивался с запахом хвои, а искры взлетали высоко в воздух. Эти вечера вокруг костра, когда она сидела рядом с Эльвиром, слушая, как он или кто-то из его людей рассказывали саги или распевали песни, казались ей совершенно нереальными, как сон. Эти вечера сливались с содержанием саг и песен, и Сигрид хотелось, чтобы это путешествие никогда не кончалось, потому что у нее было тревожное предчувствие… Эти мощные, темные ели, эти мрачные холмы несли в себе что-то ужасное.
Ночью был дождь, но утром засветило солнце. Капли воды, падающие с деревьев, переливались всеми цветами радуги. Все встали рано и позавтракали в одном из дворов, расположенных у фьорда. Переправа через Элдуэйд потребовала много усилий; корабли были поставлены на деревянные катки, чтобы их можно было передвигать по суше. Люди во дворе привыкли к приезжим, но все же, когда хозяйка увидела, кто приехал на этот раз, весь дом пришел в движение. Она стала потчевать их лучшим угощеньем, которое у нее имелось, и ни за что не хотела отпускать. Сигрид никогда раньше не видела усадеб, где было так много деревянных домов, и взгляд ее переходил с одного строения на другое. Вспомнив, как она срывала еловые ветки, Эльвир сказал: — Ты наешься их, когда приедешь в Эгга! Она исподлобья взглянула на него, сердито и одновременно игриво, и он улыбнулся. Когда Турир сказал ему, что сестра его очень молода, Эльвиру это понравилось. У него были свои привычки и склонности, и ему не очень-то хотелось приводить в дом волевую, зрелую женщину, чтобы потом укрощать ее. Ему куда больше подходила девушка вроде Сигрид, которую он сам мог поучать и воспитывать. Но все пошло не так, как он хотел: он оказался в плену у своих чувств к этой красивой, своенравной девушке. И начал понимать, что ему предстоит стать более зависимым от нее, чем он того желал. Эльвир был молчалив, когда они скакали верхом по широкой каменистой долине, ведущей в Трондхейм. С ними было несколько мужчин и двое женщин, которых Сигрид взяла с собой из Бьяркея: Гюда и Ингебьёрг. Их мужья, дружинники из Бьяркея, были освобождены от подчинения Турира и направлялись теперь на юг в качестве людей Эльвира. Гюда чувствовала себя вдвое ценнее остальных: будучи дочерью Халльдора сына Свейна и Хильд дочери Инге, она всегда считалась выше обычной служанки. С ней был грудной ребенок, маленькая девочка. Сначала они поехали к узкому рукаву фьорда, называемому, как пояснил Эльвир, Хьеллеботнен. И когда они ехали вдоль берега, он указал на усадьбы, расположенные на другой стороне Бейтстада, которые он передал в собственность Сигрид. Они отъехали в сторону от берега и, проезжая мимо усадьбы, названной Хваммом, в первый раз увидели перед собой долину, примыкающую к Трондхеймскому фьорду: поля на берегу широкого фьорда, покрытые еловым лесом горы, лиственные рощи, еще не сбросившие золотой наряд в прозрачном осеннем воздухе под ярко-голубым небом, темно-синие волны, украшенные белыми барашками пены… И недавние предчувствия снова одолели Сигрид. — Смотри, — сказал Эльвир, указывая на юг, и она перевела взгляд туда. Там, на вершине холма, находилась усадьбы: крепкий, добротный дом возвышался над остальными строениями, словно вождь над простолюдинами. Эгга — лучшего названия не придумаешь[28]. Дорога, по которой они ехали, была огорожена с обеих сторон, и встречные приветствовали Эльвира с такой почтительностью, что сердце у Сигрид забилось от гордости. Когда они подъехали к Эгга, один из мужчин выехал вперед, чтобы предупредить об их приезде. Эльвир показал ей могильные курганы, объясняя, кто там захоронен. И когда они поскакали вверх по склону холма Эгга, курганы были уже по обе стороны дороги. Но мысли Сигрид были далеко от могил родичей Эльвира. Куда больше ее занимала более близкая его родственница: Эльвир сказал ей, что его мать живет в Эгга. — У нее не двигаются ноги, — сказал он, — и будучи долгое время вдовой, она выработала в себе отвратительную привычку к своеволию. Последние слова он произнес так, что Сигрид начала побаиваться предстоящей встречи. И теперь, когда дома уже были видны из-за деревьев, она почувствовала неприятный комок в горле. Она чуть не вскрикнула, когда Эльвир показал ей камень, стоящий на восточной стороне дороги. Это напомнило ей Бьяркей, где тоже неподалеку от домов стоял рунический камень. И в первый раз она ощутила тоску по дому. Вокруг усадьбы была расчищена площадка, так что двор просматривался с двух сторон: по обе стороны длинного, узкого прохода стояли деревянные дома. Все давно уже ждали их на холме, откуда открывался вид на фьорд и где, как пояснил Эльвир, обычно выставлялись дозорные посты. Чуть выше главного дома, в западной части усадьбы, находилось жилище рабов. И когда он помог ей сойти с лошади в присутствии любопытной дворни, лицо ее было каменным, словно заиндевелым. По привычке она хотела поправить рукой волосы, но теперь на голове у нее была косынка замужней женщины, которую ей предстояло носить постоянно. Она с облегчением подумала, что теперь волосы не будут в беспорядке, что раньше причиняло ей столько хлопот. И, ухватившись за эту мысль, как утопающий за соломинку, она со спокойным достоинством пошла по двору навстречу своим домочадцам.
Пробыв в Эгга две недели, Сигрид все еще не чувствовала себя дома. Тора дочь Эльвира, ее свекровь, не очень-то нравилась ей; ведь, вопреки стараниям Сигрид угодить старухе, та всегда находила, к чему придраться. Меньше всего Сигрид нравилось то, что Тора держала при себе связку ключей, тем самым подчеркивая, что она хозяйка усадьбы. Но Эльвир только посмеивался, когда Сигрид говорила ему об этом. Он говорил, что это не имеет никакого значения и что Сигрид нужно получше ознакомиться с жизнью в усадьбе. Сигрид же воспринимала его слова с горечью. Поэтому получалось так, что, когда она давала распоряжения слугам, они отвечали либо, что они так не привыкли делать, либо шли к Торе и спрашивали разрешения у нее, прежде чем приступить к работе. И Тора, сидя в поварне на скамье, управляла имением железной рукой. Когда-то она была красива, и следы красоты все еще оставались на ее белом лице без единой морщинки, не отражавшем никаких чувств, словно оно было деревянным. Сигрид видела в ее лице черты Эльвира — глаза, лоб; но лицо это никогда не бывало теплым и нежным, как у сына. В первые дни, когда она еще пыталась угодить свекрови, ей казалось, что та похожа на Эльвира. Но Сигрид не желала без конца пробивать толщу льда, окружавшую Тору, у нее не было к тому способностей. И она начинала понимать, почему Эльвир рано уходит из дома. Он избегал свою мать. Он позволял ей хозяйничать в доме, но разговаривал с ней лишь в случае необходимости.
В отсутствие Эльвира усадьбой управлял Гутторм Харальдссон. Это был высокий, суровый парень с добрыми глазами под густыми бровями. Жену его звали Рагнхильд; у них было двое белокурых мальчиков, которые всегда путались у Сигрид под ногами. Рагнхильд ждала еще одного ребенка.
У Сигрид был лишь один друг во всем имении: Старая Гудрун, как все называли ее. Она ходила, сгорбившись, по двору и вся тряслась, опираясь на сучковатую палку. Сигрид сказали, что она была сестрой отца Эльвира. Она почти ни с кем не разговаривала, брела куда глаза глядят, и никто не обращал на нее внимания. Когда-то она была замужем, но ее муж и сыновья сгорели: за одну ночь она потеряла все, что имела. Впоследствии она отказалась снова выйти замуж и пригрозила, что положит под подушку топор, если ее принудят. И отец Эльвира взял ее к себе в Эгга, и она жила тут так давно, что никто не мог сказать наверняка, когда она здесь появилась. Разговаривая с Сигрид, Старая Гудрун задирала вверх голову и морщила лоб — настолько согнутой была ее спина. Ее сухонькое личико теплело от улыбки, и Сигрид невольно думала, когда в последний раз люди были с ней приветливы. — Я знаю, что это ты новая хозяйка, — сказала, улыбаясь, Гудрун. Сигрид вздрогнула от ее слов: ей казалось, что усадьбой правит Тора по своему разумению, а ее Эльвир привел в дом как наложницу. Но для этой сгорбленной старухи хозяйкой была она, даже если Эльвир и не хотел ставить мать на место. — А ты — непреклонная Гудрун, — ответила она, взяв в свои ладони трясущуюся, сморщенную руку. — Эльвир славный мальчик, — сказала старуха. — Но он так боится, что кто-то об этом узнает, не решается признаться в этом даже самому себе. «А она более разговорчива, чем я думала», — решила Сигрид. И когда их глаза встретились, Сигрид заметила в ее взгляде проблеск понимания. Ей показалось, что эта женщина знает, как обстоят дела у нее с Эльвиром: она сама пережила такое в жизни. И даже если теперь она была старой и одинокой, ничто не могло отнять у нее ее воспоминаний. — Ты красивая! — сказала старуха. — И тебе он нравится, я это вижу. Да поможет тебе Фрейя[29]. И она поможет тебе, ведь ты с такой добротой отнеслась ко мне, старой калеке! После этого неприязнь Сигрид к свекрови стала еще больше, потому что та все время поносила Гудрун.
Как-то вечером она сказала Эльвиру, что разговаривала с Гудрун и что, по ее мнению, Торе следовало бы быть поприветливее со старухой. — Если хочешь быть в добрых отношениях с матерью, — сказал он, — я бы тебе посоветовал поменьше болтать с Гудрун! Сигрид вскипела. — Если бы я могла выбирать между ними двумя, я бы не сомневалась, кто мне больше нравится! Она остановилась, задыхаясь от гнева: с того первого дня в Бьяркее она ни разу не говорила с ним в таком тоне. Прищурив глаза и запрокинув голову, он расхохотался. — Моя кошечка тоже показывает коготки? — шутливо произнес он. — Ну-ка, еще разок, ты просто великолепна, когда сердишься! Он хотел обнять ее, но она не далась. Она была слишком раздражена, чтобы ответить ему, кровь стучала в висках. — Эльвир! — наконец произнесла она. — Она так хорошо отзывалась о тебе. Она говорит о тебе куда лучше, чем твоя мать, и мне кажется, ты дурно относишься к ней. — И что же, хотел бы я знать, она говорила обо мне? В его голосе по-прежнему звучали шутливые нотки. Сигрид не знала, что ответить, она чувствовала себя прижатой к стене. Старуха сказала ей нечто расплывчатое, но за этими словами угадывался большой смысл, да и выражение ее лица подтверждало это. Но она решила не говорить об этом. — Ничего особенного, — сухо произнесла она. — Я теперь понимаю, что она просто болтала. Он удивленно взглянул на нее. И снова принялся хохотать — на этот раз он смеялся от всего сердца. — Оказывается, спорить с тобой куда забавнее, чем я думал, — сказал он. — Мне редко давали понять таким коварным способом, что кто-то обо мне злословит! И уже более спокойным тоном продолжал: — Между мной и моей матерью связь более прочная, чем это кажется со стороны, Сигрид. И если хочешь, я дам тебе добрый совет: не вороши это осиное гнездо. И ты вовсе не обязана расплачиваться за болтовню Гудрун; из них двоих она далеко не лучшая. Сигрид очень хотелось узнать об этом побольше, но лицо Эльвира было непроницаемо. И она уже знала, что когда на его лице такое выражение, его бесполезно о чем-то спрашивать. И уже после того, как он задул свечу, она долго лежала в темноте и думала о том, что же все-таки не поделили эти две женщины.
* * *
Уже несколько дней Сигрид была нездорова. Она никому не говорила об этом, но в конце концов не выдержала, Эльвир оставил ее утром лежащей в постели, но после того, как она не пришла к завтраку, Тора слишком уж презрительно высказалась в адрес ленивой невестки, и он вернулся, чтобы поговорить с ней. — Девушке не полагается лежать так, — сказал он, и в голосе его не было и следа нетерпения. Но Сигрид только вздохнула. — Оставь меня в покое! Я больна! Он бросил на нее пристальный взгляд. — Что же у тебя болит? — нехотя произнес он. Она растерянно посмотрела по сторонам. — Есть тут что-нибудь, куда можно вырвать? — Нет, — ответил он. Озабоченно посмотрев на пол, он подумал, что не мешало бы здесь убрать. Их спальня была отделена стеной от старого зала. Эльвир сказал, что стена была поставлена после того, как пристроили новый зал, а старый превратили в жилое помещение. — Думаю, тебе лучше приподняться, — сказал Эльвир, когда она снова легла навзничь. Он с удивлением смотрел на нее. У Сигрид мелькнула догадка: она вспомнила, что женщины чувствуют себя плохо, когда ждут ребенка. — О! — с облегчением произнесла она. — Так оно и есть! Но в следующий момент к чувству облегчения стало примешиваться и еще кое-что. Она вспомнила ужасные истории о беременных женщинах и громко застонала. — Тебе опять плохо? Эльвир сел к ней на постель после того, как Гюда дочь Халльдора подтерла пол. — Нет, — ответила она. — Мне уже лучше. Это просто… Она замялась. Он улыбнулся. — Тебе плохо, потому что ты собираешься родить мне ребенка? Хорошо, что он это сказал. Взглянув на него, она подумала, как он добр к ней, и теперь она скорее согласилась бы умереть, чем лишиться того, что было между ними. Волна радости прошла через нее: наконец-то она сможет подарить ему долгожданного сына! Обняв его руками за шею, она притянула его к себе. — Нет, — шепнула она ему на ухо. — Нет, Эльвир. Я рада тому, что у меня будет от тебя ребенок. И ты больше не услышишь от меня жалоб!Сигрид очень хотелось поехать в день середины зимы в Мэрин, на жертвоприношение, но она чувствовала себя недостаточно здоровой. Она осталась дома, а Эльвир, Тора и многие другие отправились туда. Тору перенесли на корабль, намереваясь потом переправить в повозке с пристани в храм. Только Эльвир и Гюда знали, что происходит с Сигрид. Она сказала, что не хочет ехать с ними потому, что еще не знает местных жителей. Они отсутствовали несколько дней, и даже если ей и не хваталоЭльвира, то отсутствие свекрови позволяло ей чувствовать себя птицей, отпущенной на волю. Тора хотела было передать ключи Рагнхильд, жене Гутторма, но на этот раз Эльвир стукнул кулаком по столу перед самым носом матери. И Тора уступила, видя ярость сына. С работниками все оказалось легче, чем думала Сигрид: они безропотно подчинялись ей. И жизнь в усадьбе шла своим чередом. Она быстро поняла, что девушки из Бьяркея зря времени не теряли, распространяя о ней среди прислуги добрые слухи. Дома с ней осталась Ингебьёрг, а Гюда получила разрешение поехать на жертвоприношение вместе со своим мужем и ребенком.
В последнюю ночь перед возвращением всех из Мэрина Сигрид разбудил растерянный голос Ингебьёрг: — Сигрид! У Рагнхильд начались роды! Еще окончательно не проснувшись, Сигрид услышала вопли. Рагнхильд ожидала ребенка лишь в следующее новолуние, так что никаких приготовлений к родам не велось. Одеваясь, Сигрид почувствовала, что у нее дрожат руки, ее снова затошнило. Рагнхильд была в поварне — и Сигрид увидела перед собой удручающую картину. Рагнхильд полусидела — полулежала в постели, вцепившись в сидящего рядом Гутторма. Она так глубоко всаживала ногти в его руку, что на рубашке оставались следы крови, а сама она в это время запрокидывала голову и кричала. Лицо ее, искаженное болью, было почти неузнаваемым. — Какая мне польза от такой девчонки, как ты! — в отчаянии произнесла она, когда боль отпустила ее, позволив взглянуть на Сигрид. Сигрид и сама знала, что от нее мало проку при родах. Весь ее опыт сводился к тому, что дома, в Бьяркее, она как-то приняла роды у свиньи. Но теперь в доме не осталось ни одной женщины, которая могла бы помочь — да и в соседних дворах тоже. Единственно, кто мог бы… Ярл Свейн остался в своей усадьбе Стейнкьер. Она знала, что он был христианином, так что его люди не поехали на жертвоприношение. Она не знала только, имеет ли право нарушать ночной покой такого могущественного человека. Впрочем, он же был родственником Эльвира… Рагнхильд закричала опять, дико и пронзительно. Сигрид снова почувствовала дурноту и ухватилась за один из столбов, чтобы никто не заметил, что ей плохо. Она плотно сжала губы, она должна была, она хотела помочь. И ее собственный голос показался ей чужим, когда она, ясно и уверенно, дала распоряжение Гутторму скакать в Стейнкьер. — Но… — хотел было возразить он. — Но, — перебила его Сигрид, — это единственный двор в округе, где есть люди, которые могут помочь. Опустив голову, он подчинился. Рагнхильд опять закричала. Сигрид старалась вспомнить все то немногое, что говорила ей о родах Хильд. — Не оставил ли кто-нибудь здесь завязанные узлы? — спросила она, когда крики стихли. И девушки принялись деловито развязывать все узелки. Волосы Рагнхильд распустили по плечам. И тут Рагнхильд заметила, что мужа рядом нет. — Гутторм! — закричала она. — Гутторм! Сигрид села рядом с ней. — У тебя уже потуги? — спросила она, зная, что при родах бывает два вида приступов. Но Рагнхильд только дико смотрела на нее. — Поди прочь, негодная девчонка! — закричала она. — Ступай туда, откуда пришла! И тут Сигрид разозлилась и влепила ей звонкую пощечину. Некоторое время Рагнхильд лежала совершенно тихо и при новом приступе вела себя уже спокойнее. — Это еще не потуги, — смиренно произнесла она, когда приступ прошел. — Тогда, как мне кажется, тебе следует поберечь силы, — сурово произнесла Сигрид. — Скоро прибудет помощь из Стейнкьера, а пока что нам обеим следует помолиться Норнам, чтобы они помогли тебе. Она послала одну из служанок в кладовку за «плавающими камешками», которые она привезла из Бьяркея; другая служанка поставила котелок с водой на раскаленные камни в очаге, чтобы побыстрее закипела вода. Рагнхильд помогли встать с постели и подойти к очагу. Последовал еще один приступ, потом еще. Крики Рагнхильд превратились в жалобный вой, она совершенно потеряла над собой власть. Она вопила, как доведенный до отчаяния ребенок. — О, Фригг[30], помоги нам! — Сигрид закрыла глаза, не осмеливаясь смотреть на ту, что лежала перед ней на полу. И она принялась чертить руны на своих руках — все известные ей, не зная точно, какие именно нужны были в данный момент. И, как ее учила Хильд, она взяла запястье Рагнхильд и стала бормотать молитвы. Служанка принесла миску с отваром «плавающих камешков» и в промежутках между криками принялась поить им Рагнхильд. — Пей! — прикрикнула Сигрид, и Рагнхильд, послушно, как ребенок, выпила. И тут же снова закричала, так дико, что сорвала голос. И тогда одна из служанок воскликнула: — Ребенок уже на подходе! Сигрид отпустила запястье Рагнхильд и после следующего приступа подхватила на руки скользкого новорожденного. Она окаменела от страха. Ребенок — а это был мальчик — дико орал, и она не знала, что с ним делать. И тут как раз подоспели женщины из Стейнкьера. Пришла сама хозяйка дома, Холмфрид дочь Эрика, сестра шведского короля, а с ней еще три женщины. Сигрид поняла, кто это, по почтительным приветствиям служанок. Она же сама, сидя на полу с новорожденным ребенком на руках, не могла должным образом приветствовать такую высокую гостью. Она не была уверена в том, что ноги удержат ее, если она встанет. — Спасибо, что вы пришли, — сказала она. — Все получилось само собой, но теперь я не знаю, что делать. Холмфрид, дочь короля, улыбнулась Сигрид и кивнула одной из своих женщин, чтобы та забрала у нее ребенка. Сигрид хотела встать, но Рагнхильд схватила ее за руку. — Не уходи от меня! — умоляюще произнесла она. — Они помогут тебе больше, чем я, — ответила Сигрид. Но Рагнхильд железной хваткой вцепилась в нее, у нее опять начались схватки. И когда Сигрид, наконец, встала, все плыло у нее перед глазами. Она чувствовала, как к горлу подступает тошнота; сев на скамью, она откинулась назад. Холмфрид подошла и обняла ее. — Не слишком ли ты перетрудилась? — спросила она. — Нет, нет, — торопливо ответила Сигрид. — Просто я сама жду ребенка. Холмфрид побледнела. — Тебе нельзя было… — только и смогла она произнести. В кухне было совершенно тихо, когда Холмфрид, дочь короля, увела Сигрид.
Глубокий снег лежал в лесах и на полях Эгга, все заборы были засыпаны, а дома, занесенные снегом, напоминали жилища саамов. Только вокруг дымоходов снег подтаивал и чернел от копоти. В короткие зимние дни все торопились сделать свои дела и сновали по двору туда-сюда, и снег скрипел под ногами. Вечер наступал так рано, все надо было успеть сделать засветло. Впрочем, в долгие зимние вечера всем, собравшимся у очага, хватало работы: чесать шерсть, прясть, мотать нитки, ткать, чинить, шить. Мужчины ремонтировали, кто что, а также занимались резьбой по дереву. Сигрид сидела за ткацким станком, последнее время она только этим и занималась. «Найди себе какую-нибудь работу…» — сказала ей Хильд всего несколько месяцев назад. «Это было так давно, — думала Сигрид, — и я была тогда совсем еще девчонкой…» Найти себе работу… Но никакой работы для нее не находилось, потому что во всем, за что бы она ни бралась, она оказывалась лишней. Слуги стали уважать ее после того случая с Рагнхильд. Свекровь же, напротив, стала еще непримиримее. Она была просто вне себя, заметив, что все полюбили Сигрид. Тора только бранилась по поводу той ночи, когда рожала Рагнхильд; она бранилась главным образом потому, что пришлось побеспокоить людей из Стейнкьера. И даже по поводу того, что Сигрид так много сидит за ткацким станком, она нашла, что сказать. Она считала, что в положении Сигрид нельзя целый день сидеть за прялкой и к тому же переводить столько ниток. В последнее время Сигрид приходила в ярость, общаясь с Торой. По поводу ткачества она ответила, что до этого обходилась без покровительства свекрови и теперь в нем не нуждается и что шерсть, которую она использует, она сама напряла и покрасила в Бьяркее. Тора не привыкла, чтобы ей перечили, и чуть не вскочила со стула. При этом она злобно тряхнула головой, а выражение ее лицо не предвещало ничего хорошего. Но Сигрид это не волновало. Более плохих отношений, чем сложились между ними, нельзя было и придумать. Прошло то время, когда она надеялась подружиться с матерью Эльвира. И, стоя в одинокие морозные вечера во дворе, она думала вовсе не о Торе. Она смотрела на северное сиянье, переливающееся над верхушками деревьев, и слушала доносящийся из леса волчий вой. Она вспоминала, как дома, в Бьяркее, северное сиянье полыхало и переливалось на черном зимнем небе или же сияло, словно нимб из расплавленного железа. Она думала об Эльвире. И слезы, которые она ощущала в глубине своей души, находили выход в протяжном волчьем вое. Что-то произошло во время празднования середины зимы в Мэрине. Она не знала, что именно, но после этой поездки ее отношения с Эльвиром были разрушены. Она замечала, что люди шепчутся о чем-то и замолкают в смущении, если она внезапно появляется. Сначала она подумала, что могла сделать что-то не так. Вспомнив слова Турира о том, что нужно быть открытой и честной, она спросила у Эльвира, все ли она делает так, как надо. Но он сухо и неохотно ответил, что такие молоденькие девушки, как она, этого не понимают. Он мало бывал дома, проводя время на охоте или объезжая принадлежавшие ему хозяйства в окрестностях. И когда они оставались с ним наедине, он чаще всего не прикасался к ней, а если и обладал ею, то грубо, без ласки. Сигрид воспринимала это как разрушение всего того нового, что начало просыпаться в ее душе. Теперь у нее осталась лишь одна тоска. По ночам она часто плакала во сне от одиночества, преследовавшего ее, словно кошмар, а под утро чувствовала себя разбитой. И этот ребенок — ребенок Эльвира… Не раз пыталась она переложить вину за свое отчаяние и одиночество на невинное существо, которое носила в себе. Ведь она узнала о своем положении именно тогда, когда у Эльвира изменилось отношение к ней. И она возненавидела бедное маленькое создание, еще не увидев его. «Сын Эльвира…»— с горечью думала она. Сын, которого он давно хотел иметь. И он получит его, как предсказывал Сигурд во время жертвоприношения. Она предполагала, что все мысли Эльвира вертятся теперь вокруг сына. Теперь он думал и заботился не о ней: получив то, что хотел, он больше не нуждался в ней. Но почему же, думала она с замиранием сердца, почему он говорил ей такие красивые слова, был с ней так добр и заставил ее так безнадежно влюбиться в него? Вот почему Сигрид сидела за ткацким станком, и под ее руками вырастали картины, изображающие богов и героев, походы викингов и праздничные шествия. И только в искаженных формах животных, помещаемых ею среди картин, просматривалось внутреннее страдание. Мало-помалу все заинтересовались ее работой и стали каждый день ходить и смотреть, как идет дело, и при этом не скупились на похвалу. Но она ждала похвалы от Эльвира, слова других ее мало трогали. Но он не приходил.
После йоля в Мэрине готовилось жертвоприношение, и на этот раз Эльвир решил, что она останется дома, даже не спросив ее об этом. Тора тоже не поехала. Сразу после возвращения из Мэрина в Эгга ожидались гости; среди приглашенных был ярл Свейн со своими домочадцами, так что Тора решила остаться дома, чтобы подготовить все наилучшим образом. Сигрид до этого никогда не видела ярла Свейна, и он сразу понравился ей: своими широкими, мощными плечами он напоминал Турира, но черты лицо у него были совершенно иные. Холмфрид, дочь короля, тут же спросила о Рагнхильд и ее сыне, отметив, что Сигрид выглядит неважно. И когда они остались наедине, она сказала: — Если тебе понадобится с кем-нибудь поговорить, Сигрид, ты можешь смело приезжать ко мне в Стейнкьер! Сигрид ничего не ответила, потому что кто-то вошел. Но она подумала, что было бы очень глупо, если бы Сигрид дочь Турира из Бьяркея потащилась в Стейнкьер со своими жалобами. В Бьяркее тоже ставили на стол на йоль все самое лучшее. Ведь, как говорили старики, как начнется год, такой и быть жатве. Но Сигрид никогда раньше не видела такого изобилия на столах, как это было в Эгга. Кое-кто из мужчин напился еще до наступления вечера. Но ни Эльвир, ни ярл не были пьяными, хотя, как ей показалось, пили они довольно много. И уже после того, как большинство гостей разошлись по домам, ярл Свейн и Эльвир завели разговор. Сигрид тоже сидела с ними, поскольку никто не намекал на то, чтобы она ушла; она осталась вместе с Холмфрид и Торой. Вместе с ярлом приехал его священник; этот молодой человек никогда раньше не бывал в Эгга. Вид у него был такой, словно он не собирался никогда больше сюда приезжать, узнав, что находится в гостях у главного жреца храма Мэрин. Эльвир был настроен весьма задиристо; он говорил о «нас обоих, священниках», подчеркивая тем самым, что христианские священники не обладают такой полнотой власти, как языческие, поскольку не могли принимать участия в тинге[31]. Сигрид эта шутка показалась неуместной, но было ясно, что ярла, так же как и Эльвира, забавляет рассерженный вид священника. — Эльвир не такой уж закоренелый язычник, — сказал ярл. — Ты ведь был крещен, Эльвир, не так ли? — Да, — ответил Эльвир с напускной серьезностью, — первый раз в Миклагарде[32], а второй раз в Англии. — Он бросил быстрый взгляд на священника. — И не следует забывать о тех днях, когда я следовал пророку Мухаммеду! Прошло несколько секунд, прежде чем священник окончательно понял, о чем идет речь. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыл его. Потом перекрестился и начал бормотать молитвы. Эльвир следил взглядом за его движениями. Потом с глубокомысленным видом сделал глоток из чаши. — Да, я был однажды христианином, — не спеша произнес он. — Я целый год учился у священника в Миклагарде. И я пришел к выводу, что вы, христиане, не живете согласно своим заповедям. Он замолчал и, поскольку никто не возражал ему, продолжал дальше: — Меня учили, что Христос — человек мирный. Он выступал против жажды власти, мести и насилия, как мне говорили, и он охотнее дал бы себя убить, чем взял бы в руки оружие. И я усвоил христианскую заповедь «не убий». Однако те христиане, которых я встречал, то и дело хватались за меч. И это не единственная заповедь, которую они нарушали. Еще будучи ребенком, я усвоил, что человек должен быть честным и не отказываться от своих слов; и постепенно я начал презирать христиан, учивших одному, а делающих совсем другое. Я видел, как они нарушают одну заповедь за другой, после чего каются, а потом без малейших угрызений совести снова нарушают эти заповеди. И в конце концов я понял, что ошибка заключена в самом учении. Ни один человек не может жить по-христиански. — Но можно все же попытаться, — возразил ему ярл Свейн. — Я сам пытаюсь быть мирным человеком, и, думаю, мне никогда не приходилось принуждать к чему-то других. Но в детстве я достаточно насмотрелся на жертвоприношения, видел я и человеческие жертвы — в тот раз, когда мой брат Эрлинг праздновал победу в Хьерунгавоге. И я не жалею, что отвернулся от старых богов. Повернувшись к Эльвиру, священник дрожащим голосом произнес: — Как может человек, поверивший во всемогущего Бога, отвернуться от него и поклоняться мерзким изображениям богов? — А нужно ли становиться христианином, чтобы верить во всемогущего Бога? — спросил Эльвир. — Легенды говорят о Боге, сотворившем все; так почему же он не может так же хорошо говорить со мной посредством изображений богов, как посредством изображений святых? Думаю, что и те, кто верит в Мухаммеда, тоже верят во всемогущего Бога. Но священник продолжал, словно не слыша его: — Ты говоришь, что был христианином и учился у священника. Значит, ты причащался и исповедовался. Делал ли ты это без колебаний, принимал ли благодать Божью с чистым сердцем? — Да, — коротко ответил Эльвир. Голос священника задрожал от гнева: — И после этого ты стал языческим жрецом! Ты возглавляешь эти постыдные жертвоприношения! — Да, — снова ответил Эльвир, — последний раз это было вчера. Но скажи мне, почему приносить в жертву животное хуже, чем приносить в жертву самого Спасителя? Перекрестившись, священник сказал: — Разве ты не боишься Божьего суда? Эльвир пожал плечами. — Я не буду выставлен на суд христианских священников! — сказал он. — К чему мне выполнять немыслимые, никому не приносящие пользы заветы, если я могу достойно жить, следуя понятным мне законам? Нет, когда придет Рагнарок, я предстану перед тем, кто сотворил все, я встречу его без колебаний, с достоинством неся меч и красный плащ жреца! Священник долго молчал, потом сказал: — Горько слышать такие слова и видеть человека, потерянного для церкви. Но, боюсь, я недостаточно учен, чтобы помочь тебе. Ты знаешь слишком много, но не все; слишком много, чтобы без возражений принять христианство, но еще недостаточно, чтобы по-настоящему понять его. Посмотрев ему прямо в глаза, Эльвир сказал: — Что ты хочешь, чтобы я понял, если даже ученые священники не живут по своим же заповедям? На что священник, не отводя глаз, возразил: — Свято учение, а не священники! Прощая меня, Господь знает, сколько раз я нарушал его заповеди. Именно потому, что мы так слабы, мы и нуждаемся в прощении Господа. — Но зачем предъявлять человеку требования, которые он заведомо не может выполнить, а затем спасать его с помощью человеческих жертв? Чем больше я наблюдаю христианство, тем больше я убеждаюсь в том, что оно делает жизнь человека неоправданно трудной. Священник вздохнул. — Ты думал, что был христианином, Эльвир, — сказал он. — Но если бы ты действительно понимал христианство, ты бы не говорил, что оно делает жизнь трудной. Мне остается только молиться за тебя. И я это сделаю, хотя и никогда раньше не думал, что мне придется упоминать в моих молитвах имя языческого жреца! После этого разговор иссяк, и ярл уехал. Оставшись наедине с Эльвиром, Сигрид осторожно спросила у него, что он думает по поводу этого разговора; но Эльвир, как он это часто делал последнее время, ответил, что она еще не достаточно взрослая, чтобы это понять. Сигрид не была раздосадована, она ощущала лишь подавленность и усталость. И когда она повернулась к нему, на глазах у нее были слезы. — Тебе кажется, что я достаточно взрослая, чтобы родить тебе ребенка, — сказала она. — Почему же ты не считаешь меня достаточно взрослой, чтобы делить с тобой не только постель? Впервые после жертвоприношения по случаю дня зимы он серьезно взглянул на нее. Он только теперь заметил, каким худым и бледным стало ее лицо. Ее серые глаза стали еще больше, в уголках рта залегли горькие складки. — Сигрид! — растерянно произнес он. — Что же я сделал с тобой… Он прижал ее к себе, зарылся лицом в ее волосы. Потом так же внезапно отпустил ее и сел на кровати, обхватив голову руками. — Нет, — сказал он, обращаясь к самому себе. — Нет, я так не могу! Он встал. — Почему ты не безобразная ведьма? — почти крикнул он и бросился к двери. На следующий день Сигрид узнала, что он ушел куда-то на лыжах.
Вскоре после зимнего жертвоприношения умерла Старая Гудрун. Она очень сдала за последнее время, у нее был жуткий кашель, и Сигрид прилагала все усилия, чтобы хоть как-то помочь ей. При этом она нарушала запрет свекрови, замечая к своей радости, что лишь немногие из дворовых слушаются Тору, нехотя подчиняясь ее приказу. Сигрид распорядилась, чтобы Гудрун перенесли в одну из кроватей в старом зале, где ей было гораздо спокойнее, чем на кухне. Сигрид проводила много времени со старушкой, и они говорили о многих вещах. Но временами Гудрун трудно было понять, мысли путались в ее старой голове. То она говорила о детстве Эльвира, то о своих собственных сыновьях, и Сигрид часто не понимала, о чем идет речь. В другой раз она рассказывала о своем муже, которого звали Асбьёрн, рассказывала о пожаре, который за одну ночь сделал ее бездетной вдовой. И когда она говорила об этом, события эти настолько оживали в ее памяти, что Сигрид казалось, будто она видит на фоне темного ночного неба яркое пламя, слышит, как трещит и ломается загоревшаяся крыша из торфа, чувствует запах дыма, смешанный с вонью горелого человеческого мяса. Однажды, рассказывая о пожаре, старуха сказала: — В тот раз я не дала им запутать себя — и тогда они напустили женщин! Понизив голос, она продолжала: — Мне нужно было сгореть на погребальном костре, как в давние времена! Ее голос слабел, последние ее слова прозвучали как вздох: — И тогда мы, возможно, возродились бы снова, Асбьёрн и я, как Сигрун и Хельги… Гудрун часто говорила о Эльвире. Но Сигрид не понимала, почему она почти никогда не упоминает о Торе, говоря о ее сыне, словно сама Гудрун заменяла ему мать. Она вспоминала слова Эльвира, сказанные им во время их первого спора, и однажды любопытство взяло верх. Зная, что поступает недостойно, она не могла удержаться от того, чтобы не расспросить об этом старуху. Гудрун просияла — и такой Сигрид никогда ее прежде не видела. — Эльвир рассказывал тебе что-нибудь? — спросила она. Сигрид сказала, о чем они говорили с Эльвиром. Вид у старухи был сонный, и когда она начала говорить, голос ее звучал приглушенно, так что Сигрид пришлось наклониться к ней, чтобы расслышать все, тем более что рассказ прерывался приступами кашля. Но мысль ее была ясной. Казалось, она переживает наяву события прошлого. — Грьетгард, мой брат, был уже довольно стар, когда женился на Торе дочери Эльвира и привез ее в Эгга. Он годился ей в отцы, — сказала она. — Она же была несравненной красавицей, и он ни в чем ей не отказывал… Голос ее то набирал силу, то пропадал совсем; иногда слова ее напоминали эхо давным-давно сказанных ею слов. — Эльвиру было лет десять-двенадцать, когда это произошло. Его отец заключил перемирие со своим родственником Хаконом Сигурдссоном, ярлом Ладе, с которым до этого у него была кровная вражда. Грьетгард Грьетгардссон отправился с ярлом Ладе в Хьерунгавог, чтобы участвовать в битве с викингами из Йома. После сражения он отправился с ярлом Эриком на восток страны и пробыл у него некоторое время, после чего вернулся домой в Трондхейм. Вернувшись в Эгга, он застал Тору беременной. Но она не пожелала сказать, кто отец ребенка, и об этом рассказала ему Гудрун. Тот человек согласен был заплатить виру, но Грьетгард отказался. Вступив с ним в единоборство, Грьетгард убил его. А Тору он не прогнал, оставил жить в усадьбе. Когда же у нее родился ребенок, он отнес его в лес на съедение диким зверям. Когда у человека есть право выставлять за дверь собственных детей, нет ничего удивительного в том, что он избавляется от чужого. Он был жесток с Торой, часто бил ее, и однажды она слегла. С тех пор она не ходит. После этого она перестала заниматься Эльвиром, и заботу о нем взяла на себя Гудрун. — Тора способна ходить, если захочет! — неожиданно сказала Гудрун. Потом откинулась назад и закрыла глаза. Сигрид долго сидела и размышляла. Она слабо верила в то, что Тора способна ходить, но решила быть снисходительной к свекрови. Несколько дней спустя Гудрун сказала, что Эльвир воспитывался у нее — и глаза ее сверкнули, когда она говорила это. — Эльвир хороший мальчик, — сказала она. Сигрид нечего было ответить на это.
Выйдя на следующее утро во двор, она увидела, что жгут солому, и была очень рассержена, что ее никто не разбудил, чтобы попрощаться с умирающей. Но, узнав, что с ней Эльвир, она успокоилась. После смерти Гудрун Сигрид почувствовала пустоту — гораздо большую, чем ожидала. Ведь Сигрид лишилась человека, о котором не только заботилась, но с которым проводила большую часть времени. И вот теперь она оказалась с пустыми руками. Ее собственные переживания, отступившие на второй план во время болезни Гудрун, теперь навалились на нее с новой силой. Теперь она лучше знала жизнь. Она чувствовала внутри себя шевеленье ребенка Эльвира — слабое, словно трепыханье птенца, которого держишь в руке. Раньше она надеялась, что проникнется любовью к этой маленькой жизни, ощутив в себе ее присутствие. Но оказалось, что ее ненависть к ребенку стала еще сильнее, имея уже вполне определенную направленность. И она через силу следовала всем тем мудрым советам, которые давали ей другие женщины. Эльвира она теперь почти не видела. И когда он бывал дома, он спал на отдельной кровати.
Однажды она споткнулась об игрушку, оставленную на полу в поварне сыном Рагнхильд. Не удержавшись, она упала. Все бросились поднимать ее, но кроме пары синяков и царапин на руке, у нее не оказалось никаких повреждений. Но Тора так разозлилась, что потеряла над собой контроль. — Что ты ходишь тут и спотыкаешься на каждом шагу! — сказала она. — Могла бы смотреть под ноги! Уж лучше бы Кхадийя, его наложница, была в твоем положении, она бы уж смогла позаботиться о ребенке Эльвира! Сигрид почувствовала, как на лбу у нее выступил холодный пот. Она подумывала о том, есть ли у Эльвира наложница; но она никак не ожидала, что Тора скажет ей об этом в присутствии всех. И в голосе ее зазвучали опасные нотки, когда она ответила Торе, так что та сжалась вся на своей скамье. — Эльвир знает, на что идет, — сказала она. — Я же отвечаю за то, что отцом моего ребенка является мой муж! В поварне стало совершенно тихо; Сигрид слышала лишь кипение каши в котле над огнем. Она повернулась и вышла, не дожидаясь ответа Торы.
Через три дня после этого Эльвир вернулся в Эгга. Он сказал, что был в Огндалене. Весь вечер он сидел со своими людьми и пил, а Сигрид дожидалась его. И когда он пришел к ней в постель, настроение у него было неважное. — Я слышал, что ты всерьез повздорила с моей матерью, — сказал он. — Да, — ответила она, — и я думаю, что между мной и ею все кончено. Она рассказывала тебе, что она заявила мне? Он отложил в сторону пояс. — Ты хочешь уверить меня в том, что раньше об этом не знала? — Одно дело — предполагать, но совсем другое — когда тебе бросают это в лицо в присутствии большей половины домочадцев… Но, мне кажется, ты мог бы поберечь себя и не отправляться в дальние зимние походы, словно блудливый кот, на виду у всех. Над нами будут меньше смеяться, если ты привезешь свою наложницу в Эгга! Она почувствовала боль еще до того, как он ударил ее — а он ударил ее с такой силой, что отшвырнул к стене. Все поплыло у нее перед глазами; и когда полились слезы, она не знала, что является их причиной — боль, ярость или отчаяние. Она снова села на постель, а он стоял и смотрел на нее. — Во имя Фрейра… — начал он. — Фрейр здесь ни при чем! — оборвала она его. — Думаю, ты права, Сигрид, — нехотя произнес он. — Будет лучше, если Кхадийя вернется в Эгга.
Весна была поздней, приходилось очищать поля от снега, чтобы он поскорее таял. Часть скота пришлось зарезать, потому что было плохо с кормами. А те животные, которые перезимовали, были такими слабыми, что едва держались на ногах, когда их вывели в загон. Сигрид никогда не думала, что весна может быть такой отвратительной. Каждая лужица, каждый ручеек, пробивавшийся из-под снега, казались ей открывшейся раной. Древесные соки, возвращающие жизнь в мертвые ветки, казались ей оживающей болью. Сама же она казалась себе теплым, плодородным дыханием земли — она была сама этой землей, как Герд. Думая о той ночи, когда Эльвир рассказывал ей о Фрейре и Герд, она чувствовала в сердце нож, потому что теперь в душе ее был один лишь холод. И она поддерживала в себе этот холод, делавший ее твердой и жестокой. Ей казалось, что если ее сердце отогреется, если в него войдет весенний свет и тепло, она умрет. И все-таки весна пробудила в ней новую надежду. Надежду на то, что Турир приедет в Эгга. И она мечтала о том, как это будет. О том, что он возьмет ее на руки и понесет на свой корабль, а потом отправится с ней в Бьяркей. В другой раз она представляла себе, как он вызывает Эльвира на поединок и вынуждает его просить у нее прощения, но она гордо отказывает ему в милосердии. И тогда Кхадийя падает на колени и просит пощадить Эльвира — Кхадийя с волосами цвета воронова крыла… Кхадийя вернулась и стала жить в доме, как прежде. Она прожила здесь больше, чем Сигрид. Для Сигрид было слабым утешением то, что служанки всячески показывали свою привязанность к ней и презрение к Кхадийе. И Сигрид не понимала, что сама является предметом ненависти той, другой, женщины. Она ходила, тяжелая и неповоротливая, бледная и поникшая, — и Эльвир к ней не притрагивался. И Кхадийя не упускала случая, чтобы ранить ее. И даже плохо говоря по-норвежски, она умела, если ей было нужно, сказать так, чтобы ее поняли. И еще одного Сигрид не могла понять: причину отлучек Эльвира, которые были столь же продолжительными, как и прежде, когда он навещал свою наложницу. И Сигрид приходила в голову мысль, что, возможно, у него есть где-то третья…
Шел первый месяц лета. Прислонившись к телеге, Эльвир смотрел, как рабы чинят забор. До него донесся голос Кхадийи: на своем ломаном норвежском языке она пыталась объяснить что-то служанке, но та делала вид, что ничего не понимает. Но он и не думал придти ей на помощь… Ему уже стали надоедать и она сама, и ее нескладная речь. В который раз он уже собирался обдумать все и навести порядок в своих отношениях с женщинами. Вскоре он с двумя дружинниками отправился пешком со двора, взяв с собой собак. И только на следующий вечер, сидя в лесу у костра, он принялся всерьез обдумывать свои мысли. Кхадийя была его наложницей, когда он жил на Юге, в солнечной Кордове; он знал, что она считает себя его женой. И, согласно обычаям ее страны, она была права в этом, хотя сам он не считал их отношениях супружескими. Когда он сказал ей, что собирается жениться на Сигрид, ей это не понравилось, хотя она и приняла это безропотно; она привыкла к тому, что мужчины имели не одну жену. Но когда он удалил ее из Эгга, она была в ярости. Он не мог отрицать того, что с ней ему было очень хорошо, но она никогда не значила для него так много, чтобы он не искал себе другую. И когда он снова увидел ее на празднике зимнего дня, он был очень недоволен, что она пришла: это нарушало все приличия. Но — он бросил в костер еловую шишку — что остается делать мужчине, если девка сама лезет в его постель? К тому же он не давал слова этой девчонке Сигрид, что будет верен ей. Он не знал, как поведет себя Сигрид, и чувствовал себя полным ничтожеством; но ведь все это началось еще до того, как он стал двоеженцем. И, начиная с первого дня зимы, он чувствовал себя подлецом в ее присутствии. И он стал чаще наведываться в усадьбу в Огндалене, где жила Кхадийя. И Кхадийя давала ему понять, что хорошо представляет себе, как мало радости доставляет ему такая малолетка, как Сигрид. Но он не испытывал к ней прежних чувств, ему мешала мысль о Сигрид. Он злился из-за того, что чувствует привязанность к девчонке — и это он, никогда прежде не бывший зависимым от женщины! Однажды, будучи еще мальчишкой и чувствуя себя брошенным своей матерью (о чем он не любил вспоминать, даже став мужчиной), он пообещал самому себе, что никогда не доверится ни одной женщине. И, ощущая в себе стремление защитить эту девчонку и сделать для нее добро, он одновременно чувствовал к ней неприязнь, почти ненависть… На следующий вечер после праздника середины зимы он отправился в Огндален, чтобы сказать Кхадийе, что между ними все кончено. И сказал ей, что отошлет ее с богатыми подарками на родину. Но она оказалась настолько расстроенной, что окончание их встречи было вовсе не таким, как он ожидал. В тот раз он заметил по ее поведению, что она понимает невозможность их прежних отношений. И когда она вернулась в Эгга и увидела Сигрид, она была вне себя. Что, кстати, сказала Сигрид о его посещениях Огндалена? Что это «дальние зимние походы блудливого кота на виду у всех»! Теперь он посмеялся бы, услышав такое; но тогда это его страшно разозлило. Девчонка была остра на язык — живя в браке с ней, вряд ли можно было соскучиться. И теперь дело зашло так далеко, что к следующему полнолунию у нее должен родиться его ребенок. Бедняжка, она ведь сама еще ребенок… И он вспомнил, какой радостной была Сигрид в Бьяркее… Мысли его перепутались, ему стало страшно, что он так долго колебался и что теперь уже поздно возвращаться к ней… Он посмотрел на спящих парней. Да, они спали, потому что завтра рано утром им предстояло ехать домой, где их ожидала совсем другая жизнь. А Кхадийю нужно гнать со двора, даже если ему придется нести ее связанной на корабль!
В сумерках, когда Эльвир шел через лес со своими парнями, в Эгга пришел какой-то корабль. Узнав об этом, Сигрид заторопилась из дому, насколько позволяло ее положение, надеясь, что, может быть, может быть, это корабль Турира. Из-за домов она не видела, что это за корабль, поэтому решила спуститься к фьорду по крутому склону холма. Подойдя поближе, она увидела, что это не бьяркейский корабль. Настроение у нее сразу упало. Но она все же продолжала спускаться вниз, ведь на корабле мог быть кто-то, привезший известие с севера. Она знала, что не подобает ей ходить одной к морю, тем более — в ее положении. Но ее это не тревожило, и она продолжала спускаться вниз. Мужчины уставились на нее, когда она подошла к кораблю: Гутторм и еще несколько парней из Эгга. Судя по выражению их лиц, они были не в восторге от ее появления. — Есть здесь кто-нибудь, кто привез известие из Бьяркея от моего брата, Турира Собаки? — крикнула она находящимся на борту людям. Те быстро переговорили между собой, и она узнала, что корабль пришел из Тьетты и что хозяин корабля — Хорек Эйвиндссон. Один из парней показался ей знакомым: она вспомнила, что видела его в Трондарнесе на жертвоприношении. — Ранней весной Турир Собака отправился в поход, — сказал он, — он грузился на корабль, когда я отправлялся из Хинна. — Спасибо, — сказала Сигрид. Она не знала, долго ли стояла у причала, глядя на воду. Она слышала, как люди сходят с корабля, как поднимаются в усадьбу; слышала визги и крики, доносящиеся из Стейнкьера, где толпа молодых парней грузилась на корабль, чтобы покататься по морю светлой летней ночью… Турир не приехал. Турир отправился в поход. Снова и снова в ее голове вертелось одно лишь слово: Турир, Турир… Она чувствовала, как шевелится в ней ребенок Эльвира, чувствовала, что он крупный и тяжелый. О, как она ненавидела это существо, жившее в ней, этого ребенка, которому вскоре предстояло родиться на свет и которого будут называть «сын Эльвира». Нет! Она не хотела давать Эльвиру сына. Она поняла, что он имел дело с ней только потому, что та черноглазая девка не была способна родить ему ребенка. Стоя так, возле воды, она почувствовала головокружение — а что, если она упадет?.. Там, на дне, темно и холодно, зато так спокойно… О, нет, с дрожью подумала она, вспоминая страшную Хель, половина лица которой была мертвой и темной, ту, что принимала мертвецов, прибывающих в Хельхейм… Но вода манила ее своей волнующейся поверхностью, разбивающей на куски отражение ее лица. Что, если она никогда больше не поднимется к дому… никогда больше не увидит искаженное ненавистью лицо Торы, не увидит Кхадийю… не будет переживать в одиночестве пустые, никчемные дни… не будет… она вспомнила крики Рагнхильд той ночью, на кухне… Она подалась вперед и, почувствовав, как вода смыкается у нее над головой, больше уже не думала о том, оступилась ли она или спрыгнула в воду. — Нет! Нет! Нет! Она вырывалась, словно росомаха из капкана, царапалась, кусалась, била. И уже будучи вытащенной на берег, она увидела, что это Гутторм, насквозь промокший, железной хваткой вцепился в ее руку. — Никогда не думал, что настанет день, когда у меня появится желание убить Эльвира Грьетгардссона, — сквозь зубы процедил он. — Я думала, что ты ушел вместе со всеми… — равнодушно произнесла Сигрид. — Неужели я мог бы спокойно уйти, оставив тебя одну на берегу в твоем положении? — Гутторм, мне кажется… Он посмотрел на нее. — Ребенок? — спросил он. Она кивнула. Он поднял ее и понес, словно пушинку, обратно в Эгга.
В этот светлый летний вечер во дворе толпилось много народу. Парни стояли, прислонившись к стене амбара, на скамейках сидели девушки и несколько мальчишек. Все замерли, как зачарованные, увидев входящего во двор Гутторма с Сигрид на руках. — Она свалилась в воду, — коротко пояснил он, обращаясь ко всем и ни к кому, и понес ее дальше, к старому зданию. Рагнхильд и Гюда помогли ей снять мокрую одежду. И Сигрид позволяла им делать с собой все, что угодно: она была не в себе. Гутторм ничего не сказал женщинам — ни о том, как она оказалась в воде, ни о том, что у нее начинаются схватки. Но Рагнхильд, раздевавшая Сигрид, поняла, что с ней происходит. — Сигрид, почему ты ничего не сказала? — испуганно спросила она. Ничего не ответив, Сигрид легла в постель. Послали за женщинами, обещавшими придти на роды, среди которых была Холмфрид, дочь короля. Она сама сказала, что будет рада помочь Сигрид. Сигрид перенесли в зал, где было удобнее, и к этому времени все уже пришли. Ломота в пояснице становилась все сильнее, промежутки между приступами сокращались. Она не думала о том, где находится, она чувствовала, что все в ней умерло, и только эти схватки, неотступно следующие одна за другой, возвращали ее к жизни, которой она не желала. Она видела фру Холмфрид и Рагнхильд и Гюду; их лица то приближались к ней, то удалялись от нее, словно в тумане. Фру Холмфрид склонилась над ней, лицо ее было нежным и прекрасным. — Да поможет тебе святая Богоматерь, дитя мое, — сказала она. Кто-то сказал Сигрид, что если она встанет и походит, дело пойдет быстрее. Но она качала головой, продолжая лежать. Принесли Тору, пожелавшую присутствовать при появлении на свет ребенка Эльвира — и она теперь восседала на скамье возле стены. Кто-то, как показалось Сигрид, Рагнхильд, дал ей снотворное. Она не знала, сколько времени прошло, сколько она спала и бодрствовала во время схваток. Она чувствовала только, что приступы становились сильнее, и наконец что-то лопнуло в ней, полилась жидкость. «Сын Эльвира», — думала она в то время, как все мускулы ее напрягались от боли. Груз, который она против своей воли носила в себе, ребенок, которого она не желала, теперь готов был придти в мир. И она ничем не могла воспрепятствовать этому! Ей оставалось только пройти через все это, посылая проклятия Норнам, которые пряли и пряли нить ее судьбы, отказываясь оборвать ее даже тогда, когда ледяная вода сомкнулась над ее головой. Гюда наклонилась к ней. — Кричи, Сигрид! — сказала она. — Это помогает! Но из далекого прошлого ей слышался другой голос, голос Сигурда: «Дочери хёвдинга не плачут, Сигрид!» И она крепко сжала зубы. Но при следующем приступе на нее накатил страх — страх перед тем, что ее ожидает. И она поддалась этому страху и отчаянию. И тут взгляд ее упал на жесткое, белое лицо Торы. И она собрала все свое упрямство и гордость. Никогда, никогда она не доставит этой женщине радость видеть ее сдавшейся, плачущей! Когда начался следующий приступ, она откинулась на подушке и, не шевелясь, закрыла глаза. И ей показалось, что боль стихает. И потом, когда схватки последовали одна за другой, в ней проснулось новое, дикое ощущение радости от сознания того, что она смогла обуздать боль. Она могла разрываться изнутри на части, но все-таки в ней было что-то непобедимое. — Кричи! — услышала она над своим ухом, и это был голос Холмфрид. — Кричи, ради Бога! Она ничего не ответила. Но когда наступили потуги и она почувствовала, что содрогается от внутренних сил, действие которых было ей неподвластно, на нее снова накатил страх; ей казалось, что она попала в железные тиски. Но все-таки она боролась, пуская в ход последние остатки воли. И посреди боли и бессилия она черпала силы в самой себе — силы, которые невозможно было уничтожить, которые не подчинялись процессам в ее теле. Они хотели, чтобы она оперлась на локти и на колени, но она отказалась; потом ей дали какое-то питье, и по вкусу она определила, что это отвар «плавающих камешков». Она слышала, как вокруг нее бормотали молитвы. Среди голосов, обращавшихся к Норнам, выделялся голос фру Холмфрид, называвший неизвестное ей имя. Теперь приступы шли почти непрерывно. Она знала, она чувствовала, что вот сейчас родится ее ребенок. Женщины стояли наготове. Приподняв голову, Сигрид снова увидела Тору; Тора встала со своего места, чтобы лучше видеть! И взгляды их на миг встретились. «Гудрун была права!» — пронеслась в голове Сигрид мысль. Но тут раздался крик — жалобный, сердитый крик новорожденного. Ребенка протерли пивом, прежде чем положить к ней на руки. Сигрид улыбнулась, увидев маленькое, сморщенное, сердитое личико. И это беспомощное существо она так ненавидела! Этого крошечного, краснолицего мальчика, похожего на головастика, с большой головой и поджатыми ножками! Она снова улыбнулась ему и осторожно поднесла к груди. И почувствовала, что переполняется нежностью и любовью к этому существу. И дело не менялось оттого, что маленькое личико ужасно напоминало лицо Эльвира… Они взяли у нее ребенка и понесли показать Торе. Та долго смотрела на него, не говоря ни слова. Сигрид снова хотелось взять мальчика, но его унесли. Она слышала, как возившиеся с ним женщины бормотали молитвы и заклинания, чтобы оградить его от колдовских чар и прочих несчастий. Гюда и другие женщины стали приводить ее в порядок. Она чувствовала себя смертельно усталой. — Какое сейчас время дня? — спросила она. — Сейчас вечер, — ответили ей. Она уже засыпала, когда ее перенесли в спальню. Она дважды просыпалась ночью — и мальчик был рядом с ней. И когда он заплакал, в доме зажгли лампу, и она увидела, что возле нее сидят.
Утром она проснулась с ощущением радости и мира. Она знала, что долго это не продлится, но старалась удержать это чувство, не думать о плохом. Подобное чувство просветленности она испытывала однажды в лесу: ей хотелосьостаться там, не уходить как можно дольше… Пришли соседки с кашей для роженицы и кашей для Норн. Пришла также фру Холмфрид — она ласково улыбалась, говоря, что каша, которую принесла она, предназначена святой деве Марии. Среди дня принесли Тору вместе с ее стулом, и она сделала знак служанкам, чтобы те ушли. Они долго смотрели друг на друга, Тора и Сигрид, не говоря ни слова. Первая заговорила Сигрид, сама удивляясь своим словам. — Прости меня, свекровь, — сказала она, — за то, что я однажды сказала тебе жестокие слова. Я сожалею об этом. Тора уставилась на нее. — Ты больше ничего не хочешь мне сказать? — спросила она. — Нет, — медленно произнесла Сигрид, — о другом говорить не стоит. Она решила, что мало выиграет от того, что станет насмехаться над Торой. И тогда Тора сняла с цепочки ключи и положила их на постель Сигрид. Некоторое время Сигрид молча смотрела на эти ключи. Ключи были большие и маленькие, украшенные орнаментом и простые. Наконец она взглянула на свекровь. — Тебе не нужно подкупать меня, чтобы я молчала о том, что увидела вчера, — сказала она. — Я и раньше знала об этом, Гудрун рассказала мне все перед смертью. — Гудрун слишком много болтала, — ответила Тора. — Не рассказывала ли она тебе о том, как просила Грьетгарда, моего мужа, чтобы он сделал ее ключницей в Эгга? — Нет, — вынуждена была признаться Сигрид. — Целых шесть лет, — с горечью произнесла Тора, — я жила здесь на положении служанки. И только Эльвир покончил с этой несправедливостью после смерти отца. Тогда он был уже достаточно взрослый, кое-что повидал и многое понимал. Не знаю, помогала ли ему когда-нибудь Гудрун… — Да, помогала, — ответила Сигрид. Мальчик проснулся, и Сигрид взяла его. На миг она прижала его личико к своей щеке, потом положила на сгиб локтя, перебирая крошечные розовые пальчики. Тора приподнялась на стуле и наклонилась над мальчиком. Он схватил ее за палец — и впервые Сигрид увидела ее улыбающейся. Взяв с кровати связку ключей, Тора поднесла ее к его ручонке — и ребенок тут же ухватился за кольцо, как это делают все новорожденные. — Все это твое, — сказала она. — Отныне ты будешь хозяином. Но ты позволишь маме пользоваться этим ради твоей же пользы. И, обращаясь к Сигрид, она произнесла, как всегда, сурово: — Последнее время дворовые люди больше слушаются тебя, чем меня, я это заметила. И ты держишься с подобающим хозяйке достоинством! Она крикнула, вошли двое рабов и унесли ее. Большинство домочадцев пришли в течение дня поздравить Сигрид. Но Кхадийя не пришла, и она была рада этому.
К вечеру с кухни услышали лай собак Эльвира. Гутторм встал и вышел во двор. Он хотел переговорить с Эльвиром с глазу на глаз до того, как тот встретится с остальными. У Эльвира был радостный вид, когда он шел через двор навстречу Гутторму. — Проезжая через усадьбу Хеггвин, я узнал, что у меня родился сын, — сказал он. — Да, — ответил Гутторм без всякой улыбки. — Но я должен кое о чем поговорить с тобой наедине. Они вместе вошли в большой зал, где не было ни души. По старой привычке Эльвир сел на почетное сидение у стены, а Гутторм сел на скамью рядом с ним. Они были одногодками и выросли вместе. — Ну? — сказал Эльвир, по-прежнему улыбаясь. — Что у тебя за серьезное дело? — Еще немного, и ты лишился бы сына, — ответил тот. — Сигрид пыталась утопиться в тот день, когда родился мальчик. Эльвир побледнел. — На что ты, собственно, рассчитывал? — жестко произнес Гутторм и добавил: — Я не единственный в доме, кто сочувствовал девушке всю эту зиму. — Кто же остановил ее? — Я был в это время на берегу, — сказал Гутторм. — Она царапалась и кусалась не хуже кошки, когда я вытаскивал ее из воды. Эльвир постоянно носил на руке широкую золотую цепочку. Он получил ее в подарок от ярла Эрика после битвы при Сволдре, и эту цепочку носил один из воинов, павших на борту «Длинного Змея». И вот теперь он снял ее и протянул Гутторму. Взяв цепочку, Гутторм рассмотрел ее, но потом отдал обратно. Эльвир вздрогнул, но все же взял цепочку и снова надел ее на руку. Глотнув слюну, он тихо произнес: — Ты не очень-то пытаешься скрыть свое отношение ко мне! Гутторм не ответил, и Эльвир продолжал уже громче: — Если бы я был таким, как ты обо мне думаешь, я бы сказал, что это дело лучше решить с помощью меча! И если я воспринимаю это оскорбление, не хватаясь за меч, то лишь потому, что сам понимаю, как дурно поступил! Глаза его сузились, в голосе зазвучала приглушенная угроза. — Что заставляет тебя с такой силой чувствовать несправедливость по отношению к Сигрид, если ты даже подбиваешь меня на поединок, Гутторм? И почему ты оказался на берегу, когда она бросилась в воду? Гутторм вскипел, рука его потянулась к мечу, но он обуздал себя. — Ты забываешь, Эльвир, — сказал он, — что мы с тобой, будучи еще не в состоянии поднять меч, смешали в земле нашу кровь! И разве я когда-нибудь нарушал ту клятву, которую мы дали друг другу? И я клянусь той кровью, что сделала нас братьями, что если я и люблю эту девушку, то люблю по-братски. Ты же сам знаешь, что она сделала для Рагнхильд. Эльвир протянул ему руку. Гутторм взял ее, они обменялись рукопожатием. Потом Гутторм сказал: — Сигрид родила твоего сына без единого крика, Эльвир. Все женщины были в ужасе. Эльвир взглянул на него, но ничего на это не сказал. Но потом произнес: — Я решил отправить Кхадийю туда, откуда она прибыла, — и сухо добавил: — Для тебя, Гутторм, такого осмотрительного и мудрого, возможно, будет подходящим делом переправить ее на корабль? У Гутторма был такой вид, будто он не верил собственным ушам. — Ты хочешь сказать, что намереваешься использовать корабль и команду, чтобы отправить эту бабу восвояси? Ты же сам говорил, что никогда не просил ее ехать с тобой на Север… — Хорошо, что в доме есть человек, который не боится говорить то, что думает! — засмеялся Эльвир. — Я был тогда слишком юным и не понимал, что делаю, смешивая свою кровь с твоей! Но раз уж ты знаешь, чего мне не следует делать, возможно, ты предложишь мне что-нибудь получше? Гутторм почесал в затылке. — А не захочет ли кто-нибудь жениться на ней? — спросил он. — Жениться на южанке, которая была моей наложницей и не может иметь детей? — А как насчет бонда из Саурсхауга? В позапрошлом году на йоль он вился вокруг нее. У него взрослые сыновья, и он будет рад, что на старости лет ему не придется возиться с грудными младенцами. — Это мысль, — сказал Эльвир. — Ведь этой зимой она заявила, что скорее умрет, чем вернется домой отвергнутой… Да, эту мысль следует обдумать. Ну, а теперь самое время взглянуть на сына. Вставая, Эльвир сказал: — Ты все еще отказываешься взять мою цепочку, Гутторм? На этот раз цепочка поменяла хозяина. Весь дворовый люд созвали в большой зал, куда должны были принести сына Эльвира. По старинному обычаю он должен был заявить, что признает сына своим и желает сохранить его. Отдавая служанкам ключи от кладовой и сундуков, Сигрид поняла, что Эльвир вернулся домой. Наконец пришли за мальчиком. Это была Рагнхильд и одна из девушек, а за дверью слышались голоса двух дружинников Эльвира. После того, как ребенка унесли, в комнате стало пусто и тоскливо. Возраст его измерялся одними сутками, тем не менее он был теперь важнейшей частью ее жизни. И теперь Эльвир предъявит свои права на сына. Эльвир, который даже не обмолвился словом о ребенке, когда она вынашивала его, теперь готов был на все ради своего сына. Она подумала о Торе: у нее забрали рожденное ею крошечное существо, вырвали из ее рук навсегда. Ее же судьба была к ней благосклонна: она была уверена, что Эльвир признает ребенка и даст ему свое имя, и ей принесут ребенка обратно. Вошел Фенрир и сел возле постели, чтобы его погладили. Потом прыгнул на кровать и улегся в ногах Сигрид. Ей было приятно ощущать тепло живого существа. Собака часто лежала так, когда Сигрид чувствовала себя особенно одиноко. Она повернулась лицом к стене, в одно из бревен которой был всажен большой нож Гутторма. Она не помнила, когда воткнули этот нож, он уже торчал здесь, когда она проснулась. И, глядя на него, она испытывала чувство защищенности, зная, что этот нож прогоняет злых духов. И она заснула.
* * *
Зал был освещен факелами, на стены были повешены ковры. Эльвир сидел на возвышении. На нем был плащ с золотой каймой, который он надевал на свадьбу; рукоять меча и ножны были украшены золотом и драгоценными камнями, сверкающими в свете факелов. Мальчика развернули и внесли обнаженного на щите. Он отчаянно вопил, когда они остановились с ним перед Эльвиром. Эльвиру пришлось сдерживать себя, чтобы не выказывать неподобающей случаю горячности. Он спросил, как прошли роды, есть ли какие-то опасения или тревоги. И вот, наконец, настал момент, когда ему больше уже не требовалось сдерживать себя. Он кивнул, и одна из служанок подняла мальчика со щита и передала его на руки Эльвиру. Он взял крошечное существо с болтающейся, словно на сломанном стебельке, головкой. — Подложи ему руку под голову, — шепнул ему Гутторм, сам прошедший через это. Эльвир никогда раньше не считал, что у него слишком большие руки, но теперь они казались ему просто кувалдами, со всей их неуклюжестью. И он осторожно подложил под голову младенца свою заскорузлую, привыкшую держать оружие правую руку. Ему казалось, что он может раздавить малыша, неловко взяв его. Почувствовав тепло тела, мальчик перестал плакать и принялся вертеть головой, ища ртом сосок. Женщины улыбались, но Эльвир этого не замечал. Он сидел, как зачарованный, и смотрел на маленькое существо, которое было его сыном. Принесли миску с водой, и Эльвир обрызгал ею мальчика, давая ему имя. — Его будут звать Грьетгард, в честь моего отца, — сказал он. И в качестве подарка он приготовил для него андалузский меч, который сам выковал на Юге по образцу мечей викингов. Церемония закончилась; Рагнхильд взяла у Эльвира мальчика, чтобы отнести его к Сигрид. И тогда Эльвир сделал то, что нарушало все традиции и обычаи, так что все присутствующие ахнули: он встал и вышел из зала вместе с Рагнхильд. И когда они шли по двору, он снял с себя плащ и передал его Рагнхильд, чтобы она прикрыла им маленькое, нагое тельце. Сигрид еще спала, когда они вошли к ней. И когда Рагнхильд положила на кровать мальчика, завернутого в плащ Эльвира, она проснулась. Сначала она увидела плащ. Она узнала его и взглянула на мужа, стоящего возле постели. Никогда он не казался ей таким мужественным и прекрасным, как теперь. Он стоял и серьезно смотрел на нее, и в его глазах был тот же теплый блеск, который она уже начала забывать. И она с удивлением заметила, что та сила, которую она ощущала в себе при родах, сила, не позволившая ей поддаться страху, боли и отчаянию, теперь была словно щит, ограждающий ее от него. Она больше не была беспомощно привязана к нему, как ребенок, соединенный с матерью пуповиной, — она была свободна. Он мог относиться к ней с любовью, мог брать ее силой. Но волю ее он не мог поколебать, не мог подчинить себе. И если он когда-нибудь и будет владеть ею целиком, то это произойдет лишь потому, что она отдастся ему по своей воле. Рагнхильд одела мальчика и положила в постель, ребенок всхлипывал. И едва она вышла за дверь, как Эльвир наклонился к Сигрид и прижался щекой к ее шее. — Моя Сигрид! — Да, Эльвир. Ее холодность остановила его. И когда взгляды их встретились, он прочел по ее глазам, что произошло. И в этих глазах, в которых отражалось упрямство и ярость, ребяческая радость и доверчивость, пробудившаяся страсть и бездонная тоска, теперь таилась какая-то отчужденность, говорившая, что он пришел слишком поздно. Она больше не была ребенком, принадлежащим ему без остатка, стоило ему только протянуть к ней руку; ребенком, которого можно было подкупить красивыми словами. Никакие слова любви, никакая мольба о прощении не могли вернуть тепло в эти глаза. Чтобы завоевать ее, уже недостаточно было слов и ласок. В лесу, у походного костра, он думал о том, чтобы вернуться к ней; и так было бы лучше для ребенка, который вырастет под его присмотром. Но теперь он понял, что ничто уже не сделает ее прежней: перед ним был не безвольный ребенок, а взрослая женщина. А если ему не удастся завоевать ее? Что, если он предложит все, что может, но этого будет недостаточно? Уткнувшись лицом в ее плечо, он представлял себе, как ей было трудно; она отдала ему все, что имела, с открытым сердцем, а он изменил ей и оттолкнул от себя. Мальчик расплакался. Подняв голову, Эльвир посмотрел на сердитое, маленькое существо. Ребенок еще не понимал, насколько он беспомощен. И когда Сигрид взяла мальчика и приложила его к груди, Эльвир сел на край постели и принялся смотреть на них. — Тебе нужно вернуться в зал, — сказала она, видя, что он не собирается вставать. — Все уже, наверное, спрашивают, где ты. — Мне наплевать, о чем они там спрашивают, — ответил он. — Ты должен, по крайней мере, сообщить им, где ты, — сказала она, — что ты хочешь побыть здесь, чтобы они не сидели с поднятыми чашами в ожидании тебя. Он встал и вышел, но вскоре вернулся и прилег рядом. Он собирался рассказать ей о самом себе, но не решился. Он думал о том, почему ему это так трудно сделать, и пришел к выводу, что никогда не испытывал желания поделиться своими мыслями с женщиной. Сигрид лежала, лаская ребенка и разговаривая с ним. Это было такое чудесное, мирное зрелище. Потом, повернувшись к Эльвиру, она сказала: — Может быть, ты все-таки скажешь мне, как ты назвал мальчика? И до него постепенно дошло, что ему еще предстоит научиться быть открытым и общительным.
ЭЛЬВИР
По краю льняного поля белели ромашки, а голубые цветки льна сияли на фоне мелких зеленых листочков. Сигрид сидела на придорожном камне. Она улизнула из дома, от своих обязанностей и ответственности ключницы. Эти ключи оказались куда тяжелее, чем она раньше предполагала. Нелегко было заботиться о таком хозяйстве, как Эгга. Пока она лежала в постели, она не замечала этого. Но стоило ей встать на ноги, как она поняла, сколько у нее дел — за все это время Тора ни к чему не притронулась. Помимо всех прочих забот оставался еще прошлогодний лен, который нужно было чесать; к тому же она обнаружила, что некоторые шерстяные вещи в кладовой поела моль. Она то и дело ходила к Торе за советом. Сначала выражение ее лица ясно говорило: видишь, все не так просто, как ты думала. И поскольку Сигрид больше не к кому было обратиться, ей приходилось подавлять свою гордость и в следующий раз опять приходить к ней, когда она в чем-то сомневалась. И в конце концов Тора стала терпимее. С рождением мальчика между ней и миром образовалась стена; ощущение покоя и счастья создавало вокруг нее замкнутый мирок. И ничто плохое не могло проникнуть в ее мир, и даже свои собственные тревожные мысли она гнала прочь. Хуже всего было то, что у нее не хватало молока для ребенка. А ведь это было для нее таким счастьем — приложить ребенка к груди. Сначала она не хотела признаваться себе в том, что ребенку не хватает еды. И даже при хорошем уходе за ней, с учетом самой лучшей и полноценной пищи, а также жертвоприношений Фригг, молока у нее все равно было мало. И в конце концов ей пришлось прекратить кормление. Но мир, который она ощущала в себе, был настолько прочен, что ей удалось прогнать эту печаль. Она взяла на себя значительную часть забот о мальчике, так что у нее почти не оставалось свободного времени, и она радовалась, играя и разговаривая с ним, чувствуя тепло маленького тельца, которое она прижимала к себе. После родов все женщины говорили, что она слишком тонкая и хрупкая, чтобы иметь достаточно молока. Однако тонкой и хрупкой она долго не оставалась, во всяком случае, она не ощущала себя такой. И она поправилась за какие-то несколько недель! — Ты гибкая, как лоза, — сказал ей как-то Гутторм. — И ты цветешь, как дикая роза! Ей показались слишком смелыми эти слова в устах того, кто, вопреки всему, был в услужении у Эльвира. Она стала расспрашивать во дворе о причинах такого независимого поведения Гутторма и наконец узнала от Рагнхильд, что они с Эльвиром кровные братья. Сигрид смотрела, как петляет по долине река, скрываясь за холмами. Ее удивляло то, что кривая линия кажется такой привлекательной, кажется более красивой, чем прямая. И ее рассмешила мысль о том, как выглядела бы местность, если бы в ней были лишь прямые линии и острые углы. Выходя со двора, она каждый раз обнаруживала, что видит все в новом свете. Она опять научилась смеяться, чувствовать солнечное тепло, видеть краски леса и полей, сияние и блеск фьорда. Она видела над собой ясное голубое небо, и ей казалось, что цветы улыбаются ей. Она сорвала ромашку на обочине дороги; золотисто-белые цветы сверкали на солнце. Она смотрела, как бабочки перелетают с цветка на цветок, слушала, как радостно гудят шмели и пчелы. И она вспомнила о том, как все вокруг было окрашено в цвета ее тоски, когда ей было плохо; тогда ей казалось, что леса и поля плачут вместе с ней. И ей стало любопытно, не будет ли все казаться ей унылым теперь, если у нее испортится настроение. В тот раз она была словно заколдована; она вдруг подумала, что это тролли досаждали ей, это они сбили ее с толку, заставив увидеть все в искаженном свете… Она огляделась по сторонам. Там, в курганах, жили призраки, она это знала; под землей, в лесу, в горах обитали злые духи и тролли, в ветвях деревьев и в ручьях жили божества. Ей вдруг стало страшно; ее рука потянулась к маленькому молоточку, полученному от Хильд. И она с облегчением вздохнула, удостоверившись, что он по-прежнему висит на тонком ремешке у нее на шее. Мысль о божествах успокоила ее; они несли в себе силы добра. И она вспомнила те удивительные слова о божествах, которые Эльвир сказал в их свадебную ночь в Бьяркее. Какой юной она была в ту ночь, позволив увести себя, как овечку, растаяв, как масло на солнце, услышав его болтовню о Фрейре и Герд. Ей было неприятно думать об этом, и она гнала эти мысли прочь… Но в тот раз Эльвир говорил, что божества и те силы, которыми они обладают, это одно и то же. Фрейр — это плодородие, говорил он, Герд — это семя в земле, а Скирнир — свет и тепло. Она спросит его об этом, когда он вернется с тинга из Фросты. После рождения мальчика он стал куда более словоохотлив. Одно время она думала, что причиной этому было исчезновение Кхадийи. Но потом она поняла, что он изменился после того дня, когда мальчику было дано имя. Исчезновение же Кхадийи принесло ему облегчение, хотя его и преследовала мысль о том, что он отделался от нее слишком легко, позорно улизнув от расплаты. Это произошло, когда Сигрид еще лежала в постели, — и она узнала об этом от Рагнхильд. И она не собиралась ни в чем обвинять эту женщину, находившуюся вдали от родины и от близких. Но, как сказала Рагнхильд, никто не просил ее приезжать сюда. Эльвир решил выдать Кхадийю замуж и сам поехал в Саурсхауг, чтобы переговорить о деле. Но когда он привез весть о том, что старик из Саурсхауга более чем согласен, Кхадийя была вне себя от ярости; она так бранила Эльвира на своем языке, что слышно было во всех концах двора. Один из дружинников, который был вместе с Эльвиром в Кордове, сказал: хорошо, что женщины не понимают, что она говорит в его адрес. На следующий день она пропала. Она улизнула куда-то среди ночи, и Эльвиру пришлось пообещать старику из Саурсхауга, что отыщет ее. Они принялись искать ее. Но до них дошли слухи о том, что она подалась в Свейю вместе с одним из дружинников Эльвира из Огндалена. Так что она вовсе не была так одинока и несчастна, как пыталась это изобразить, в те холодные зимние ночи, когда поблизости не было Эльвира. — И ради этой девки Эльвир хотел снарядить корабль, чтобы отправить ее на Юг! — с возмущением сказала под конец Рагнхильд. За этими словами Сигрид слышался голос Гутторма — и она с трудом удерживалась от улыбки. Она любила Рагнхильд и не хотела ее обижать. Но ее забавляло эхо речей Гутторма, звучавшее в словах Рагнхильд. И время от времени ей начинало казаться, что в устах Гутторма эти слова не возымели бы на нее такого действия… Но, как бы там ни было, Кхадийя исчезла. И Сигрид подумала, что ей следует принести благодарственную жертву богам. Она запрокинула голову, чтобы посмотреть, высоко ли солнце на небе, не пора ли возвращаться домой. Работники не очень-то любили задерживаться до вечера. Держа в руке сорванную ромашку, она принялась, по старой привычке, обрывать, один за другим, лепестки, приговаривая: — Любит, не любит, любит… Но, не дойдя еще до последнего лепестка, она со смехом бросила цветок.Эльвир вернулся с тинга поздно вечером, когда Сигрид уже легла спать. Она не чувствовала себя одинокой рядом с ребенком. Но теперь мальчика забирала на ночь Рагнхильд, став его кормилицей, и Сигрид утешалась присутствием Фенрира. Он прыгал на постель и ложился в ногах, как всегда. Она еще не спала, когда услышала доносящиеся снизу голоса Эльвира и его парней. Судя по их громкости, они хорошо утолили жажду на борту корабля, переправляясь через фьорд. Эльвир был в весьма приподнятом настроении. Старая пограничная тяжба с соседями была решена в его пользу. Он сразу спросил о сыне и обрадовался, что все в порядке. — Он подрастает с каждым днем и становится таким крикуном, — сказала Сигрид. — Рагнхильд и Тора говорят, что уже видели, как он улыбается. Я же считаю, что он просто кривит рот от обжорства. Эльвир засмеялся. — Тебе очень его не хватает, когда Рагнхильд уносит его? — спросил он. — Сам знаешь, — озабоченно ответила она. — Тебе не нужно убиваться из-за этого, — сказал Эльвир. — Не твоя вина в том, что ты была в таком подавленном настроении, рожая его. Сигрид удивленно взглянула на него. Она предполагала, что он будет подлизываться к ней, обхаживать ее, словно кот горячую кашу. Но такого ответа она от него не ожидала. Эльвир сел на постель и начал рассказывать о тинге. Таким она никогда не видела его — болтающим обо всем подряд, по-мальчишески юным. Несмотря на то, что он рассказывал о людях, которых она не знала, и о делах, в которых не разбиралась, она была захвачена его точным описанием людей и событий. И когда он описывал процессию, направляющуюся к месту суда, со старейшинами и знатными людьми во главе, среди которых два старика из Бернеса и Ленсвика толкали друг друга локтями, желая быть первыми, она смеялась так, что слезы выступили у нее на глазах. Это потревожило Фенрира. Он спрыгнул с постели, встряхнулся, отошел в сторону и свернулся на полу калачиком. — Ты кладешь к себе в постель пса? — спросил Эльвир, удивленно поднимая брови. — А разве ты раньше этого не замечал? — в свою очередь удивилась Сигрид. — Ему придется найти себе другое место, когда я снова стану приходить к тебе, — сказал Эльвир. Сигрид не ответила. Впервые до нее дошло, что Эльвир намерен возобновить с ней отношения, когда она узнала об исчезновении Кхадийи. Но тогда она даже не допускала мысли об этом. Эльвир обидел ее, и ей казалось, что она никогда больше не отдастся ему с полным доверием. И мысль о том, что это может происходить как-то иначе, была ей противна. Но он был ее мужем, он имел на это право. Да и с момента родов прошло уже достаточно времени… Видя, что она медлит с ответом, он стал серьезным. — Я не намерен принуждать тебя, — сказал он. — Почему же? Ведь ты имеешь на это право. — То, чего я добьюсь с помощью принуждения, я могу без всяких трудов получить от своих любовниц. — Ты все еще спишь со своими любовницами? Он укоризненно посмотрел на нее. — К твоему сведению, я давно уже понял, что ради того, чтобы добиться чего-то силой, не стоит снимать штаны! Сигрид прерывисто вздохнула. Только теперь до нее дошло, почему он сегодня такой разговорчивый и любезный, — и на нее накатила волна гнева. — Ты говоришь, как пьяный мужик! — сказала она. — Но хорошо, что ты, по крайней мере, честно признался, зачем говорил мне все эти красивые слова, когда мы только что поженились! — Возможно, я и пьян… — медленно произнес Эльвир и, подумав, добавил: — Твой брат Турир хорошо умеет держать язык за зубами, когда ты рядом! Ты и понятия не имеешь о том, как мы ведем себя в походах! — Почему же, я знаю… — начала было Сигрид и остановилась. Она слышала лишь рассказы о лучезарных победах и мужестве героев, о сражениях и богатой добыче. А Турир, в самом деле, умел держать язык за зубами; она припоминала случаи, когда он просил дружинников помалкивать. — Если ты нуждаешься в искренности, — твердым голосом произнес вдруг Эльвир, — ты можешь, пользуясь случаем, узнать, что за человек твой муж. И он начал рассказывать. И Сигрид побледнела, когда он рассказал ей о предательствах и убийствах, в том числе об убийствах женщин и грудных младенцев на руках у матерей, о маленьких детях, используемых в качестве мишени для метания копья; о женщинах, которых насиловали, в то время как их мужей пытали до смерти; о разрушении монастырей и убийствах беззащитных монахов. — Замолчи! — воскликнула она, затыкая уши. Но он отнял ее руки от ушей. — Ты боишься услышать правду? — спросил он и продолжал дальше. В конце концов она села, скрючившись, на постели, закрыла глаза и заплакала. — Неужели ты участвовал во всем этом? — всхлипывала она. — Если бы я и не участвовал во всем этом, — ответил он, — я бы все равно ничего не сделал, чтобы приостановить все это. — А Турир… — Она закрыла руками лицо. — Турир отправился этим летом в поход… — Турир сам отвечает за себя, — коротко ответил Эльвир. — Почему ты рассказал мне все это? — растерянно спросила она через некоторое время. — Ты же жалуешься, что я недостаточно откровенен с тобой… — Я имела в виду совсем другое, — вздохнула она. — Сигрид, — сказал он; он хотел взять ее за руку, но она с дрожью отдернула ее. И он, делая вид, что не заметил этого, продолжал: — Я рад, что рассказал тебе об этом. Ведь если ты когда-нибудь добровольно будешь спать в моих объятиях, тебе не придется упрекать меня в том, что я хотел казаться в твоих глазах лучше, чем я есть на самом деле! Сигрид задрожала, закрыв лицо руками. — Теперь, глядя на мальчика, я всегда буду думать о том, что ты рассказал мне этой ночью, — сказала она. — Жизнь вовсе не прекрасна, — ответил он. — Либо тебе придется закрыть глаза, заткнуть уши и не знать о том, что происходит у тебя под носом, либо нужно научиться жить, зная правду. Жизнь не была прекрасной и тогда, когда мой дед, Грьетгард Хаконссон сжег в доме своего брата Сигурда Ладе; или когда мой друг Хакон сын ярла Сигурда Ладе отомстил за убийство, убив своего дядю Грьетгарда. Но мой отец и ярл Хакон все же прекратили вражду и стали друзьями. А что, ты думаешь, сделали бы эти христиане, если бы им удалось сцапать меня в тот раз, когда я сражался под началом Хаиба аль-Мансура? В самый последний момент кое-кому из моих друзей удалось помешать ирландцам сжечь меня на медленном огне в окрестностях Дублина. Или взять Этельреда, короля Англии, нарушившего мирный договор со Свейном Вилобородым и распорядившегося об одновременном убийстве всех датчан в стране, — ты думаешь, он проявил бы милосердие к тебе или к нашему сыну, попадись вы в его руки? — Думаю, что едва ли, учитывая твои грабительские походы в Англию, — сказала Сигрид уже спокойнее. — Могу уверить тебя, что эти христиане отлично выцарапывают друг другу глаза и без нашей помощи, — с горечью произнес Эльвир. — Я насмотрелся на это в Миклагарде. — И теперь ты снова хочешь отправиться в поход? Мне кажется, ты проводишь дома лето не из-за меня… — Я далек от того, чтобы утверждать, что не изменю своего решения, — сказал Эльвир. — К тому же я устал за день и выпил пива. Но я думал о том, чтобы остаться дома. Я никогда не принадлежал к числу тех, кому доставляет радость протыкать мечом женщин и детей. И, если быть откровенным, мне не нравится смотреть, как это делают другие. Тем не менее, я сполна утолил свою жажду крови, как мне кажется… Некоторое время он молчал. — Хотя… — задумчиво произнес он, — обменяться ударами меча с противником, в этом есть что-то необъяснимо манящее… Он погрузился в свои мысли. И Сигрид почувствовала, что любопытство в ней пересиливает неприязнь. — И все же, что именно? — вкрадчиво произнесла она. Он удивленно взглянул на нее. — В этом есть какая-то дикая радость, — подумав, произнес он. — Ты чувствуешь, как все твои силы и все твои способности напрягаются до предела, и вдруг обнаруживаешь в себе нечто большее, какую-то силу, о существовании которой не подозревал… — И когда ты почувствуешь в себе эту силу, ты ощущаешь в себе какую-то новую уверенность, — горячо произнесла Сигрид. — Да, — ответил он, продолжая сидеть неподвижно. — Но ты-то откуда об этом знаешь? — Я узнала об этом в тот день, когда рожала мальчика, — сказала Сигрид, — я ощутила в себе силу, о которой даже не догадывалась. И она помогла мне преодолеть боль. Он долго сидел в молчании. — Значит, так оно и было, — наконец сказал он. — Что ты имеешь в виду? — В тот день, когда мне принесли мальчика, я понял, что ты стала взрослой, Сигрид. Мужчина проходит испытание на мужество, когда впервые «ощущает в себе волка», как выразился кто-то, впервые взяв в руки меч. Раньше я никогда не думал, что женщины тоже проходят такое испытание. Я горжусь тобой. Гутторм рассказывал, что ты родила мальчика без единого крика. Но теперь я горжусь тобой еще больше… Его глаза были серьезными, когда он смотрел на нее. — … и я сделаю все для того, чтобы настал день, когда ты снова почувствуешь, что можешь на меня положиться. Они услышали во дворе голоса, люди уже начали вставать. — Я проговорил всю ночь, — сказал он. — Ты можешь свалить всю вину на меня, если сегодня не сможешь заниматься хозяйством. Она стала одеваться. Он с трудом удержался от того, чтобы не прижать ее к себе. Он знал, что ему следует подождать. И теперь он знал наверняка, что даже если он отдаст все, чтобы вернуть ее обратно, этого все равно будет недостаточно. Направляясь на кухню, Сигрид чувствовала дрожь. Мир, переполнявший ее, чудесное ощущение почти беззаботной удовлетворенности — все это было теперь разрушено, словно ударом молнии. И это Эльвир, конечно же, Эльвир сумел разрушить стену, окружавшую ее! Плохо было, когда он ничего не говорил о себе, но теперь, когда он стал более разговорчивым, он рассказал ей о всяких гадостях. Рагнхильд заметила выражение подавленности на ее лице. — Я вижу, твой муж вернулся домой, — сказала она. — Ложись, отдохни немного, Сигрид! — У нас все шиворот-навыворот, — недовольно проворчала Сигрид, в душе соглашаясь с тем, что было бы неплохо немного поспать, как это и советовала ей, во имя Фрейи, Рагнхильд. Взяв мальчика, она прилегла с ним на постель Рагнхильд. Было заметно, что он только что поел. Он был настолько сыт, что таращил во все стороны глаза, а изо рта у него стекала струйка молока. Она смотрела на это сытое, удовлетворенное маленькое создание. Теперь он закрыл глаза и ухватился пальцами за пеленку, в которую был завернут. Прижать его к себе, защитить от этого жестокого мира… Неужели это маленькое, невинное существо рождено для того, чтобы убивать, жечь, насиловать? Неужели он когда-нибудь отправиться в поход к чужим берегам, чтобы грабить и воровать? Она подумала об Ангрбод[33], которая, благодаря Локи[34] стала матерью волка Фенрира. И она почувствовала страх при мысли о том, что выкармливает такое же чудовище. Но, взглянув на доверчивое, спящее маленькое существо, дышащее так спокойно и причмокивающее во сне губами, она раскаялась в подобных мыслях. Ведь Эльвир не был таким плохим, как Локи… Но зачем он рассказывал ей все эти ужасы, зачем вырвал ее из чудесного мира удовлетворенности и покоя… Внезапно до нее дошло, что она была просто… жвачным животным! Жизнь вовсе не прекрасна, сказал Эльвир, либо тебе придется закрыть глаза и заткнуть уши, либо научиться жить, зная правду… Впервые вырвавшись из окружавшей ее оболочки, она стала всерьез задумываться над происходящим. В детстве она видела достаточно жестокостей и грубостей, но совсем иного рода. Мужчины рассказывали о своих походах лишь то, чем можно было гордиться. То же, о чем рассказывал Эльвир, было просто подлостью и низостью, а вовсе не тем, чем можно было хвастаться. Ее передергивало при мысли о том, что ее сына ожидает такая жизнь. И в то же время ей не хотелось, чтобы он стал хилым, цепляющимся за материнскую юбку. В Бьяркее был один такой, который не осмеливался даже играть с другими мальчишками. Она вспомнила его бледное лицо, воспаленные голубые глаза, вспомнила, как издевательски смеялись мужчины, когда он входил в зал. Таким она видеть своего сына не хотела. Но обязательно ли мужчина должен был быть свински грубым? Ведь одно дело — проявлять мужество и отвагу в честном бою, и совсем другое — рубить мечом стариков и грудных детей! Она стала думать об Эльвире; его глаза сверкали, когда он говорил о вооруженном поединке, и она могла это понять. Но почему, в таком случае, он снова не отправляется в поход? Она снова услышала его голос: «Я никогда не принадлежал к числу тех, кому доставляет радость протыкать мечом женщин и детей. И, если быть откровенным, мне никогда не нравилось смотреть, как это делают другие». И до нее дошел смысл слов, сказанных Старой Гудрун сразу после того, как Сигрид прибыла в Эгга. Она уже не помнила точно, как звучали эти слова: что-то вроде того, что Эльвир гораздо мягче, чем хочет казаться в глазах окружающих. Да, так оно и было: Эльвир описывал все в более мрачном свете, чем это было на самом деле, потому что для него самого это было мучительно. И раз уж он решил спокойно жить дома, то едва ли мог позволить себе что-то дурное. Об этом ей следовало поразмыслить, но сегодня она так устала…
Ее разбудили, когда стол был уже накрыт к завтраку. Оглядевшись, она заметила, что служанки обмениваются многозначительными взглядами — и это было невыносимо! Эльвир сказал, чтобы она свалила вину на него. Он хотел легко отделаться! Через несколько дней Сигрид решила спросить Эльвира о богах, о которых думала все это время. Он поинтересовался, откуда у нее такие мысли, но она ответила уклончиво. Скрепя сердце, она призналась, как страдала по его вине. — Придется взять тебя в Мэрин, — сказал он. — Думаю, нам лучше будет поговорить об этом там. — Мне не так легко покинуть дом и сесть на корабль, как это делаешь ты! — ответила она. Он оглядел ее с ног до головы: длинная юбка, тесьма на лбу, перехватывающая волосы, тяжелые бронзовые цепочки и жемчужное ожерелье и висящие на тонких кольцах ножницы, нож, игольница и связка ключей. Девочка из Бьяркея стала хозяйкой дома. И дело было не только в этом: она начала сознавать свое достоинство. — Я переговорю с матерью, — сказал он, — я уверен, что к нашему возвращению дом будет стоять на том же месте и все будут живы и здоровы. — Но мне кажется… — Кто из нас хозяин Эгга, ты или я?
В один из солнечных дней они решили поехать в Мэрин. Переправившись через фьорд из Эгга, они вышли на берег в Кроксвогене, куда должны были вернуться к вечеру. Лошадей они одолжили в одной из усадеб, и, пока ехали, Эльвир показывал ей окрестности. Дорога была хорошей и настолько широкой, что можно было ехать рядом. Она увидела узкий канал на пути от фьорда Стейнкьер до фьорда Боргья, подходящего вплотную к Мэрину. И Эльвир пояснил, что канал этот прорыли, чтобы переправлять по нему корабли, если пролив Скарн между Иннереем и материком окажется в руках врагов. Этот путь, сказал он, удобно использовать и тогда, когда разыграется шторм, и будет трудно плыть по узкому проливу. Он указал на гребень холма. — Там находится одно из древних укреплений, — сказал он. Сигрид слышала, что в Трондарнесе есть подобное сооружение, и Эльвир сказал, что таких укреплений много в Трондхейме, неподалеку от Эгга. Ей хотелось рассмотреть укрепление с более близкого расстояния, но он сказал, что сводит ее туда в следующий раз. Они отправились из Эгга после обеда и только к концу дня увидели перед собой Мэрин. Сигрид онемела, увидев храм, расположенный на самой вершине, откуда открывался вид на горы, долины и фьорд. И когда они скакали вверх по крутому склону, Эльвир рассказывал ей старинные предания, бытовавшие в этой местности. Он рассказал о старом Торхадде, который был жрецом храма в Мэрине, когда Норвегией правил Харальд Прекрасноволосый. Он разрушил старинный храм и увез в Исландию столбы и почву, на которой стоял храм. В Исландии он построил новый храм и перенес туда священные реликвии из Мэрина. И он рассказал про своего собственного деда по матери, Тронда Хака, который тоже был жрецом в храме Мэрина. Он был одним из четырех трондхеймских жрецов, принудивших короля Хакона Воспитанника Адельстейна принести жертву. Сигрид смеялась, когда Эльвир рассказывал, как ярлу Сигурду Ладе приходилось изворачиваться, будучи посредником между королем и трондхеймцами. В конце концов ему удалось уговорить короля попробовать лошадиной печенки. — Что плохого в том, что кто-то ест конину? — удивленно спросила она. — Я не знаю, — ответил Эльвир, — просто конина напоминает о жертвоприношении. Да и потом, у всех свои привычки… Те, кто исповедуют учение Мухаммеда, отказываются есть свинину. — Но конунг Хакон выставил себя на посмешище, — продолжал Эльвир, — и в другом отношении. Больше всего люди потешались над ним во время жертвоприношения в Ладе, когда он перекрестил чашу с вином и отказался есть жертвенное мясо. И он разинул рот от удивления при виде льняного полотенца, висевшего над жертвенником. И на этот раз ярл Сигурд не мог быть посредником между королем и бондами… — Где же это он научился так креститься? — спросила Сигрид и захохотала так, что чуть не свалилась с лошади, когда Эльвир сказал, что Сигурд назвал крестное знамение «знаком молота Тора». А король слишком боялся бондов, чтобы перечить им. И он рассказал еще о том, как в Мэрин прибыл более воинственный конунг Олав Трюгвассон. Сам же Эльвир был в это время в чужих краях. Сначала конунг посетил тинг во Фросте. Там он вел себя смирно, видя мужество бондов, и пообещал им отметить с ними в Мэрине праздник середины лета. Но позднее, собрав большую дружину в Ладе, он хитростью заманил к себе трондхеймцев. Он пригрозил им, что если и станет приносить жертву, то это будет человеческая жертва. После этого, поняв, что им не справиться с таким конунгом, бонды сдались и приняли христианство. Со временем Олав перебрался в Мэрин, чем нарушил и деятельность тинга, и священный мир в храме; он коварно убил Йернскьегге Асбьёрнссона из Оппхауга, что в Эрландете, могущественнейшего из местных хёвдингов. — Но, как мне кажется, король Олав не добился таких больших побед, как утверждал сам, — сказал Эльвир, — ведь Йернскьегге пал геройской смертью у входа в храм, по праву и закону защищая своих богов. И когда «Длинный Змей» был взят на абордаж, у всех на устах было имя Йернскьегге. Но конунг Олав застал трондхеймцев врасплох, когда они остались без хёвдинга, и принудил их принять христианство. По всему Трондхейму стали крестить людей, среди которых оказалась и Тора дочь Эльвира. — Меня никогда не крестили, — сказала Сигрид. — И ты не будешь креститься, пока ты моя жена, — ответил Эльвир. Он рассказал еще, как Олав Трюгвассон предлагал другу Йернскьегге прекратить с ним вражду, если ему отдадут в жены красавицу Гудрун дочь Йернскьегге. — И это тоже было нарушением закона, — сказал Эльвир, — потому что у него уже была жена, Гюда дочь Ульва, сестра короля из Дублина. И как христианин он не имел права быть многоженцем. Но Гудрун дочь Йернскьегге пыталась убить его на брачном ложе. — К сожалению, она поторопилась, — сказал Эльвир, — ей следовало подождать, пока этот негодяй заснет… Но она на это вряд ли пошла бы. — Твой рассказ не очень-то отличается от предыдущих, — сказала Сигрид. — Нет особой разницы в том, что коптить на огне, котел или сковородку… — Возможно, ты права, — спокойно ответил Эльвир, — но разница все же есть: я не выдвигаю лживого требования жить по заповедям, согласно которым нельзя никого убивать или иметь только одну жену. — Последнее мне известно, — вырвалось у Сигрид. Пожав плечами, Эльвир ничего не ответил. Они добрались уже до самой вершины горы; остановив коня, Эльвир указал в сторону. Она следила взглядом за его пальцем, медленно описывая круг. Над широкой равниной и над фьордом, дремавшим в лучах послеполуденного солнца, царил несказанный мир. Вода была тихой и неподвижной, покрытые лесом горы спокойно и мощно вырисовывались на фоне неба. Глаза Эльвира улыбались ей; она видела, что он чувствует то же самое, что и она. — Эта гора повидала много, — сказал он, — в старину на ее вершине устраивались человеческие жертвоприношения. Она была свидетельницей изгнаний, королевских побед и поражений. Но мир на ее вершине остается непоколебимым… Он хотел сказать что-то еще, но засмеялся, услышав настойчивый и яростный лай собаки. — Разве только этот дворовый пес ее нарушает, — добавил он. — Да еще собаки из Саурсхауга… — Он указал в сторону фьорда Боргья, где находился Саурсхауг, скрытый за горой. — Там есть одна собака, которая бродит повсюду и пугает людей. Существует предание о том, что усадьба эта названа в честь собаки Саур, которую король Оппланда Эйстейн назначил властителем Внутреннего Трондхейма.
В усадьбе Мэрин была одна незамужняя дочь ее возраста. Сигрид сидела за столом рядом с ней и женой хозяина. Дочь звали Гуннхильд, и она была просватана за старшего сына Хустада из Иннерея. Ей скоро предстояло выйти замуж, и после еды она позвала Сигрид в кладовую, чтобы показать свои сундуки, в которых лежала пряжа и другое приданое. И Сигрид со стыдом подумала, как мало она пользовалась всем тем,что привезла с собой из Бьяркея. — Ты знаешь Орма Хустада? — спросила Гуннхильд. Но Сигрид не знала. Зелено-голубые глаза Гуннхильд были огромными и счастливыми, когда она рассказывала о нем: о том, какой он мужественный, гордый и смелый. — Да, — торопливо согласилась Сигрид, — он такой же храбрый, как и Эльвир… Но девушка уже закусила удила, принявшись болтать о свадьбе, о его родителях, братьях и сестрах, о Мэрине, Хустаде, мэринских праздниках, об Эльвире и Турире; это был целый водопад слов. Сигрид начала уже подумывать о том, как бы остановить ее, но тут ей пришлось навострить уши, как сторожевой собаке. — Тебе повезло, что ты так нравишься ему, ведь из-за тебя он хотел выдать замуж свою любовницу. И в этом нет ничего удивительного, ведь ты так красива, а она так бесстыдно вешалась на него здесь, в Мэрине, прошлой осенью. «Вот в чем дело», — подумала Сигрид, но промолчала, не желая спугнуть Гуннхильд. — Он был в ярости, увидев ее, — продолжала Гуннхильд, — он не звал ее, но она пришла сюда и забралась к нему в постель, хотя он даже не хотел разговаривать с ней… Сигрид чуть не стало плохо от этих слов, но тут вошла служанка и сказала, что Эльвир ждет ее, чтобы осмотреть храм.
Если фундамент храма в Трондарнесе был каменным, то здесь он был деревянным, с четырьмя толстыми столбами, подпиравшими крышу, и прекрасной резьбой вокруг входной двери. Вокруг храма был огороженный изгородью двор, на котором в свое время был убит Йернскьегге, как пояснил Эльвир, в то время как конунг Олав рубил на куски изображения богов на стенах храма. Мэринским святым был Тор, поэтому фигура Тора стояла на почетном месте. По большим праздникам идола ставили на телегу и выкатывали наружу. В храме были также изображения Фрейра и Одина и других богов. Воздух в полутемном помещении был затхлым и спертым. Бывая в храме, Сигрид всегда испытывала тягостное чувство. Боги выглядели сердитыми, и ей было страшно. И на этот раз она была рада, когда они вышли наружу. Эльвир сказал, что с удовольствием покажет ей окрестности. Обойдя селение, они сели на траву у южной стороны храма, откуда открывался вид на фьорд Боргья и Страумен до самого Иттерея. — Вот так обстоит дело с богами, — начал Эльвир. — Да, — улыбнулась Сигрид, чувствуя непонятное раздражение, — так обстоит дело с богами… Перед тем как продолжать, он положил ей руку на плечо — и она вспомнила Тора. — Ты знаешь песнь, которая называется «Прорицания Вёльвы»? Но Сигрид не знала. — Это длинная песнь, — сказал он, — в ней говорится о мире и о богах с самого начала и до Рагнарока. Она заканчивается предсказанием о том, как возникнет из моря новая земля, когда старая уйдет под воду, и одна из последних строф звучит так:
Сходит тогда для суда высочайшего
Мощный Властитель в мир с высоты.[35]
Во времена ярла Хокона жил один знаток законов по имени Торкьелл Моне. Он жил в Исландии. Говорили, что он признавал только бога, сотворившего солнце, был уважаем всеми и придумывал мудрые законы. Говорили также о Харальде Прикрасноволосом, верившем в одного бога, который был сильнее Одина и Тора. Одно время я думал, что это христианский бог, поэтому я и сделал честную попытку следовать христианским заповедям. Но я понял, что это не для меня. Что толку в красивом учении, если никто не может придерживаться его в жизни? Я знаю, что говорят Христовы священники по поводу покаяния и наказания. Однако мне трудно уловить смысл сменяющих друг друга нарушений закона и покаяний. Один священник как-то сказал, что я упрямец, — и так оно и есть. Зимой ты спросила у меня, что я сказал священнику ярла Свейна. В тот раз я ничего тебе не ответил, но отвечу сейчас. Я сказал, что могу служить всемогущему богу, даже будучи жрецом храма в Мэрине, и жить согласно законам, которые знаю и понимаю. Ты понимаешь меня, Сигрид? — Думаю, что да, — ответила она. — А как быть с ними? — Она кивнула в сторону храма. — Поскольку есть всемогущий бог, — сказал он, — он правит остальными богами. И подобно тому, как у христиан есть изображения ангелов, у нас есть изображения богов. Но ты права, говоря, что боги — это природные силы. Ты знаешь, что Бальдр — это лето, поэтому он умирает с приходом осени. И никакие осенние слезы не вернут его обратно. Тор — это гроза и грубая сила, он является оружием богов в борьбе с великанами и злыми духами. Но он и плодородие, потому что приносит дождь. А Фрейр… — Спасибо, я знаю, что приносит Фрейр, — торопливо перебила его Сигрид. Она хотела произнести это шутливым тоном, но в словах ее чувствовалась горечь. И она тут же раскаялась в своих словах, почувствовав, что он залезает, словно морская улитка, в свою раковину. Ей хотелось объяснить, что она не хотела обижать его, но она не знала, как это сделать. Наступившая тишина была невыносима, нужно было что-то сказать. — Я не хотела обидеть тебя, — сказала она. — Если ты и не собиралась это сделать, — сказал он, когда взгляды их встретились, — то я должен сказать, что ты необычайно способна делать что-то против своей воли. — Но я этого не хотела, — сказала Сигрид, чувствуя, как неубедительно звучат ее слова. — Послушай, — сказал он. — Сначала ты намекаешь на закопченный котелок, потом ты говоришь, что я был неверен тебе, и вот теперь это… Я должен сказать: ты не упускаешь возможности ударить в тот момент, когда я сам подставляю себя под удар. Разве не так? Она не ответила, и он продолжал: — Я не отрицаю, что в твоих словах есть изрядная доля правды. Но если ты еще не понимаешь этого, теперь самое время сказать, что мало что так ранит человека, как бесцеремонная истина. И если это не входило в твои намерения, тебе следует впредь выбирать слова. Если каждый из нас станет рвать и метать, мир будет просто невыносимым! — Да, — сказала она. — Стоит мне заговорить, и все кончается слезами. И мне не хочется сидеть здесь, на виду у всех, и выслушивать наставления. Ей показалось, что он отзывается слишком легкомысленно о ее проблемах. — Как хочешь, — сказал он. Они встали и медленно побрели к усадьбе; она пинала ногой землю, считая в глубине души, что ему не мешало бы прислушаться к ее словам. Ей были отвратительны его разговоры о Фрейре. Перед тем, как войти во двор, она обернулась и сказала: — Мне досадно, если я чем-то обидела тебя. И спасибо, что ты поделился со мной своими мыслями. Ничего не ответив, он улыбнулся, взял ее за руку и некоторое время держал в своей.
* * *
Жизнь Сигрид настолько изменилась после Мэрина, что ей самой трудно было понять это: она чувствовала, что стала другой. И поездка в Мэрин была одним из множества путешествий, в которые Эльвир брал ее. Отправляясь верхом осматривать свои владения, он брал ее с собой; ему хотелось, чтобы она научилась управлять усадьбой и вести хозяйство. В этих поездках он объяснял ей также права и законы трондхеймцев: говорил о тингах и о том, как дело передается на альтинг, если никак не удается достичь согласия. Он сам был одним из членов тинга во Фросте и участвовал в разборе дел. Он говорил, что на обычном тинге должен присутствовать каждый бонд, если у него нет особых причин, чтобы оставаться дома; так положено. Но на тинг во Фрост едут только выборные. Он с увлечением рассказывал о старинных законах и о тех законах, которые ввел Хакон Воспитанник Адельстейна. Он высказывал свое мнение по поводу некоторых законов, другие хотел изменить. Сначала Сигрид трудно было уловить суть дела. Но от нее не скрылось его глубокое уважение и любовь к законам. И она стала понимать смысл слов, сказанных им в тот день, когда они ехали в Мэрин: что он хотел бы быть таким, как Торкель Моне, и что Йернскьегге Асбьёрнссон умер хорошей смертью, защищая свою веру и закон. В Трондарнесе тоже собирался тинг, и хотя ее не очень волновали законы, у нее было смутное ощущение того, что Сигурд и Турир жили по законам. Это законопочитание было новостью для нее. Но, слушая Эльвира, она начинала понимать, что эти законы сами по себе представляют ценность; ведь они отстаивали права человека перед тем, кто был сильнее его, долг перед тем, кто был слабее, и долг каждого перед обществом. Ее удивляло то, что Эльвир, с его ощущением закона, так беззаконно вел себя в других странах. Ей трудно было понять это, когда кто-то дома придерживается определенных правил, но совсем иначе ведет себя викингом. И когда она спросила его об этом, он только пожал плечами и сказал, что в других странах у людей свои законы и законы тинга им не подходят. Но она заметила, что он не любит, когда она спрашивает его об этом. Он показывал ей свои любимые с детства места. Однажды он взял ее с собой в лес неподалеку от Хеггвина и показал ей священный источник Фрейра. К источнику вела узкая тропинка, а среди густой, сочной травы росли незабудки. Он как-то странно взглянул на нее и сказал: — Может быть, ты расскажешь мне о том, о чем хотела поговорить в Мэрине? Но она покачала головой. Обо всем, что еще мучило ее, она не хотела говорить ни с кем, и меньше всего — с ним. Он показал ей еще одно место у подножия Эгга, где, как он сказал, были найдены молоты громовержца — каменные, и люди верили, что их оставил сам Тор. Он показал ей один такой молот, похожий на тот, что имелся в храме Эгга, дал ей рассмотреть его, подержать в руке. В старом доме в Эгга тоже лежал такой молот под порогом, чтобы оградить дом от призраков. Он показал ей одно место, считавшееся священным, потому что там на скале были изображения животных, кораблей и людей.И он выполнил свое обещание, взял ее в одно из старинных укреплений, находившееся в лесу, неподалеку от соседней усадьбы Гьевран. Поднявшись наверх, они остановились возле стен. Осматривая каменную кладку, она думала о тех людях, которые выложили стену, камень за камнем, превратившуюся в мощное укрепление. Теперь на стенах росла трава, и птицы вили свои гнезда. Но лес оставался тем же самым, что и прежде. И ветер шелестел листьями, словно желая рассказать о тех, кто жил здесь и строил эту крепость в давние времена… — Кто построил все это? — спросила она. — И зачем? Она говорила шепотом, но ей казалось, что звук ее голоса нарушает царивший там мир, рвет на куски первозданную тишину. — Никто точно не знает, — ответил он так же тихо, как и она. — Они принадлежали к поколению наших родителей, и в стране тогда было неспокойно. И снова, как и в Мэрине, она почувствовала, что они понимают друг друга.
Он брал ее с собой и в другие места, не вызывавшие ни у кого интереса, кроме него самого. Еще мальчишкой он находил там красивые камни, а однажды нашел зайчонка и принес его домой. И он рассказал, как его отколотил там один из соседских мальчишек и как он потом тренировался целый год, чтобы отплатить ему сполна. Сигрид вспомнила, как он метал копье в Бьяркее, и поняла, что за его равнодушным превосходством стоят годы упорных занятий. И когда он рассказывал ей о чужих странах, ей казалось, что весь мир лежит у ее ног. То, что она слышала раньше, было не более, чем сказкой. Теперь же она начала всерьез понимать, что люди живут там совсем не так, как здесь, на Севере, в холодной стране, в собственных усадьбах. Он все время повторял на чужом языке одно слово, смысл которого она не понимала и которое он не мог перевести. Он даже сел на корточки и принялся рисовать что-то на песке, объясняя ей смысл этого слова. Он рассказал ей о лошадиных бегах в Миклагарде, о базаре, на котором продавцы во весь голос расхваливают свои товары; о замках с удивительно просторными залами из разноцветного кирпича, о домах с большими окнами и крытыми галереями снаружи, возвышающимися над узкими переулками. Ей казалось, что она ощущает запах чужеземных блюд, видит разноязычную, одетую в пестрые одежды толпу. Она представляла себе огромные государства, где рабы носили на носилках богачей, а бедняки в своем сером убожестве и нищие калеки с облепленными мухами ранами громко просили милостыню. Она слышала пение монахов, выносящих святые дары, одетых в разноцветные шелка и бархат, шествующих по узким улочкам, украшенным фонтанами и настенной живописью. Эльвир помнил некоторые церковные песнопения и пел их для нее. Он сказал, что пение сопровождалось звучанием множества флейт, производивших неимоверный шум. Он попытался описать ей собор святой Софии; это было помещение с окнами, расположенными под высоким, словно небо, куполом. Он сказал, что стены и потолок были украшены разноцветной мозаикой, переливавшейся всеми красками, от черной до золотой; рассказал о мощных каменных колоннах, о богатых одеждах священников, украшенных золотом и драгоценными камнями. Он говорил о набегах и сражениях, о победах и бегствах. Однажды вечером он рассказал ей, как попал в Кордову. Как-то раз он купил раба, который был родом оттуда, и привез его в Эгга после сражения при Сволдре. И он поверил этому рабу, когда тот сказал, что у себя на родине был богатым и могущественным человеком. Он обучил Эльвира своему языку, после чего Эльвир отпустил его на волю и отплыл с ним на юг. И в Кордове этот бывший раб помог ему добиться благосклонности аль-Мансура. Он рассказал ей о Кордове — о домах с внутренними двориками, в которых цвели цветы, и журчала вода, и царил мир посреди беспокойного города; описал ей мечети с целым лесом колонн и красивыми мостиками над водоемом. И он сказал, что там есть люди, умеющие резать по камню, как по дереву, делающие великолепные орнаменты и картины. Он рассказал о великой любви мавров к знаниям и о том, как они толпятся вокруг мудрецов. Рассказал об их обычаях и учении Мухаммеда; о том, как призыв к молитве «Ла илла'ллах, Мухаммед расулу'ллах» звучит над городом с высокой башни несколько раз в день. Он переводил ей любовные песни и рассказывал сказки о великих хёвдингах и прекрасных женщинах, о рискованных вылазках, вознаграждавшихся победами, о злых и добрых духах, которых он называл «чертовщиной». Однажды он повел ее в кладовую и открыл сундук, наполненный вещами, которые он привез домой. Вид у него был немного виноватым, потому что смотреть было особенно не на что, и когда он привез эти вещи, никто ими не заинтересовался. В его голосе Сигрид послышалась горечь и разочарование. Это была коллекция, о которой Сигрид никогда и не мечтала: вырезанные из камня миниатюры, гобелены, изделия из дерева, ковры и чужеземная одежда… Глаза Сигрид сверкали, когда он позволил ей взять в руки эти великолепные вещи, рассмотреть их со всех сторон, слушая его пояснения. Среди них была картина, нарисованная на деревянной доске. На ней был изображен человек, которого Эльвир назвал святым Иоанном; у него было такое прекрасное и печальное лицо, что Сигрид не могла отвести от него глаз. Эльвир сказал, что Иоанн был одним из учеников Христа и больше остальных печалился, когда его учитель умер. — Однажды я подумал, не подарить ли эту картину ярлу Свейну, — сказал он. — О, нет, не надо! — горячо перебила его Сигрид, но тут же взяла себя в руки: — А впрочем, пусть лучше она доставит им радость, чем будет лежать в сундуке. Эльвир улыбнулся. — Мне не хочется расставаться с ней, — сказал он. И тут Сигрид вспомнила, что говорила ей первый раз Гудрун. Она отчетливо слышала про себя хриплый старческий голос: «Эльвир добрый мальчик. Просто он боится, что кто-нибудь узнает о том, в чем он не признается даже самому себе». Сидя на полу возле сундука, она смотрела на него. Она не могла больше держать при себе свои мысли и чувства, видя, с какой откровенностью он говорит с ней о делах и отвечает на все вопросы — даже на те, на которые ему отвечать не хотелось. И она заплакала. — Что с тобой, Сигрид? — испуганно произнес он. И когда он обнял ее, она прислонилась головой к его плечу, и он прижал ее к себе. Сидя рядом с нею и не говоря ни слова, он осторожно гладил ее по голове, пока не стихли слезы. Она не помнила, как провела остаток дня, она ходила, как во сне, и только к вечеру все прояснилось.
За ужином он рано встал из-за стола и сделал ей знак, чтобы она следовала за ним — и она встала со смутным ощущением того, что не знает, чего хочет и куда идет. И когда они легли в постель, она снова заплакала. И, плача у него на плече, она рассказала ему обо всем, что передумала и перечувствовала прошлой осенью, зимой и весной. Он говорил мало, лишь изредка задавая вопросы или давая знать, что понимает ее, — и при этом осторожно прижимал ее к себе. И когда она рассказала о том вечере, когда она спустилась на берег, чтобы спросить о Турире, он закрыл глаза. — Я знаю, что прошу тебя о многом, — сказал он. — Но не кажется ли тебе, что можно было бы забыть все то дурное, что ты пережила из-за меня? Она пыталась собраться с мыслями, но переживания отняли у нее способность мыслить ясно. — Ты дал мне понять, что я не доросла до этого, — сказала она, — ты сказал, что я девчонка… О, как я ненавидела этого сына, которого должна была родить тебе! А Фрейр и Герд… какой дурочкой я была в ту ночь, слушая твою болтовню и не понимая, что ты говоришь все это только ради себя. И Кхадийя… И смерть Гудрун, и твоя мать… — Сигрид, — сказал он, взял ее лицо в свои ладони, посмотрел ей у глаза. Его голос прорезал ее сбивчивые мысли. — Ты считаешь, что я обманывал тебя? Это правда, что я много болтал. Но разве я хоть раз лгал тебе? — Нет, — подумав, ответила она. — Раньше я никогда не говорил, что ты мне нравишься. Ты поверишь мне, Сигрид, если я скажу, что это так? Она кивнула. — Я могу крепко выражаться, — с улыбкой добавил он. — Но я ведь и не овечка. Но, если ты не против, я буду ругаться на других языках! Еще раз улыбнувшись, он продолжал: — Теперь ты знаешь меня лучше, чем кто-то другой. Можешь ли ты положиться на меня настолько, чтобы снова довериться мне? — Обещаешь мне, что у тебя больше никогда не будет любовниц? — Нет, — ответил он. Вздрогнув, она сделала попытку вырваться из его рук. — Я не очень-то верю клятвам в вечной верности, — продолжал он. — Никто не знает, на что способен. Я мог бы купить тебя лживыми обещаниями, но мне кажется, ты заслуживаешь большего. Немного помолчав, он добавил: — Могу пообещать лишь то, что буду добр и честен. И могу тебе сказать, если ты этого еще не знаешь, что я своенравен, как Один, и куда более вспыльчив, чем Тор… — К тому же ты силен, — добавила Сигрид, вспоминая о синяках, оставшихся от его удара. — Я полагаю, что ты должен дать мне время все обдумать. — Хорошо, — ответил он, — я дам тебе время подумать. Он встал и подошел к свече, горевшей в небольшом каменном подсвечнике. Потом вынул из ножен нож и сделал им пометку на воске, чуть ниже края. — Ты можешь думать, пока свеча не догорит до этой черты, — сказал он. И снова — уже второй раз за этот день — Сигрид сидела, уставившись на него. Его темно-русые волосы были по-мальчишески взъерошены, глаза смотрели дружелюбно и проницательно. Но она знала, как могут сверкать эти глаза в гневе… Она смотрела на его руки, такие сильные, умеющие держать меч. И на нее нахлынули воспоминания о первых днях после их свадьбы — воспоминания о том, с какой любовью и лаской он прикасался к ней этими руками. Она гнала прочь эти мысли. Ей не хотелось растравлять себя. И она заставляла себя думать о том, что он сказал в ту ночь, когда рассказывал ей о походах викингов. На этих руках была кровь детей. — Почему ты снова не уезжаешь? — спросила она, понимая, что этот вопрос не к месту. — Ты от меня так легко не отделаешься, — ответил он. — Я и не думаю от тебя отделываться, — сказала она. — Просто я хочу узнать, почему ты не уезжаешь. Судя по выражению его лица, ему не очень-то хотелось отвечать; глядя в пол, он произнес: — С меня достаточно грабежей, убийств и беззакония. — Ты был когда-нибудь серьезно ранен? — вдруг спросила она. — Если ты имеешь в виду серьезные ранения, то только один раз, — ответил он. — И я вряд ли дожил бы до сегодняшнего дня, если бы не врачи аль-Мансура. — Это были толковые врачи? — Более толковые, чем кто-либо. — Что ты чувствовал тогда? — Боль, — ответил он. — Но если взять себя в руки, можно вытерпеть и это. — Да, — сказала она. Ей пришла в голову мысль, что он говорит ее же словами. И она почувствовала, что между ними есть связь, что оба они осознают свою силу. Немного помолчав, она спросила: — А если я не приду к тебе этой ночью, что тогда? — Тогда ты со своим приданым можешь отправляться обратно в Бьяркей, — сказал он. — Ты же знаешь, я никогда не брошу малыша. — Ты можешь взять мальчика с собой, — ответил он. «Уехать обратно в Бьяркей… — растерянно подумала она. — К Туриру и Хильд и ко всему тому знакомому, надежному и любимому, что окружало ее с детства?» Но не станет ли теперь все это казаться ей иным? Она почувствовала, что сама переменилась. Она посмотрела на свечу: выгорела почти половина отмеченного им воска. Потом снова посмотрела на Эльвира. Он сказал, что она ему нравится, и она верила ему. Но он не давал никаких обещаний сверх того, что казалось ему выполнимым. К тому же он был упрям. Он понял, что дурно поступил с ней. Однако он не пожелал принести какие-либо извинения, а тем более унижаться до просьб о прощении. Он сказал ей, что вспыльчив и своенравен, и она соглашалась с этим. Однажды он ударил ее, и он наверняка сделает это снова, если его достаточно разъярить. И она не была уверена в том, что его добрые намерения воспрепятствуют ему в этом. Он был грабителем и убийцей. И если сейчас он и был в мирном расположении духа, он мог в любой момент изменить свои намерения и отправиться с викингами в поход. Да он и сам не пытался утверждать обратное. Она снова взглянула на свечу. — Эльвир, — сказала она, — ты можешь дать мне еще немного времени? Хотя бы до утра… — Нет, — ответил он, — утром ты не будешь знать больше, чем знаешь сейчас. Судя по его жесткому ответу, ей нечего было ждать от него уступок, даже если бы она отдала свою жизнь в его руки. А сам он, что он мог дать ей, кроме своего упрямого «я», не обещая ничего на будущее? Да, ей хотелось остаться его женой в Эгга. Но ради этого она не желала продаваться. Да и много ли значило для нее Эгга? Она вспоминала все те места, которые показывал ей Эльвир — одно за другим… старое укрепление, источник Фрейра, Мэрин… да и сама усадьба, хранящая воспоминания о прошлых днях… Но это же дом Эльвира, его места, а не ее… И если она и начала привыкать, то ей нетрудно будет порвать эту связь. А сам Эльвир… Думая о нем, она начала, наконец, понимать, что он отдается ей целиком. Да, целиком, не требуя ничего взамен, он отдавал ей себя, свои мысли и чувства, заповедные места и воспоминания детства, жизнь на чужбине. Он показал ей привезенные им вещи, хотя до этого никто ими не интересовался, что доставляло ему горечь и разочарование. И, увидев их, она поняла это. Это были не золотые и серебряные вещи, какие обычно привозили домой; на эти вещи не польстился бы ни один вор. Эти вещи казались ему прекрасными, они напоминали ему о чем-то дорогом… Он отдавал ей целиком не только самого себя и свою любовь. Он готов был ради нее лишиться даже сына, а уж она-то знала, что значит для него сын. Он не пытался выставить себя благородным. Он не обманывал ни себя, ни ее лживыми клятвами. И вот теперь он давал ей возможность свободного выбора. Он сидел спокойно, с растрепанными волосами, поглаживая ножны ножа. Что он почувствует, если она соберет свои вещи и увезет мальчика в Бьяркей? Он мог бы принудить ее, но он этого не сделал. Он мог бы взять ее силой в первую брачную ночь. Почему он не считал ценным то, что брал силой? Она спросила его об этом. — Мне не будет хорошо, если я не вижу, что тебе хорошо, — ответил он. Какая-то тяжесть спала с ее плеч: она все поняла. Их первая ночь и все, что он рассказывал о Фрейре и Герд, говорили о том, что он думал не только о своих утехах, но и о ее желаниях. Его радость и ее добрая воля необъяснимым способом были взаимосвязаны. И теперь она знала наверняка: Эльвир и все его устремления, его мысли и чувства, его мечта стать великим лагманном[36], его любовь к обычаям, к храму Мэрина, к законам и правам трондхеймцев, живость его рассказов, его улыбка, его ребячливость и увлеченность, его тщеславие и упрямство… теперь она все знала и не могла уехать. И свеча уже почти догорела до отметки, когда она повернулась к нему. И по выражению ее лица он увидел, что выиграл. — Сигрид, — сказал он, притянув ее к себе. — Моя Сигрид! И позволив ему делать с собой все, что ему хочется, она ощутила в себе бесконечный мир. Он почти ничего не говорил, просто лежал и ласкал ее, и она чувствовала, как в ней опять пробуждается желание и все те чувства, который, как она думала, были в ней убиты. Желание ее росло, желание близости с ним. Ей казалось, что вся она раскрывается навстречу ему, словно цветок под лучами солнца. — Эльвир… — сказала она, и в голосе ее чувствовалась вся глубина переживаемых ею чувств. Все ее желания были устремлены к одному: к слиянию с ним. И тут в ней проснулась страсть, жестокая и о существовании которой она не догадывалась. Эта страсть овладевала ею, швыряя ее в водоворот чувств, от которых перехватывало дыханье. И ей вспомнились роды. В тот раз она тоже ощутила в себе силы, о существовании которых не подозревала. И тогда она обрела саму себя в борьбе с болью. И она стала сопротивляться, не желая выпускать на волю эти силы. Нет! Она не хотела, чтобы ее унесло бешеным водоворотом. Нет! Нет! Она боролась и почувствовала, что победила. Должно быть, она закричала, потому что рука Эльвира прикрыла ей рот. И успокоившись, она посмотрела на него и увидела, как он беспомощен в своей страсти. И она поняла, что может улизнуть от него, оставив ему лишь пустую оболочку. Она видела боль в его глазах, боль сожаления о том, что она не поддалась ему. Но он уже не мог остановиться, не мог оттолкнуть ее. — Сигрид, во имя Фрейра… — простонал он. Она вздрогнула. Фрейр и Герд, проклятие Скирнира… Хочет ли она пребывать во тьме и холоде наедине со своей силой воли? — Нет, нет… С этим сдавленным криком она прижалась к нему, поддалась ритму волнообразных движений, дала увлечь себя бешеному водовороту, дала волю страсти, граничащей с болью. И почувствовала свое единение с Эльвиром, слияние своей воли с его и стала частью его. Находясь в полузабытьи, она ощущала гармонию счастья и боли в бесконечной цепи поколений… И провалилась в бездну спокойствия и удовлетворенности. Она не знала, долго ли находилась в этом состоянии, но, постепенно приходя в себя, увидела лицо Эльвира рядом со своим лицом, почувствовала его объятия. Лицо его было преисполнено мира — мира спящего ребенка. Заметив, что она пошевелилась, он открыл глаза. Во взгляде его были тепло и уверенность. Со счастливым стоном он прижал ее к себе, и его непринужденная уверенность показала ей, что она принадлежит ему. Пути назад не было. Никогда больше она не будет противопоставлять свою волю его. Силу, которую она ощутила, Сигрид отдавала теперь в его руки, и ничто в мире не могло помешать этому. И она тихо заплакала у него на плече. — Любимая, — сказал он, улыбаясь, — не надо плакать, ты была так добра… — Прости… — с трудом произнесла она, — просто мне показалось, что я становлюсь твоей рабыней. — Ты стала моей женой, — ответил он, — а не моей рабыней. Ведь то, что ты дала мне, ты дала добровольно. Хотела бы ты забрать все обратно? — Нет, — подумав, ответила она. — Ты моя, потому что хотела быть моей. Тебя связывает со мной твоя воля, — сказал он. И она знала, что он прав, потому что ничего другого не желала, как быть его собственностью.

ТУРИР
Пожар, охвативший поросшую лесом гору Грип, сопровождался страшным треском, похожим на громовые раскаты; летящие во все стороны искры смешивались с ливнем, хлеставшим по склонам холма. Черный дым пожарища клубился над скалами, смешиваясь с белым туманом. Низкие, клочковатые облака догоняли друг друга и касались поверхности воды своими разорванными краями, задевая пенные барашки волн. По фьорду на всех парусах шли два корабля, подгоняемые высокими волнами, то зарываясь носом, то взлетая вверх, то вертясь на одном месте; потом один из них, подхваченный мощной волной, целиком выскочил из воды, словно дельфин. У штурвала стоял Турир Собака. Одним глазом он смотрел за курсом корабля, другим — за возвышающимся над палубой драконом по правую сторону от него. — Во имя Эгира[37], они обгоняют нас, Бьёрн! — крикнул он сквозь шум прибоя и ветра. Высокий человек, стоявший рядом с ним на юте, молча кивнул. Турир взглянул на парус. — Укороти шкот на правом борте! — крикнул он. На борту был только один человек, у кого не захватывало дух, когда они медленно, мучительно медленно начали обгонять другой корабль. Он спокойно стоял, опершись о мачту, с морщинистым, обветренным лицом и кустистыми бровями; потом он сел, с грустью глядя на вшей, бегавших по его мокрым волосам и бороде. — Они утонут! — плаксиво произнес он. — Утонут! Всю жизнь они сопровождали меня, спариваясь с вшами ирландских девок и эскимосок из Винланда. И вот теперь их смоет водой! Но никто его не слушал. — Ты просто спятил, Турир! Или ты хочешь заночевать у Ран[38]? Это кричал ему Бьёрн, указывая на столп искр прямо над левым бортом. — Я уже не первый раз хожу здесь под парусом! — крикнул ему в ответ Турир. — И я еще ни разу не хлебал здесь воды! Второй корабль был теперь от них на расстоянии чуть больше локтя, и они приблизились к нему почти вплотную. И тут кто-то крикнул: — Я вижу теперь, что за корабль мы догнали! Это корабль Эйнара Эйндридиссона из Гимсара! И он указал на высокого человека, стоявшего на палубе рядом с рулевым. — Ты обошел его потому, что стал травить концы, Турир, — крикнул Бьёрн. — Это совсем не то, что обогнать Эйнара Брюхотряса! — Стану я рвать паруса из-за каких-то наймитов Олава Трюгвассона! — крикнул в ответ Турир. Войдя в спокойные воды, Эйнар взял курс на берег, не желая больше состязаться. И Турир передал штурвал Бьёрну из Омда.В первой половине лета они были в Англии — Турир отправился туда вместе с Аскелем Олмодссоном из Хордаланда, другом Эрлинга Скьялгссона. Но они увидели страну такой разоренной и опустошенной, со стаями бродячих собак, что решили не тратить понапрасну усилий. И отправились в Ирландию, где грабили и разоряли побережье, а потом гостили у своих земляков в Дублине, после чего взяли курс на Норвегию. В Ирландии были тяжелые сражения, и Турир потерял много своих людей. Ему не хватало гребцов, поэтому пришлось взять на борт человека по имени Хьяртан Торкельссон. По рождению он был исландцем, но большую часть жизни провел в Гренландии. Он часто и охотно рассказывал о своих походах в Винланд, сначала с Лейвом Счастливым, а затем с Торвальдом Эрикссоном, его братом. В этих походах Хьяртан совершил, судя по его рассказам, множество подвигов. Но, нанимаясь к Туриру в услужение в Дублине, он вел себя гораздо скромнее. Он сказал, что слышал, что они отплывают на следующий день, и желал покинуть Ирландию как можно скорее. Но не успел еще Турир спросить, к чему такая спешка, как увидел на дороге пыхтящую, грудастую бабу, пронзительно что-то кричавшую. Она подбежала прямо к причалу, схватила Хьяртана за руку и бесцеремонно потащила за собой, при этом непрерывно горланя, словно морская чайка. — Мы отплываем завтра на рассвете! — крикнул ему вдогонку Турир. Он смеялся так, что чуть не лишился дара речи. На следующее утро, когда они уже собрались отчалить, явился Хьяртан. Они уже отошли на несколько метров от причала, когда к пристани подбежал исландец, преследуемый своей бабой. Впереди была вода, сзади — ее гнев; он сделал быстрый и мужественный выбор — и прыгнул. Его втащили на борт под хохот и грубые шутки гребцов, в то время как бабища стояла на берегу и посылала им всем проклятья. Дождь все еще шел, но Турир этого не замечал, хотя и промок насквозь. Они вошли в спокойные воды, и он дал распоряжение двум гребцам вычерпать из корабля дождевую воду. Один из них был совсем мальчишкой, впервые отправившимся в поход. Его звали Финн Харальдссон, он был братом Раннвейг, любовницы Турира. Глядя, с каким рвением он вычерпывает воду, Турир подумал, что редко увидишь такого дельного парня в первом плавании. В походе он проявил себя смелым и энергичным и хорошо владел оружием. Он честно заслужил свою часть добычи. Турир присматривал за ним, следил, чтобы тот не слишком напивался в Дублине и чтобы у него хитростью не отобрали его имущество. Он видел в мальчишке ту же упрямую гордость, что и в Раннвейг — гордость, не позволявшую ей рассказывать о том, что отец ее бьет. Даже после того, что ему сказала Сигрид, он мало что смог вытянуть из Раннвейг. Но в конце концов она показала ему несколько шрамов, оставшихся после того, как отец отлупил ее ремнем. И тогда Турир поговорил с Харальдом Финссоном. Он заключил с ним договор и заплатил виру за то, что опозорил его дочь. И когда он заплатил еще сверх того, Харальд стал смотреть сквозь пальцы на то, что Турир наведывается в его дом. Но Турир не питал к Харальду ни малейшего презрения за то, что тот продал свою дочь в наложницы. Зато по поведению Раннвейг он заметил, что она сердится на отца. После этого отношения между ними стали хуже, чем тогда, когда она добровольно терпела побои ради того, чтобы быть с ним. Он думал о том, что она заслуживает, что бы он женился на ней. В ней было гораздо больше достоинств, чем считал ее отец, да и он сам. Конечно, она была ниже его по происхождению, и он мечтал не о таком скаредном тесте, как ее отец; но все же она не принадлежала к числу простолюдинов. Ее отец Харальд тоже был чем-то вроде хёвдинга, попавшего в лапы Олава Трюгвассона. Он давно бы уже придал делу серьезный оборот, если бы не то обстоятельство, что она уже второй год была его любовницей и не беременела. А он вряд ли женился бы на женщине, не способной продолжить его род. У Сигурда был только один сын, Асбьёрн, и второго пока не предвиделось. Он пытался обдумать все это летом, находясь в Ирландии. И в конце концов пришел к мысли о том, что если он и женится на Раннвейг, ей придется смириться с тем, что у него будут сыновья на стороне. Он постоянно думал о ней, и это для нее он брал украшения и другие вещицы, которые так нравятся женщинам. Он почти уже решил переговорить с Харальдом после возвращения домой. Но сначала он намеревался погостить в Эгга у Сигрид и Эльвира — и он заранее радовался, что увидит Сигрид. Зимой в Бьяркее было так одиноко. Не раз он думал о том, как много значили ее радостный смех и веселье для обитателей дома; он понял это только после ее отъезда. А она сама не очень-то была опечалена отъездом! Казалось, она была просто зачарована Эльвиром после свадьбы. Турир не был уверен в том, что это его только радует; он считал, что всему есть предел. И ей вовсе не требовалось говорить напрямую, как мало он для нее значит. Отправляясь весной на юг, он сначала хотел взять курс на Эгга. Но потом передумал, решив с досады, что наверняка будет там лишним.
Солнце стояло высоко, когда они пересекли фьорд Бейтстад и подошли к Эгга. Турир заметил дозорных на вершине горы — теперь о его прибытии узнали в усадьбе. Он переоделся в красивую одежду, которая хранилась у него в походном сундуке, остальные тоже привели себя в порядок. Даже Хьяртан Торкельссон, у которого не было, во что переодеться, получил на время плащ погибшего в Ирландии гребца. Он охотно выслушивал пояснения тех, кто бывал раньше в Эгга. И вытаращил глаза, узнав, что сестра Турира замужем за хозяином усадьбы, расположенной на вершине горы. На борту зароптали, когда Турир отказался откупоривать в этот день бочонок с пивом. Но он сказал, что не хочет появляться в Эгга с пьяными викингами. Когда они подошли к берегу, Турир послал за Сигрид. Но когда он увидел Эльвира, спускающегося к причалу, Сигрид с ним не было. Турир напугался, решив, что что-то случилось. Ведь женщины нередко умирали при родах. И как только они вышли на берег, он сразу спросил о ней. Но Эльвир только рассмеялся. — Сигрид? — засмеялся он. — Ты ждешь, что она сломя голову побежит сюда, как нетерпеливая девчонка? Турир остановился и посмотрел на него. — Разве она не… — начал он. — Нет, она родила, — засмеялся Эльвир. — У меня теперь есть сын. Ему уже больше четырех месяцев. — Быстро это у вас получилось, — коротко заметил Турир. Ему показалось, что Эльвир слишком уж высмеивает его заботу о Сигрид. Ему стало не по себе, когда он подумал о Раннвейг.
Сигрид встретила их во дворе, когда они поднялись в усадьбу. Турир никогда бы не подумал, что ему захочется важничать перед сестрой, но вдруг почувствовал себя мальчишкой. Длинная юбка, платок на голове, связка ключей и, более того… Она была такой спокойной и уверенной в себе, она сливалась в единое целое с усадьбой, фьордом, горами. Ему трудно было понять причину этой уверенности в себе, хотя черты ее лица были те же, что и у взбалмошной девчонки из Бьяркея. Но после обеда, когда Сигрид показывала Туриру усадьбу, между ними установились прежние отношения. И когда они на миг остались наедине в одном из строений, она обняла его за шею, как это делала девчонкой. Отстранив ее от себя, он улыбнулся и посмотрел на нее. — Ну, что, Сигрид, — спросил он, — ты довольна своим браком? Ей не нужно было отвечать, потому что она вся светилась от счастья. — Тебе нужно найти себе жену, — сказала она. — Я как раз думал об этом, — серьезно ответил он. — Почему ты не хочешь видеть женой брата Раннвейг дочь Харальда? — Я ничего не имею против, — ответила она. — Но мне кажется, ты и Сигурд разделили то, что лично для меня неделимо… Он удивленно взглянул на нее, и она продолжала: — Сигурд женился ради богатства и родственных связей, ты же намереваешься жениться по любви. Я же получила и то, и другое! Вспомнив вдруг что-то, она засмеялась. — Помнишь, Турир, как однажды я назвала Эльвира пожилым бондом? Когда они вышли из большого зала, чтобы идти спать, был уже поздний вечер. И когда Сигрид вместе с Эльвиром и Туриром шла по двору, они увидели шатающуюся фигуру, идущую им навстречу. В этом не было ничего особенного, потому что в этот вечер многие не держались на ногах. Но это был Финн Харальдссон. Турир был так занят с Сигрид и Эльвиром, что совсем забыл о нем, и тот выпил слишком много пива. — Ты! — хмуро произнес он, увидев Турира; он остановился прямо напротив него, пытаясь твердо держаться на ногах. — Ты, свинья, опозорил мою сестру! Турир положил ему руку на плечо. — Ты пьян, Финн, — сказал он. — Иди и ложись, а когда проспишься, мы с тобой поговорим. — Нет! — повысил голос Финн. — Я не стану молчать о том, что отец такой негодяй, что продал свою дочь! — Придержи язык, Финн, иди и ложись спать! Голос Турира звучал теперь сердито, но Финн не унимался. — Известно ли тебе, сколько выстрадала Раннвейг из-за тебя? — заорал он. — Ты заслуживаешь того, чтобы я убил тебя, и я сделаю это, если мой отец не мужчина! Он выхватил меч и хотел нанести удар. Но Турир схватил его за запястье и вывернул руку так, что меч со звоном упал на камни. Он отобрал у него также и нож, прежде чем он оказался у него в руке, и бросил его на скамью возле дома. После этого Финн сел на землю и закрыл руками лицо. Плечи его вздрагивали от сдавленных рыданий. — Только ты один заступился за Раннвейг, — тихо сказал Турир. Они были одни, Сигрид и Эльвир ушли. — Если тебе хоть немного жаль ее, — с горечью произнес Финн, — ты не должен причинять ей такие страдания и… Он снова зарыдал. Туриру хотелось уйти куда-нибудь, где они были бы одни; проходящие по двору люди бросали на них, освещенных лунным светом, удивленные взгляды. — Пойдем, Финн, — сказал он и помог ему пройти через двор и через проулок между двумя домами, где они чуть не наткнулись на пьяного, спящего посреди дороги. Они спустились по западному склону и сели на кучу хвороста. — Я плохо отплатил тебе за все, что ты сделал для меня этим летом, — сказал Финн уже спокойнее. — Но Раннвейг моя сестра, она всегда хорошо ко мне относилась и… и… — Лицо его искривилось, и он ударил кулаком по земле. — Черт бы побрал отца! Она ждет от тебя ребенка, — сказал он, с трудом превозмогая плач. Турир чуть не подскочил. — Ты понимаешь, о чем говоришь? — спросил он. — Ты думаешь, я совсем уж дурак? — сказал Финн. — Я сам слышал, как она говорила об этом с матерью весной. А ты что думаешь по этому поводу? — Почему же она не сказала мне об этом до моего отъезда? — растерянно произнес Турир. — Если бы я знал об этом, я бы никуда не поехал. — Насколько я понял, она собиралась рассказать тебе об этом в последнюю очередь. Турир покачал головой, подумав о том, что плохо разбирается в женщинах. — Финн, — немного погодя произнес он. — Почему ты не хочешь быть моим шурином? — Твоим шурином? — лицо Финна застыло в лунном свете. — Я думал о том, чтобы жениться на Раннвейг, — сказал Турир. — и теперь я сделаю это, если ты не против. Твоего отца я не беру в расчет, но твое согласие для меня немаловажно. Финн протрезвел от этих слов. Он не знал, шутит ли с ним Турир или действительно считает его взрослым, в особенности после этого вечера. Но взгляд Турира был серьезным. Помедлив, он протянул ему руку — и Турир пожал ее. — А теперь тебе лучше всего завалиться на соломенный тюфяк, шурин, — сказал Турир. Он встал и помог Финну подняться. — Знаешь, где ты будешь спать? Финн покачал головой. — Тогда пойдем со мной, — улыбнулся Турир, — мне поставили широкую кровать, места там хватит. И по пути к старому дому, где Туриру выделили место, он вернул Финну нож и меч. Финн почти уже заснул, когда Турир потряс его за плечи: — Ты знаешь, когда у Раннвейг родится ребенок? Но ему пришлось потрясти его еще раз, чтобы получить ответ. Финн сонно пробормотал: — Они начали говорить об этом незадолго до дня весеннего равноденствия. Больше Турир его не тревожил.
Если Сигрид и была удивлена, как мало заинтересовал Турира ее сын, то на следующее утро она удивилась еще больше, увидев, как он вдруг привязался к мальчику. Он просто не мог отойти от него, стоял и смотрел, как она возится с ним. Утром рассказал о том, что произошло у них с Финном и о том, что он собирается жениться сразу после возвращения в Бьяркей. — Это твое личное дело, — сказал Эльвир. — Но наверняка в этой Раннвейг есть что-то особенное, если она заставила тебя забыть о происхождении и состоянии! — Да, так оно и есть, — ответил Турир. — И она нужна мне даже с тем жалким приданым, которое ее скупой отец даст ей… — Во всяком случае, он должен вернуть тебе то, что ты заплатил ему, когда он отдал ее тебе в наложницы, — вставил Эльвир. — Я надеюсь забрать у него все это, но меня не удивит, если мне самому придется платить ему! — Твой шурин не очень-то похож на отца. Его зовут Финн? — Финн Харальдссон, — ответил Турир. — И я думаю, он проявит себя с хорошей стороны. Он здорово сражался в Ирландии этим летом; и когда он трезв, он не позволяет, чтобы у него отнимали оружие. — Возможно, это родство принесет тебе больше радости, чем это кажется сейчас, — сказал Эльвир. — И если этот парень толковый, он сможет многого добиться, особенно, если ему помогут могущественные друзья. Не взять ли нам его сегодня на охоту? Мне хочется поближе рассмотреть его.
Финн никогда до этого не охотился на лося. И когда ему сказали, что его берут на охоту не в качестве носильщика, а в качестве участника, наравне с Эльвиром и Туриром, ему с трудом удалось сохранить спокойствие и достоинство. И когда он заметил на себе одобрительный взгляд Эльвира после удачного выстрела из лука, он не мог скрыть свою радость. Ведь теперь он знал, что этот день оправдывает все те годы, в течение которых он упражнялся с оружием, несмотря на брань отца по поводу того, что сын бонда вознамерился стать ярлом. Теперь Турир заторопился домой, но ему все-таки пришлось остаться на несколько дней. И за день до его отъезда на север Эгга посетил ярл Свейн; Эльвиру хотелось, чтобы они с Туриром познакомились поближе. Сидя за женским столом, Сигрид подумала, что ярл не выходит из дома без своего священника; и на этот раз он тоже взял его с собой. Но священник Энунд был привычным гостем в Эгга. Он был из тех, кто охотно бродит пешком по окрестностям и разговаривает со всеми; и его любили в этих краях. И многие из тех, кто отвернулся от христианства после падения Олава Трюгвассона, снова начали ходить к мессе в маленькой церкви в Стейнкьере. Однажды Эльвир встретил священника Энунда на дороге и пригласил его к себе домой. С тех пор он частенько захаживал в Эгга, и они беседовали часами. Оба были такими заядлыми спорщиками, что готовы были выцарапать друг другу глаза, но неизменно расставались друзьями. Сигрид любила сидеть и слушать их, когда у нее было время, хотя многое в их разговоре было ей непонятно. В конце концов она спросила об этом Эльвира. Но в тот вечер разговор пошел не о христианстве и вере в бога. Ярл Свейн сказал, что слышал, будто Олав Харальдссон — сын Харальда Гренландца из Вестфолда, который в свое время был сожжен в Свейе Сигрид Гордой… — Твой отец тоже был сожжен вместе с ним? — спросил он у Турира. — Да, — ответил Турир. — Он и многие другие. И это случилось потому, что Харальд Гренландец был о себе слишком высокого мнения и не стал слушать Сигрид дочь Тости, сказавшей «нет» на его сватовство. Многие говорили тогда, что ему следует уехать, получив отказ. Ведь он был женат на Асте дочери Гудбранда, матери Олава. Поговаривали, что он намеревался отослать ее прочь ради Сигрид Гордой. — Мне рассказывали, что это Олав Харальдссон жестоко разорил Англию этим летом, — сказал ярл. — Что говорят об этом в Дублине? Турир сказал, что Олав заключил договор с Торкелем Высоким и вместе с ним и другими викингами отправился в Англию, чтобы отомстить английскому королю Этельреду за убийство ярла Сигвальда, брата Торкеля. Они грабили и жгли прибрежные поселения, где люди не желали добровольно отдавать им свое имущество. А потом они остались зимовать на Темзе, что вовсе не способствовало мирной жизни прибрежных жителей. — Убив короля Этельреда, они сослужили неплохую службу англичанам, — сказал ярл Свейн. — Более плохого короля надо еще поискать. — Торкелю Высокому стоило быть более мудрым и не слишком полагаться на клятвы верности Олава Харальдссона, — задумчиво произнес Эльвир. — Разве можно верить этому отродью Харальда Прекрасноволосого и его любовницы? Будучи властолюбивым, как все они, он наверняка строил планы захвата английского престола. — Во всяком случае, он похож на них своей наглостью и коварством, — сказал Турир. — Если верить тому, что мне рассказывали, он хорошо понимал, что рожден править другими. — Похоже, этот человек унаследовал от Олава не только имя, — сказал ярл Свейн. — И меня удивит, если мы больше ничего не услышим о нем. — Но внешностью и телосложением он не похож на него, — сказал Турир. — Вы, ярл Свейн и Эльвир, видевшие Олава Трюгвассона, знаете, как он выглядит. — Внешность его говорит сама за себя, — сказал Эльвир. — Этого никто не отрицает. Как вы считаете? — Говорят, он занимает столько места на скамье, что его называют Олавом Толстым, — сказал Турир. — Морда у него шире лопаты, а волосы клочковатые и рыжие. — Таким и подобает быть конунгу, — сказал Гутторм, сидящий за столом вместе с ними. Все засмеялись. Но Эльвир тут же стал серьезным. — Он может нагрянуть сюда, когда мы меньше всего этого ожидаем, если мы не объединим всех наших хёвдингов, — сказал он. — И пока любой молокосос из рода Харальда Прекрасноволосого может сделать себя королем и вытрясать изо всех дань, словно сшибать спелые яблоки с дерева, страна будет оставаться для рода Харальда Прекрасноволосого яблоней. — Не исключено, что они приберут к рукам всю Норвегию, — медленно произнес ярл Свейн. — И стоит только людям довериться им, как они сделают из них рабов. Здесь, в Трондхейме, мы издавна поддерживали отношения со Швецией, торговали со свеями, и распри с их конунгом вряд ли пойдут нам на пользу. Поэтому мое мнение таково, что лучше нам подчиниться королю за границей, чем позволять ездить на себе верхом у себя дома. — Власть должна принадлежать тингу и законодателям, — сказал Эльвир, — как это делается в Исландии, а не отдельным людям. И никогда не должно быть так, чтобы люди, издающие законы, сами же следили за их выполнением. — Ты так думаешь? — перебил его Турир. — Да, — ответил Эльвир, — потому что эти люди смогут легко преступить закон. И тогда начнется беззаконие. Но, я вижу, тебя это задело. Возможно, ты привык сам определять права и законы к северу от Халогаланда? — Совершенно верно, — ответил Турир, — и я вовсе не преступаю закон… — Ты можешь ответить мне честно? Турир кивнул. — Хоть это и касается прошлого, но ты должен призвать самого себя к ответу, — сказал Эльвир. — Отцу вовсе не требуется пороть свою дочь, чтобы получить от тебя выкуп, законно причитавшийся ему! — Ты сам знаешь, что я беру на себя ответственность за совершенную мной несправедливость, — ответил Турир. — Здесь, в Трондхейме, существует один хороший закон, — сказал Эльвир, — согласно которому каждый отвечает за свои поступки, начиная с тинга общины и кончая тингом во Фросте. И ярл защищает права каждого мужчины… — Хорошо, что ты говоришь «каждого мужчины», а не «каждой женщины», — со смехом вставил ярл Свейн. — Мой отец имел к ним печальную слабость! Все развеселились. О слабости к женщинам ярла Хакона Ладе говорили везде и всюду, и он далеко не всегда добивался своего дозволенными средствами. — Во всяком случае, — продолжал Эльвир, — у людей есть свои законы и правила тинга. И им самим предоставляется право решать, каким богам поклоняться. Лично мне не очень-то хочется, чтобы мной правил потомок Харальда Прекрасноволосого. А ты что думаешь, Турир? Но Турир направил разговор в другое русло. — Ярл Свейн говорил о торговле, — сказал он. — Летом мы говорили с Аскелем Олмодссоном о том, что викинги получают от своих походов не такую уж большую прибыль. Англия настолько разорена, что нет смысла туда ездить. На побережье Валланда норвежцами правил хёвдинг Руана, а в Ирландии мы были так горячо приняты воинами короля Бриана этим летом, что нам больше не хочется гостить там. И мы с Аскелем пришли к выводу, что гораздо выгоднее заниматься торговлей. И еще я скажу вот что: в следующий раз я построю большое торговое судно. — Где ты будешь его строить? — спросил ярл Свейн. — О, мы можем строить корабль к северу от Халогаланда. Там до сих пор бытует предание о корабле конунга Роди! — Это меня радует, — сказал ярл, — что ты, наконец, кончаешь ходить в воровские походы и переключаешься на мирную торговлю. Как ты думаешь, не послать ли мне Торберга Строгалу на строительство твоего корабля? Он сможет приехать сюда, в Стейнкьер, сразу после Рождества, и я скажу, что тебе нужен хороший мастер. Против такого соблазна Турир не мог устоять: иметь при себе такого знаменитого корабельного мастера, построившего «Длинного Змея»! И они договорились, что он приедет в Эгга сразу после зимнего солнцеворота. Эльвир тоже хотел построить этой зимой корабль; он тоже присматривал себе подходящих мастеров. И он спросил ярла, не может ли Торберг построить два корабля за зиму, но ярл в этом сомневался. И под конец ярл по своей привычке заговорил о христианстве. — Ты ведь веришь в старых богов, Турир, — сказал он. — Мы трижды за зиму устраиваем жертвоприношение, если вы это имеете в виду, — ответил Турир. — Ты можешь быть со мной на «ты», Турир, — сказал ярл и продолжал: — Став шурином Эльвира, ты, считай, стал и моим шурином. Он протянул Туриру руку, и тот пожал ее. — Теперь я начинаю понимать, что имел в виду Эльвир, когда говорил, что ярл Ладе позволяет каждому в мире исповедовать свою веру, — сказал Турир. — Кто бы мог подумать, что ты не менее ревностный распространитель христианства, чем Олав Трюгвассон! — Да, не менее ревностный, чем он, — ответил ярл Свейн. — Разница в том, что я не пользуюсь при этом оружием. Обещаю, что сделаю все, чтобы окрестить тебя, и надеюсь, что мне с тобой повезет больше, чем до этого с Эльвиром. Вот увидишь, священник, к зиме Турир покончит с жертвоприношениями! — А во что ты, собственно, веришь, Турир? — спросил Эльвир. — Есть ли у тебя какое-то особое божество? — Трудно сказать, — ответил Турир, — ведь даже если у меня и устраивают жертвоприношения по старинному обычаю, особой веры в богов у меня нет. Я видел, какие удивительные вещи финны проделывают с помощью колдовства, и мне хотелось бы самому приобщиться к этому. Но больше всего я верю в свою удачу, и если у меня и есть какое-то особое божество, так это я сам. — Не так-то уж много ты имеешь, — вздохнул священник Энунд. — Куда еще больше? — возразил Турир. — Моя удача меня не подводит, и вряд ли христиане получают от своего бога что-то большее! Большинство христиан, с которыми я имел дело в походах, не очень-то разбогатели от своей веры! — Вы, викинги, всегда говорите об удаче и богатстве, всегда об одном и том же, — подавленно произнес священник. — Как вдолбить в ваши головы мысль о том, что есть счастье, не имеющее ничего общего с богатством или боевыми победами. Разве ты никогда не видел, убивая беззащитных священников и монахов, что они умирают в мире и счастье, которых тебе не понять? Турир задумался. — Я не имею обыкновения тратить время на то, чтобы смотреть, как они испускают дух, — сказал он. — Я занят другим. Но мне показалось, что они визжат, как свиньи, почувствовав клинок в теле. Впрочем, некоторые из них умирали как мужчины; и я надеюсь, что сам так умру, когда наступит мое время. Хотя, подожди… я помню одного священника в Ирландии: он упал на колени и поднял руки, так что я подумал сначала, что он настолько глуп, что просит у меня пощады. Но он смотрел мимо меня, и лицо его сияло. Я даже повернул голову, чтобы посмотреть, на что это он так пялится, но ничего не увидел. — И после этого ты зарубил его? — спросил священник. Турир пожал плечами. — Если у него была такая большая тоска о встрече со своим богом, я не причинил ему вреда, когда помог отправиться на нее… Священник спокойно встретил пристальный взгляд Турира, лицо его не дрогнуло. — Не думай, что мне самому легко было измениться, — сказал он. — Я ведь тоже был викингом. — Об этом ты никогда не рассказывал, — сказал Эльвир. — Впрочем, ты как-то говорил, что тебе нужно замаливать грехи, но я не думал, что это грехи такого рода… — В тех местах, где я родился, не принято было становиться викингом, — задумчиво произнес священник. — Мой отец был мирным бондом на фьорде Тюри, и когда мы слышали о хёвдингах, отправлявшихся в поход, нас это мало трогало. Но брат моей матери был кровожаден и жесток. Однажды, когда я был еще ребенком, он вернулся из дальнего похода и стал рассказывать о чужих странах. И тогда я подумал, что не хочу быть рабочей скотиной, как мой отец, всю жизнь роющийся в земле, словно свинья. Мне захотелось стать настоящим мужчиной, викингом, и добиться славы и богатства. Мне было пятнадцать зим той весной, когда я покинул дом и сел на корабль, отплывающий из Вика; мне было пятнадцать зим, и меня переполняла жажда приключений. Помню первого убитого мной человека, зияющую на шее рану, фонтан крови. Сначала мне стало дурно, но это длилось лишь мгновенье, после чего я вдруг почувствовал прилив радости от сознания того, что сам я жив, а он мертв, и у меня появилось сознание своей силы — ведь я убил взрослого мужчину. И после этого на меня накатило бешенство и жажда крови. Турир кивнул. — Пока что мне понятно, о чем ты говоришь, — сказал он. — Но как ты после этого смог стать христианским священником, этого я понять не могу. — Тем же летом, — продолжал священник, — я был ранен в одном из сражений в Англии. Все думали, что я умер, и оставили меня на поле боя. И когда англичане пришли забирать своих раненых, они прихватили и меня. «Это викинг», — сказал один из них и занес меч, чтобы проткнуть меня насквозь. «Подожди, — сказал другой. — Давай сначала немного позабавимся!» Я был тогда так слаб, что быстро потерял сознание, и это было к лучшему. Когда я пришел в себя, я лежал в небольшой комнате с белыми стенами; в потолке было отверстие, через которое виднелось небо и зелень деревьев. На самом верху стоял крест, и я до сих пор помню, как он отбрасывал темную тень на стене… Потом в комнату вошли двое мужчин. «Что ты скажешь, отец Эдмунд, если мы поступим с ним как с убийцей и вором?» — спросил один. «Он совсем мальчик, — сказал другой. — Посмотри на него! Вы отливали его водой, чтобы оживить, а теперь снова хотите его мучить! Господь никогда не говорил о том, чтобы лишать викингов нашего милосердия!» «Ты говоришь, как и должно говорить тебе, — сказал первый. — Но помни, я тебя предупреждал! Ты пригреешь у себя змею, которая бросится на тебя, как только соберется с силами!» Прошло немало времени, прежде чем я встал на ноги. Раны у меня гноились, и проведенное там время было для меня сплошной пеленой лихорадки и нестерпимой боли. Но меня вернула к жизни доброта, которой светилось лицо отца Эдмунда, его мягкий взгляд и прохладная ладонь на лбу, та заботливость, с которой он лечил мои раны и давал снотворное в случае нестерпимой боли. Наконец настал день, когда я смог заговорить с ним. И я спросил его, почему он приютил меня и заботится обо мне, почему уложил в свою постель, а сам спит на полу, хотя я бы без малейшего колебания зарубил его мечом. И тогда он стал рассказывать мне об учении Христа, согласно которому мы должны любить врагов наших и отвечать добром на причиненное нам зло. Мне странно было слышать все это. Но, узнавая от него больше о христианстве, я начал понимать. Он научил меня своим молитвам и рассказал о своих святых — людях, идущих на муки и смерть ради своей веры, прося при этом Господа простить их мучителей. И я начал понимать, что есть другой вид геройства, отличающийся от геройства в бою, и есть другое, более полное счастье, чем счастье удачи и обладания богатством. Крест над отверстием в потолке отбрасывал тень не только на стену, но и на меня самого. Когда я настолько поправился, что мог вставать, я увидел, что отец Эдмунд был священником в маленькой деревенской церкви и что помещение, в котором я лежал, было комнатой в маленьком домике, находившемся рядом с этой церковью. Я пробыл у него всю зиму, помогал ему, как мог, в его многочисленных заботах, привыкнув к исполненным ненависти взглядам местных жителей. Однажды я вышел из дому один и был основательно потрепан оравой мальчишек, так что впоследствии я держался поближе к церкви. Впоследствии я понял, что вытерпел отец Эдмунд ради меня в ту зиму. В один из весенних дней он сказал мне, что в этой местности опять появились викинги. — Ты можешь, если хочешь, отправиться к своим, — сказал он. И на глазах его появились слезы, когда я сказал ему, что вернусь домой только священником, чтобы нести людям заповеди Господа. Так что теперь ты знаешь, Турир, как я из викинга стал священником. — Неужели у тебя никогда не возникало желания снять с себя крест и снова взять в руки меч? — прищурив глаза, спросил Турир. — Неужели тебе никогда не хотелось приложить руку к отродью Локи, подвергавшему тебя, раненого, пыткам в Англии? — Я никогда не смогу сполна отблагодарить Господа за его милость, — сказал священник. — За то, что он не дал мне умереть в моих грехах. Я грешен и сейчас, еще не до конца освободив свой ум от ненависти и жажды мести; каждый день я молю Господа о прощении. Но я тешу себя надеждой на то, что, с Божьей помощью, никогда больше не возьму в руки меч. — Ты сделан совсем не из того теста, что Тангбранд, священник Олава Трюгвассона, — сказал Турир. — Помнишь, Эльвир, скольких он самолично распорядился убить? — Их было немало, — ответил Эльвир. — Но его свирепость мало помогла ему в крещении Исландии. — В Дублине я взял на борт одного исландца, — сказал Турир. — Ты можешь расспросить его об этом. Хотя он обычно рассказывает о своих походах в Винланд с сыновьями Эрика… Ярл Свейн вытаращил глаза. — У тебя есть человек, который был в Винланде, и ты не говоришь мне об этом! — воскликнул он. — Не думаю, что можно всерьез воспринимать его рассказы, — ответил Турир. — Послушать его, так они до сих пор сидели бы в Винланде с целым полчищем рабов-эскимосов, если бы только Лейв Эрикссон не слушался добрых советов Хьяртана! «И я сказал Лейву Счастливому, — говорит обычно он, — тебе следовало слушать меня, Лейв!» — Давай все же послушаем, что он скажет, — предложил ярл. — Добрый смех никому не повредит. Но Хьяртана не удалось нигде найти, и они так ничего и не узнали о Винланде. Разговор вернулся к тому, чтобы объединить местных хёвдингов, эта тема была близка и ярлу, и Эльвиру. — Ты мог бы нам помочь, Турир, заключив договор с Эриком, моим братом, и Эрлингом из Сэлы, — сказал ярл. — Эрлинг могущественный человек, с таким полезно быть в дружбе, что же касается Эрика, то я не одобряю его похождений; думаю, Эрик и сам понимает, что многим рискует, ничего особенного не получая взамен. Ты, Турир, знаешь людей из Хордаланда. Ты сам говорил, что был в походе этим летом вместе с Аскелем Олмодссоном, и я знаю, что Сигурд, твой брат, является шурином Эрлинга Скьялгссона. — Я могу попробовать, — сказал Турир, — но ничего не обещаю. Ведь Эрлинг также является шурином и Олава Трюгвассона. И у него нет причин любить ярлов Ладе.
Перед тем как расстаться, Турир присягнул на верность ярлу. И ярл Свейн был доволен таким поворотом дела. После того как ярл уехал домой и все разошлись, Турир остался во дворе. Он стоял и смотрел на облака, закрывающие луну; ему не терпелось отправиться на север. Глядя на дома, отливавшие серебром в лунном свете, он думал о Сигрид, обретшей свой дом в Эгга. Все эти дни она была так приветлива с ним; Эльвир тоже был сердечен и гостеприимен. Но все же теперь Эльвир нравился ему меньше, чем год назад. В нем появилось какое-то дразнящее превосходство, и Сигрид смотрела на него как на самого Одина! И, думая о данной ярлу клятве верности, он решил, что попался в ловушку. Он не собирался нарушать клятву верности, будь то ярл Ладе или кто-то другой. Он всегда был самим собой, выше всего ставя родовые связи. Но на этот раз он дал себя завлечь…
* * *
В ту зиму Торберг Строгала построил корабль для Эльвира. Торберг приехал задолго до Рождества посмотреть, поставлены ли стапеля для кнарра Турира; было решено, что он будет строить корабль для Эльвира, пока не приедет Турир. Но дни проходили, приближался месяц мясоеда[39], а Турир все не появлялся. Это был не маленький корабль, о котором первоначально думал Эльвир. Это было длинное судно, которым можно было гордиться, отправляясь в гости или участвуя, в случае необходимости, в морском сражении. Торберг Строгала был выдержанным парнем, дававшим распоряжения, не повышая голоса. Но уважение к этому молчаливому человеку было настолько велико, что даже самые крикливые работники замолкали, когда он был поблизости. Он не раз давал Эльвиру понять, что тот слишком самонадеян по части строительства кораблей. И в конце концов сказал, что либо Эльвир оставит его в покое, либо пусть ищет себе другого мастера. Эльвиру пришлось смириться, хотя ему это и было не по вкусу. Зато Торберг спокойно занялся делом. Он знал, что Эльвир будет доволен, увидев готовый корабль.Однажды Эльвир взял с собой Сигрид, когда уже делали обшивку корабля. Доски прикреплялись к шпангоутам, щели и стыки забивались конским волосом и заливались смолой. Торберг отошел в сторону, пока они осматривали корабль, и внимательно посмотрел на Сигрид, стоящую на берегу, в длинном платье, в развевающейся на ветру косынке. И когда она спросила его что-то о кораблестроении, он ответил ей с несвойственной ему живостью. Обшивка делается старинным способом, пояснил он, шпангоуты вставляются в заранее проделанные в борту отверстия, а потом прочно закрепляются древесными корнями, что делает корабль более податливым в плавании. Он сказал, что те, кто делают обшивку, называются подмастерьями. Он сказал, как называют и других работников, рассказал о многом другом. Сигрид казалось просто невероятным, что один-единственный человек руководит всем этим. Ведь здесь не только приходилось продумывать конструкцию, но и заранее вырубать топором каждую деталь, чтобы все части подходили друг другу. За один день Эльвир узнал о кораблестроении больше, чем за все предыдущие месяцы. — Ты соображаешь не только в кораблестроении, — подчеркнуто сухо сказал он под конец. Торберг усмехнулся. Но в глазах Эльвира появился такой недвусмысленный блеск, что после этого он больше не разговаривал с Сигрид. Сигрид покраснела и отвернулась. Она снова была беременна и радовалась этому, хотя и не подавала виду; но взгляд Торберга не понравился ей.
Только после дня весеннего равноденствия была, наконец, получена весть о том, что показался корабль Турира. Эльвир был в кузнице, наблюдая там за работой, и как раз собирался пойти переодеться. И едва он вышел во двор, как увидел Турира и его людей, поднимающихся от пристани. Сигрид вскрикнула, увидев Турира, и схватилась за руку Эльвира. Турир шел, пошатываясь. Глаза его налились кровью, лицо было бледно-серым, одежда грязной и обтрепанной. Его трудно было узнать. — Турир! — воскликнула она, подходя к нему и хватая его за руку. — Турир, что случилось? Но он даже не обратил на нее внимания. — Пойдем, — сказал Эльвир, и они втроем, сопровождаемые людьми из Бьяркея, направились в зал; с ними пошел Гутторм и кое-кто из жителей Эгга. Но когда девушки принесли мед, Эльвир покачал головой и сделал им знак рукой, чтобы они ушли; рабы, собиравшиеся принести столы, тоже ушли. Но Турир заметил это. — Ты не предложишь мне ничего выпить, Эльвир? — хриплым голосом спросил он. — Давно ли ты был трезв? — тихо ответил Эльвир. — Какое тебе дело? Дай мне чего-нибудь, чтобы утолить жажду! — Не дам. Если тебе что и нужно, так это сходить в баню, а потом выспаться, а то от тебя даже издали несет перегаром. — Ты хочешь сказать, что ты, мой шурин, отказываешься дать мне глоток меда? — Турир… — Тебе хорошо живется с моей сестрой, я это понял, и ты этого не станешь отрицать. Но дать мне глоток меда, мне, прибывшему издалека, ты не хочешь! — Дай ему что-нибудь выпить, Эльвир! — сказала Сигрид, которой было невмоготу слушать это. — Я знаю, ты всегда была приветлива со мной, Сигрид, — сказал Турир. — Прикажи своим девушкам принести мед! — Нет, Сигрид, — сказал Эльвир. — Если ты это сделаешь, завтра с ним будет то же самое. — Сигрид дочь Турира из Бьяркея! Не позволяй этому человеку, которому жалко глотка меда для твоего брата, учить тебя, что тебе следует говорить служанкам! Сигрид не ответила, а Эльвир положил руку на плечо Турира. — Я не знаю, что с тобой случилось, — сказал он, — и мне хочется помочь тебе. — Дай мне чего-нибудь выпить, — снова сказал Турир, не глядя на Эльвира, уставившись в пространство перед собой. — Нет. — Черт бы тебя побрал! — глаза Турира стали дикими. Он вскочил и остановился перед Эльвиром, держа в руке меч. — Дай мне выпить или… Не успела Сигрид опомниться, как Эльвир проворно вскочил из-за стола и тоже обнажил меч. — Ты пьян, — сказал он Туриру. — Уймись, ради Сигрид, а то случится беда! Но Турир его не слышал, его меч сверкнул в воздухе, но Эльвир отскочил. Сигрид зажмурилась, вздрогнув от звона скрещенных мечей. Но ей пришлось посмотреть на них; она не сводила глаз с топчущихся по полу фигур, наклоняющихся вперед и глядящих друг на друга с кровожадностью диких зверей, со звоном скрещивая мечи. Турир был не таким проворным, как обычно, он нетвердо стоял на ногах. Но он сражался всерьез и даже в таком состоянии был опасным противником, в то время как Эльвир преследовал лишь одну цель: выбить меч из рук брата Сигрид. Мужчины встали вокруг и подбадривали криками дерущихся. И Сигрид услышала, как их крики прерывает ее собственный голос, высокий и пронзительный: — Останови их, Гутторм! Гутторм пробрался к ней вдоль стены. — Никто не в силах остановить поединок, пока он сам не закончится, — сказал он. — Уходи отсюда, Сигрид! — Турир не понимает, что делает! — воскликнула она. — Это безумие, Гутторм, останови их! — Уходи, Сигрид, — повторил Гутторм. — Нет! Он схватил ее за руку и хотел увести силой, но отпустил, услышав крики мужчин. Турир нанес Эльвиру удар слева; кровь пропитала тунику и стекала по бедру. Сигрид не сводила глаз с мужа. — Уходи отсюда, Сигрид! — повторил он, словно эхо, слова Гутторма, не сводя с Турира глаз. Его интонация, знакомое ей дрожание голоса, весь его облик говорил о том, что Эльвир был в ярости. Она задрожала, выпрямившись. Она знала: теперь муж ждет только того, чтобы она ушла, а потом уж всерьез набросится на ее брата. А Турир в своем отупении, грязный, с всклокоченными волосами и бородой, отчаянно дрался, не понимая, что делает. Стоит ей только выйти за дверь, и он окажется прижатым к стене, израненный и обезоруженный, может быть, даже будет убит… Мечи снова зазвенели, оба оказались прямо перед ней. И внезапно она метнулась к ним, протиснулась между клинками. Эльвир опустил меч, мужчины отпрянули к стене. А Турир попытался изменить силу и направление удара, не выпуская из рук меча. И она почувствовала жгучую боль в руке и плече. — Сигрид, дура! — крикнул, побелев, Эльвир. И тут же замер на месте, взглянув на Турира. — Уходите, — сказал он собравшимся. И они ушли, не оглядываясь назад. Турир сидел на полу рядом с Сигрид, согнувшись и закрыв лицо руками. — Сестричка… — повторял он снова и снова, качаясь взад-вперед. Эльвир разорвал сорочку Сигрид, вниз от плеча, чтобы посмотреть, глубока ли рана. — Рана не опасна, — со знанием дела произнес он, чувствуя облегчение. — Если содержать ее в чистоте, все пройдет. — А ты-то сам как? — спросила она. — Об этом не стоит даже говорить, — ответил он. Сигрид чувствовала слабость, боль в плече не унималась. Но она была рада, что никто серьезно не пострадал. «Ребенок…» — подумала она. Но тут же ощутила изнутри толчок — все было в порядке. А Турир… Боль в плече была ничтожной в сравнении с той болью, которую вызывал в ее душе его вид. Она прижала его к себе и стала баюкать как ребенка. — Что случилось, Турир? — прошептала она. — Что-нибудь с Раннвейг? — Она умерла, — всхлипнул он. — Умерла, родив нашего мальчика. — Когда? — спросила Сигрид. — Накануне дня середины зимы. — А мальчик? — сквозь слезы произнесла Сигрид. — Он жив. — Где же он? — Ты думаешь, я хочу иметь дело с мальчишкой, убившим Раннвейг? — воскликнул он. — Кровь… повсюду кровь… Она умерла у меня на руках. Бедная Раннвейг… — Он снова согнулся пополам. — Турир! — сказал Эльвир, склонившись над ним. — Ты в состоянии встать и отправиться в постель? — Я как-никак мужчина… — ответил Турир. Все еще дрожа, он поднялся на ноги. Увидев кровь на тунике Эльвира, он спросил: — Ты сильно ранен? — Всего одна царапина. Мне не видно, что там такое… — Давай, я посмотрю! — сказала Сигрид. Она попыталась разорвать пропитанную кровью одежду, и Эльвир помог ей. Рана была неглубокой: это был просто длинный порез. Турир встал. Опершись на деревянный столб, он смотрел на рану Эльвира. Взгляд его был неподвижен; и Сигрид не знала, видит ли он что-то или просто смотрит в пространство. — Ну и шурин у тебя, — сипло произнес он.
Пришла весна. Проталины на склонах покрылись цветами, на деревьях набухли почки и начали выбрасывать светло-зеленую, пахучую листву. И до позднего вечера звучал голос малиновки, чистый, как флейта, переливчатый, словно вода в весеннем ручье. По небу бежали облака, подгоняемые крепким ветром, качающим деревья, пригибающим к земле кусты. И людям нравилась такая погода. Однажды, отправившись, как она это частенько делала, на один из курганов с чашей пива для усопших, Сигрид застала там Финна Харальдссона, сидящего и смотрящего в сторону Стейнкьера. Турир и на этот раз взял с собой Финна — и тот ходил, как побитая собака, после выходки Турира в зале. Его преданность Туриру была несомненной, и он был одним из немногих, на кого Турир обращал внимание. — Кто лежит в этом кургане? — спросил он, когда Сигрид поставила чашу на землю. — Эти курганы, что над домами, довольно старые, — сказала Сигрид, — в этом кургане должен лежать один из предков Эльвира, которого звали Тронд и который жил до прихода Харальда Прекрасноволосого… — Она замолчала, потом продолжала: — Ты так тяжело переживаешь смерть Раннвейг… — Для Турира это еще тяжелее, — ответил он. — Когда мы вернулись осенью домой, они были неразлучны. — Твой отец был рад тому, что Раннвейг вышла замуж? — Рад? — в голосе его прозвучало презрение. — Он был рассержен тем, что ему пришлось вернуть Туриру все, что тот дал ему. Он даже не пригласил их в гости, старый хрыч. — В этом нет ничего удивительного, потому что она была любовницей Турира и ждала от него ребенка. — Они не придавали этому никакого значения. Ты был видела их лица, когда он нес ее на руках на свой корабль! Сигрид хотела уйти, но Финн остановил ее. — Вы не должны осуждать Турира, — сказал он. — Он столько пережил в эту зиму. Я видел все собственными глазами, находясь в Бьяркее. Сигрид внимательно посмотрела на него. — Ты единственный сын в доме, — сказала она. — Разве родители не нуждаются в тебе? — Отец всегда делал из меня дурака, — ответил Финн, — говорил, что я корчу из себя знатного, занимаясь военными играми и постоянно тренируясь. И после того, как Раннвейг вышла замуж, стало еще хуже. Я постоянно слышал о том, что смогу выдвинуться лишь благодаря родству с Туриром Собакой. Поэтому я и уплыл в Бьяркей на лодке, а потом перебрался сюда. — Турир пьянствовал всю зиму? — спросила Сигрид. — Он не был трезв с того дня, как это произошло, — ответил Финн. — Каждый вечер я укладывал его в постель. — Ты очень добр, Финн, — сказала Сигрид и вдруг спросила: — На кого похож мальчик? — Трудно сказать. Мне кажется, все новорожденные одинаково безобразны. Сигрид усмехнулась. — Не забудь, что это пиво для Тронда, а не для тебя! — предупредила она его и ушла.
Она медленно шла к дому, сорвав по дороге веточку с распускающимися, клейкими листочками. Она думала о ребенке, которого вынашивала, и ей не верилось, в каком отчаянии она была ровно год назад. На этот раз при одной только мысли о том, что это ребенок Эльвира, шаги ее становились легче, а сопутствующие беременности неудобства превращались в радость. И, чувствуя шевеленье ребенка, этой новой жизни, порожденной их взаимной любовью, она теряла голову от счастья и от сознания того, что это Эльвир живет в ней. Проталины на склоне холма казались ей глазами ребенка. Пробивающаяся из-под снега трава напоминала ей о зародившейся в ней самой жизни, и она впервые заметила, как прекрасна нежная, мягкая, распускающаяся на деревьях листва, такая же ранимая в своей мягкости, как дитя в ее чреве. Она чувствовала нежность ко всему, что жило и росло. И это еще больше привязывало ее к маленькому Грьетгарду, компенсируя тот холод и ту ненависть, которые она испытывала к нему прежде. У него уже прорезался первый зуб; по этому случаю[40] Эльвир подарил ему мальчика, которого прошлой осенью родила одна из рабынь. Сигрид радовалась появлению зуба: так ее сын был надежнее защищен от колдовства. Грьетгард был крепышом, знавшим, что ему нужно. Он уже умел стоять на широко расставленных ногах, мог приходить в ярость, колотя при этом кулачками и крича до посинения. — Он унаследовал вспыльчивость от нас обоих, — сказал однажды Эльвир. — Мы должны одергивать его, иначе из него вырастет берсерк! Правда, Сигрид! — с дразнящим смехом произнес он, встретив ее раздраженный взгляд. — Ты можешь не показывать мне свой гнев. Все и без этого знают, что тебя раздразнить легче, чем лемминга!
Всю эту зиму Сигрид и Эльвир, гордые и несговорчивые, устраивали перебранки. Но Сигрид научилась понимать мужа. Она знала, что, когда его глаза сужаются, а голос становится неправдоподобно спокойным, самое лучшее — уступить. И она злилась оттого, что вынуждена была сдаться, будучи уверенной в своей правоте. Хотя в глубине души она чувствовала, что он прав. Он целиком и полностью владел ею, и она подчинялась ему. И ему даже в голову не приходило, что может быть иначе. И она понимала, почему это должно было быть так: ведь если бы она подчинила его своей воле, тогда бы их любовь, их самые счастливые мгновения оказались бы ложью. И не то, чтобы он никогда не уступал ей. Если ей удавалось не разъярить его в разговоре, он всегда соглашался с ней, а нередко даже подчинялся. Но она знала, что он уступает ей не из-за слабости. Иногда какой-то пустяк заставлял его переходить от ярости к смеху, от меланхолии к озорству. В конце концов она научилась распознавать его настроения, научилась оставлять его в покое, когда он переживал свои черные дни. И она научилась также расслабляться вместе с ним в его шаловливой веселости. И она не хотела, чтобы он был иным.
Остановившись, она глубоко вдохнула в себя весенний воздух, прежде чем войти в дом. Рука у Сигрид была на перевязи с тех пор, как ее ранили, и она привыкла обходиться одной рукой. Перевязывая рану, Эльвир сказал, что рука должна оставаться в покое. Ее злило, что он воспринимал как должное то, что она терпела перевязку без всякого оханья; ей казалось, что он должен был похвалить ее за терпеливость. И однажды, когда он менял повязку, она дала ему понять, что не мешало бы быть повнимательнее. — Ты опозоришь себя, если будешь вести себя по-другому, — сказал он. — К женщине нельзя предъявлять те же требования, что и к мужчине, — укоризненно произнесла она. — Я предъявляю к тебе посильные требования, — возразил Эльвир. — И если ты станешь вопить от такой раны, как эта, тогда мне придется обращаться с тобой так, как я обращаюсь в походе с юнцами, если те кричат, когда их ранят. — И как же ты обращаешься с ними? — Я даю им оплеуху! — ответил Эльвир, продолжая спокойно разматывать повязку. — Я не юнец, — с гневом произнесла Сигрид. — Тебе пора бы знать об этом! Эльвир засмеялся. — Да, — сказал он. — Я рад этому. И мне вовсе не хочется, чтобы ты становилась валькирией. Но я знаю, какая у тебя сила. И я не уважал бы тебя, если бы не ждал от тебя еще большего терпения! — Осмотрев рану, он добавил: — Рана затянулась, но, я думаю, рука должна побыть в покое еще несколько дней. — Ты разговаривал в последнее время с Туриром? — спросила она. Эльвир смазал рану мазью из лекарственных растений, обмотал лыком из вяза и сделал новую повязку. — Он не очень-то разговорчив в последнее время, — ответил он. — Но вчера он пытался разобраться в том, что произошло в день его приезда. И попросил прощения за свою выходку.
* * *
После случая в зале Турир не показывался почти двое суток. Сигрид посылала ему еду; он мало ел, зато так изнывал от жажды, что она в конце концов приказала одному из рабов отнести ему бочонок воды и черпак. На следующий день она истопила для него баню и приготовила чистую одежду. И самочувствие его стало намного лучше, когда он вышел к ужину. Он все еще был бледен, запавшие глаза все еще были налиты кровью. Но он был опрятен и трезв и ел так, словно никогда до этого не видел еды. И те немногие слова, которые он произнес, были осмысленными. Сигрид пришлось рассказать Торе, что произошло, но она не очень-то распространялась о состоянии брата. С Торой она теперь подружилась. Не то, чтобы их связывали горячие чувства, но обоюдное уважение было налицо. И то, что Сигрид была посвящена в ее тайну, позволило Торе в конце концов быть с ней более откровенной, чем с кем бы то ни было. И Сигрид признавала — даже если ей и не хватало великодушия сказать об этом вслух, — что Тора была права, считая, что она вела себя неосторожно, вынашивая Грьетгарда. Узнав, через что прошла Тора, она стала понимать, почему свекровь снимает с нее всю вину. Ее удивляло, с каким трудом люди приходят на помощь друг другу, замыкаясь в скорлупе своих собственных трудностей… И вот теперь ее брату было плохо, и она не знала, чем помочь ему. Мысль об этом возникала у нее всякий раз, когда она видела его окаменевшее, измученное лицо. Она думала, что если бы он понял это, он стал бы жить ради своего сына. Ведь и сама она чувствовала, что даже если бы с Эльвиром у нее никогда не наладились бы отношения, маленький Грьетгард все же наполнил бы содержанием ее жизнь. Турир сидел на скамейке у стены, когда она выходила из старого дома. Он встал и пошел ей навстречу. Он ждал ее. — У тебя есть время поговорить со мной, Сигрид? — спросил он. Она попросила его подождать, пока она сходит в дом, и потом они направились по тропинке, огибающей холм. Пройдя мимо поросшего лесом склона, мимо дома, где жили работники, они поднялись на холм, где находились дозорные и лес был вырублен настолько, что открывался вид на фьорд. Чуть пониже лежали свежесрубленные бревна, и они сели на одно из них. В просвете между деревьев перед ними открывался вид на Иннерей. Пахло смолой, и издали доносился стук топоров лесорубов. Пока они поднимались на холм, он молчал, держа ее за руку и помогая пройти в трудных местах. И когда они сели, он тоже некоторое время молчал. — Как твое плечо? — наконец спросил он. — Эльвир только что сказал, что рана затянулась, — ответила Сигрид. — Так что все в порядке. Турир смотрел в землю. Потом поднял щепку и принялся строгать ее ножом. — В тот день я вел себя по-скотски, — сказал он. — И я представляю себе, чем бы это закончилось, если бы ты не стала между нами. Я должен благодарить тебя за то, что ты рисковала жизнью, спасая мою шкуру. Но я не знаю, стоит ли мне благодарить тебя… — Тебя тянет в Валгаллу? — Да, Раннвейг ждет меня. Сигрид медлила с ответом, ей нужно было подумать. Наконец она сказала: — Ты думаешь, твоя встреча с Раннвейг была бы там радостной после того, как ты отказался от ее сына? Уронив щепку, Турир уставился на нее. — Что ты хочешь этим сказать? — Раннвейг пожертвовала своей жизнью, чтобы дать тебе сына, Турир. А ты даже ни разу не взглянул на него! — Если бы ты видела, как она страдала из-за этого мальчишки… — в отчаянии произнес Турир. — Она рожала его более двух суток, она совсем выбилась из сил. И она шептала мне, что если я буду держать ее, у нее это получится. Но когда мальчик родился, случилась беда. Она просто истекла кровью… Дальше он не смог продолжать. Сигрид взяла его за руку и некоторое время сидела так, считая, что ему нужно придти в себя. — Я даже не подозревала, что ты боишься вида крови, — сказала она. Он вздохнул и выпрямился. — То, что я видел раньше, не имеет к этому никакого отношения, — возразил он. — В самом деле, — ответила она, — вы, мужчины, ищете славной смерти в бою; вам мало умереть от какой-нибудь болезни, вам нужно умереть за что-то, умереть мужественной смертью. Мы, женщины, тоже сражаемся, если можно так выразиться. Судя по выражению его лица, он не очень-то понимал, о чем она говорит, но во взгляде его что-то проснулось. — Ты полагаешь, что Раннвейг пала в женском сражении? — спросил он. Она кивнула. — Мужчина уезжает из дома, — сказала она. — Ему нужно бороться, чтобы доказать всем и самому себе, что он мужчина. Для женщины же, хочет она того или нет, это испытание наступает, когда она рожает своего первого ребенка; после этого она знает себе цену. И если она при этом встречает смерть — и встречает храбро, — то она умирает так же геройски, как и воин на поле брани. Разве ты не понимаешь, чторади того, чтобы принести в мир новую жизнь, стоит страдать и жертвовать свою жизнь? — Думаю, понимаю, — медленно произнес Турир. — И ты полагаешь, что если я не хочу признавать нашего сына, значит, я предаю Раннвейг? Сигрид снова кивнула, и они некоторое время сидели молча. — Я не осмелился взглянуть на него с того самого дня, когда он родился, — признался Турир. — Я дал ему имя, а потом отправил его на воспитание к Бьёрну в Омд. — Ты отправил новорожденного на лодке через фьорд, в зимнее время! — Сигрид была потрясена. — Он добрался туда благополучно, — сказал Турир. — Спасибо Норнам! — сказала она. — Как ты назвал его? — Сигурд, — ответил он, — в честь деда. И, возможно, в честь тебя. — Если ты думал обо мне, давая ему имя, — сказала она, — ты должен позволить мне заступиться за него! Он резко повернулся к ней; взгляд его был преисполнен горечи. — Тебе легко говорить, — сказал он, — ты не имеешь понятия о том, что такое скорбь, не знаешь, что значит искать себе смерть! Сигрид ответила не сразу. Указав рукой на фьорд, она сказала: — Видишь там, внизу, фьорд Стейнкьер? Я лежала бы сейчас на его дне, если бы не Гутторм Харальдссон, вытащивший меня на берег. — Не могла бы ты рассказать мне, почему? — спросил он. — В одной из песен говорится, что это утешение слушать о чужих несчастьях.. Начав рассказывать, Сигрид сама удивилась, как трудно ей было говорить о первых месяцах жизни в Эгга. Рассказывая, она не смотрела на Турира, и когда он всадил свой нож в бревно, она съежилась от страха. — Вот, значит, как повел себя Эльвир, хотя я ясно дал ему понять, что ты для меня много значишь, — сказал он. — Если бы я знал об этом, я бы не стал просить у него прощения за то, что обнажил меч! — Но… — Сигрид была напугана вспышкой его ярости. — Теперь все это в прошлом. И если я смогла простить Эльвира, ты тоже сможешь. — Если бы я приехал сюда прошлой весной… — угрожающим тоном произнес он. — Знаешь, почему я не приехал? Я думал, что буду лишним! — И хорошо, что так оно и было, — торопливо ответила Сигрид. — Но самое главное, о чем я хотела сказать тебе, это то, что Грьетгард дал мне смысл жизни. — У женщин все иначе… — сказал он. — Возможно. Некоторое время они сидели молча, потом он сказал: — Нет, я не хочу и не могу нянчиться в Бьяркее с грудным младенцем! И я не думаю, что Раннвейг ждет это от меня. Но я согласен, что изменю ей и мальчику, если стану добровольно искать смерть. — Он пожал руку Сигрид. — Спасибо тебе, что ты спасла меня. Но я не могу понять, что заставило тебя рисковать жизнью ради меня, учитывая, как я себя вел! — Не стоит придавать значения тому, что говорит и делает человек, когда он пьян, — улыбнулась Сигрид, беря его за руку. — Я была бы плохой сестрой, если бы так легко забыла обо всем, что ты для меня сделал. И если я смогла любить тебя, узнав о том, чем ты занимаешься в чужих странах, то смогу вытерпеть и это… — она кивнула на раненую руку. Но у Турира ее слова не вызвали улыбки. — Что ты знаешь о моих поездках в чужие страны? — спросил он. — Я была бы рада услышать, что ты покончил с походами викингов.. — Что ты знаешь об этом? — повторил он. — Я знаю, чем вы занимаетесь там, все вы, знаю о ваших предательствах и скотстве, об убийствах женщин и детей. А когда вы возвращаетесь домой, вы рассказываете только о своих подвигах. Вы хвастаетесь своим геройством в честной борьбе… — Это Эльвир рассказал тебе об этом? Она кивнула. — Он действительно не прихватил с собой ничего ценного! Но у тебя более толстая кожа, чем я думал, раз ты можешь говорить об этом спокойно. — Жизнь вовсе не прекрасна, — медленно произнесла она. — И либо нужно закрыть глаза и заткнуть уши, отказываясь знать о том, что происходит вокруг, либо научиться принимать жизнь такой, как она есть… Турир удивленно взглянул на нее. И, собравшись с мыслями, произнес: — Кое с чем мне придется смириться. И я мало что выиграю, напиваясь до бесчувствия… Он встал. — Сигрид, — сказал он, помогая ей подняться, — ты должна пообещать мне вот что: если Эльвир снова изменит тебе или посмеет поднять на тебя руку, ты дашь мне об этом знать! И если тебе когда-нибудь потребуется помощь, я приеду так скоро, как смогу… И уже подходя к усадьбе, он спросил: — Что-нибудь слышно о Хьяртане Торкельссоне? Хьяртан исчез в то утро, когда Турир в прошлый раз приехал с севера. — Он забрел по ошибке в Хеггвин, — сказала Сигрид. — Накачался пивом, словно бочонок перед Рождеством, и заснул у стены амбара. Утром его обнаружил один из рабов, и Колбейн отослал его обратно в Эгга. — Кто такой Колбейн? — Хозяин Хеггвина, брат Гутторма Харальдссона. — Я не знал, что Гутторм родом из соседней усадьбы. — Гутторм и Эльвир росли вместе; еще будучи мальчишками, они смешали кровь. — Теперь мне многое становится ясным, — сказал Турир. — Но что ты думаешь по поводу рассказов Хьяртана о Винланде? — Эскимосы плодятся как полевки, — ответила Сигрид. — С каждым его рассказом их становится все больше и больше — тех, которых убил Хьяртан. — Он нашел себе какое-нибудь занятие? — Эльвир послал его чинить рыбацкие лодки и снасти, и это у него хорошо получалось, хотя его рыбацкие рассказы тоже вскоре стали известны всем. Зато он нашел себе здесь хорошую льночесалку.. Впервые за все время пребывания в Эгга Турир засмеялся. И он рассказал Сигрид, каким образом взял Хьяртана на борт в Дублине. — Та, что была в Дублине, куда хуже этой, — сказала Сигрид. — Эта — служанка средних лет, помешанная на мужчинах и имеющая троих незаконнорожденных детей. Она набрасывается на мужиков, как медведица на скот. Стоило ей только сурово взглянуть на него, как Хьяртан пополз к ней на брюхе, как пристыженный пес. — Бедный Хьяртан! — сказал Турир. Больше они ни о чем не говорили до самого дома.Все оставшееся время Турир вел себя тихо, и Эльвиру больше не нужно было следить за тем, чтобы он был умерен в потреблении пива и меда. Торберга и его рабочих удалось уговорить остаться еще на время, чтобы построить корабль для Турира. Сам ярл Свейн вел с ним переговоры; корабелы же сказали, что больше заработают, отправившись на летние месяцы в поход; у многих из них были к тому же свои усадьбы. Но слова ярла и обещания хорошо заплатить возымели действие. Турир часто ходил на причал, и между ним и Торбергом постепенно завязалась дружба. Торбергу нравилось, когда рядом находился Турир; и поскольку Турир был не особенно разговорчив, Торберг рассказывал и пояснял больше обычного. И в конце концов Туриру передалось стремление Торберга к совершенству конструкции — стремление, граничащее с помешательством. Он строил свои корабли, как скальд слагает свои висы, этот Торберг. Ритм шпангоутов напоминал стихотворный размер, форма деталей — кенинги, и он соединял все это в единое целое, посрамляющее чистотой своих линий не одну скальдическую песнь. И поскольку он каждый раз выдумывал новую форму деталей, все его корабли отличались друг от друга, даже корабли одного типа; все они были индивидуальны, словно живые существа. Однажды, когда они сидели вдвоем на берегу, Торберг начал рассказывать Туриру о других построенных им кораблях. Постепенно Турир тоже включился в разговор. В их дружбе не было ничего принудительного: иногда они болтали, иногда сидели молча, не чувствуя никакой необходимости разговаривать. — Что нашло на тебя в тот раз? — спросил Турир, когда Торберг рассказал ему о знаменитом «Длинном Змее». — Мастер, строивший этот корабль, имел слабое представление о красоте линий, — сказал Торберг, — и к тому же он был упрям. И Олав Трюгвассон терпеливо, как росомаха, пытался объяснить ему что-то… — Но зачем, рискуя своей жизнью, ты сказал им, что они ошибаются? — А ты сам часто рисковал жизнью ради богатства? — Бывало и такое. Но я искал не только богатство, не меньше значил для меня азарт самой битвы. — Ты понимаешь, что можно испытывать подобный азарт, строя корабль? — Да, — ответил Турир. — Я начинаю понимать. — Богатство, к которому я стремился, заключалось в том, чтобы сделать корабль как можно красивее. И перед глазами у меня стоял контур «Змея», согласно которому я и построил корабль. Глядя на то, как они забивают в обшивку гвозди, я чуть не заболел, и мне пришлось уйти, чтобы не видеть, как они портят драккар. И я пришел туда ночью и сделал зарубки, чтобы показать им, как нужно строить. — Ты был уверен в себе, — сказал Турир. — Конунг Олав вряд ли предал бы тебя легкой смерти за то, что ты испортил его корабль. — Я знал, что делаю, — ответил Торберг. — Да, он явно был доволен, когда драккар был готов, и произвел тебя в корабельные мастера… Торберг не ответил, но через некоторое время сказал: — Для какого вида товаров предназначен твой корабль? Турир стал рассказывать о своих планах, о том, что морская торговля станет в будущем прибыльным делом. Он говорил с большой страстью, и Торберг во все глаза смотрел на него, впервые видя его увлеченным чем-то. — Я рад тому, — сказал он, когда Турир замолчал, — что мой корабль будет использован в деле, которое тебе по сердцу. — Твой корабль? — сказал Турир, изумленно взглянув на него. — Корабль считается моим, даже если ты и построил его! Торберг усмехнулся. — Разве твой сын становится не твоим, когда ты отдаешь его кормилице? — сказал он. Турир почувствовал себя так, словно его ударили из-за угла. Он тут же представил себе маленькое, сморщенное личико, сжатые кулачки — сына, которого дала ему Раннвейг и которого он отослал прочь. Торберг же неправильно истолковал тень, набежавшую на его лицо. — Тебе не нравится, что я говорю о своих кораблях? — спросил он. — Я подумал о другом, — коротко ответил Турир. Торберг внимательно посмотрел на него, но ничего не сказал. И тогда Турир сказал: — У меня есть сын, которого я отослал кормилице, об этом я и подумал. — У меня самого много таких, — сказал Торберг. — Оса, моя жена, не любит, когда я привожу в дом детей от моих любовниц. — Я говорю не о ребенке любовницы. — Почему же тогда ты отослал его прочь? — Его мать умерла, когда он родился. Некоторое время Торберг сидел молча, заметив суровую горечь на лице Турира. — В мире много женщин, Турир, — сказал он наконец. — Я знаю, — ответил Турир. — Но ты можешь оставить их себе. Торбергу трудно было понять, что мужчина может быть привязан к одной женщине. Разумеется, он сам был женат, и он любил свою Осу; она была такой домашней и уютной, и он всегда возвращался к ней. Но ей приходилось мириться с его любовными похождениями. Первые годы были для нее горькими; и однажды она бросила ему в лицо слова: если бы он отдавал ей столько, сколько он отдает своим кораблям, она позволила бы ему спать с девчонками в каждой деревне. Но он только пожал плечами и сказал: «Ты думаешь?», и больше не возвращался к этому разговору. И в конце концов она успокоилась. Теперь, находясь в Эгга, он уговорил одну из девушек делить с ним постель; она была молодой, красивой и своенравной, и он был очень доволен ею. Торберг покачал головой, ему показалось, что Турир ведет себя глупо. — Раз уж ты так тяжело это переживаешь, — сказал он, — то самое лучшее для тебя — забыть на некоторое время о бабах. Постепенно ты придешь в себя, а пока займись чем-нибудь другим. Похоже, тебя интересует торговля. Почему бы тебе не потратить время и силы на это? Это даст тебе пищу для размышлений. И к тому времени, как у тебя снова появится интерес к женщинам, ты разбогатеешь… Турир засмеялся — добродушно, но с оттенком горечи. — У тебя же есть сын, — продолжал Торберг, — значит, есть для кого стараться! Турир не нашел, что ответить. Ему следовало обдумать слова Торберга. Ему нужен был какой-то толчок извне, чтобы начать заниматься торговлей. Что же касается мальчика… Если он почувствует, что может что-то сделать для сына Раннвейг, тогда, возможно, ему удастся побороть в себе мучительное чувство того, что он поступил с ним несправедливо — чувство, не покидавшее его с момента разговора с Сигрид. — Стоит попробовать, — наконец сказал он. — Турир! — вдруг весело произнес Торберг, и в голосе его послышалось воодушевление. — Этот молоток, который дал тебе ярл, в самом деле лучшего сорта! А дома у меня лежит пара форштевней, подобных которым не сыщешь; я хотел использовать их для своего собственного корабля. Если хочешь, я могу послать за ними… — Я буду только рад, — сказал Турир. — Но ты можешь и не использовать их, если передумаешь. — Наверное, я никогда не соберусь строить для себя, я слишком много строю для других. Но тебе придется пообещать предоставить мне еще больше свободы, чем прежде. — Ты волен строить, как считаешь нужным, — сказал Турир. — Я знаю, на что ты способен. — У тебя будет красивейший корабль из всех, которые только плавали по морю! Глаза Торберга сияли, и Туриру стало передаваться его воодушевление. И в нем появилось что-то от его прежней гибкой подвижности, когда он, некоторое время спустя, отплыл с Торбергом в Эгга.
* * *
Наступила середина лета. Эльвир, Турир и часть работников занимались во дворе боевыми играми, когда прискакал Блотульф Кетильссон из Гьеврана и четверо его парней. — Интересно, что им нужно… — сказал Эльвир, удивленно посматривая на его грозных сопровождающих. — Вид у него не особенно радостный, — сказал Турир. И это в самом деле было так: лицо Блотульфа напоминало грозовое небо. Это был человек лет тридцати с лишним, крепкого сложения, но не толстый, с красным лицом и белокурыми волосами. Взгляд его голубых глаз был добродушным, он часто и от души смеялся, но на этот раз между бровями у него пролегла глубокая складка, губы были плотно сжаты. Подъехав прямо к ним, он на ходу соскочил с коня. Рука его потянулась к мечу, и он грозно прорычал: — Скажи мне, где я могу найти того пса, который увивается за моей дочерью? — Мне кажется, ты должен рассказать, о ком идет речь, — спокойно ответил Эльвир. Но Блотульф уже повернулся к Туриру, которого и раньше встречал в Эгга. — Это один из твоих людей, — сказал он, — здоровенный щенок с белобрысым чубом и широкой рожей. Его зовут Финн. — Ты имеешь в виду Финна Харальдссона из Грютея, моего шурина? — сказал Турир. Блотульф опустил меч. — Я не знал, что он твой шурин, — сказал он. Но лицо его опять стало мрачным. — Если он твой шурин, то тебе следует присматривать за ним, чтобы он не позорил дочерей свободных людей! — Я думал, что он дружит с твоим сыном Хаконом, поэтому так часто и наведывается в Гьевран, — сказал Эльвир. — Я тоже так думал, — ответил Блотульф. — Но сегодня, когда я уже хотел договариваться с Халльдором из Скьердингстада о свадьбе Ингерид с Ране, его старшим сыном, овдовевшим в прошлом году, она вдруг отказалась. Она плакала, говоря, что не хочет идти за него. И когда я спросил, что она имеет против Ране Халльдорссона, то оказалось, что этот Финн совсем вскружил ей голову. Его рука снова потянулась к мечу. Эльвир повел Блотульфа в залу, четверо его парней тоже пошли с ними. И когда Эльвир, Турир и Блотульф сели, те четверо остались стоять. — Хочешь выпить, Блотульф? — спросил Эльвир. — Не пытайся задобрить меня, Эльвир, я слишком хорошо тебя знаю! — Попытка полюбовно уладить дело еще никому никогда не вредила. — Я пришел не за тем, чтобы полюбовно улаживать дело, — сказал Блотульф. — Не забывай о том, что она у меня единственная дочь, и этот брак введет ее в один из могущественнейших родов Трондхейма, — глаза его угрожающе сверкнули. — Скажи мне, где я могу найти этого паршивца? — Он сейчас на охоте, — ответил Эльвир. — Он вернется только к вечеру. — Я не уйду отсюда, пока он не вернется! — Ты уверен в том, что все обстоит так уж плохо? — спросил Эльвир. — Что тебе рассказала Ингерид? Самоуверенность Блотульфа как рукой сняло. — Она сказала, что хочет только его и никого другого, — ответил он. — То-то в последнее время он зачастил к нам… — Почему ты не хочешь, чтобы мы с Туриром занялись мальчишкой, когда он вернется домой? — спросил Эльвир. — Что бы там ни было, мы попытаемся мирно уладить дело. Вошло несколько рабов; они опустили стол, висящий на стене, и поставили его перед скамьей. Люди Блотульфа сели. Вошло несколько дружинников Эльвира и Турира, служанки принесли пиво. Эльвир сделал знак своим людям и тем, кто служил Туриру, чтобы они сели в другом конце зала, где трудно было расслышать, о чем говорили они втроем. Тяжело вздохнув, Блотульф сделал большой глоток из чаши с пивом, когда та пошла по кругу. — Я был неприветлив с тобой, Эльвир, — сказал он. — Но ты должен понять, что я не могу отдавать свою дочь за первого попавшегося негодяя! — Повернувшись к Туриру, он добавил: — Ты сказал, что это твой шурин. Я не очень хорошо знаю халогаландские семейства. Откуда он родом? — Должен заметить, — сказал Турир, — что, когда я женился на его сестре, меня больше прельщала девушка, чем ее семья. Но его отец, Харальд Финссон, является хёвдингом на том острове, где живет, да и мать его высокого происхождения, А Финн куда мужественнее, чем его отец, я хорошо его знаю и могу за это поручиться. — Не забывай, — сказал Блотульф, — что Ингерид происходит из рода Блотульфа из Олвисхауга, и я не собираюсь отдавать ее за сына какого-то мелкого хёвдинга. А этот Финн просто выставил меня на посмешище, опозорив мою дочь у меня на глазах; и, можешь быть уверен, я не слишком высоко ставлю такого рода мужество. Ты, Эльвир, мастер поговорить; может быть, ты посоветуешь мне, что я должен ответить людям из Скьердингстада? — Пока еще рано утверждать, что случилось что-то плохое, — ответил Эльвир. — На твоем месте я бы поехал обратно в Гьевран и досконально выяснил, как обстоит дело. Ясно только одно: даже если твоя дочь невинна, как ягненок, тебе не следует выдавать ее замуж за Ране из Скьердингстада на виду у всех. Блотульфу пришлось, скрепя сердце, признать, что Эльвир прав. Но он пробормотал себе в бороду, что, как только доберется до этого мальчишки… И он все еще бормотал что-то, садясь на коня и выезжая со двора. Эльвир был явно раздражен, когда повернулся к Туриру и сказал: — Если Финну так нужна девка, он мог бы, мне кажется, найти себе что-нибудь попроще и не приставать к Ингерид дочери Блотульфа! — Как ты сам сказал Блотульфу, нужно поговорить с мальчишкой, — ответил Турир. — Скорее всего, он уже попробовал ее, — сказал Эльвир, — иначе Блотульф не был бы в такой ярости. И, похоже, девушка ни в чем ему не отказывает… — Но не можем же мы позволить Блотульфу хладнокровно зарубить мальчишку! — сказал Турир, почесав в затылке. — Хотя борьба и не была бы такой односторонней. Финн тоже умеет постоять за себя. — Тебе не принесет особой пользы кровная вражда с родом Олвисхауг, — задумчиво произнес Эльвир. — Блотульф любит свою дочь. Если можно было бы убедить его в том, что он мало обрадует ее, зарубив Финна. Какое будущее ее ожидает, если она окажется с его ребенком на руках? И даже если дело не так плохо, найдет ли он для нее более подходящего жениха? — Ты разбираешься в законах, — сказал Турир, — скажи, какую виру полагается уплатить в подобном случае? — Все зависит от того, как договорятся обе стороны, — сказал Эльвир. — Но вряд ли Финн сможет уплатить Блотульфу то, что тот потребует.Вечером они пришли к Финну в старый дом. Но Финн стал все отрицать. — Я не сделал ничего плохого, — сказал он. — Мне нравится Ингерид, и я охотно бы женился на ней. Надеюсь, вы посодействуете мне в этом. Эльвир с сомнением посмотрел на него. — Финн, — сказал он, — что-то произошло, иначе Блотульф не был бы так разъярен. Наверняка ты хотел, чтобы девушка была твоей. — Да, хотел, — ответил Финн. — Но я был бы негодяем, если бы прикоснулся к ней. — Разве ты не знаешь, что Блотульф собирается переговорить с людьми из Скьердингстада о том, чтобы выдать ее за их старшего сына? — Она говорила, что он собирается выдать ее замуж. Но не сказала, за кого, добавила лишь, что он вдовец, имеет четырех детей и по возрасту годится ей в отцы. — Ране славный парень, — сухо заметил Эльвир. — И в том, что он старше ее, нет ничего плохого. Уголки губ у Турира дрогнули: Эльвир сказал это, почувствовав себя задетым, ведь они с Ране были одного возраста. Но Эльвир был рад, что Турир смеется, в последнее время горечь его стала невыносимой для всех. И голос Эльвира стал мягче, когда он снова обратился к Финну: — Тебе известно, что она принадлежит к одному из лучших родов в Трондхейме? — Нет, — ответил Финн, — я думал, что если мы с Хаконом так подружились… — Финн, Финн… — сказал Эльвир. — Ты хороший парень, но я не думаю, что Блотульф Кетильссон считает тебя подходящей для нее парой. Финн был просто уничтожен этими словами. — Ты не думаешь, что если бы вы поговорили с ним, то могли бы уломать его? — спросил он. — Мне так нравится Ингерид! — Ты еще не достаточно взрослый, чтобы понять, что к чему, — сказал Турир. — Раннвейг в свое время была не старше меня… — Финн! — Прости, Турир! — Финн явно сожалел о своих словах. — Но я чувствую, что никогда не буду по-настоящему счастлив, если она не станет моей. — Думаю, тебе нужно привыкать к мысли о том, что этого может и не быть, мальчик, — сказал Эльвир. — Как только Блотульф убедится в том, что его дочь девственна, он постарается как можно скорее выдать ее замуж за Ране. Не правда ли, Турир, ведь ты опытен в подобных делах… Эльвир попытался снова перейти на насмешливый тон, присущий ему в общении с Туриром. С дразнящей улыбкой он повернулся к Финну и сказал: — Если бы ты не вел себя так благородно по отношению к девушке, нам, возможно, было бы о чем поговорить, — сказал он. — В самом деле? — спросил Финн, уставясь на него с разинутым ртом. Эльвир понял, что сболтнул лишнее, и подосадовал, что не смог придержать язык за зубами. — Пойми меня правильно, Финн, — сказал он. — От этого может быть хуже не только Ингерид и Блотульфу, но также и мне с Туриром. Но ты честен, ты не предал Хакона, не опозорил его сестру. — Хакон обещал сделать все возможное, чтобы помочь мне получить в жены Ингерид, — сказал Финн. — Интересно, не он ли рассказал об этом Блотульфу? — Нет, — ответил Турир, — Ингерид сама ему об этом рассказала. И она вела себя хуже, чем иная служанка, когда он сказал, что хочет насильно выдать ее за Ране. Финн опустил глаза. — Значит, ничего уже не изменить? — Думаю, тебе лучше выбросить это из головы, — сказал Эльвир. — Завтра утром я поскачу в Гьевран — и надеюсь, что Турир тоже отправится со мной, — и попробую замолвить о тебе слово. Но я не думаю, что тебе следует надеяться на согласие Блотульфа. Некоторое время Финн сидел молча, опустив глаза. И когда он поднял голову, лицо его было мрачным. Они поднялись и вместе направились в большой зал. Но когда они шли через двор, Финн спросил Эльвира, не будет ли тот против, если он не пойдет с ними. Эльвир покачал головой, хорошо понимая, что мальчику нужно побыть одному. Эльвир проснулся от криков во дворе и звона мечей. Он вскочил с кровати и моментально оделся, так что Сигрид, протирая в полусне глаза, увидела его уже во всеоружии. — Что… — начала она, но Эльвир не дал ей сказать, прикрыв ее рот ладонью. Ему нужно было слышать, о чем говорили во дворе. Слышался разъяренный голос Блотульфа и успокаивающий его голос Гутторма. — Приведи сюда Эльвира! — крикнул Блотульф. — Он ответит за то, что этот Финн похитил мою дочь! Сигрид побледнела. — Успокойся, — сказал Эльвир, — И не вздумай снова вмешиваться в подобные дела! — Постарайся защитить себя, Эльвир, — умоляюще произнесла она. — Я не намерен первым обнажать меч, обещаю тебе. Выходя из спальни, он был совершенно спокоен. Блотульф привел с собой около двадцати вооруженных людей. Один из местных парней был ранен, но тут явился Гутторм и приостановил бой. И когда Эльвир вышел во двор, Блотульф бросился к нему, бледный от ярости. — Где Финн Харальдссон? — Я послал за ним. Но человек, посланный за Финном, явился ни с чем; Финн удрал. — Зря я послушался тебя, Эльвир, — дрожащим голосом произнес Блотульф. — Если бы я вчера прикончил бы этого негодяя, беды бы не случилось! — Ты полагаешь, что Ингерид тоже сбежала? — Я берег ее как самое дорогое сокровище, я приказал ей спать с матерью в одной постели, а у двери поставил дружинника… — И все-таки она исчезла? — Да. Когда Гюда проснулась утром, ее рядом не было. Дружинник клялся, что она не выходила через дверь, но когда я насел на него, он сознался, что выбегал по нужде во двор… — Меня это радует не больше, чем тебя, — сказал Эльвир. — Ты послал людей на поиски? — Еще нет, — ответил Блотульф, досадуя на то, что не подумал об этом. — Я вижу, ты явился с большим подкреплением, — сказал Эльвир. — Но я не думаю, что кто-то из нас выиграет, если мы станем врагами. Давай пошлем на поиски людей, эти двое не могли уйти далеко. — Повернувшись к своим людям, он сказал: — Ты, Хальвдан, возьми с собой пару людей, ступай на берег и проверь, все ли лодки на месте. А ты, Гутторм, собери побольше людей и проверь все сараи и рыбацкие хижины и сообщи в соседние усадьбы, что объявлен розыск. — И я думаю, — обратился он к Блотульфу, — что нам не повредит небольшой завтрак. Или ты другого мнения? Блотульф заметил, что Эльвир почти так же озабочен происходящим, как и он сам. И он направился с ним на поварню, где служанки уже накрывали на стол под неусыпным оком Торы. Вскоре явился и Турир; узнав, что случилось, он вполголоса выругался. Сигрид тоже пришла. Ей тяжело было ходить, и она села на скамейку, чтобы давать распоряжения девушкам. Эльвир рассказал, что они узнали от Финна, а Блотульф поведал, что удалось выяснить в тот же вечер ему. Но во время разговора Эльвир внезапно замолк: он вспомнил бездумные слова, которые сам же сказал в присутствии Финна — слова о том, что если бы тот вел себя с Ингерид менее благородно…
Они сидели в зарослях кустарника на западном склоне холма Эгга. Финн обнимал ее, она плакала, и ее худенькое тело сотрясала дрожь. — Моя Ингерид… — шептал он, обнимая ее так нежно и осторожно, словно она могла тут же рассыпаться на куски. — Ты не должен покидать меня, Финн, — всхлипывала она. — После этой ночи! — Мне нужно уладить это дело, — сказал Финн. — Обещай мне! — умоляюще произнесла она. — Обещаю, — ответил Финн. Он смотрел на сидящее рядом с ним отчаявшееся существо, и постепенно до него стало доходить, какую ответственность он взвалил на свои плечи. Направляясь к дому, они увидели, как Блотульф выехал из Гьеврана в сопровождении вооруженных людей, — и поняли, что ее отсутствие обнаружено. Ингерид прижалась к нему и стала упрашивать взять с собой. Внезапно ему захотелось покончить со всеми этими хлопотами, и он подумал, что прошедшая ночь мало что ему дала. Видя его замешательство, она посмотрела на него. Ее серо-голубые глаза наполнились слезами. Но на губах все же появилась слабая, дрожащая улыбка. — Ведь я люблю тебя, Финн, — сказала она. Видя ее доверчивый взгляд и робкую улыбку, он ощутил прилив нежности к ней, не смея признаться себе в том, что перед этим думал о бегстве. — Я никогда не изменю тебе, Ингерид, — сказал он, вполне осознавая смысл сказанных им слов. — У тебя были другие? — все еще всхлипывая, спросила она. Финну не хотелось отвечать на этот вопрос, но и лгать он тоже не хотел. — Для меня это было впервые, — сказал он. Увидев на его лице смущенную улыбку, она тоже улыбнулась ему сквозь слезы. — О, Финн, — прошептала она, — тебе тоже было страшно? — Чуть-чуть, — признался он. — Но почему ты это сделал? — спросила она. — Потому что я хотел этого, — ответил он. — И я не мог допустить, чтобы ты вышла замуж за этого Ране. — Теперь он не захочет на мне жениться, — сказала она, и ей стало не по себе при мысли о том, что теперь она представляет собой меньшую ценность, чем прежде. Финн отшатнулся, увидев ее унылое лицо. — Ведь ты не жалеешь о том, что произошло? — испуганно произнес он. — Нет, если ты не отвернешься от меня… Финн прижал ее к себе; теперь ему нечего было терять; во всяком случае, у него теперь появились основания для того, чтобы жениться на ней. — Если ты будешь моей, другой у меня никогда не будет, — прошептал он. — И пусть Тор услышит мою клятву, — вслух добавил он. Закрыв глаза, она положила голову ему на плечо. Но вскоре он осторожно высвободился. — Мне нужно сходить в усадьбу, — сказал он. — А ты подожди здесь, пока я не вернусь или не пришлю за тобой. — Не покидай меня! — опять повторила она, испуганно глядя на него. — Будет лучше, если я пойду туда один, — сказал Финн, — а ты подожди, пока опасность не минует. — Какой ты храбрый! — округлив глаза, сказала она. Финн еще раз прижал ее к себе, потом встал и направился в усадьбу. Он думал о том, что ей невдомек, как он напуган…
Когда на пороге появился Финн, в поварне воцарилась мертвая тишина. Блотульф вскочил с места. — Где Ингерид? — закричал он, метнулся вперед и остановился перед Финном, схватившись за рукоять меча. — Я расскажу, если ты обещаешь мне не причинять ей зла, — ответил Финн. — К-какой наглец! — заикаясь от ярости, произнес Блотульф. — Ты будешь учить меня, как я должен поступать с моей дочерью? — Она и моя, — ответил Финн. — Ты настолько бесстыден, что говоришь мне об этом в лицо! — воскликнул Блотульф, выхватывая меч. — Ты можешь зарубить меня, — сказал Финн, не притрагиваясь к своему мечу. — Но я не скажу тебе, где она, пока ты не пообещаешь мне не наказывать ее. И я не обнажу меча против отца Ингерид. Турир и Эльвир встали и подошли к ним, но Блотульф уже вложил меч в ножны. — Ты смел, ничего не скажешь, — сказал он Финну, — хотя у тебя еще и молоко на губах не обсохло. И поскольку ты признаешь за собой вину, я обещаю не наказывать ее. Так где же она? — Я приведу ее. — Нет, вы снова сбежите, — сказал Блотульф. — Будет лучше, если с тобой пойдут двое моих людей. — Даю слово, что приведу ее с собой сюда. — Ты не производишь впечатление человека, на которого можно положиться. — Я не говорил, что собираюсь бросить Ингерид. — Верно, — сказал Блотульф, — но ты водил дружбу с моим сыном Хаконом… — Мы с Хаконом еще друзья. — Думаю, что уже нет! — Хакон передал от меня известие Ингерид, — сказал Финн, — и он сказал, что я могу сообщить тебе об этом. У Блотульфа опустились руки, вид у него был такой, словно он получил пощечину. Повернувшись, он пошел на свое место и тяжело опустился на скамью. — Приведи ее, — сказал он. И он молча сидел до тех пор, пока Финн не вернулся, держа за руку Ингерид. Финн хотел отпустить ее руку, войдя в дом, но она с силой вцепилась в него и потащила его прямо к Блотульфу. Блотульф сидел и смотрел на дочь; она покраснела под его взглядом и опустила глаза, не смея взглянуть на отца. Он берег свою единственную дочь и хотел выдать ее за богатого человека, способного позаботиться о ней. И вот этот мальчишка стал поперек дороги, этот Финн, молокосос, которому только и было гордиться тем, что его сестре удалось выскочить замуж за Турира Собаку. Он переводил взгляд с одного на другого. И Хакон, его собственный сын, вступил в заговор с Финном! Он даже не подозревал, что дело зашло так далеко, если Хакон старается помочь сестре выйти замуж за того, кто ей нравится… Ингерид не выдержала: она бросилась с плачем на колени перед отцом. Блотульф положил руку на голову дочери и взглянул на Финна, стоявшего с опущенной головой. — Ты горд тем, что натворил? — спросил он. — Нет, — ответил Финн, — я бы вообще не делал этого, если бы мог получить ее иным способом. — Ты, по крайней мере, честен, — сказал Блотульф, — но ведь тебе нечем платить виру! — У меня есть кое-что, — ответил Финн, — я привез кое-какую добычу из похода в прошлом году, и зимой я выгодно продал все это. Турир встал. — То, чего недостает у Финна, добавлю я, — сказал он. — И как же ты думаешь прокормить жену и ребенка? — спросил Блотульф. — Отцовская усадьба не из самых больших, — ответил Финн, — но она и не маленькая. А я — единственный сын. — Я позабочусь о том, чтобы Финн стал более богатым и могущественным, чем его отец, — снова сказал Турир. — И я сделаю это не только потому, что он мой шурин. Я сделаю это потому, что знаю, какие способности кроются в мальчишке. Блотульф повернулся к нему. — Не забывай, что мне мало что известно о его способностях, разве что о способностях совращать девушек и валяться с ними на сеновале или не знаю где! Ингерид перестала плакать, но голова ее по-прежнему лежала на коленях отца. Она задрожала, услышав, в каком тоне отец говорит о том, что было между ней и Финном. Финн же прикусил губу. Блотульф снова повернулся к нему. — Сколько тебе лет, парень? — спросил он. — Мы с Хаконом ровесники, — ответил он. — Семнадцать лет, — сказал Блотульф, — и ты берешь на себя ответственность за жену и ребенка? — Я не желаю ничего другого, как жениться на Ингерид. Ингерид подняла голову, переводя взгляд с Финна на отца и улыбаясь. Отец погладил ее по голове. — Дитя, — сказал он. — я не уверен в том, что ты делаешь наилучший выбор. Но дело сделано; брак, который я собирался устроить, не состоится. Но я не знаю, стоит ли отдавать тебя в руки этому мальчишке. Финн! Финн вздрогнул: Блотульф впервые назвал его по имени. — Мне кажется, ты должен, по крайней мере, броситься мне в ноги! — сказал Блотульф. Финн тут же бухнулся перед ним на колени, рядом с Ингерид. — Я поступил по отношению к тебе хуже, чем сам ожидал от себя, — сказал он. — Я заслуживаю того, чтобы ты выпорол меня, и я отдаюсь на твой суд! — Посмотри на меня, — сказал Блотульф. Финн посмотрел ему в лицо. В глазах Блотульфа была горечь, а не гнев. Блотульф долго сидел и смотрел в лицо Финну. Мальчик был еще незрел, но подбородок у него был волевым, а взгляд открытым. Он вспомнил, что первой мыслью этого мальчика было защитить его дочь. И если он и поступил дурно, то это было сделано не с мыслью об измене. Блотульф начал сомневаться в том, что его дочери будет лучше, если он отошлет этого парня прочь. Конечно, он был не знатного рода, но за спиной у него стоял Турир Собака, а может быть, и Эльвир. И мог ли он теперь подыскать для нее лучшую партию? — Я готов поручиться за Финна, — сказал Эльвир и встал перед ними, и его слова прозвучали ответом на мысли Блотульфа. — В прошлом году я брал его с собой в поход, — сказал Турир, — и у меня никогда не было лучшего новобранца. Я уже сказал, что помогу ему выплатить виру, и я готов поручиться за него во всем остальном. Блотульф снова посмотрел на Финна, стоящего перед ним на коленях. — Сколько у тебя денег? — спросил он. Финн сказал. Брови Блотульфа поползли вверх: это было больше, чем он ожидал. — На что ты думаешь их потратить? — спросил он. — Я хотел заняться торговлей, — ответил Финн, — а для этого мне нужен какой-нибудь корабль. — И чем же ты собираешься торговать? — Я думаю купить вяленую рыбу и другие товары к северу от Халогаланда и отправиться в Трондхеймский фьорд или, возможно, плыть вдоль берега до самого Вика, чтобы торговать с местными жителями. А потом, если дело пойдет хорошо, я надеюсь построить корабль побольше, чтобы торговать с другими странами. — И ты думаешь, Ингерид достойна этого? — Она достойна большего. — Я не знал, что ты собираешься торговать, Финн, — сказал Турир. — У меня есть один старый корабль, который я могу тебе одолжить, если хочешь. Взгляд Блотульфа перебегал с Финна на Турира и обратно на Финна. — Ты отдался на мой суд, Финн, — сказал он. Финн кивнул. — Когда тебе исполняется восемнадцать лет? — спросил Блотульф. — Весной. Блотульф погладил левой рукой свою бороду. — Я ставлю перед тобой условия, — сказал он наконец. — Ты переселяешься в Гьевран, где будешь находиться год под моим присмотром. В этом случае ты женишься на Ингерид летом. Но если это условие тебе не подходит, свадьба откладывается на год и ты поклянешься, что не приблизишься к ней за все это время. В обоих случаях ты можешь сейчас посвататься к ней… Финн не поверил своим ушам. Немного придя в себя, он сказал: — Я предпочитаю уехать на год… — Финн! — заплакала Ингерид, не обращая внимания на то, что в поварне толпились люди. — Ты не можешь покинуть меня! — Если я уеду на год, — сказал Финн, — я смогу, возможно, доказать твоему отцу, что умею не только соблазнять девушек. Может быть, я разбогатею, а это лучше, чем идти к тебе с пустыми руками. Разве ты не можешь подождать меня, Ингерид? — Нет, — заплакала она, — нет, я не могу ждать, Финн! Подумай о том, что ты можешь и не вернуться назад, что с тобой может что-то случиться! Она прижалась к нему. — Если ты любишь меня, — всхлипывала она, — то не будь таким гордым и останься на год е Гьевране ради меня! — Не надо плакать, — сказал он, — я не могу этого выносить! Никому из нас не будет легче, если ты будешь плакать… — Ты можешь встать, Финн, — сказал Блотульф. И когда Финн встал, Ингерид снова положила отцу голову на колени. Он взял дочь за подбородок и стал смотреть на ее заплаканное лицо. — Твой нареченный показал себя более толковым, чем казался мне вначале, — сказал он. — Ты можешь им гордиться, и, мне кажется, ты могла бы и подождать его. Но Ингерид покачала головой и внезапно повернулась к Финну. — Вот уж не думал, что наступит день — и тем более, так скоро, — когда я объединюсь с тобой против Ингерид, — сказал Блотульф. — Но завтра утром ты приедешь в Гьевран вместе с Эльвиром и Туриром, раз уж все так получилось. Мы договоримся о вире и о свадьбе. Вставая со скамьи, он пожал Финну руку. — Я пришел к мысли, что у меня мог бы быть зять хуже, чем ты, — сказал он. И он вышел вместе с Эльвиром и своими людьми, сделав знак Ингерид, чтобы та шла за ним. Финн тоже пошел с ними. Они остановились у стены дома, ожидая, когда выведут лошадей. Финн положил левую руку на ее длинные каштановые волосы и повернул ее к себе, так что его лицо оказалось напротив ее лица. — Не надо! — сказала она. — Люди смотрят на нас! — Теперь я твой жених, — сказал Финн, — и я имею право прикасаться к тебе. — Ты и так прикасался, — ответила она. — Я не знал, что ты можешь быть такой упрямой! — сказал он. — Но со временем я привыкну к этому… — Не сердись, — печально произнесла она, — я вела себя так только потому, что люблю тебя и не допускаю даже мысли о расставании. — Я и не думал сердиться на тебя, — ответил он, улыбаясь. — Мы уладим это дело. Финн и Эльвир стояли и смотрели, как они уезжают со двора, Блотульф и сидящая впереди него на коне Ингерид. Повернувшись к Эльвиру, Финн сказал: — Спасибо за твой совет! — Если хоть кто-нибудь узнает, что я причастен к этому, — сказал Эльвир, — я постараюсь сделать так, чтобы тебе пришлось кое в чем раскаяться.
* * *
— Страх один, как быстро она родила! — покачав головой, сказала Гюда из Гьеврана. — Я вышла из дома среди ночи, я так торопилась, но все-таки опоздала! Она сидела в поварне в Эгга и болтала с Торой. — Да, — сказала Тора, — все обошлось. Наверное, ей помогло то, что Эльвир был рядом. Вошло несколько женщин; все заговорили о родах, и Эльвир, который тоже был на поварне, отправился в дом. Там теперь было пусто. Он огляделся по сторонам: щиты и оружие на стенах, закопченный потолок, высокое резное сидение. В этом старинном зале Сигрид родила ему двух сыновей, разница между ними была чуть больше года. Он был рад тому, что присутствовал при родах, был горд за нее. Теперь у него два сына. И однажды кто-нибудь из них сядет на его резное сидение. Этот прочный, высокий стул стоял, по старинному обычаю, у короткой стены зала, сын наследовал его от отца; поколение за поколением, все восседали на этом месте. Ему самому было восемнадцать зим, когда он стал перед почетным сидением и поклялся совершить великие подвиги, прежде, чем взойти на него. Это были заносчивые юношеские клятвы умереть смертью героя, отправиться в дальние странствия, биться в сражениях. И он сдержал свои обещания; он уехал в чужие страны и сражался там до тех пор, пока ему не приелась борьба и подвиги. Потом он вернулся в свою усадьбу, где у него появилась новая цель: улучшить законы. Теперь же, стоя в этом старинном зале, он впервые почувствовал привязанность к своей усадьбе, к дому и к земле. Раньше право владения было для него чем-то бесспорным, и он не сомневался в том, что ему надо жениться и иметь сыновей. Но только теперь он почувствовал, что обрел свое место в цепочке поколений; ему отводилось в этой цепочке лишь короткое время, и он должен был использовать его для продления рода. Он сидел на своем почетном сидении, подперев рукой подбородок, когда вошел Турир. — Я искал тебя, — сказал он, усаживаясь рядом. — Я слышал, что ты назвал мальчика в честь моего отца. Я пришел поблагодарить тебя за это. — Ты можешь поблагодарить за это и себя, — сказал Эльвир. — Если я и назвал его в честь твоего отца, то это потому, что ты сам назван в честь него. — Так захотела Сигрид? — Так захотели мы оба, — ответил Эльвир. — Хочешь взглянуть на мальчика? — Сигрид уже проснулась? — Скорее всего, ведь уже время завтракать. Сигрид кормила ребенка грудью, когда вошел Турир. На всякий случай они договорились с кормилицей, но Сигрид решила сначала попробовать сама. Турир в нерешительности остановился в дверях, и когда она кивнула, что он может войти, подошел и сел на табурет рядом с ее постелью. Мальчик уже устал сосать и отпустил грудь, и Турир сидел и смотрел на него, пока Сигрид приводила себя в порядок. Потом она взяла мальчика и протянула его Туриру. — Познакомься со своим тезкой, — сказала она и сделал знак служанкам, чтобы те ушли. Туриру было трудно отказать ей: он взял мальчика иподержал его, хотя ему и казалось, что руки его такие неловкие, будто сделаны из дерева. — Смотри не на меня! — засмеялась Сигрид. — Смотри на мальчика! Разве ты не видишь, что он похож на тебя? И Турир невольно бросил взгляд на маленькое личико. Внезапно у него перехватило дыханье, и он тут же вернул ребенка матери. Он с такой силой сжал кулаки, что Сигрид увидела, как напряглись под одеждой мускулы его рук. — Ты думаешь, я не понимаю, чего ты хочешь? Единственное, чего ты желаешь, так это чтобы я забрал домой сына! — Ты ошибаешься, если думаешь, что именно по этой причине мы назвали мальчика твоим именем. Турир вдруг почувствовал усталость. — Он так похож на моего собственного сына, что я не могу смотреть на него, — признался он. — Твой сын сейчас вдвое старше него, — сказала Сигрид. — Он теперь умеет сидеть и поворачиваться во все стороны, и он наверняка узнает тех, кто за ним ухаживает. — Но не меня, ты хочешь сказать… — невольно вырвалось у него. Дверь открылась, вошел Эльвир. Он направился прямо к постели и сел возле Сигрид. Потом положил голову на подушку и прижался щекой к личику ребенка, обняв рукой жену. И в его взгляде она прочла все то, что он не мог выразить в словах. Турир встал и хотел уйти, но Эльвир остановил его. — Мне нужно кое о чем поговорить с тобой, — сказал он. — Если ты тоже собираешься уговаривать меня вернуть Сигурда в Бьяркей, то напрасно. Эльвир и в самом деле собирался сказать ему об этом, но быстро понял, что толку от этого не будет. — Мне хочется сказать тебе совсем о другом, — сказал он. — Я еще не отблагодарил тебя за доверие, которое ты оказал мне, отдав за меня Сигрид. Я думал, что ты преувеличиваешь, говоря, как много она для тебя значит. Но теперь я это понял. — Тебе понадобилось время, чтобы усвоить это, — сухо ответил Турир. Эльвир бросил на него молниеносный взгляд. — Что ты имеешь в виду? — Ты знаешь, что я имею в виду. Если бы я приехал в Эгга прошлой весной, в живых остался бы только один из нас. И тогда я был трезв. — По какому это закону мужчина не может иметь наложницу? Турир не ответил, и Эльвир продолжал: — Давай не будем подвергать испытанию нашу дружбу из-за дела, давно решенного между мной и Сигрид! — Счет дружбы не портит, — ответил Турир. — Я же просил тебя быть приветливым с Сигрид. Какой дружбы ты ждешь от меня, если тебе плевать на мои слова? — Ты плохо смотрел по сторонам, когда первый раз приехал в Эгга, и не заметил, что в доме у меня живет наложница, — сказал Эльвир, с угрозой посмотрев на него. — Не было никакой необходимости заставлять Сигрид страдать из-за этого! Оба встали, вызывающе глядя друг на друга. Сигрид так резко приподнялась, что потревожила ребенка, и он заплакал. — Тебе не следует так кричать, Турир, если ты, зная о Кхадийе, отправил меня на юг, не предупредив об этом! — сказала она. — Я думал, что так будет лучше для тебя. — И в прошлом году ты ни разу не приезжал сюда! — Видя ваши отношения до того, как вы уехали из Бьяркея, я даже представить себе не мог, что все обернется так плохо. — Я вижу, вы оба совершили несправедливость по отношению ко мне, — в гневе произнесла Сигрид. — И, мне кажется, ради меня вы должны остаться друзьями. Оба они посмотрели друг на друга; было ясно, что никому из них не нравится, когда ему выговаривают, как провинившемуся мальчишке. И Эльвир натянуто хохотнул. — Может быть, Сигрид и права, — сказал он, протягивая Туриру руку. Но Турир помедлил, прежде чем взять ее, так что его рукопожатие получилось неискренним. И сразу после этого он вышел. — Тебе не следовало рассказывать ему о Кхадийе, — раздраженно произнес Эльвир, когда дверь закрылась. — Я думала, что рассказ о моих трудностях поможет ему пережить свои, — ответила она. — Хороша помощь, разжигать вражду между свояками! И впредь не впутывай Турира в наши дела. Двуличие — это неверность. Эльвир хотел уйти, но остановился, увидев печальное лицо Сигрид. — Я был несправедлив к тебе, — с сожалением произнес он. — Я забыл о том, что ты сделала для меня этой ночью! Он посмотрел на ребенка и улыбнулся. И прежде чем уйти, нагнулся и поцеловал ее в волосы. Летом в Гьевране была свадьба. Хотя замужество дочери и не было поводом для большого торжества, Блотульф собрал всех друзей и родственников. Финн не чувствовал себя особенно уютно под перекрестным огнем взглядов его новых родичей. Но Блотульф горой стоял за своего зятя; и когда один из сыновей Олвисхауга обругал его, он строго сказал, что любое оскорбление Финна он будет расценивать как оскорбление себя самого. Но у самих новобрачных не все шло гладко. И однажды, вернувшись из Гьеврана, Эльвир озабоченно произнес: — Если Ингерид думает, что может надеть на Финна узду и понукать его, то боюсь, ее ожидает малоприятный сюрприз. Сигрид удивленно взглянула на него. — Мне казалось, что Ингерид такая покладистая, — сказала она. — Да, — язвительно ответил Эльвир, — это было заметно уже тогда, когда она ослушалась отца и удрала в лес с Финном! Ингерид может ввести кого-то в заблуждение, но только не меня. На вид она нежна, как гусенок, и плачет по каждому поводу. Но она умеет также врать и хитрить, к тому же у нее железная воля… Все эти годы она водила Блотульфа за нос. И ты сама убедишься в том, что она не побрезгует ничем, чтобы добиться своего. — Финна не так-то легко провести, — сказала Сигрид. — Поживем — увидим. Он ведь еще мальчишка, он любит эту девушку и хочет ей во всем угодить… Эльвир озабоченно покачал головой. — Посмотрим, как у них все сложится, — сказал он. — Но настанет день, когда терпение Финна лопнет, и этот день выльется в настоящее сражение, о котором долго будут помнить в Гьевране!Турир собрался уезжать. И когда ветер подул с востока, из Стейнкьера потянуло запахом смолы: там смолили его корабль. Корабль Эльвира давно уже был спущен на воду. Эльвир назвал его «Козлом», потому что голова дракона казалась бородатой. Но таким кораблем мог бы гордиться любой хёвдинг. И все-таки корабль Турира больше обращал на себя внимание. Линии его были более смелыми, фальшборта выше, гордо возвышались форштевни: это был настоящий морской корабль. И в то же время корабль этот был легким и изящным, от него невозможно было оторвать взгляд. Турир назвал его «Чайкой». Сигрид с горечью думала о том, что Турир должен уехать обратно в Бьяркей. Они стали так близки друг другу этой весной и летом. Разница в возрасте, зиявшая между ними, словно пропасть, уже не имела никакого значения. И то, что они пережили в своей жизни, позволяло им теперь относиться друг к другу с таким пониманием, какого раньше между ними не было. Был момент, когда она сердилась на него, узнав, что ему было известно о существовании Кхадийи. Но потом она все же решила, что в основе своей он лучше большинства тех мужчин, кто выдает на сторону замуж своих дочерей и сестер. И когда он однажды пришел к ней и сказал, что если уж она так хочет, он возьмет маленького Сигурда обратно в Бьяркей, она окончательно растаяла. Но ее мучило то, что отношения между ее братом и Эльвиром стали прохладными. Не то, чтобы они были враждебно настроены друг к другу, и никто из них не переходил дорогу другому, но сердечности в их отношениях не было. И Сигрид чувствовала, что в этом есть и ее вина. Она не раз вспоминала слова Эльвира о двуличии. Но ей и в голову не приходило связывать это с той любовью, которую она испытывала к ним обоим. И она изо всех сил старалась угодить и тому, и другому. В конце концов она совсем измучилась, все чаще думая о Бьяркее. В Эгга был ее дом. Но у нее было странное, мрачное предчувствие того, что она никогда больше — никогда! — не поедет на север, в Халогаланд. И в светлые летние вечера она думала о солнце, не заходящем на севере за край горизонта; о тихом фьорде, отливающем золотом в лучах солнца, висящего над водой, о далеких островах, кажущихся повисшими между небом и землей… Она тосковала по морю. И когда бывала гроза, она вскакивала в полусне, думая, что она в Бьяркее и что молния ударяет в скалистые уступы берега. Шум моря… Рокот прибоя и плеск волн, крики птиц, шорох гальки на берегу и на прибрежной косе; ощущение моря… соленые брызги на лице, соль на коже, тепло озаренного солнцем скалистого склона, запах водорослей, рыбы, морской воды… Иногда такие воспоминания вызывали у нее приступы меланхолии. Это была не смутная, отчаянная тоска, знакомая ей по прошлому году. Эта тоска напоминала грусть потери, и она не могла отделаться от нее ни усилием. воли, ни усилиями разума. Она не хотела говорить об этом Эльвиру, боясь, что он подумает, будто она не прижилась в Эгга. Ведь она знала, что это не так, и в мыслях у нее был разброд. И поскольку приближалось время прощания с Туриром, настроение ее колебалось от меланхолии до деловитого беспокойства. Эльвир заметил это и однажды вечером сказал ей: — Ты бродишь, словно старый викинг, тоскующий по морю. Тебе хочется в Бьяркей? Он говорил тихо, чтобы не разбудить ребенка. — Да, — ответила она. Но ей не нравилось, что он понял, что с ней происходит. — Ты не должна мучиться и скрывать это от меня… — Я боялась обидеть тебя, сказав, что меня тянет в Бьяркей. — Почему это должно обидеть меня? Ты не поверишь, но я сам время от времени тоскую по южным странам и прочим местам, где когда-то бывал. Так бывает всегда, Сигрид. Находясь на чужбине, ты тоскуешь по дому, а вернувшись домой, тоскуешь по чужим местам. В Трондхейме ты тоскуешь по Бьяркею, но если бы ты была там, ты бы тосковала по здешним местам. Ты должна радоваться, что это так. Твоя жизнь была бы намного беднее, если бы ты ни о чем не тосковала. Но каждый должен сам решать для себя, где его дом, по-настоящему пустить корни можно только в одном месте. Я знаю, что здесь мне теперь хорошо, в чужой стране я вряд ли был бы удовлетворен. И твой дом здесь, в Эгга, у меня. Но нельзя препятствовать тому, что Бьяркей навсегда останется в твоих мыслях. Помнишь, что ты рассказывала мне в нашу первую ночь? И то, что с тобой происходит, и плохо, и хорошо одновременно, — и так во всем. Что же касается тоски, то в ней есть и боль, и радость. Сигрид ничего не ответила; подойдя к нему, она положила руки ему на плечи. Он притянул ее к себе, и они стояли так некоторое время, не говоря ни слова.
Торберг Строгала был готов к отъезду: на следующее утро он отправлялся на юг. Большую часть дня он провел на причале, где «Чайка» тоже была готова к отплытию, И теперь, вечером, они сидели с Туриром на скамье перед домом. Залаяла дворовая собака, и во дворе появился священник Энунд. Он подошел и сел рядом с ними. И разговор пошел, естественно, сначала о кораблях. Энунд еще не был на борту «Чайки», и когда Турир спросил, не хочет ли он осмотреть корабль, тот с радостью согласился, и они втроем пошли на причал. Спускаясь к берегу, они продолжали разговор о кораблях, и Энунд сказал, что этот корабль хвалят так, как до этого не хвалили ни одно торговое судно. И Турир выразил надежду, что Торберг не раскаивается в том, что использовал свои форштевни. — Нет, не раскаиваюсь, — ответил Торберг. — Но вчера, когда я был на борту «Чайки», мне привиделся мой дух-хранитель. И это навело меня на мысль о том, что мне недолго осталось жить. Корабль стоял на косе, и к ним подошел Эльвир, который был в это время на пристани. Двое людей Турира перенесли на борт свои сундуки и теперь сидели на них. — Не следует поддаваться предсказаниям, — сказал Турир. — И к тому же неизвестно, был ли это в самом деле твой дух-хранитель. Как он выглядел? — Это была женщина, — ответил Торберг, — и она была вооружена. — Это и должна была быть баба, раз это твой дух-хранитель! — с усмешкой произнес Эльвир. Торберг нахмурил брови, явно считая, что Эльвиру следовало бы попридержать язык, тем более, в присутствии священника. Священник Энунд, видимо, тоже так считал, потому что отвернулся, услышав слова Эльвира. Но Эльвир не собирался так легко отступать, все еще чувствуя неприязнь к Торбергу за его внимание к Сигрид. — Ты ведь христианин, — сказал он. — Разве ты не ходишь на исповедь? Энунд тут же повернулся к нему. — Это новость для меня, что ты христианин, Торберг, — сказал он. Торберг опустил глаза, лихорадочный румянец покрыл его щеки. — Я был крещен во времена Олава Трюгвассона, — сказал он. — Многие из тех, кто был тогда крещен, вернулись к язычеству, — сказал Энунд. — Я не вернулся к старым богам, — ответил Торберг. — Время от времени я хожу на мессу и на исповедь… — Ты даже не приоткрыл дверь церкви в Стейнкьере, — сказал священник. — Ты не похож на того священника, к которому я привык, — сказал Торберг. — Не думаю, что ты с такой легкостью отпустил бы мне грехи, как это делал он. — Неужели? — стоя в пол-оборота к нему, спросил священник. — Он женат, и у него есть также дети от любовниц, и он не так глуп, чтобы не понимать, что грешит… — Все мы грешны, Торберг, — сказал Энунд, — и один только Бог может судить нас. Мы же, священники, благодаря своей учености и молитвам, можем измерить глубину покаяния, а затем отпустить грехи. И для нас является утешением знание о том, что благодаря нашим деяниям во имя Господа и согласно Его заветам, Он в своей милости снисходит к нашим просьбам. Но, я думаю, ты мало выигрываешь оттого, что ищешь себе священника, поддающегося тому же греху, что и ты, и поэтому впадающего в соблазн прощения. Тебе не будет лучше, если ты перестанешь посещать церковь. И если дело обстоит действительно так, как ты думаешь, и ты вскоре предстанешь перед судом Всевышнего, теперь самое время навести порядок в своих делах. — Я вижу, ты из тех, кто желает поучать меня, — сказал Торберг. — Я не стану выполнять свой долг, если меня перестанут слушать, — ответил Энунд. — Но не думай, что поучать тебя доставляет мне радость. — Значит, ты христианин, Торберг, — задумчиво произнес Турир. — Возможно, ты сможешь объяснить мне, что хорошего в этом учении… — Спрашивай не у меня, спроси лучше Энунда. — Что говорит об этом Энунд, я и так знаю. Я с большей охотой выслушаю кого-нибудь другого. Торберг снова опустил глаза. — Я не имею права высказываться об этом, потому что живу не по заповедям… — сказал он. — Ты слышал, Энунд, — сказал Эльвир. — Я же говорил тебе, что ни один нормальный человек не может жить в христианстве. Энунд уже не в первый раз слышал это; он слышал это уже столько раз, что потерял счет. Но сейчас терпение его лопнуло. — С тобой, Эльвир, дело обстоит так, — сказал он, — что ты слишком самонадеян, чтобы следовать учению, требующему от тебя смирения и жертвенности. Ты устанавливаешь свои собственные правила. И самое лучшее для тебя правило — это то, которое Эльвир Грьетгардссон из Эгга может выполнить без усилий. На этот раз Эльвир не нашел, что ответить. Он сидел молча, прислонясь к борту и глядя на море. Солнце уже садилось. Поверхность воды напоминала золотистый ковер с мелкими темно-голубыми разводами. Наконец он повернулся к Энунду и с признательностью посмотрел на него. — Стрела попала в цель, — сказал он. — Но я еще не совсем уверен в том, что христианство является ответом на вопрос. — Я не раз думал о тебе и о твоих трудностях, — сказал Энунд, проводивший бессонные ночи перед алтарем в своей маленькой церкви и молясь за свою несговорчивую паству. — И я пришел к выводу, что ты обманываешь самого себя, говоря, что не веришь в христианство. Эльвир изумленно взглянул на него. — Это что-то новое, — сказал он. — Продолжай! — Твоя сомнительная гордость мешает тебе, — сказал священник. — Ты мог бы в нужде преклонить колени перед Господом. Но даже и в христианстве ты захочешь быть лучше остальных. Ты не сможешь довольствоваться тем, что ты обычный, грешный человек, даже если ты и станешь христианином; тебе нужна, по меньшей мере, слава святого. И даже когда ты поймешь, что не годишься в святые, твоя гордыня не позволит тебе склонить голову в покаянии. Вместо этого ты начинаешь искать ошибку в самом христианстве и отворачиваешься от всего христианского, потому что чувствуешь, что сам ошибаешься, хотя и не допускаешь даже мысли об этом. И когда ты принимаешься искать грехи у тех, кто пытается жить по заповедям Христа, ты делаешь это потому, что чувствуешь, что их падение оправдывает твое неприятие этого учения. Ты, Эльвир, так резко настроен против христианства потому, что веришь в него против своей воли. И сколько бы ты ни убеждал себя и других в противном, я вижу, что в душе твоей нет мира. Ты все время говоришь о своих сомнениях и трудностях, и я не могу за тебя распутывать все это. Но я знаю — и я надеюсь, что ты тоже знаешь это, — стоит только тебе преодолеть свою гордыню и смириться перед Богом и людьми, как Господь одарит тебя миром… — Голос священника зазвучал еще более проникновенно: — Почему ты сопротивляешься, Эльвир? Ведь я знаю, что ты веришь в силу любви и в божественную любовь, воплощенную в облике Христа! Я прошу тебя, во имя Того, кто умер за тебя, отбрось эту упрямую гордыню и ищи мир и благодать там, где, как ты знаешь, их можно найти… Глаза Эльвира загорелись. — Заткнись! — крикнул он, но тут же взял себя в руки и опять прислонился к борту: — Я рожден не для того, чтобы быть чьим-то рабом. Ты не понимаешь, Энунд, что я не смогу стать рабом, даже если захочу. — Если бы ты только попытался, — сказал Энунд, — ты бы понял, что человек обретает истинную свободу только тогда, когда подчиняет свою волю Богу. — Что же это за свобода? — перебил его Турир. — Свобода от того рабства, в которое каждый человек попадает, благодаря своему честолюбию, жадности и гордыне; свобода от скорби, даваемая сознанием того, что воля Божья — это для нас самое лучшее, что может быть, даже если Он ведет нас через несчастья. — Ты думаешь, что если бы я верил в твоего Бога, я бы верил в то, что он с любовью отнял у меня Раннвейг? — Если он отнял у тебя твою жену, — сказал священник, — он хотел тем самым приблизить тебя к себе… — Если бы он захотел приблизить меня к себе, — с горечью произнес Турир, — он бы доказал это другим, более добрым, способом, а не так, как он это сделал. Ты много говорил о любви, добре и благодати. Но жизнь совсем не такая, во всяком случае, та жизнь, которую я видел. Жизнь — это собачья драка, в которой надо быть сильнее других, чтобы тебя не разорвали на куски. Ты говоришь, что твой Бог может отнять у меня самое дорогое в жизни и при этом ждать от меня покорности, любви и добра! Убирайся к троллям со своим Богом! — Ты все еще полагаешься на свою удачу, Турир? — А почему бы и нет? Я еще не до конца обобран, у меня еще есть сын. И я скажу тебе: если надо, я могу еще кусаться и царапаться, так что когда придет его время, он отправится на битву во всеоружии! — Если ты веришь в богов, то ты наверняка считаешь, что это они отняли у тебя твою жену… — Если мои боги подставили мне подножку, я отплачу им тем же; и они не ждут от меня, что я буду отвечать на зло покорностью и смирением. И если твой Бог существует и чего-то хочет от меня, пусть он даст мне ощутимые доказательства этого. — Святой Фома тоже просил доказательств, — тихо произнес священник. — И Иисус не отверг его, он дал ему требуемое доказательство. Если ты в самом деле нуждаешься в этом, Турир, ты получишь это доказательство, когда это будет угодно Господу. Торберг, сидевший до этого и слушавший, вдруг задрожал, как продрогшая собака. — Не нужно так серьезно принимать все это, — сказал он. — От закоренелого грешника требуется не так уж много, чтобы перед ним распахнулись врата рая; насколько я понимаю, достаточно окреститься, время от времени слушать мессу, каяться, исповедоваться, причащаться… И даже если кому-то и приходится некоторое время гореть в огне, он рано или поздно проходит через эти узкие врата. Безгрешных людей нет, даже сам привратник, насколько мне известно, был грешен… — Да, — сказал Энунд. — Бог проявил свою милость и власть, сделав святым человека, предавшего Его сына. И ты тоже, как ты сам сказал, попадешь на небо, идя туда своей кривой дорогой и ведя, насколько мне известно, опасную и рискованную игру. Но когда ты попадешь в очистительный огонь, ты поймешь, как постыдно ты предал своего Бога, и с горечью раскаешься в этом. — Энунд, — сказал Эльвир, — я думаю, ты достаточно наговорился за этот вечер. Что ты скажешь по поводу примирительного бочонка пива? Все засмеялись. Разговор перешел в болтовню, и все сошли с корабля на землю.

НЕСЬЯР
Всю ночь дул ветер, а наутро пошел снег, сначала легкий и пушистый, потом густой и обильный, так что к полудню весь фьорд был окружен сугробами. В старинном зале, где Сигрид сидела за ткацким станком, огонь горел в обоих очагах. Но она не была целиком поглощена работой: маленький Турир и дочь Гудрун цеплялись за ее юбку. Грьетгард уже чувствовал себя большим — ему пошел седьмой год — и он сидел возле печки с отцом. Эльвир обтесывал новое топорище, мальчик строгал ножом щепку. Но мысли Эльвира были далеко, и он рассеянно отвечал на болтовню сына. В последнее время он часто сидел так, погрузившись в свои мысли, узнав о том, что Олав Харальдссон вернулся в страну. Совершенно невероятным образом Олаву удалось захватить ярла Хакона Эрикссона: тот угодил в его когти вместе с двумя торговыми кораблями неподалеку от Стада. Ярл Хакон был отпущен, но только после того, как дал клятву покинуть страну и никогда не поднимать меч против Олава. После этого Олав отправился в Эстланд, где его мать, Аста дочь Гудбранда, была замужем за конунгом Сигурдом из Бенснеса, что возле фьорда Тюри. И здесь он угрозами добился того, что хёвдинги Уптшанда избрали его королем. Эльвир думал, что если бы ярл Эрик не умер так скоропостижно в Англии, этого бы не произошло. Его сын Хакон не был прирожденным воином, и то же самое можно было сказать о ярле Свейне. После встречи с Олавом Харальдссоном ярл Хакон отправился в Англию. Там он стал жить у брата матери, Кнута, который был сыном Свейна Вилобородого и королем Англии и Дании. Эльвир вспомнил о предыдущем изгнании ярлов Ладе из страны. Это было в то время, когда королем Норвегии был Олав Трюгвассон, и вместе с ними из страны был изгнан сам Эльвир. В те годы в Эгга осталась Тора. С помощью Гутторма она управляла усадьбой до тех пор, пока — после сражения при Сволдре — не вернулся Эльвир. Но теперь Эльвир был старше, и ему приходилось думать не только о самом себе. Он взглянул на Сигрид и подрастающих детей. Сыновья его уже начали показывать, на что они способны. А дочь, маленькая Гудрун, со светлыми локонами и веселыми глазами, уже научилась в свои два года пользоваться пухлыми кулачками. Сигурд Турирссон, предсказавший, что у Сигрид будут только сыновья, был посрамлен. Днем они получили известие о том, что какой-то торговый корабль подходит со стороны Стейнкьера. Эльвиру не терпелось узнать новости, и если бы погода была лучше, он сам спустился бы на пристань. В этом году рано выпал снег, сразу после дня зимы, но этот снег должен был растаять. Погода была неподходящей для плаванья под парусами. Во дворе залаяла собака. Гутторм, тоже находившийся в зале, встал и вышел с двумя парнями во двор, посмотреть, кто пришел. Остальные остались в зале, в том числе Рагнхильд с тремя сыновьями. Младший из них, Харальд, сидел возле печки с Грьетгардом — они были хорошими друзьями. Тора, как обычно, сидела на скамейке и пряла, веретено жужжало у нее в руках. В зале были также дружинники Эльвира и кое-кто из прислуги. А возле ног Эльвира спал Фенрир; услышав чужие голоса во дворе, пес поднял одно ухо. Фенрир был теперь старым и медлительным, да и со зрением у него было неважно. Но Эльвир и Сигрид единодушно решили, что собака должна дожить свою жизнь в мире. Тора однажды намекнула на то, что от собаки мало проку, а ест она много. Но Эльвир, смеясь, ответил, что от собаки столько же проку, что и раньше, зато есть она стала меньше. Вскоре вернулся Гутторм и сказал, что пришел один рыбак, а с ним двое исландцев с торгового корабля. Исландцы хотят провести зиму в Трондхейме, и ярл Свейн, получивший с них свою часть дани, обещал помочь им устроиться. И теперь они явились в Эгга с приветом от ярла, чтобы спросить, нельзя ли им остаться здесь. — Надо взглянуть на них, — сказал Эльвир. — Хотя нельзя сказать, что ярл предоставил нам такой уж большой выбор! Гутторм подошел к двери и крикнул, и один за другим на пороге показались запорошенные снегом чужеземцы. Эльвир сел на свое почетное сидение, и те подошли к нему. Один из исландцев был необычайно высок, белокур и широкоплеч. Его можно было бы назвать красавцем, если бы не безобразный шрам, перерезающий лицо от виска до подбородка. Этот человек заговорил первым. — Ярл Свейн из Стейнкьера послал нас сюда, чтобы попросить жилье на зиму, — сказал он. — Мы купцы и привезли товары в Трондхейм. Но зима наступила слишком рано, и нам вовсе не хочется плыть в Исландию во время штормов. Меня зовут Гицур Хальфредссон, а моего друга зовут Сигват Тордссон. Человек, стоявший рядом с Гицуром, был ниже его и моложе, крепкого сложения, с отливающими синевой черными волосами. Сигрид обратила внимание на его ладони. Они были узкими, красивой формы, почти как у женщины, но казались настолько сильными, что могли бы согнуть меч. — Вы можете остаться в Эгга, — сказал Эльвир. Сигрид принялась давать распоряжения служанкам, чтобы те подготовили постель для приезжих, приготовили еду и нагрели воду для купания. Она была недовольна тем, что ее оторвали от ткацкого станка. И только поручив детей Гюде дочери Халльдора, она почувствовала, что может спокойно работать. Она не любила, когда ее отвлекали во время работы, ведь она выдумывала все из головы, а идеи приходили во время работы. Ковер, который она ткала, состояла из двух частей, которые затем должны были соединиться; восемь ее ковров рассказывали о том, как Один похищает мед поэзии у Гунлёд, дочери великана Суттунга. Сигрид работала уже над последней картиной; на ней была изображена Гунлёд, опечаленная тем, что Один нарушил клятву верности и изменил ей. Сигрид использовала все свободное время на ткачество и сама подбирала растения, пригодные для получения красок. Она знала полезные свойства многих растений: елового мха, лишайников, вереска… Но больше всего ей нравился подмаренник северный — за теплые красно-коричневые тона, которые он давал. И когда приходил торговый корабль с юга, она не упускала случая, чтобы запастись голубой краской. Пряжу она тоже красила сама, а потом раскладывала для просушки в тени. И дети во дворе держались подальше от ее пряжи, зная, что Сигрид не будет ласкова с тем, кто спутает или испачкает нитки. Однажды вечером младший из исландцев подошел к ткацкому станку. Посмотрев на картину через плечо Сигрид, он принялся читать строфу из старинной песни:Дал клятву Один на кольце[41],
но стоит ли верить его словам?
Суттунгуон изменил,
Гунлёдплакать заставил.
И он нараспев прочитал другую песнь; Сигрид остановилась и посмотрела на него, взгляды их встретились. Она никогда раньше не видела таких глаз, черных и мечтательных, горящих огнем. И она тут же повернулась обратно к ткацкому станку, и ее пальцы заработали быстрее обычного. — А где все остальное? — спросил он. И она достала первую часть картины, развернула и показала ему. Переводя взгляд с одной картины на другую, он искоса посматривал на нее. — Более красивого тканья я никогда не видел, — сказал он. — Вам нравится, фру Сигрид, эта песнь, в которой говорится о меде Суттунга? — Мне нравятся песни о богах, — сказала она, — хотя здесь, в Эгга, мало кто знает поэзию скальдов, разве что некоторые отрывки. Несколько раз я слушала Берсе Скальдторвессона, скальда ярла Свейна, и мне очень понравилось. Исландец молчал некоторое время, потом произнес:
Для тебя я песню,
женщина, слагаю,
за твои картины,
что ты показала.
Горько плачет Гунлёд,
изменил ей Бёльверк,
не забыть его ей,
деве одинокой.
Но богов измена
людям дарит прибыль:
дар великий скальдов
Эмблы[42]род вкушает.
Скальдом ты зовешься,
ведь о скорби Гунлёд
ты проворством пальцев
песнь слагаешь в красках.
В зале было тихо, пока он произносил свою песнь. И когда он закончил, Эльвир попросил его повторить, потому что не слышал первой строфы. Но когда он захотел вознаградить исландца, тот покачал головой. — Я сочиню для тебя другую песнь, — сказал он, — и за нее ты можешь заплатить мне, если захочешь. За эту же песнь я получил плату заранее. Сигрид сидела за ткацким станком. И теперь, глядя на свою работу, она увидела ее в новом свете: она увидела все его глазами, глазами скальда. Он назвал ее тканье песнью в красках. В самом деле, она умела подбирать цвета: радостные и грустные, тяжелые и легкие, помогающие изложить содержание саги, показать чувства людей, великанов и богов. Но раньше никто этого не понимал. Он назвал ее скальдом… Кто он такой, этот юноша? Во всяком случае, он производил впечатление человека, знающего себе цену. Она вздрогнула, снова услышав его голос, который теперь звучал взволнованно. — Хьяртан, старое эскимосское чучело! Что ты делаешь здесь, в Трондхейме? Его слова были адресованы Хьяртану Торкельссону. Оперевшись правой рукой о стол, он с легкостью перескочил через него, расплескав при этом налитый в чаши мед и заставив Эльвира нахмуриться; очутившись возле Хьяртана, он принялся энергично колотить его по спине. И Хьяртан, выпивший уже не одну чашу меда, ржал, как жеребец. — В-в-вот уж не думал снова встретиться с тобой, Сигват! Как здорово! — заикаясь от веселого возбуждения, воскликнул он. — Как у тебя дела? Много ли ты съел за последнее время рыбьих голов? Сигват захохотал. — Нет, — ответил он, — но если ты знаешь, где водится много рыбы того же сорта, что и в Апаватне, я охотно отправлюсь туда порыбачить! — Ты понимаешь, о чем он говорит? — спросил Эльвир у Гицура, сидящего рядом с ним. — Да, — ответил Гицур, — Сигват воспитывался у Торкеля из Апаватна. И ему сказали, что если питаться определенным видом рыбы, обитающей в тех водах, то станешь необычайно умным. Один норвежец посоветовал ему есть головы, потому что там находится рыбий ум. И тогда Сигват съел все головы от пойманной рыбы и стал скальдом. — Хьяртан был одним из родственников Торкеля, — продолжал Гицур, — и считал Апаватн своим домом, вот почему они с Сигватом знают друг друга. А тем временем Хьяртан и Сигват рассказывали друг другу, что произошло со времени их последней встречи. И когда в зале на миг стало тихо, вдруг послышался шепот Сигвата, слышимый во всех углах: — Как обстоят дела с твоим золотом, Хьяртан? Хьяртан крякнул, огляделся по сторонам и процедил сквозь зубы: — Оно лежит на берегу в Винланде, ты сам об этом знаешь. — И ты до сих пор не взял его! Хьяртан, смелый завоеватель Винланда, ты меня просто разочаровал! — Мне бы только снарядить корабль… — сказал Хьяртан, — но никто не хочет слушать меня. Ты бы посмотрел на тот берег на севере Винланда, куда мы причалили! Золотые слитки валялись там, как яйца чаек! Если бы он только послушал меня, этот Торвальд Эрикссон, мы теперь были бы богаты, все, кто был на борту! Но он всегда знал обо всем лучше других. И он сказал, что нужно возвращаться назад — в тот раз, когда мы с ним нашли золото, всего в трех-четырех днях пути от домов Лейва, но он не захотел слушать меня… А потом Торвальд умер. А золото осталось лежать там, и мне не удалось никого убедить в этом на обратном пути. Никто не верил мне, когда я говорил, что мы с Торвальдом нашли… — Лицо его просияло. — Ясное дело, они боялись эскимосов, и они не решились отправиться туда, трусы. — Это там ты заплыл на веслах в пещеру? — спросил Сигват. Хьяртан кивнул. — Если хочешь, чтобы я рассказал об этом, мне нужно немного промочить горло. Основательно глотнув из чаши, он продолжал: — В тех горах, что рядом с золотоносным берегом, было множество пещер. И в шторм волны поднимались так высоко, что невозможно было войти туда. В тихую же погоду вода не доходила до уключин весел. Из одной пещеры слышался треск, похожий на удары грома, и никто не осмеливался зайти туда и посмотреть, в чем дело. «Ты, Хьяртан, — сказал Торвальд, — ты самый смелый из нас, ты и пойдешь туда». И я сказал ему: «Да, я готов осмелиться на это», — и пошел. — И что же ты там обнаружил? — спросил Эльвир, никогда до этого не слышавший подобных небылиц. — Я увидел там удивительные вещи, — сказал Хьяртан, глотнув еще меду, прежде чем продолжать дальше: — В той пещере жил здоровенный бычок. Он лежал в углублении в скале, держа нос у самой поверхности воды и разинув пасть, так что рыбы и другие морские животные заплывали прямо туда. И когда он закрывал пасть, слышался треск. Я поспешно выскочил наружу. Но тут нахлынула волна и потащила меня вместе с лодкой прямо в пасть бычку. Ты бы слышал, какой послышался грохот! Чудовище поперхнулось, закашляло и выплюнуло меня вместе с лодкой из пещеры! Посмотрел бы ты на остальных парней: они дрожали, как осиновый лист, потому что вся гора задрожала, а сам я вылетел из пещеры с такой скоростью, словно меня преследовали злые духи! Там была еще одна пещера. Но если рассказывать об этом, нужно опять промочить горло. Вволю глотнув меду и вытерев рот рукавом, он продолжал: — Вторая пещера была глубокой, — начал он. — Я греб и греб, становилось все темнее и темнее. Но вдруг я увидел удивительный мерцающий свет и, оглядевшись по сторонам, увидел, что нахожусь в просторном помещении и что ко мне направляется группа эскимосов с факелами. «Откуда вы здесь взялись?» — спросил я. И тот, кто шел первым, ответил: «Мы пришли с другого края земли». — Значит, твои эскимосы говорили по-норвежски? — спросил Гутторм, подмигивая Эльвиру. — Я умею говорить по-эскимосски, — с достоинством ответил Хьяртан и, пользуясь паузой, глотнул еще меда. — «А я пришел из далекой страны, что к востоку от восхода солнца», — сказал я. «Ты, должно быть, великий хёвдинг, — сказал он мне, — если осмелился в одиночку войти в эскимосскую пещеру. Никогда я не видел таких храбрецов, как ты. Хочешь быть нашим богом?» Я поблагодарил его и сказал, что мне нужно домой в Апаватн. И ты бы видел, как он тогда разъярился! «Раз ты не хочешь, мы тебя заставим!» — сказал он. «Этого мне только не хватало, — подумал я. — Это похуже, чем бычок». И тогда я вспомнил, что в лодке у меня были лосиные рога. И я надел их на голову, крепко придерживая длинным и указательным пальцами, раздвинув большими пальцами губы и вытаращив глаза. И завыл во всю глотку… И я не знал, куда подевались все эскимосы, но больше я их не видел. Голос Хьяртана стал неразборчивым. — Должно быть, ты видел того лосося, которого я чуть было не поймал летом в Стейнкьере… — сказал он Сигвату. — Ты имеешь в виду того самого, который смахнул тебя с лодки хвостом? — спросил Эльвир. — Нет, я имею в виду не его, парень, тот был крупнее! Я уже схватил было его за шею, но тут он повернулся и плюнул мне в лицо. И мне пришлось отпустить его. В другом конце зала поднялась хрупкая, маленькая женщина. — Хьяртан! — резко, словно удар копья, прозвучал ее голос. Хьяртан сразу весь как-то скрючился и обмяк. — Извини, Сигват, — торопливо пробормотал он и понуро поплелся к двери. С этого дня его стали звать Хьяртан Эскимосское чучело.
С появлением Сигвата словно сам Браге[43] пожаловал в Эгга. Не было такого события, о котором бы он ни сложил песнь, начиная от добычи Эльвира, привезенной из походов, совершенных вместе с ярлом Эриком, и кончая подгорелой кашей у одной из служанок. От него исходила такая радость жизни, он с таким искренним сочувствием воспринимал радости и печали окружающих, что его невозможно было не любить. Но время от времени на него находила та мечтательность, которую Сигрид заметила в первый день. Он попросил ее показать ему другие работы, и она достала из сундуков свои самые лучшие вещи. И она была просто напугана тем, насколько хорошо он понимал, что она хотела изобразить, не требуя от нее никаких пояснений. И увидев ее работы, сделанные в тот период, когда она вынашивала Грьетгарда, он произнес без всякого вопроса в голосе: — Тебе было тогда тяжело. Она не ответила, в этом не было необходимости. Сигрид не раз замечала на себе взгляд Эльвира, разговаривая с Сигватом. И ей самой приходила в голову мысль о том, что далеко не случайно Сигват появляется на поварне всякий раз, когда она бывает там, или в старинном зале, если она сидит за ткацким станком. Однажды вечером Эльвир не выдержал. Сняв башмаки, он швырнул их, один за другим, в стену. — Это уж слишком, и Блоин[44] тому свидетель! — воскликнул он. Сигват сочинил песнь в честь Сигрид. Он продекламировал ее за столом, и Эльвир вскипел, но, связанный обязательствами гостеприимства, обуздал себя. — Не кричи! — пыталась остановить его Сигрид. — Тебя слышно даже в Мэрине! — И прекрасно! — в гневе ответил Эльвир. — Надеюсь, что твой друг Сигват не настолько занят, чтобы не вознаградить себя, послушав, что я говорю. Ведь теперь-то я знаю, куда упали те капли скальдического меда, которые, к несчастью, потерял Один по пути в Асгард. Они упали в Апаватне, тем самым дав способность к рифмоплетству тому глупому скальду, который их выпил. Вот почему Исландия кишит убогими рифмоплетами, возомнившими себя поэтами! — Тебя никто не заставляет любить Сигвата, — раздраженно произнесла Сигрид. — Но он не тот, о котором ты говоришь. Для этого он слишком одарен. Он вкусил истинный мед поэзии, можешь быть в этом уверен. И если он выпил его слишком много, то в этом вина самого Одина. — Разумеется, ты защищаешь его… — сказал Эльвир и с издевкой прочитал две наименее удачные строки из песни Сигвата:
С сиянием солнца сравнится женщины красота…
— И я должен выслушивать все это, видя, как ты сидишь, подобострастно, как сука, глядя на него и ловя каждое его слово! — Уймись! — в гневе произнесла она. — Если мне нравится Сигват и его песни, это не значит, что ты должен вести себя как вёльва, которую не вознаградили за ее искусство! Если ты думаешь, что я делаю что-то плохое, скажи мне об этом прямо. А если не хочешь, то помолчи! Эльвир открыл было рот, чтобы что-то сказать, но закрыл его снова, увидев, что маленький Турир, спавший в одной кроватке со своей сестренкой, проснулся, разбуженный сердитыми голосами. Сигрид подошла, чтобы успокоить его. Но Гудрун тоже проснулась, пришлось успокаивать и ее, и на это ушло много времени. Между тем гнев Эльвира прошел. Он прилег, закрыв глаза, вид у него был усталый. Сигрид стояла и смотрела на него. Волосы Эльвира уже начали седеть, и сам он утверждал — хотя этого никто и не замечал, — что начинает толстеть. И чтобы поддерживать себя в форме, он тренировался и занимался военными играми. Может быть, поэтому, думала Сигрид, он так тяжело воспринял эту историю с Сигватом, чувствуя больше обычного их разницу в возрасте? Она прилегла рядом, взяла его руку, положила ее к себе на плечо. Он ничего не сказал, и она положила голову ему на плечо. Они были женаты уже более семи лет, и Сигрид чувствовала, что ее жизнь настолько переплелась с жизнью Эльвира, что связь эту невозможно было порвать, не разорвав при этом на куски ее судьбу. Как мог Эльвир подумать, что Сигват что-то значит для нее? Хотя она и вправду восхищалась его песнями, да и он сам нравился ей, и она была польщена его поклонением, но… Но… Мысль ее оборвалась. Было ли это все? Была ли она уверена в том, что в той радости, которую она испытывала в присутствии Сигвата, в том взаимопонимании не крылось что-то большее? Может быть, Эльвир был прав в своем гневе? И чем больше она думала об этом, тем больше склонялась к мысли о том, что питала к юноше более горячие чувства, чем ей казалось: медленно и незаметно в ней нарастало влечение. Она дурно поступила с Эльвиром. Ей даже не приходила в голову мысль о том, что кто-то другой может завладеть ее мыслями; она не понимала, что с ней происходит. Теперь же она начинала понимать, что любовь, которую один человек испытывает к другому, не продолжается сама по себе, если за это не бороться. Внезапно ей пришла в голову мысль, испугавшая ее: может быть, она дурная женщина? Может быть, в ней самой нет той верности, которую ждут от женщины и о которой слагают саги и песни? Той верности, которая заставляла Сигрид горевать о смерти Хельге… И она мысленно увидела лицо человека, о котором не вспоминала уже много лет: лицо Эрика Торгримссона из Бьяркея. Когда-то она соблазнила его, не думая о последствиях, а потом забыла. И на этот раз, с Сигватом, она бездумно рисковала очень многим! При одной мысли об этом ее бросило в жар, она инстинктивно прижалась к Эльвиру, и он крепче обнял ее. И теперь, когда она поняла, что к чему, она решила отгородиться от всех, кто мог бы помешать ее любви к Эльвиру. И она удивлялась тому, что Эльвир, насколько ей было известно, не изменял ей все эти годы и думал об измене то же самое, что и она. Ей вдруг захотелось поблагодарить его за то, что он помог ей понять ее заблуждения. — Значит, стоит время от времени выходить из себя, — сказал он. — Но после этого тебе не следует разговаривать с Сигватом, разве что по долгу вежливости. Сигрид кивнула, лежа на его плече. — Ты чувствуешь то же самое? — спросила она. — Что именно? — Что мог бы увлечься другой, если бы не следил за собой… — Я перестал думать об этом с тех самых пор… — ответил он. — И я пришел к выводу, что если у тебя есть что-то хорошее, нужно держаться за него. И я был бы глупцом, поставив на карту все, что мы с тобой нажили, ради сомнительных радостей! — онулыбнулся. — Кстати, я, видимо, плохо тебя воспитывал, — игриво добавил он. — Так что мне придется, наверное, снова завести себе… — он засмеялся и крепче прижал ее к себе. — Может быть, я тоже разлюблю тебя… — прошептал он ей на ухо.
Заканчивался месяц забоя скота[45], когда из Стейнкьера пришло известие о том, что ярл желает поговорить с Эльвиром. Эльвир вернулся в Эгга в мрачном настроении. — Олав Харальдссон вступил в Трондхейм, — сообщил он Сигрид. — И Эйнар Тамбарскьелве разоряет пограничные деревни. Если бы крестьяне могли объединиться! — озабоченно произнес он. — Мне хотелось бы, чтобы ярл собрал ополчение. Мы смогли бы и здесь набрать людей. И через три дня пришло уведомление от Эйнара Тамбарскьелве о том, что бонды не могут больше решать, кто будет у них хёвдингом. Олав недвусмысленно заявил им, что управлять ими теперь будут люди, назначенные прежде Олавом Трюгвассоном, и что они нарушили присягу. — Много ли мы выиграем, приняв условия Олава Трюгвассона? — с яростью и отчаянием произнес Эльвир. — Неужели народ ничему еще не научился? Но Олав Харальдссон был уже на пути к фьорду. И ярлу Свейну, у которого не хватало людей, чтобы встретиться с ним в бою, пришлось спасаться бегством. Один из его кораблей был оставлен на плаву до зимы — на нем он и отплыл под парусами из фьорда. Фру Холмфрид была на последнем месяце беременности и не могла ехать с ним; вместе со своими служанками она прискакала верхом в Эгга. Энунд, не желавший покидать свой скромный приход, тоже приехал. Уведомление было разослано по всем усадьбам. И в конце концов в Эгга собралось значительное войско.
Сигрид сидела в зале с фру Холмфрид и Торой, когда сообщили, что показался королевский корабль. Все сразу заволновались: ярл отплыл совсем недавно, и король мог перехватить его в проливе. — Помилуй, Господи, — прошептала Холмфрид, дочь короля, закрыв глаза и сложив в молитве руки. Сигрид хотелось утешить ее, но она сама чувствовала себя беспомощной. Все происходящее казалось ей совершенно нереальным, она никак не могла понять, что это серьезно. Она видела, как Эльвир готовится к бою — ведь он был хёвдингом для всей округи. Она видела серьезные лица посыльных, скачущих в соседние имения; видела двор, запруженный вооруженными людьми с суровыми лицами, знакомыми ей и не знакомыми… Все это было похоже на кошмарный сон.
Эльвир стоял с группой людей и наблюдал, как корабль Олава Харальдссона подходит к Стейнкьеру. Было ясно, что ни ярла, ни его людей не было на борту в качестве пленных, и все удивлялись, как ярлу удалось улизнуть от Олава. Но король прибыл с большим вооруженным отрядом, и бонды были предупреждены о том, чтобы не начинать драку, если сам Олав не рвется в бой, а дождаться подкрепления из соседних усадьб. Вскоре после того, как отряд короля вышел на берег в Стейнкьере, в Эгга прискакал оттуда человек. Это был один из исландцев, остановившихся там, товарищ Гицура и Сигвата. Он сказал, что король требует от них вторую половину пошлины, которую ему задолжал ярл Хакон. Им совсем не хотелось впутывать в это дело мало знакомого им хёвдинга, но их корабль попал в руки конунга, и тот сказал, что либо они немедленно заплатят ему, либо отправятся с ним в Ладе, где будет особый разговор. Исландец сказал, что Эльвиру нужно спешить, потому что конунг разузнал, что в Эгга собралась дружина. Эльвира это мало обрадовало, он рассчитывал на то, что Олав не узнает об этом. Он надеялся, что король пробудет в Стейнкьере до тех пор, пока в Эгга не соберется достаточное количество людей, чтобы напасть на него. — Олав говорил что-нибудь о ярле Свейне? — спросил он. Оказалось, что ярл все-таки улизнул от него. Повернувшись к Сигвату, исландец сказал: — Твой отец прибыл вместе с конунгом. Сигват как-то рассказывал, что его отец, Торд Сигвальдескальд, одно время занимался морской торговлей после смерти ярла Сигвальда, а потом служил у Торкеля Высокого, брата ярла. Он познакомился с Олавом Харальдссоном в чужих землях и теперь прибыл с ним в Норвегию. — Может быть, мне следует спуститься в Стейнкьер и переговорить с ним? — спросил Сигват. — Никто не запрещает тебе навещать отца, — ответил Эльвир. Его больше устраивало, чтобы Сигват покинул Эгга. Они посмотрели друг на друга, и в глубине темных глаз Сигвата затаился смех. — Возможно, король оценит мой скальдический дар… — сказал он. Эльвир невольно улыбнулся, подумав, что, вопреки легкомыслию и дразнящей самоуверенности Сигвата, его невозможно было не любить. Сигват, Гицур и другие исландцы, проживающие в округе, отправились в Стейнкьер. Холмфрид обратилась к небу с горячей молитвой благодарности, узнав, что ярлу удалось улизнуть от королевских кораблей. И вот теперь она стояла на западном склоне холма Эгга и заламывала руки, видя, как люди короля грузят на корабль все, что смогли утащить из усадьбы Стейнкьер. И к вечеру они нагрузили не только корабли. Они раздобыли где-то большую весельную лодку и нагрузили ее так, что она чуть не затонула. Исландский торговый корабль покинул фьорд вместе с ними. — Они увезли все рождественские припасы ярла Свейна, — сказал Эльвир, войдя в дом. — Хуже и быть не может. Утешительно лишь то, что мы избавились от этого рыбьеголового скальда! Эльвир и Холмфрид дочь Эрика были старыми друзьями. Они знали друг друга с тех самых пор, как Эльвир вместе с ярлами Ладе был в изгнании и жил некоторое время в Уппсале; именно тогда Холмфрид и вышла замуж за ярла Свейна.
На этот раз Сигрид узнала ее лучше, чем за все годы соседства. Они говорили с ней о самых разных вещах; Сигрид узнала о детстве Холмфрид и о ее брате, Олаве Шведском, который был королем Свей. Эльвир тоже рассказывал про Уппсалу и сообщил, что Олав Шведский был выслан в Вестерётланд, когда стал христианином и хотел разрушить языческие храмы. Но Сигрид нравились рассказы Холмфрид об этом времени: о королевском имении, о высоких могильных курганах, что были поблизости… И еще она рассказала об одном известном языческом храме и жертвоприношениях, происходивших там каждый девятый год по языческому летосчислению; в те времена в жертву богам приносились как животные, так и люди, и их трупы вывешивались в жертвенной роще. Холмфрид знала множество саг, относящихся к далекому прошлому, когда королями Уппсалы были Один и Ингве-Фрейр; считалось, что род Ладе восходит к Одину и его сыну Семингу. Она рассказывала и о современности, о тех битвах, в которых участвовал ее отец. В особенности она любила рассказывать о том, как Эрик одержал победу над своим другом Стюрбьёрном Олавссоном в битве при Фюрисволдене, неподалеку от Уппсалы. Но больше всего ей нравилось рассказывать о святых, как мужчинах, так и женщинах. Ее любимой сагой была сага о Сунниве. Она рассказывала, как однажды сама отправилась в качестве странницы в Сэлу, к гробнице святой Суннивы. — И ты нашла то, что искала? — спросила Сигрид. Присутствующие засмеялись. — Нет, — сказала она. — Но я обрела нечто большее. Я отправилась туда, чтобы попросить Господа дать мне сына. Но вместо этого я обрела покой и силы, чтобы смириться с тем, что у меня нет сына. И если Господь снова даст мне дочь, я приму ее с той же радостью, как если бы это был долгожданный сын. В тот раз я узнала, что изгнанная из своей страны святая Суннива отдала себя в руки Господа, не спрашивая, что с ней будет. И когда Господь ниспослал ей изгнание, бедность и смерть, она с открытым сердцем приняла все это. И я готова безропотно принять весть о том, что у меня не будет сына, если на то была воля Божья.
Тора продолжала сидеть, погруженная в свои мысли, когда Холмфрид закончила свой рассказ. Ведь это она, Тора, поддалась в конце концов уговорам Энунда во время его посещений Эгга. Она снова стала посещать церковь, хотя и для нее, и для других было тяжело спускаться вниз к Стейнкьеру. Иногда Энунд приносил в Эгга святые дары и причащал ее. Эльвир ничего не говорил по этому поводу, лишь вскользь бросил Энунду, что священник должен следить за тем, чтобы хлеб и вино тайной вечери не были осквернены в доме отступника. Но Энунд не терял самообладания: он выразил надежду, что присутствие Христа может освятить дом. Несмотря на вновь обретенную любовь к христианству, Тора была неспокойна: что-то мучило ее. Даже на исповеди она не решалась сказать об этом — о том, что она не такая беспомощная, какой хочет казаться. И она содрогалась при мысли о суде Господнем. Ведь Энунд был не из тех, кто смотрел сквозь пальцы на то, что кто-то, кривя душой, принимал святое тело Господне — он грозил за это всяческими карами. Но страх перед судом людей, узнавших, как она лгала им все эти годы, был куда сильнее. Вот почему она со страхом и трепетом откладывала признание. И только мысль о святой Сунниве, отдавшейся без оглядки в руки Господа, заставила Тору, наконец, решиться принять то, что должно было произойти после ее признания. И со смешанным чувством страха и облегчения она послала за Энундом. Священник пробыл у нее долго. И когда он, наконец, вышел, она была переполнена ощущением неизвестного ей доныне покоя. Ведь Энунд, так сурово отчитывавший своих прихожан, не осудил и не упрекнул ее. Его слова были мягкими и утешительными, он говорил о Божественной любви и о Его бесконечном терпении по отношению к грешникам. Но потом он сказал, что даже если это для нее и трудно, лучше всего будет снова научиться ходить. И он сказал еще, что она должна рассказать правду Эльвиру, помогавшему ей все эти годы, и попросить у него прощения. Она сидела и думала, как бы ей рассказать все это Эльвиру, она пыталась подобрать слова… И она возносила тихую молитву святой Сунниве и просила ее о прощении. Ведь чем больше она думала об этом, тем труднее казался ей разговор с сыном. И она подумала, что можно попросить Сигрид замолвить за нее слово, ведь они дружили все эти годы. Но ей пришлось отказаться от этой мысли, ведь священник сказал ей, что она должна сделать все сама. И только поздним вечером она наконец решилась попросить Эльвира поговорить с ним наедине. Эльвир был удивлен, он давно уже не припоминал, чтобы у его матери появлялись подобные желания. И он сгорал от любопытства, садясь возле нее. Но, увидев лихорадочный румянец на ее щеках и слыша, как она подбирает слова, он испугался, подумав, что случилось что-то плохое, и у него возникло желание помочь ей. Даже в скорби его мать всегда оставалась суровой. Теперь же она казалась ему растерянной и беспомощной. И Эльвир сделал то, чего не делал с самого детства: погладил ее по щеке и улыбнулся. Она с трудом сдерживала слезы, голос был хриплым, слова подбирались с трудом. — Я дурачила вас все эти годы, — сказала она. — Это неправда, что у меня не ходят ноги. Эльвир уставился на нее, ему было трудно поверить, что она говорит правду. Тора снова заговорила. — Священник Энунд велел мне рассказать тебе всю правду, — сказала она, — и попросить у тебя прощения. Она плотно сжала губы, но они все равно искривились. И когда Эльвир понял, что она не только говорит всерьез, но еще и переживает сказанное, он не знал, смеяться ему или плакать. — Дорогая мама, — наконец произнес он, — как тебе удалось держать это при себе столько лет? — Мне не удалось держать это при себе, — сказала Тора, явно приходя в себя и поняв, что Эльвир был не столько рассержен, сколько удивлен. — Гудрун поняла, в чем дело, — сказала она, — я узнала об этом после ее смерти. И она рассказала, как Сигрид удалось разгадать ее тайну и что сказал по этому поводу Энунд. Некоторое время Эльвир сидел молча. — Энунд был прав, — сказал он. — Нам нужно снова поставить тебя на ноги. Но нет никакой необходимости оповещать всю округу о том, что ты так позорно дурачила нас! Ты и так была наказана тем, что сидела, не вставая, все эти годы. Когда будешь говорить с Энундом, передай ему от меня, что я не считаю нужным давать объяснения по этому поводу. Пусть каждый думает, что хочет. Сразу после этого он сказал Сигрид, холодно глядя на нее: — Я не знал, что ты так умеешь хранить от меня тайны! — Что я должна была… — начала она, но он перебил ее: — Может быть, между тобой и черноглазым скальдом было что-то такое, о чем я не знаю? Может быть, поэтому он так нагло усмехался, когда я выслал его из Эгга? Он наклонился к ней, глаза его угрожающе сверкали. — Эльвир! — предостерегающе произнесла она. — Не болтай глупости! — Отвечай мне на мой вопрос! — сказал он. — В этом нет необходимости. Сигват и я никогда не были вместе наедине. — Откуда я знаю, что ты говоришь правду? — Разве я тебе когда-нибудь лгала? Он слегка опешил, вспомнив, как сам задал ей этот вопрос той ночью, когда поставил на карту все, чтобы завоевать ее. И он понял, что она была права и что он сам болтает глупости. Но все-таки ему казалось, что она заслуживает нагоняя за то, что скрывала от него состояние матери. — Не то, чтобы лгала… — сказал он, — но ты скрывала от меня правду, о которой должна была сообщить немедленно… Заметив в его глазах веселье, она осторожно улыбнулась. — Тебе в самом деле кажется, что Сигват достоин этого? — спросила она. — Значит, ты ставишь его выше, чем я… Эльвир расхохотался. — Я верю тебе, — сказал он. — Но после таких слов ты вообще-то не заслуживаешь…
Приближалось Рождество, но до них не доходило никаких слухов о том, где сейчас ярл Свейн. И когда за четыре дня до солнцеворота фру Холмфрид родила дочь, никто по-прежнему ничего не знал. Девочка была слабенькой, и ее тут же окрестили; ее назвали Гуннхильд, и Тора была крестной матерью. И когда маленькая Гуннхильд окрепла, все вздохнули с облегчением. О бегстве ярла больше не говорили, и Сигрид казалось, что в усадьбе воцарилась гнетущая тишина. Но за день до солнцеворота прошел слух о том, что показался корабль ярла. И он прибыл не пустым: с ним пришел чужой корабль, а также весельная лодка, прихваченная в Стейнкьере Олавом Харальдссоном; суда были нагружены мешками, как и при отплытии. Не дожидаясь, пока его позовут, Эльвир поскакал на пристань вместе со своими людьми и сам ухватил канат, когда корабли причалили. И вместе с ярлом Свейном они радостно поскакали обратно в Эгга. — Сегодня мы будем пить вино! — сказал Эльвир. — Ни пиво, ни мед не годятся! И только за столом все узнали, что произошло. Берсе Скальдторвессон встал и произнес песнь об их бегстве. Это была длинная песнь; в ней рассказывалось во всех подробностях о том, что произошло с тех пор, как ярл Свейн покинул Стейнкьер; и в каждой строфе был припев:
Пламя поднялось до небес,
когда ярл поджег конунга дом.
Увидев, что Олав вошел во фьорд, Свейн спрятал свой корабль в Мусвике, в результате чего смог избежать пленения. После этого он скрывался в окрестностях. Король же, вернувшись из Стейнкьера, засел в Нидаросе, где им были заново отстроены дома, принадлежавшие когда-то Олаву Трюггвассону. Узнав об этом, ярл Свейн и Эйнар Тамбарскьелве собрали войско и направились в Нидарос по суше. Но Олав был вовремя предупрежден. Ему удалось сбежать, на этот раз через фьорд — в Оркдал, а оттуда — через горы в Гудбрандсдален. И ярл Свейн забрал обратно свои рождественские припасы, а также все то, что королевские воины побросали в спешке. В довершение всего он сжег королевский дом в Нидаросе. Все смеялись над поспешным бегством Олава, и песнь Берсе очень хвалили. — Теперь я понимаю, почему ты молчал всю дорогу, — сказал ярл, вознаградив своего скальда.
Было решено с наступлением весны собрать войско в Халогаланде, Трондхейме и Вестланде. И тогда королю Олаву не придется думать о добыче… Под конец ярл Свейн пригласил всех на большой пир в Стейнкьер; оставалось только ждать, когда Холмфрид достаточно окрепнет, чтобы ехать домой. Но все же вид у Эльвира был весьма озабоченным, когда ярл Свейн отправился обратно в Стейнкьер. — Драка за рождественские припасы… — с горечью усмехнулся он. — Было бы куда лучше иметь в качестве рождественского поросенка самого этого жирного Олава! Теперь он наверняка прожужжал всем уши, что ему удалось удрать. Представляю, как он пускает всем пыль в глаза, чтобы поменьше было разговоров… Ой, поосторожней, Сигрид, ты совсем задушила меня!.. Она прижалась к нему, стиснула его в объятиях. Ведь то, что происходило в последнее время, вызывало у нее ощущение ненадежности, грозящее захватить ее целиком.
* * *
Снег, выпавший в октябре, растаял, и больше в эту зиму не было обильных снегопадов. Огороженные почерневшими заборами пашни лежали на морозе без снега, окоем берега желтел на фоне серо-голубой, холодной воды. Бывало, над фьордом нависали тучи, на склонах холма белели облака. Но в воздухе кружились лишь редкие снежинки. И могучие ели стояли, опушенные инеем, по нескольку дней, словно их посыпал солью какой-то великан. Солнце прорывалось сквозь пелену облаков, озаряя потоками лучей холмы и землю, сверкая в волнах, набегающих на берег и разбивающих тонкий лед на прибрежной косе. И ветер ломал обледенелые ветви деревьев, вырывал с корнем сухую траву. Тревога разрывала Сигрид изнутри на части, словно порывы штормового ветра. Ее мысль была столь же беззащитной, как обнаженная земля, открытая всем штормам и холодам. И она старалась побороть эту неотступную тревогу. Она замечала, что стала раздражительной по отношению к детям и дворовым; даже с Эльвиром ей трудно было общаться. Она пробовала призвать на помощь здравый смысл, убеждая себя в том, что ей нечего бояться, что Олава Харальдссона убьют или возьмут в плен, когда ярл Свейн двинется на юг с большим войском, которое он теперь собирал, что Эльвир вернется к ней целым и невредимым. Ведь ярл собирался встретиться с королем Олавом, имея при себе немалые силы. Многие из могущественных хёвдингов страны присягнули ему на верность, и даже сам властитель Рюге, могущественный Эрлинг Скьялгссон, заключил с ним договор после смерти ярла Эрика. И договор между ними стал еще крепче после того, как Сигрид дочь Свейна вышла замуж за Аслака, старшего сына Эрлинга. На север и на юг были посланы гонцы; хёвдинги решили собраться ранней весной, чтобы плыть вдоль берега к Вику; там они собирались сразиться с Олавом. Турир Собака тоже получил известие. Если бы он приехал на юг по какой-то другой причине, Сигрид была бы только рада этому, ведь в последние годы Турир не слишком часто наведывался в Эгга. Теперь же даже малейшее упоминание о сражении и об Олаве Харальдссоне повергало ее в ужас. И даже игры мальчиков, бегавших с дикими криками по двору и набрасывающихся друг на друга с деревянными мечами, заставляли ее думать о предстоящем сражении. Она понимала, что это была боязнь потерять Эльвира. И она удивлялась, что не только не стала более приветливой по отношению к нему, а, напротив, вела себя хуже ежа. Сколько раз она мысленно убеждала себя в том, что если это последние моменты их совместной жизни, они должны провести их как можно лучше. Но, вопреки благим намерениям, она ощетинивала во все стороны иголки при малейшем недовольстве. Но если Сигрид была раздраженной, то Эльвир, напротив, был спокоен, как никогда, в эту зиму. И он много времени проводил с сыновьями. С того дня, когда мальчики увидели его в качестве хёвдинга, собравшего всех мужчин в округе, они стали смотреть на него как на бога. Во многом он был суров с ними: не терпел слез, когда они колотили друг друга, не любил, когда просили его придти на помощь. Тем не менее, они его любили. И не защищая никого из них, он терпеливо учил сыновей, как надо сражаться. Их игры с мечом становились серьезными, когда он приходил и говорил: — Нет, не так, ты так долго не выдержишь, мальчик. Вот как нужно управляться с мечом! Он смастерил им обоим луки и стрелы, и Грьетгард, будучи старшим, начал сам уже делать наконечники для стрел. Сначала они были косыми и кривыми и ударялись об лук, но потом дело пошло лучше. И Эльвир воспользовался случаем, чтобы научить их старинной мудрости:Не швыряй башмаком,
Не швыряй сапогом
в приятеля и друга!
Если башмак дырявый,
если стоптан сапог,
друг может стать врагом.
Что касается Торы, то в ее жизни произошел неожиданный поворот: вместо неприязни, которую она ожидала, делая первые попытки встать на ноги, она встречала почтение со стороны окружающих, что ее очень удивило. Люди со всей округи почитали для себя за честь посетить Эгга, посидеть и поговорить с Торой; и все с уважением смотрели на ее неуклюжие попытки разработать мышцы, которые пребывали в бездействии столько лет. Но однажды во двор, запыхавшись, прибежал Энунд, волоча за собой плащ. Ему срочно нужно было переговорить с Эльвиром; увидев, в каком он возбуждении, Эльвир отложил работу и сел рядом с ним. Прежде чем начать говорить, Энунд с опаской огляделся по сторонам, словно желая удостовериться, что никто их не подслушивает. Эльвир удивленно смотрел на него, он никогда еще не видел священника таким взволнованным. — Успокойся, Энунд, — сказал он. — Конец света не наступил в тысячелетие рождества Христова, не наступит он и завтра. — Ты все такой же неисправимый, — сказал тот. — На тебя не действуют ни молитвы, ни угрозы. Энунд откинулся на спинку скамьи, чтобы перевести дух после крутого подъема. — Что заставило тебя в такой спешке явиться в Эгга? — Ты слышал, что говорят люди о твоей матери? — Они много что болтают о ней, и не все из этого правда. Что-нибудь новое? — Они говорят, что все это не просто так, — сказал Энунд. — Они говорят, что я вылечил ее! Эльвир хохотнул, видя испуганное лицо Энунда. — Хагиос Энундос[46]… — сказал он, — святой Энунд, это звучит красиво. Ты просто купаешься в лучах славы… — Можешь оставить при себе свой греческий и свои насмешки, — ответил Энунд. — Ты все прекрасно понимаешь. Ведь для меня это может иметь серьезные последствия. Эльвир понял, что зашел слишком далеко, и придал лицу серьезное выражение. — Как ты узнал об этом? — спросил он. — Ко мне приносили больных и умоляли вылечить их, — сказал Энунд. — И я сказал им, что с удовольствием помогу, насколько позволяют мои скромные познания, но они бормотали что-то странное. В конце концов это стало казаться мне подозрительным. А сегодня ко мне явилась женщина из Бюра с маленьким мальчиком, у которого были вывернуты ступни. Я сказал ей, что ни один человек не может тут помочь. «Да, — сказала она. — Но Господь может помочь, если один из святых попросит его об этом». «Святой Лука был врачом, — ответил я. — Ты можешь попросить его о заступничестве». И тогда она посмотрела на меня так, что я испугался, и сказала: «Ты можешь помочь, если захочешь, как ты вылечил Тору из Эгга». — Да, дело плохо, — согласился Эльвир. — Вот именно, — подхватил Энунд. — Ты можешь мне сказать, что я должен делать? — в отчаянии произнес он. — Я совершенно беззащитен, ведь я не могу выдать тайну твоей матери. — Может, мне переговорить с ней? — предложил Эльвир. Энунд просиял. — Спроси у нее, не имеет ли она что-либо против, — сказал он. — Ведь если это будет так продолжаться, мне придется уехать отсюда. Эльвир задумался. — В принципе, состояние ее не изменилось, — сказал он. — Она просидела бы так до самой смерти, если бы не… — Он остановился и ничего больше не сказал. Потом резко поднялся, но когда Энунд собрался уходить, он попросил его немного подождать. Вернувшись, он положил на ладонь Энунда какую-то вещицу. Священник сидел и во все глаза смотрел на эту вещь. Это был великолепный золотой крест, украшенный драгоценными камнями, на толстой золотой цепочке. — Однажды я выменял его, сражаясь под предводительством одного из сыновей Хайиба аль-Мансура, — пояснил Эльвир, — прозванного позже аль-Музаффаром. Энунд хотел отказаться, но Эльвир покачал головой. — Ты имеешь на это больше прав, чем я, — сказал он. — Он попал в мои руки в результате чьей-то насильственной смерти. — В таком случае, я возьму его, — согласился Энунд. — Но не для себя, а для церкви. — Когда будет следующая месса? — неожиданно спросил Эльвир. И когда Энунд ответил ему, он сказал: — Ты хорошенько окропи все святой водой, потому что я намереваюсь явиться в церковь. Энунд бросил на него быстрый взгляд, но на лице Эльвира ничего невозможно было прочесть.
Тора пришла в ужас, узнав, в какой переплет попал из-за нее священник. Она охотно рассказала бы теперь всю правду. И лицо ее просияло, когда она услышала, что Эльвир собирается пойти с ней в церковь. Эльвир хотел взять с собой Сигрид и вкратце объяснил ей, что такое месса. Он сказал, что священник является посредником Бога, когда хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христовы. Но ему не удалось отделаться от нее так легко, как он думал: у Сигрид было много вопросов. Люди расступились, когда Торе помогли слезть с лошади и когда она, поддерживаемая Эльвиром и Сигрид, медленно вошла в церковь. Там ее усадили на специально поставленную скамью. Сигрид раньше никогда не была в церкви и теперь смотрела по сторонам — ей хотелось быть уверенной в том, что она здесь не лишняя. Пришли ярл и фру Холмфрид, а также другие знакомые, которым она кивнула. Но наибольшее впечатление на нее произвело то, что люди, входя в церковь, отвешивали глубокие поклоны, а некоторые опускались на колени. По своим размерам церковь была не больше языческого храма, но колеблющийся свет факелов и запах благовоний создавали в церкви совсем иную атмосферу, нежели в темном, душном языческом храме. И она не почувствовала страха, неизменно возникавшего у нее в храме; изображения святых были приятны на вид, в них не было той мрачной свирепости, которую она привыкла видеть у своих богов. Вошли Энунд и двое юношей, которых она знала. Он что-то нес в руках, и вид у него был торжественный, как никогда. И он начал говорить нараспев на каком-то непонятном ей языке. В начале службы прихожане стали на колени. Но Эльвир продолжал стоять и Сигрид, глядя на него, тоже. Время от времени она украдкой посматривала на мужа, но лицо его ничего не выражало. Лишь один раз она заметила, как он прикусил губу. И вот наступил момент, когда все устремились к алтарю, чтобы принять святые дары. Эльвир помог Торе подняться и пройти несколько шагов вперед. И, повернувшись, он направился обратно, но внезапно остановился. Немного помедлив, он вернулся к алтарю и стал на колени — и стоял так, опустив голову. Сигрид услышала, как все в церкви зашептались; она видела, как Энунд прервал на миг священнодействие и возвел глаза к небу. И она сама не понимала, почему ее сердце забилось вдруг с такой силой. После окончания службы они посадили Тору на лошадь, а сами ненадолго задержались на церковном дворике вместе с ярлом Свейном и Холмфрид. Ярл словом не обмолвился о том, что произошло. Но он положил руку на плечо Эльвира и посмотрел ему в глаза. И пока они стояли так и разговаривали, к ним подошел священник. Он и Эльвир были серьезны, пожимая друг другу руки. — Я надеюсь, что скоро ты начнешь с нами причащаться, — сказал Энунд. — Дай мне время, — ответил Эльвир. — Никто никогда не знает, каким временем он располагает, — сказал Энунд. — Ведь тебе скоро предстоит участвовать в сражении… Эльвир не ответил. И он был молчалив на обратном пути в Эгга.
— Сигрид, ты спишь? — Да. Эльвир потряс ее. — Я не могу заснуть, — сказал он. — И поэтому тебе нужно будить меня? — Мне хочется поговорить с тобой! — Тогда потряси меня посильнее, — пробормотала Сигрид, — если хочешь получить разумный ответ… — Я хочу поговорить о том, что произошло сегодня в церкви, — сказал он. — Я не могу понять, что на меня нашло. — А я и подавно не знаю… На этот раз он растолкал ее всерьез. — А может, спросить об этом Энунда? — предложила она. — Я знаю, что он ответит. Он скажет, что Господь заставил меня сделать это. А потом скажет, чтобы я поскорее заключил мир с церковью. — Ты всегда говорил, что веришь в богов, — сказала Сигрид, наконец-то проснувшись. — Я уже не знаю, во что верю, — признался Эльвир. Пошарив рукой в темноте, он нашел кремень и зажег огонь. — Надеюсь, мы не разбудим детей, — сказала Сигрид. — Мне хочется пить, — заявил Эльвир. — Не можешь ли ты принести пива? Сигрид вздохнула. — Тебе мало того, что ты разбудил меня среди ночи! — сказал она. — Не хочешь ли ты сказать, что я должен слоняться по двору со связкой ключей? Сигрид улыбнулась, представив себе это; она встала и оделась, стуча зубами и дрожа от холода. Выйдя наружу, она боязливо покосилась на могильные курганы и на глубокие тени между домами. И, услышав шорох возле стены амбара, вздрогнула, но тут же взяла себя в руки, решив, что это крыса. Снова послышался шорох, что-то приближалось к ней… Ее рука потянулась к молоточку, висевшему у нее на шее, и она почувствовала себя спокойнее, дотронувшись до него. И она решила, что если Эльвир будет спать, когда она вернется, она выплеснет пиво ему в лицо. Навстречу ей двигалась, покачиваясь, какая-то фигура; она попятилась назад, хотела закричать… — И тогда я показал Лейву эту рыбу… — неразборчиво пробормотал тот, кто двигался ей навстречу. — Да это же Хьяртан! — с облегчением произнесла Сигрид и засмеялась. — Не пора ли тебе спать? А то, смотри, замерзнешь! — Тюра не пускает меня в постель, — сказал он, растерянно тараща на нее глаза. — Она говорит, что я слишком набрался… Сигрид не знала, что с ним делать, а будить людей ей не хотелось. — Ты можешь переночевать в хлеве, — сказала она, — там, по крайней мере, тепло. И она помогла ему протиснуться в дверь хлева, а потом отправилась в кладовую за пивом. Эльвир не спал, когда Сигрид вернулась; он сидел и ждал ее. — Как ты добра, — сказал он и рассмеялся. — Ты принесла здоровенную кружку! Сигрид выразила надежду, что одного раза будет достаточно. Сидя на постели, они по очереди пили из кружки, при этом он растирал ей спину, помогая согреться. — Значит, ты больше не веришь в богов? — наконец спросила она, видя, что он не собирается возвращаться к начатому разговору. До этого он болтал и смеялся, но тут вдруг замолчал. Но потом не спеша произнес: — Трудно выразить это, но боги ушли от меня. Они покинули меня вместе с порождаемыми ими силами, и в конце концов со мной произошло то же, что и с Торкелем: я не хочу никакого иного бога, кроме того, который сотворил все. И еще я думал о том всемогущем боге, о котором говорится в песнях о богах. И я был удивлен, как много знали о христианстве те, кто слагал песни… — Но разве ты не боишься гнева богов? — с опаской произнесла Сигрид. — Я не очень-то верю в то, что они могут причинить кому-то вред. Я не знаю, что такое гром, но мне трудно принять всерьез придурковатого молотобойца и все эти мрачные старинные изображения богов… — Но ведь ты же жрец храма! — с возмущением произнесла Сигрид. — И ты как-то сказал, что изображения богов ничем не хуже изображений христианских святых… — Тебе не следует прислушиваться ко всему, что я говорю! Сигрид не ответила; у нее было такое ощущение, будто она идет по шатающемуся мостику. — Говоря о том, что я верю в богов, — хохотнул он, не глядя на нее, — я пытался внушить это самому себе. Немного помолчав, он повернулся к ней и торжественно произнес: — Ты знаешь, однажды, в Миклагарде, я был христианином. Я пробовал жить по христианским заповедям, но мне это не удалось. И я решил, что это учение ложное. Но однажды Энунд сказал нечто такое, что заставило меня помучиться. Он сказал, что я потому отвернулся от христианства, что не захотел считать себя обычным, грешным человеком, в смирении искупающим свои грехи. И он сказал, что я настолько самоуверен, что считаю себя лучше других, считаю себя чуть ли не святым. Он сказал, что я отвернулся от христианства потому, что не хотел выглядеть в глазах окружающих непригодным для жизни святого. Когда он сказал это, я был в ярости, но со временем я обдумал все это. — Почему ты стал христианином в Миклагарде? — спросила Сигрид, уже согревшись. — Живя в Уппсале вместе с ярлом Свейном в то время, когда здесь правил Олав Трюгвассон, я как-то раз совершил паломничество в Миклагард с толпой шведов. Я пробыл там около трех лет, служа в варяжской дружине базилевса Базиля. Там у меня была любовница. — Могу себе представить, — язвительно вставила Сигрид. Эльвир рассмеялся. — Помимо прочих услуг, она научила меня своему языку, — сказал он. — Это она сделала тебя христианином? — Нет, — ответил он. — Но брат ее матери был священником. Однажды он пришел ко мне и сказал, что раз уж я принудил его маленькую племянницу к греховной жизни, я должен, по крайней мере, жениться на ней. Я ответил, что не подозревал о том, что он хочет выдать девушку замуж за такого закоренелого язычника, как я. Слово за слово, и в конце концов он захотел обратить меня в свою веру. — Если я правильно тебя понимаю, — сказала Сигрид, — твоему крещению способствовали не только усилия этого священника. Тебе самому нравилось это учение… — Я не знал, стоит ли мне решиться на это, — ответил он. — Я не находил в себе достаточно мужества… — В этом я не могу тебе посочувствовать, — сказала Сигрид. Он улыбнулся краем губ. — Принять крещение меня заставило учение Христа о том, что люди должны любить друг друга и делать друг другу добро. Но мужчине не подобает быть таким, мужчине пристало быть суровым. — Почему же? — Опять эти твои «почему»… — Ты сам научил меня задавать вопросы! Ты думаешь, нам было бы очень радостно вдвоем, если бы ты был бесчувственным и жестоким? Эльвир тряхнул головой. — Микаэль, так звали одного священника, много говорил об «агапе»[47]. Это своего рода любовь, не требующая отдачи, не имеющая ничего общего с собственнической любовью. — Что-то я не понимаю… — Сначала я и сам мало что понимал, — сказал Эльвир. — И я не знаю, понимаю ли я это сейчас… — он задумался, но потом спросил: — Помнишь, что рассказывал Энунд о том священнике, который сделал его в Англии христианином? — Тот, который ухаживал за ним, когда он был ранен? — Да, который приютил его, хотя Энунд был его врагом. Думаю, его поступок Микаэль и называл «агапе». Хотя, возможно, это и не так… Не принесешь ли ты мне еще пива? — Я выплесну пиво тебе в лицо, если ты заснешь! — А вот это уже не будет «агапе». И он серьезно продолжал: — Я часто думаю, что это та любовь, которую Бог испытывает к людям, которая заставила Христа принять смерть ради людей. Любовь, которую мы не в силах постичь до конца. Такую любовь люди могут испытывать к Богу и друг к другу, если они хоть немного поймут, что хотел сказать Христос своей жертвой. — Ты говорил, что месса имеет отношение к Христовой жертве, — сказала Сигрид. — Имело ли какое-то отношение к «агапе» или — как ты сам это называешь — то, что Энунд делал сегодня в церкви? — Да, — ответил Эльвир, — имело. Ведь через причастие человек приобщается к самому Богу. Но не спрашивай меня, как это происходит, мне самому трудно во всем этом разобраться. И Энунд здесь не поможет. Он говорит только, что это непостижимое чудо. Нечто подобное я ощутил, будучи в Миклагарде на церковной службе, и у меня нет слов, чтобы описать это, — сказал он, тяжело вздохнув. — Энунд говорит такие утешительные слова о том, что стоит только отдать себя в руки Господа, как обретешь мир. Но все это не так просто. Как может ожидать от меня Энунд, что я приму то, с чем я не согласен, если сам он не разбирается в этом? Энунд говорит: «Стань лицом к Богу, Признай имя Христа. И дай Ему вести тебя за собой, дай Его церкви помочь тебе понять, что такое истина. И если ты согрешил, предстань перед священником Господа, прими порицание и покайся, как мужчина, и ты получишь отпущение грехов…» — Эльвир опять вздохнул. — Я так устал, Сигрид! Устал размышлять о вещах, которые мне непонятны и в которых мне никто не поможет разобраться. Мне кажется, я нуждаюсь в том мире, о котором говорит Энунд. Он положил голову ей на колени, и она провела пальцами по его волосам. Он улыбнулся ей. — Я обретаю мир только рядом с тобой, — сказал он. — Учитывая то, какой злюкой я была всю эту зиму, — сказала она, — не очень-то много мира я принесла тебе… — Это ничего не значит. Я знаю, что ты не хотела мне зла. — Я так боюсь, что что-нибудь случится с тобой, когда ты отправишься на юг, — сказала она. Он ничего не ответил на это, сказав лишь: — То, что было между нами, ты никогда не сможешь потерять, Сигрид. Ты ошибалась, ошибался и я, но ты дала мне все, что женщина может дать мужчине. Ты никогда ни на что не скупилась, никогда ничего не делала ради выгоды, никогда ничего не требовала от меня взамен. И если случится так, что я не вернусь домой, все богатство, которое ты дала мне, останется с тобой. Тем же, кто не раздаривает себя, остается лишь горечь, пустота и сознание того, что они никогда по-настоящему не жили. Сигрид сидела и молча слушала его. Она думала о том, что Эльвир безоговорочно решил отправиться в поход и что это может изменить жизнь обоих. Она вспомнила Гудрун, тетку Эльвира, не пожелавшую снова выйти замуж после гибели мужа. И Сигрид поняла, что сокровищем Гудрун были ее воспоминания и что это сокровище никто не мог у нее отнять. Внезапно Эльвир поднял голову. — Агапе… — произнес он. — Имеет ли это какое-то отношение к нашей любви? — Я не знаю. Думаю, что вряд ли. Но мне пришла в голову вот какая мысль: возможно, дело обстоит так, что когда кто-то отдает себя целиком и без оглядки, он каким-то непостижимым образом становится богаче… Сигрид долго молчала, но потом любопытство взяло верх, и она спросила: — Что же случилось с твоей любовницей? — Я никогда не собирался жениться на ней, — ответил он. — Но я помог ей собрать хорошее приданое, и она удачно вышла замуж. — А потом? — спросила Сигрид. — Потом я пошел в учение к священнику, — ответил он. — Целый год я прожил со священниками и монахами, изучая христианство. Я пробовал обходиться без женщин, но это у меня не получалось… — Он вдруг задумался о чем-то. — Если бы я продолжал учение… Сигрид прижалась щекой к его щеке. — Не грусти, — сказал он. — Все образуется…
* * *
Турир взял с собой на юг сына, чтобы тот познакомился со своей родней. С ними отправился и старший Сигурд Турирссон. В плаваньи с ними был и Финн Харальдссон: у него, как это полагалось хёвдингу, был свой собственный корабль. Финн не был в Трондхейме с тех самых пор, как в ярости удрал оттуда три года назад. Эльвир оказался прав, предсказав результат его женитьбы: что все пойдет из рук вон плохо. Так что теперь Ингерид осталась дома с родителями и дочерью от Финна. Сигурд, брат Сигрид, до этого никогда не был в Эгга, но даже если усадьба и произвела на него впечатление, он не показал виду. Он растолстел с тех пор, как Сигрид в последний раз видела его, и вид у него был теперь еще более устрашающий. На миг у нее возникло чувство страха, которое она испытывала к нему, будучи ребенком; но теперь это вызвало у нее улыбку. И когда она протянула ему руку, улыбка эта стала шире и спокойнее. — Добро пожаловать в Эгга, Сигурд, — сказала она. И когда он взял ее руку в свою большую, теплую ладонь, она впервые почувствовала спокойствие в его присутствии. У Турира было много новостей из Бьяркея, и Сигрид расспрашивала его обо всем подряд. Но она услышала не только хорошие новости. Он сказал, что Халльдор Свейнссон умер. В последнее время Халльдор чувствовал себя неважно, и однажды осенью он оступился и упал в воду. После этого он совсем слег, его мучил кашель, он задыхался. Не помогли ни жертвоприношения, ни лекарства, ни прочие средства, бывшие в распоряжении Хильд, и через неделю он скончался. Хильд очень сдала после этого, сказал Турир, сразу лишившись как бодрости, так и мужества. Совершенно не старея в течение последних двадцати лет, она вмиг стала старухой. Единственным утешением для нее было то, что сын ее вернулся домой из дальних странствий; теперь он управлял усадьбой. Сигрид восприняла близко к сердцу смерть Халльдора, но еще больше она беспокоилась о Хильд. Она не могла представить себе Хильд старой и немощной — расторопную Хильд с бойкими черными глазами. Она не забыла, как много Хильд сделала для нее, когда она была еще ребенком, как дала ей напоследок «плавающие камешки» и серебряный молот Тора, которые так помогали ей впоследствии. И она подумала о том, какой неблагодарной была сама. Ведь при малейшем порицании со стороны Хильд она шла к Туриру и просила его заступиться. И то, что она говорила Туриру, не всегда бывало правдой. И ей захотелось снова увидеть Хильд, пока еще не поздно, поговорить с ней и сказать, что теперь она гораздо лучше понимает переживания Хильд.За два дня до отплытия должно было состояться великое жертвоприношение в Ховнесе, где находился главный храм Спарбюггья. На жертвоприношении в честь победы должны были присутствовать те, кто собирался на юг с ярлом Свейном и не был христианином. Самому ярлу это не очень нравилось, но он не хотел силой отвращать кого-то от его веры. Эльвир заранее обещал придти и не собирался нарушать данного им слова. Но он отказался быть жрецом. Эту обязанность взял на себя Сигурд Турирссон, верховный жрец Трондарнеса. Финну Харальдссону не хотелось присутствовать на жертвоприношении — он не испытывал особого желания встретиться с Ингерид. Узнав, что приехал Финн, Хакон Блотульфссон прибыл в Эгга, чтобы поговорить с ним. Но Финн, приветливо встретивший Хакона, сразу стал беспокойным, едва речь зашла об Ингерид. Сигрид не могла наглядеться на Финна: он стал еще выше и шире в плечах, в его облике чувствовалось спокойное достоинство на грани высокомерия. Из него получился настоящий хёвдинг. И когда Сигрид спросила, чем он занимался в последние годы, он ответил, что был викингом. — А я-то думала, что ты занималсяторговлей, — удивленно произнесла она. Он засмеялся: — Для этого я был слишком зол. Больше она ничего не смогла от него добиться, но от Турира узнала, что он ходил на Запад. И через пару лет, полных сражений, вернулся домой на собственном корабле и с командой. А пока сын был в походе, Харальд Финссон утонул, отправившись зимой на парусной лодке ловить рыбу. Потом Финн вернулся в Грютей, где строго наказал всех ленивых рабов и слуг, живших в свое удовольствие при его отце.
Эльвир не отправился со всеми в Ховнес, решив подождать, пока закончится жертвоприношение. И когда он прибыл вместе с Сигрид, огромный жертвенный котел уже стоял на огне. Усадьба Ховнес была очень красива, с видом на фьорд. Сигрид заметила неуверенность, с которой многие приветствовали их: всем было известно, что произошло в церкви. Однако Эльвира усадили рядом с хозяином усадьбы. По другую сторону от хозяина Ховнеса сидел Сигурд, а рядом с ним — Турир. Сигрид направилась к женскому столу, и ее усадили между Астрид, хозяйкой Ховнеса, и Гуннхильд из Хюстада, с которой Сигрид познакомилась, когда Эльвир в первый раз возил ее в Мэрин. Между женщинами завязался разговор о детях и о роженицах. Гюда из Гьеврана, тоже сидевшая там, принялась рассказывать об одной женщине из Хеггвина, умершей недавно при родах. Сигрид молчала. Ей трудно было понять смешанное со страхом наслаждение, светившееся в их глазах, когда они рассказывали подобные вещи. Она сидела и смотрела на их высокомерно кивающие головы. Одна из самых молодых, которая еще никогда не была беременной, сидела с полуоткрытым ртом и застывшими от страха глазами, слушая эти рассказы. И когда Гюда закончила, другие принялись рассказывать такое, от чего волосы становились дыбом. Казалось, все хотят превзойти друг друга в страшных рассказах. Цепочки, свисающие с плеч, позвякивали, когда они задумчиво качали головами, лица становились все серьезнее и серьезнее по мере того, как один рассказ сменялся другим, еще более страшным. Сигрид присутствовала при одних родах, о которых шла речь, и знала, насколько эти женщины все преувеличивают; в конце концов их вранье перешло все границы. Время от времени они замолкали, когда голоса их заглушались взрывами смеха за мужским столом, где Эльвир рассказывал всякие скабрезности. И Сигрид напрягала слух, чтобы разобрать, о чем он говорит. Но Гуннхильд вернула ее в женское общество, схватив за руку и уставившись на нее водянистыми глазами, в которых застыл безграничный ужас. — Ты когда-нибудь слышала о таких жутких вещах? — воскликнула она. Сигрид растерялась. — Сигрид, ты пропустила мимо ушей то, что Гюда рассказывала о роженице из Лунде! Гюда, расскажи все сначала! И Гюда из Гьеврана снова начала свой жуткий рассказ о поперечном положении ребенка при родах. После того, как среди женщин воцарилось молчание, Гюда сказала: — Бедняга Колбейн из Хеггвина остался вдовцом с пятью детьми! — Не пройдет много времени, как он снова женится, — заметила Астрид из Ховнеса. Все взгляды устремились к ней. У нее была дочь, достигшая брачного возраста. Не имела ли она в виду ее? У присутствующих женщин тоже были дочери, которых они не прочь были выдать за хозяина Хеггвина; все заерзали на скамье, зазвенели цепочки и ключи… Но Астрид ничего больше не сказала, ей просто нравилось быть центром внимания. Первой заговорила женщина из Хельгейда. Ее старшей дочери было уже восемнадцать, а она все еще не была замужем. — Бедняге не мешало бы подождать, пока ее тело остынет в земле, — сказала она, сердито оправляя юбку. — Ты же знаешь, — возразила Астрид, — ему не справиться одному с детьми… Все настороженно замолчали. И Сигрид подумала, что в Хеггвине завтра будет многолюдно; многие соседи посчитают для себя за честь переговорить с Колбейном. Тем временем еда была готова, внесли дымящуюся конину на широком блюде. Видя, что Эльвир положил себе большой кусок, Сигрид сделала то же самое. Чаша с медом переходила из рук в руки за мужским столом, выпили за Одина, потом стали пить за Ньёрда[48] и Фрейра. Потом пили за победу и удачу, а тост в честь Браге, бога скальдической поэзии, сопровождался многочисленными клятвами совершить героические подвиги. Пили и за многое другое. Через некоторое время один из мужчин заснул прямо за столом. Он так громко храпел, что остальные не выдержали, выволокли из-за стола и вытолкнули за дверь. Вскоре он в смущении вернулся обратно, протрезвев на холодном ночном воздухе. Многие уже вставали из-за стола с бледными лицами, и женщины, извиняясь, шли вслед за своими мужьями, провожая их домой. Рядом с Сигрид оказалась Ингерид дочь Блотульфа. После ухода Финна Ингерид редко покидала Гьевран. Лицо ее стало круглее, теперь она уже не напоминала вывалившегося из гнезда птенца. Но она осталась такой же плаксивой, по щекам ее катились две крупные слезы, когда она спрашивала у Сигрид, почему Финн не пришел на жертвоприношение. Сигрид стало не по себе. — Он стал христианином? — спросила Ингерид, не получив никакого ответа. — Нет, — сказала Сигрид, — об этом я не слыхала. Ингерид утерла слезы уголком косынки. — Мне хотелось бы поговорить с тобой наедине, — сказала она. — Никто и так не слышит, о чем мы говорим, — ответила Сигрид. Ей не очень-то хотелось говорить с глазу на глаз с Ингерид. Но Ингерид не отставала, и в конце концов Сигрид встала и вышла с ней из зала. Двор был освещен факелами, но было холодно, и Сигрид поплотнее запахнула плащ. Это был очень красивый плащ, сшитый из толстой шерстяной ткани и отделанный кожей, застегивающийся на шее красивой цепочкой. Ингерид была своей в Ховнесе, Астрид приходилась сестрой ее матери; и она повела Сигрид в хлев, где было тепло и сухо. В хлеве было темно, но Ингерид взяла Сигрид за руку и повела за собой вдоль стены к скамье. Одна из коров проснулась и заворочалась, остальные животные спокойно дышали во сне. — Я так люблю Финна, — сказала Ингерид. Сигрид, сама не зная почему, вдруг пришла в ярость, и голос ее был холоден, когда она сухо ответила ей: — Мне так не показалось. Она услышала, как прерывисто вздохнула Ингерид. — Мне лучше знать об этом, — вырвалось у нее. — Раз ты привела меня сюда, значит, ты хотела выслушать мое мнение, — ответила Сигрид. — И если правда то, что говорят о тебе и о Финне, то ты мало заботилась о нем. Ингерид сразу присмирела. — И что же говорят? — Что ты относилась к Финну как к собачонке. — Но почему он не захотел остаться в Гьевране? — перебила ее Ингерид. — Я была бы ласкова с ним, если бы он не настаивал на том, чтобы я уехала с ним в его маленькую, грязную усадьбу, оставленную его отцом в Халогаланде! — Ты говорила ему об этом? — спросила Сигрид. — Да, — ответила Ингерид. — Он знает об этом. Некоторое время Сигрид молчала. — Почему ты вышла замуж за Финна? — наконец спросила она. — Ты сама знаешь, что он сделал со мной, — ответила Ингерид. — В том, что произошло, ты виновата не меньше него. — В ту ночь я умоляла его оставить меня в покое… — Ты врешь! — бесцеремонно заметила Сигрид. — Если бы ты действительно не хотела этого, ты бы не убежала с ним в лес. Никто тебя к этому не принуждал. — Откуда я знала… — А что ты думала? Что он хотел искать землянику? — Я была тогда невинным ребенком, — всхлипнула Ингерид, — и он соблазнил меня. Сигрид почувствовала такую ярость, что чуть не ударила ее. — Думаю, нам не о чем говорить, — сухо произнесла она, встала и уже собралась идти. Но тут слезы Ингерид хлынули потоком, и она вцепилась в Сигрид. — Не уходи! — умоляюще произнесла она. — Я люблю Финна. И я готова на все, чтобы вернуть его! Сигрид снова села. — Финн уже не мальчик, — сказала она. — Он хёвдинг, у него свой корабль. И даже если он и вернется к тебе, я не думаю, что все будет так, как ты себе это представляешь. Ингерид прекратила плакать так же быстро, как и начала. — Ты думаешь, что он… Она запнулась. — Что он? — нетерпеливо спросила Сигрид. — Ты думаешь, что он стал таким взрослым, что может командовать мной? Сигрид фыркнула: — А ты этого хочешь? — Да, — сказала Ингерид. Сигрид услышала ее тяжелый вздох. — Ты уверена в этом? — опять спросила она. — Даже если он и стал взрослым, — вырвалось у Ингерид, — он все равно останется таким же глупым и неуклюжим… — Ты так считаешь? — Да. — В таком случае, ты еще глупее его. Как бы тебе понравилось, если бы кто-то бросил тебе в лицо, что ты глупа и неуклюжа и что усадьба твоего отца нищенская и грязная? — Я бы такого не потерпела, — еле слышно произнесла она. — Лично я не могу понять, как Финн смог прожить в Гьевране на целую зиму больше обещанного срока! Должно быть, ты ему очень нравилась… — Не думаешь ли ты, что теперь он меньше интересуется мной? — Ты этого не заслужила. Некоторое время Ингерид молчала, и когда она ответила, в ее голосе уже не слышалось обычной плаксивости. — Сигрид, — сказала она, — я понимаю, что тебе трудно поверить мне. Но я знаю, что люблю Финна. Я охотно проползла бы на коленях от Гьеврана до Эгга, чтобы только сказать ему об этом! В интонации ее было что-то такое, что заставило Сигрид поверить ее словам. Но все-таки она спросила: — А если бы тебе пришлось во всем уступать ему, ты бы все равно хотела, чтобы он вернулся? И тут Ингерид выложила ей все. — Если бы ты знала, сколько бессонных ночей я провела, тоскуя по нему… — сказала она. — Если бы ты знала, как горько я раскаивалась, как ненавидела саму себя за то, что отталкивала его, когда он был ласков со мной! И не мне теперь ставить свои условия, если мы снова будем вместе. — Блотульф знал, что делал, собираясь выдать тебя за зрелого мужчину, — задумчиво произнесла Сигрид. — Но ты же сказала, что Финн теперь взрослый, — не унималась Ингерид, — да и я тоже стала старше. Если бы только мы могли попробовать начать все с начала, если бы он смог простить меня за все, что я говорила и делала… Сигрид не нашла, что ответить. — Не можешь ли ты поговорить с ним обо мне? — с надеждой в голосе произнесла Ингерид. — Не теперь, до их отъезда на юг, — ответила Сигрид. — Им предстоит много испытаний. Но я посмотрю, что смогу сделать, когда они вернутся домой… — Если только вернутся… — тихо произнесла Ингерид. Сигрид не ответила, но немного погодя спросила: — Нам нужно вернуться в зал, иначе, боюсь, о нас пойдет дурная молва. Она встала, и они ощупью направились к двери хлева. Во дворе они встретили Эльвира. — Что, тролли вас забери, вы делали вдвоем в хлеве? — спросил он не особо приветливо. Ингерид посмотрела ему прямо в глаза и сказала: — Это я повела Сигрид туда. Мне нужно было поговорить с ней о Финне. Эльвир некоторое время смотрел на нее. — Это в самом деле так? — спросил он. Ингерид опустила глаза, но тут же заставила себя снова посмотреть ему в лицо. — Да, — ответила она, — это так.
— Возможно, Ингерид и заслуживает того, чтобы кто-то выслушивал ее, — сказал Эльвир. — Но мне больше нравится, когда люди сами преодолевают свои трудности. Они с Сигрид шли по дороге от Ховнеса в Эгга. Ночь была темной, и двое рабов шли впереди них с факелами. — Но как ей быть, если он не желает даже видеть ее? — Ты хочешь замолвить о ней слово, когда он вернется обратно? — Да. — Сомневаюсь, что он остановится здесь по пути на север. Об этом Сигрид не подумала. — Если ты хочешь, чтобы он выслушал тебя, — сказал Эльвир, — ты должна, как мне кажется, передать ему слова Ингерид, как ты это рассказала мне. И пусть он сам решает, что ему делать. На следующий день, сразу после завтрака, Эльвир отправился в Стейнкьер, чтобы поговорить с ярлом. Сигрид попыталась заговорить с Финном, и он тут же догадался, куда она клонит. — Это Ингерид нажаловалась тебе? — спросил он. — Мне кажется, она изменилась, — ответила Сигрид. — Не исключено; она переменчива, как ветер. И она плачет по поводу и без повода. — Ты мог бы выслушать меня, Финн, не ради Ингерид, а ради меня самой? — спросила Сигрид. — Ну, если так, то мне трудно отказать тебе, ведь я твой гость, но к тебе наши с Ингерид дела не имеют никакого отношения. Не обращая внимания на его неприветливость, Сигрид пересказала ему с начала до конца разговор с Ингерид. Сначала он выругался по поводу того, что Ингерид осталась все той же, но потом стал терпимее. — Поползла бы на коленях из Гьеврана в Эгга… — задумчиво повторил он вслед за Сигрид. — Я бы с удовольствием взглянул на это! Было бы забавно хоть раз заставить ее выполнить свое обещание… — Было бы жестоко выставлять ее на посмешище. — Кто говорит, что я не жесток? — со злобной улыбкой произнес Финн. — Ты же сказала, что она примет мои условия. Сначала посмотрим, как она будет ползать, а потом уж я решу, что делать. — Финн!.. — с возмущением произнесла Сигрид. — Если она послушается тебя, она загубит свою жизнь! Он пожал плечами. — Не так давно она загубила мою, — сказал он. — И если уж ты взяла на себя роль Скирнира, то можешь передать ей от меня, что после того, как я увижу ее ползущую на коленях по дороге к Эгга, я позволю ей спать в моей постели. Он хохотнул. Было ясно, что он не верил, что такое может произойти. Отправившись в Гьевран с таким известием, Сигрид была нерадостной. Скача верхом по дороге, она думала о том, что даже если Ингерид и унижала его, нет необходимости в том, чтобы отвечать ей такой низменной местью. Когда пришла Сигрид, Ингерид была на кухне, а ее маленькая дочка сидела на скамейке и играла. Финн назвал ее Раннвейг, в честь своей сестры. Гюда тоже была там, а также Блотульф, Хакон и еще несколько человек. Сигрид пришлось поболтать с ними, прежде чем начать с Ингерид разговор. В конце концов им удалось уединиться. Ингерид обвязывала край скатерти, и когда Сигрид передала ей слова Финна, она выпустила из рук спицы и недоверчиво уставилась на нее. — Он не мог это иметь в виду, — сказала она. — Думаю, что именно это он и имел в виду, — ответила Сигрид. Бросив искоса взгляд на Ингерид, она подумала, что та сейчас начнет плакать. Но слез не было и в помине. Ингерид снова взялась за работу и сидела некоторое время молча, проворно шевеля пальцами. И голос ее был спокойный, когда она произнесла: — Я помню, о чем говорила вчера. И если я не могу каким-то иным способом заставить его поверить мне, мне придется сделать то, о чем он говорит. Сигрид удивленно посмотрела на нее. Совсем не такой реакции ожидала она от Ингерид. Казалось, Ингерид отбросила все свои прежние замашки и повернулась к ней той стороной, о существовании которой никто не догадывался. — Будет лучше, если я пройду через все это, — все так же спокойно сказала Ингерид. И когда Ингерид сообщила, что она намерена сделать, Блотульф встал и ударил кулаком по столу. — Нет, — сказал он. — Ты выставишь на посмешище и себя, и всех нас. И он все еще качал головой, когда Сигрид во весь опор скакала обратно в Эгга. Она нашла Финна возле его драккара; он смотрел на нее, не говоря ни слова. — Не кажется ли тебе… — начал он наконец, но осекся, видя, как она запыхалась. Она бежала до самой пристани бегом. — Ингерид послушалась тебя, — сказала она. — Возвращаясь домой, я видела ее на дороге, ведущей из Гьеврана. Финн как стоял, так и сел на бухту троса, содрогаясь от хохота. — Об этом долго будут помнить в округе, — сказал он и добавил задумчиво: — Теперь ее легче будет уговорить уехать на север… Сигрид ничего не сказала, да и Финн вскоре успокоился. И когда он встал, вид у него был серьезным. — Могу я одолжить лошадь? — спросил он. — Хотела бы я знать, для чего. — Я не могу допустить, чтобы она это сделала, — ответил он. — Я поеду и заберу ее. — Бери себе столько лошадей, сколько надо! — сказала Сигрид. И Финн был уже во дворе, когда она еще поднималась по холму.
Еще не увидев ее, он услышал вопли детей: они прыгали и скакали вокруг нее, а она, не обращая на них внимания, медленно продвигалась вперед. Она даже не подняла голову, услышав стук копыт, не видела, как он слез с коня и привязал его к дереву. Он подошел и поднял ее. — Думаю, ты быстрее доберешься до Эгга на спине коня, — сказал он, посадил ее на лошадь и сел сам. Крепко обняв ее левой рукой, он почувствовал, как она дрожит, стараясь удержаться от плача. — Это что-то новое, — сказал он, — что ты стараешься не плакать. Сигрид увидела их, подъезжающих верхом на коне, — и не знала, как ей быть. Но Финн решил проблему с такой непосредственностью, что Ингерид тут же залилась румянцем. — Мне нужно побыть с Ингерид наедине, — сказал он. — Не могла бы ты сказать, куда мы можем отправиться?
Эльвир долго пробыл в Стейнкьере. Сначала они разговаривали с ярлом, потом они уединились со священником. — Я пришел к выводу, что стоит попытаться последовать твоему совету, — начал Эльвир, — и искать мира в церкви. Но Энунд подходил к этому еще более серьезно, чем он ожидал. — Я слышал, что вчера ты был в Ховнесе на жертвоприношении… — На этот раз я не участвовал в жертвоприношении, — ответил Эльвир. — Я пришел, когда все уже закончилось. — Ты был там и ел жертвенную пищу, — сказал Энунд. — И пил, когда произносились тосты за богов. — Да, — сказал Эльвир, — но я не вижу в этом ничего плохого. — Если ты пришел ко мне за причастием, то мне решать это! — Но что плохого в том, что я ел конину? — Ты ел мясо, принесенное в жертву языческим богам. — Но я больше не верю в богов. И что из того, если мясо и мед посвящены тому, кого не существует? — Можешь быть уверен в том, что боги существуют, Эльвир. Это дьявол отвращает людей от Бога. — Не хочешь ли ты сказать, что я перестал верить в богов, едва услышав, как ты говоришь, что следует верить в них? Энунд был в замешательстве. Он любил Эльвира, но не мог понять его. И в глубине души Энунд считал, что боги — это злые силы, которые действительно существуют. Разве он сам не боролся постоянно против сил тьмы, властвующих над людьми? Съесть кусок жертвенного мяса, выпить чашу в честь богов — эти грехи казались ему совершенно непростительными. — Эльвир, — сказал он, — я не дам тебе отпущения грехов, если ты не понимаешь, что поступил плохо. Эльвир онемел. В конце концов ему пришлось задать священнику тот же самый вопрос: — Ты считаешь, что должен прогнать меня потому, что я не верю в богов? — Нет, ты все перевернул. — Что же ты, собственно, имеешь в виду, Энунд? — Я хочу сказать, что есть жертвенную пищу — это грех. — Мне следовало подумать об этом, — сказал Эльвир, — я немного поспешил. — Подожди, — сказал священник, видя, что Эльвир собирается уходить. Предчувствуя, что Эльвир так и останется со своими заблуждениями, он вдруг понял, как много значит для него спасение души этого человека: — Эльвир, ты не должен допускать, чтобы жертвенная пища преграждала тебе путь к Господу! — Это не я выдумал, — ответил Эльвир. Энунд боролся с самим собой; у него не было никаких оснований принимать Эльвира как блудного сына. Если забыть эту историю с жертвоприношением, думал он, не принимать это так серьезно, в надежде на то, что Эльвир со временем все поймет… Но он чувствовал, что, как бы он не хотел этого, он не может пойти против собственной совести. — Эльвир, — растерянно сказал он, — вспомни Торберга, вспомни, как он умер, без причастия и без отпущения грехов… Ты не должен отправляться на битву, не решив для себя этот вопрос! С Торбергом случилось несчастье, когда он плыл из Эгга на юг, построив корабли в Стейнкьере. Он причалил во Фросте, чтобы переночевать там. И на него напал человек, желавший отомстить ему за позор своей дочери, и убил его. — Ты мог бы, конечно, отпустить мне грехи, в которых я сочту нужным исповедоваться, — продолжал Эльвир. Энунд задумался. — Нет, — сказал он. — Ты не можешь торговаться с Богом. Эльвир опустил голову, но потом снова взглянул на священника. — Я могу поклясться тебе, что больше никогда не буду есть жертвенное мясо, — сказал он, — так что в будущем это будет для меня грехом, потому что это будет считаться нарушением клятвы. — Для тебя и вчера это было грехом, — ответил священник. — И если ты не сознаешься передо мной в этом грехе и не раскаешься в нем, я не смогу дать тебе отпущение грехов. — Не меньшим грехом было бы мое лицемерие, — сказал Эльвир. — И я не считаю, что поступил плохо. — Значит, ты не веришь мне, священнику, что совершил грех? Эльвир покачал головой. И они расстались с сожалением.
* * *
— Ты должна пообещать мне вот что, Сигрид: если я не вернусь назад, окрести детей и окрестись сама. Голос Эльвира казался чужим, когда он произносил эти слова, монотонным и вымученным. И в глубине его глаз, под маской равнодушия, которое он пытался напустить на себя, скрывалась боль. Боль была на его лице и в последнее утро перед отъездом на юг, и еще что-то знакомое и близкое и в то же время чужое и далекое, путающее ее. И чувство, которое она испытывала к нему, ничего общего не имело с обычной тоской. Ведь Эльвир, привыкший говорить с ней обо всем на свете, в эту последнюю ночь молчал о том, что мучило его. За день до отъезда он вернулся из Стейнкьера в мрачном настроении, это она заметила. И когда он сказал, что беседовал со священником, она подумала, что, возможно, это и испортило ему настроение. И когда она спросила, в чем дело, он ответил, что об этом не стоит говорить. И тут же прижал ее к себе с такой мрачной дикостью, что она испугалась.В последнее утро перед отъездом в церкви была месса; Эльвир пришел на нее вместе с Сигрид. Лицо его было непроницаемым, когда он стал на колени на земляной пол и перекрестился. Но когда ярл и все остальные, уходя в поход, устремились к алтарю, чтобы получить святые дары, он вышел из церкви. Выйдя наружу, он немного помедлил, словно ожидая кого-то. Но, увидев Энунда, направлявшегося вместе с ярлом в Стейнкьер, он вывел из конюшни коня и так огрел его плетью, что тот понесся стрелой.
Перед отплытием четырех кораблей из Эгга на пристани кипела бурная жизнь. На борт грузились походные сундуки, еда и питье. Все прощались с друзьями и родственниками, передавали приветы на юг. Щиты и боевые топоры, колчаны со стрелами и луки — все это грузилось на корабли и там раскладывалось по местам. Эльвир и Сигрид уже попрощались наедине. На пристани, на глазах у всех, они только пожали друг другу руки, и Эльвир поднялся на борт «Козла». Сигрид попрощалась с остальными — с Туриром, Сигурдом и Финном. Ингерид тоже была на пристани. — Будь готова к отъезду, когда я вернусь, — сказал ей Финн, улыбнулся и прыгнул на свой корабль. Но все это было теперь для Сигрид в прошлом; со дня отплытия драккаров прошло много серых дней и одиноких ночей. После дня весеннего равноденствия наступило лето, дни стали длиннее и светлее. Длиннее, да, но светлее… Для Сигрид, во всяком случае, они светлее не стали. Но все это время Тора помогала ей, поддерживала ее. Тора уже ходила без посторонней помощи, и Сигрид казалось совершенно невероятным, что она просидела, словно калека, долгие годы. Сигрид испытывала не только радость по поводу того, что Тора ходит на своих ногах. Одолжив у Сигрид ключи, Тора сновала повсюду и вмешивалась во все дела. Но постепенно она угомонилась и стала уравновешенной и спокойной, что очень удивляло Сигрид.
Священник Энунд по-прежнему наведывался в Эгга, в основном, для того, чтобы поговорить с Торой. Но с Сигрид у него тоже был разговор. Однажды она рассказала ему, что Эльвир пожелал, чтобы она и дети окрестились. Энунд был удивлен. — Зачем же ждать?.. — сказал он. — Если он в самом деле так считает… Сигрид не знала, что ей следует ответить, да и Энунд был озадачен. — Во всяком случае, он не будет против, если ты вместе с остальными будешь приходить ко мне послушать о христианстве, — сказал он. И Сигрид стала каждый вечер ходить в Стейнкьер к священнику Энунду. За эти месяцы Сигрид многое обдумала. И теперь, всерьез изучая христианство, она часто думала о том, что говорил ей Эльвир, особенно в ночь после посещения церкви в Стейнкьере. И она пыталась сопоставить то, чему учил Энунд, с тем, что говорил ей Эльвир. И то, что говорил Энунд, казалось ей понятнее. Разговоры Эльвира об «агапе» и бескорыстной любви были чужды ей и казались такими же непонятными, как и его рассказы о дальних странах. Но все-таки она поняла крупицу из того, что он сказал ей в ту ночь. Она думала о земле обетованной, лежащей далеко за морем; она слышала, как рассказывали о ней люди, вернувшиеся из дальних походов. Они говорили, что земля эта появляется внезапно — и в такой близи, что корабль может в следующий момент врезаться в берег. Но потом она исчезает. В ясные вечера Сигрид не раз высматривала ее, и ей казалось иногда, что она различает ее контуры. Так было и с мыслями Эльвира: стоило ей нащупать хоть какой-то смысл в его словах, как она тут же его теряла. Эльвир очень отличался от всех, кого она знала, и она гордилась им. Но она заметила, что с Туриром — после долгой разлуки — она чувствовала себя в большей безопасности. Турир мог приходить в ярость, мог говорить глупости, много ошибался: он мог проклинать своих богов и приносить им жертву. Но все, что он делал, она понимала. И ему не приходила в голову мысль о том, что боги — это чуждые ему силы. И в то же время в мыслях Эльвира было что-то притягательное для нее: предчувствие чего-то более великого, чем повседневная вера Турира в самого себя и его страх перед богами и духами. Объясняя христианские заповеди и правила, Энунд подчас давал новый толчок ее размышлениям, так что земля обетованная вдруг снова начинала маячить перед ней. И так было в тот вечер, когда его спросили, как выглядит Бог. — Никто этого не знает, — ответил он. — Но у святого Анегара, первым окрестившего свеев, было видение. Бог предстал перед ним в виде удивительного света, непостижимого для людей.
И получалось так, что о каждом исцелившемся с помощью Энунда от болезни говорили как о подтверждении его силы, тогда как о тех, кто не исцелился, забывали. И Энунд понимал, откуда берутся все новые и новые люди, толпящиеся возле церкви — и не знал, что делать. Он стал молчаливым и замкнутым, считая это наказанием Господним за свои грехи. И ему казалось, что когда он стоит на коленях в молитве, его слова уже не долетают до неба, а стелются по земле, как дым от жертвенника Каина.. Он часто думал об Эльвире; мысленно видел перед собой его лицо, каким оно было в последний день в церкви. В тот день Энунд подумал, что если Эльвир захочет ему что-то сказать, он сам найдет способ, как это сделать. Но все-таки в глазах Эльвира было выражение какой-то окаменелости — и оно преследовало Энунда. Ночи напролет проводил он в церкви, стоя на коленях перед алтарем, но ему казалось, что Небо закрылось для него. И выполняя изо дня в день свои обязанности в присутствии смиренно обожающих его прихожан, он все больше и больше убеждался в своей бесполезности.
Дни шли за днями; для Сигрид все они были одинаково пустыми и печальными. Весна была в самом разгаре, воинам пора было уже возвращаться. Но Сигрид старалась не думать об этом, и единственным ее спасением была работа. В усадьбе ее любили, хотя многие и побаивались ее гнева и суровости. И в эту весну она была настолько сурова со служанками, что те начинали роптать. И Тора посчитала нужным как-то сказать Сигрид, что это не принесет пользы ни ей, ни окружающим, на что Сигрид сердито ответила: — А как, по-твоему, я еще могу довести себя до усталости, чтобы спать по ночам? Тора положила ей на плечо руку. — Тебе понадобятся силы, когда Эльвир вернется домой, — сказала она. Сигрид исподлобья посмотрела на нее: от Торы она меньше всего ожидала таких слов. Но Тора улыбалась, и Сигрид показалось, что она поразительно похожа на Эльвира. Одним из мучительных для Сигрид обстоятельств было то, что ее больше не радовали дети. Глядя на них, она с отчаянием думала, каково им будет, если их отец не вернется обратно. Но она старалась, как могла, быть с ними веселой. Она была рада тому, что Турир привез своего сына, так что ему не придется в одиночестве, в Бьяркее, переживать известие о гибели отца.
Сигурд Турирссон очень изменился за время своего пребывания в Эгга. Первое время он был просто тихим мальчиком, любившим слушать Хьяртана Торкельссона, рассказывающего детям небылицы; он сидел на скамье и смотрел во все глаза, как сыновья Эльвира, Харальд Гуттормссон и другие мальчишки дерутся и бегают по двору, словно стая щенков. Он играл с маленькой Гудрун и болтал с Хеленой, дочерью Торберга Строгалы, оставшейся после него в Эгга; это Энунд подсказал ее матери такое имя. Но все переменилось в тот день, когда один из мальчиков, старший сын Гутторма, проходя мимо него, обругал его, сказав, что «здесь сидит Сигурд и другие девчонки». Все, кто был во дворе, засмеялись. Сигурд же уставился на него, разинув рот, и взгляд его выражал недоверие и обиду. И, собрав всю свою решимость, шестилетний мальчик встал, решительно направился к толпе мальчишек и ударил кулаком в лицо Грьетгарда, смеявшегося громче других. Ответ не замедлил себя ждать, и Сигрид пришлось разнимать драчунов. Но ей удалось это сделать после того, как Сигурд доказал, что он не девчонка. С этого дня его приняли в мальчишескую компанию. В месяц выгона скота[49] Ингерид дочь Блотульфа явилась в Эгга. Было ясно, что она хочет поговорить с Сигрид — и та повела ее показывать свое тканье. Ингерид была бледной, с синяками под глазами, и Сигрид догадалась, о чем она хочет поговорить. И в глазах Ингерид загорелся какой-то особенный свет, когда она сказала, что ждет ребенка. В округе болтали и смеялись по поводу примирения Ингерид с Финном, но в основном люди отнеслись к этому благожелательно. Сигрид не была с ней наедине с того самого вечера, когда они встретились на жертвоприношении в Ховнесе, и теперь, несмотря на любопытство, ей не хотелось откровенничать. — Ты была права, сказав, что Финн повзрослел, — начала Ингерид, улыбаясь, хотя в голосе ее слышалась грусть. — Но он не дал мне возможность показать, что я стала лучше. Сигрид не выдержала и спросила: — Что ты имеешь в виду? — Он ни о чем меня не спрашивал, он сам все решил за нас обоих. Ты рассказывала ему что-нибудь из того, о чем мы говорили в Ховнесе? — Я рассказала ему все, что запомнила. — Я так и думала. Он дал мне это понять, когда я была с ним. — Наверняка он был груб с тобой, — сказала Сигрид. В тот день, когда та была с Финном в Эгга, Сигрид заметила у нее на лице синяки. — Только вначале… — призналась Ингерид. — Но потом он стал ласков… — При этом в глазах у нее появилось мечтательное выражение, но она тут же опомнилась и посмотрела на тканье. Но по ее взгляду Сигрид поняла, что та совершенно не видит картины — и улыбнулась. — Как выглядит этот Грютей? — спросила она. И Сигрид пришлось рассказать ей все, что она знала о Грютее и об усадьбе Финна. — Малютка Раннвейг спрашивает о нем, — немного погодя сказала Ингерид. Вечером перед отъездом Финн побывал в Гьевране, и девочка сначала удивилась и даже напугалась, но потом была в восторге от своего отца, которого совершенно не помнила. Немного помолчав, Ингерид сказала: — Не знаю, что было бы со мной, если бы… — она замолкла на полуслове. Обе посмотрели друг на друга, и никто из них не сказал больше ни слова — не осмелился.
* * *
Вскоре после посещения Ингерид пришло известие о том, что показались корабли. Бросив все, Сигрид побежала по тропинке на вершину холма, чтобы увидеть все самой. Но, едва увидев корабли, она поняла: случилась беда. Она поняла это по движениям гребцов — в них не было ни радости, ни спешки. К тому же корабль ярла Свейна отсутствовал. И радость потухла в ней, когда она спустилась на берег. Корабли причалили в полной тишине: люди на борту и на причале молчали, не испытывая радости встречи. Увидев стоящего на палубе Эльвира, Сигрид вздохнула с облегчением; но мрачная серьезность его лица тут же заморозила ее радость. Она переводила взгляд с одного мужчина на другого; многих из тех, кто отправился в поход, не было. Она увидела Турира; судя по его виду, он не был ранен. Но у Сигурда был жуткий шрам на левом виске, и когда он сходил с палубы, она заметила, что он волочит одну ногу. И… ее сердце чуть не остановилось… Финна она не увидела. Но потом она все же заметила его: он полулежал на палубе своего корабля, и было ясно, что он тяжело ранен. И когда корабль причалил, его перенесли на берег на щите. Стоя на пристани, она смотрела, как люди Эльвира сходят на берег. Они шли, один за другим, опустив головы. И ряды их заметно поредели. Не было младшего сына Хвамма, Хальвдана Тордессона, одного из самых преданных людей Эльвира, и… она переводила взгляд с одного лица на другое, но его не было… Хакона Блотульфссона… Не было и многих других. Эльвир сошел на берег последним. — Добро пожаловать домой! — сказала Сигрид. И ей показалось, что ее голос провалился в бездонную пропасть. Эльвир обнял ее за талию и повернул к себе, и они шли так, глядя друг на друга, вверх по холму. Сигрид никогда не видела Эльвира таким пьяным, как в этот вечер: он едва держался на ногах. Ложиться спать он не хотел: ходил по дому, бранился и ругался. Она не знала, что делать. И в конце концов позволила ему вволю побуйствовать, пытаясь при этом успокоить детей, забившихся от страха в угол постели. Она знала, что ярл бежал из страны и что селение, возле которого происходило сражение, называлось Несьяр. Обо всем остальном она не осмеливалась расспрашивать, и ей никто ничего не рассказывал. — Неужели, Бог и дьявол их всех побери, в Норвегии не осталось ни одного мужчины, кроме Эрлинга Скьялгссона? — Эльвир стукнул кулаком по табуретке, так что она повалилась на пол. — Хрут из Вигга, твой брат Турир — все бабы! Сигрид попробовала прикрикнуть на него, хотела ударить его по щеке, но он толкнул ее так, что она упала. — И ярл Свейн! — Она слышала скрежет его зубов. — Какой он хёвдинг, если слушает советы всех этих потаскух! — Я не понимаю, о чем ты говоришь, — сказала Сигрид, вставая и садясь на постель. Он повернулся к ней, глаза его напоминали глаза раненого зверя. — Я говорю о том, что нас разбили, взяли на абордаж наши корабли, что Свейну пришлось рубить мачту на своем корабле, чтобы спастись… и вот мы вернулись назад ни с чем! — Он ударил кулаком по спинке кровати. — И потом… потом… — голос его так дрожал, что он не мог говорить дальше. Но, немного передохнув, сказал: — Никогда бы не поверил, что мне придется называть Свейна трусом и свиньей! — Сигрид притихла, зная, что свиньей называли того, кто струсил в бою. — Он удрал в Свею, словно пес с поджатым хвостом, — сказал он, — чтобы просить помощь у свейского короля, — голос его снова окреп. — А Турир, твой брат, думал только о том, чтобы спасти свою шкуру. Это он дал ярлу позорный совет удрать в Свею! — И Сигурд тоже? — спросила Сигрид. — Нет, — ответил он, — Сигурд был одним из тех, кто решил вместе со мной и Эрлингом, что нужно собрать более сильное войско и снова идти на Олава. Он немного успокоился, и Сигрид попыталась уложить его в постель: она встала и обняла его за шею, и на этот раз он не оттолкнул ее. Возбуждение его прошло, он наклонил голову и ткнулся лбом в ее волосы. — Вы с ярлом расстались как недруги? — осторожно спросила она. Он не ответил; отпустив ее, он шагнул к кровати и лег. Сигрид стала укладывать детей. И когда она вернулась к нему, он уже спал. Он лежал поперек кровати, хрипло дыша полуоткрытым ртом. Она хотела переложить его, но он был слишком тяжел для нее. Она укрыла его, потушила свечу и легла среди детей.В усадьбе Стейнкьер стали спешно готовиться к отъезду, как только вернулись корабли и Холмфрид получила известие о том, что ярл отправился к ее брату в Свею. Все, что можно было, погрузили на вьючных лошадей, а то, что невозможно было увезти, раздали. Так что Олава Харальдссона, если бы он решил вернуться в Стейнкьер, ожидали бы пустые стены. С тяжелым сердцем Сигрид пошла прощаться с Холмфрид дочерью Эрика. Ей хотелось взять с собой Эльвира, она считала, что его обязывает к этому давняя дружба с Холмфрид, даже если он и не дружит больше с ярлом. И она ждала до последнего, вместо того, чтобы ехать вместе с Торой, все еще надеясь, что его можно уговорить. Но Эльвир отказался. Он был просто невыносим все эти дни после возвращения с юга. С Туриром они не обменялись ни словом. Сигрид пыталась примирить их, но от этого стало еще хуже. Ей удалось уговорить Турира остаться на несколько дней в Эгга, прежде чем отправиться на север. Направляясь на пристань, Сигрид думала, что ей сказать. Она очень не любила расставания; она вспомнила, как в детстве пряталась, когда кто-нибудь уезжал из Бьяркея. А это прощание было для нее тяжелее остальных. Она вспомнила первый год в Эгга, когда Холмфрид сказала, что она может приходить в Стейнкьер, если ей понадобится помощь. В доме Холмфрид двери были для нее открыты настежь, но Сигрид была слишком гордой, чтобы переступить порог этого дома. В ту последнюю зиму Сигрид полюбила Холмфрид. И теперь она думала, что жизнь ее стала беднее из-за того, что в тот раз она не откликнулась на приглашение Холмфрид. Прощание оказалось еще более трудным, чем ожидала Сигрид, но в ином плане. Холмфрид спросила, где Эльвир, и Сигрид пришлось сказать, что он вне себя от такого поворота событий и из-за бегства ярла. Холмфрид кивнула, сказав, что слышала о размолвке Эльвира с ярлом и о том, что они сказали друг другу резкие слова. Сигрид не ответила, и Холмфрид продолжала: — Эльвир всегда с неприязнью отзывался о тех, кто называет себя христианином и одновременно отстаивает свои права с помощью меча. Если он подумал бы как следует, он не стал бы, я уверена, упрекать Свейна в том, что тот человек совершенно мирный. Если бы он поразмыслил, он бы согласился со Свейном в том, что все должны решать законы и тинг, а не отдельные люди. Сигрид подумала, что Холмфрид в этом права. И не было ничего удивительного в ее осведомленности, ведь Эльвир не скрывал ни от кого своих настроений. И даже в присутствии посторонних он говорил такие вещи, которые могли бы обидеть Холмфрид. Видя неуверенность Сигрид, Холмфрид улыбнулась и продолжала: — Эльвир разочарован. Он не в себе, и он страдает. Поэтому он и говорит то, в чем сам не уверен и о чем будет сожалеть, когда одумается. Я понимаю его и считаю, что мы с ним остаемся хорошими друзьями, как и прежде. И я могу поручиться за Свейна, что он того же мнения, что и я. Тронутая ее словами, Сигрид с трудом удерживала слезы. И когда Холмфрид протянула ей руки, она бросилась ей на шею и дала волю слезам.
Тора сказала, что Энунд решил уехать на восток вместе с домочадцами Холмфрид. Сигрид решила попрощаться с ним и пришла в церковь. Она не видела его уже несколько дней и была просто напугана его видом. — Как дела у Эльвира? — спросил он. — Он не захотел придти? Сигрид покачала головой. — Он пьет, — коротко сказала она. Сигрид знала, что Энунд знает обо всех местных событиях, так что ей незачем было приукрашивать правду. — Мне хотелось бы переговорить с ним до отъезда, — сказал он. — Не думаю, что это доставит тебе удовольствие, — ответила Сигрид. — Он ведет себя ужасно и ругается так, что все просто радуются, когда он переходит на иностранный язык. Священник долго молчал. Они стояли у дверей церкви, взгляд Энунда блуждал по окрестным холмам, все время возвращаясь к одной и той же точке: усадьбе Эгга на вершине холма. И мысли его тоже сходились в одну точку, как это часто бывало в последнее время: смог бы он помочь Эльвиру, если бы сам не испытывал затруднений? Сигрид подумала, что сказала глупость; и она хотела уже уходить, но тут Энунд опять заговорил. — Скажи ему, что я буду за него молиться, даже если в моих молитвах мало толку, — сказал он. — И передай ему, что он может найти себе лучшего священника, способного помочь ему. Но самое главное, скажи ему, чтобы он полагался на Божественную любовь! Сам же я утешаюсь словами, сказанными одним английским священником: когда сомнения и отчаяние поглощают нас настолько, что свет веры не доходит до нас, тогда нас ведет Божественная любовь — и она нас не покидает. И тот, кто ищет ее в истине и не изменяет ей, тому Он в своей любви не дает погибнуть. — Что будет с местными христианами, когда ты уедешь? — спросила она. — Все в руках Божьих, — ответил Энунд. — После того случая с матерью Эльвира для нас всех будет лучше, если мы расстанемся. Надеюсь, мне удастся прислать сюда священника из Свей. Сигрид было о чем подумать, когда она возвращалась в Эгга.
На следующий вечер Эльвир был трезв — впервые за все время после возвращения, так что с ним теперь можно было говорить. И он без промедления занялся ранами Финна. Он рассказал Ингерид, как все нужно делать, как ухаживать за больным. Финн оставался пока в Эгга, несмотря на то, что Блотульф приезжал и просил отправить его в Гьевран. Блотульф сказал, что теперь, когда Хакон погиб, хозяйство должен был наследовать Финн. Но у Финна осталось плохое впечатление об этой усадьбе. Не кривя душой, он сказал, что после смерти отца ему нужно управляться со своим собственным хозяйством на севере. Он выразил желание остаться до полного выздоровления в Эгга, если только Эльвир не выпроводит его вон. Блотульф не стал возражать. Он знал, что пережил Финн, живя в Гьевране. Ведь если Ингерид и переменилась, то Гюда лучше не стала — и обе они стоили друг друга.
— Как чувствует себя Финн? — спросила Сигрид, когда они с Эльвиром уже собирались лечь спать. — Надеюсь, он не так искалечен, что… — Поживем — увидим, — ответил Эльвир, — у него железная воля и терпение. Думаю, здоровье его полностью восстановится. Он улыбнулся, когда Сигрид сказала, что Ингерид ждет ребенка. Но лицо егоомрачилось, когда она передала ему привет от Холмфрид и священника Энунда; он ничего не ответил и заговорил о других вещах. — Думаю, нас ожидают трудные времена, — сказал он, — Олав Харальдссон властолюбив и воинственен, и он еще покажет, на что способен. И, боюсь, я не из тех, кто станет вилять перед ним хвостом. — Не лучше ли будет присягнуть ему на верность, если он завладеет всей страной? Эльвир ответил строфой из песни:
Глупец считает,
что будет вечно жить,
других под себя подминая,
до самой старости мира не зная,
он будет лишь копья ломать…
— Это звучит красиво: ты предпочитаешь умереть, чем жить в хомуте. Но что будет со мной и детьми? — сказала Сигрид. Эльвир посмотрел на нее. — Ты хочешь, чтобы я ползал на брюхе перед Олавом Толстым ради того, чтобы сохранить имущество и жизнь? Ты думаешь, для мальчиков будет лучше иметь отца, живущего в позоре, чем отца, погибшего в славе? — Нет, — ответила Сигрид, не зная, что возразить ему. — Возьми меня! — вдруг воскликнула она. — Возьми меня так, чтобы я почувствовала это! — Тебе не хватало меня? — прошептал он. — Мне казалось, я схожу с ума, — ответила она. — Я не могу понять, как справляются те, кто отпускает своих мужей в далекие походы! — Им тоже приходится нелегко, — ответил Эльвир. — Ты же знаешь, что было с моей матерью, когда отец долго отсутствовал. — Она любила твоего отца? — спросила Сигрид. — Да, думаю, что любила. — Но почему же она тогда переметнулась к другому? — Что было бы с тобой, если бы ты несколько месяцев оставалась в усадьбе наедине с этим мерзким скальдом? Сигрид не нашла, что ответить. — Кстати, я видел его в бою, — сказал Эльвир. — Он был на борту королевского корабля, вооруженный до зубов. И мне было досадно, что я не был достаточно близко, чтобы сразиться с ним, я бы с удовольствием раскроил ему череп, не дожидаясь, пока он сочинит драпу, — он язвительно усмехнулся. — Впрочем, эти скальды всегда осмотрительны в своих словах и готовы польстить любому, никогда не зная наверняка, кто будет их следующим хозяином. — Давай не будем говорить о Сигвате, — сказала она, взяв его за руку. Взгляд ее упал на страшный красный шрам на тыльной стороне его ладони. Она прижала его ладонь к щеке. — Хорошо, что на тебе была кольчуга, — сказала она, — иначе бы тебе пришлось туго. — Это уж точно, — согласился он. — Нам удалось прикончить лишь некоторых из них. Исход битвы решило то, что люди на королевском корабле были в кольчугах. — Из слов Сигурда я поняла, что это Эйнар спас ярла, когда люди короля взяли его корабль на абордаж… — Да, — сказал Эльвир, — он бросил якорь на борт корабля Свейна и оттянул корабль в сторону. Но люди короля зацепили крючьями за мачту, и ярлу пришлось срубить ее. — На это положил жизнь не один человек… — Да, — согласился Эльвир и добавил: — Мне никогда не нравился этот Эйнар. — Почему? — Он неискренен, служит и нашим, и вашим, держит нос по ветру. Сначала он служил Олаву Трюгвассону, потом стал таким хорошим другом ярла, что женился на его сестре. Кстати, это была не такая уж завидная партия: она была из тех надменных и самоуверенных баб, которые стремятся подчинить себе всех и вся. И, я думаю, Эйнара не очень-то тянуло домой, и почти все время он проводил в походах. А тут еще эта напасть перед Рождеством. Я не знаю, где был Эйнар, когда крестьяне из Внешнего Трондхейма заключили союз с Олавом. Они никак не могли решить, кого выбрать хёвдингом; и поговаривают, что на это место метил Эйнар… И после этого он оказался одним из тех, кто посоветовал ярлу уехать из страны — и сам удрал с ним в Свею. И там он наверняка наблюдает за тем, как Свейн собирает войска, чтобы восстановить свою власть в Норвегии. Если же это не удастся ярлу, я буду очень удивлен, если Эйнар не заключит союз с Олавом и не вернется обратно. И тогда он напомнит королю о том, что это он выпроводил ярла из страны. Сигрид засмеялась. — Похоже, он останется таким дураком до старости! Эльвир тоже засмеялся. — Ну и достался тебе муженек: тупой, упрямый, крутой, болтающий в пьяном виде всякий вздор! Сигрид передала ему слова Холмфрид. — Холмфрид умная женщина, — только и ответил он, прижимая ее к себе. — Не знаю, чем все это обернется, Сигрид. Может быть, я и доживу до старости, но, боюсь, этого не произойдет. Но не стоит об этом думать, как сказал кто-то: «Предоставляя всему идти своим чередом, мы освобождаем свой разум от скорби». Долго ли нам осталось быть вместе или нет, будем радоваться этому. Прижавшись губами к его шее, она сказала: — Энунд тоже передает тебе привет. — М… м… — сонно произнес Эльвир. — Хочешь знать, что он сказал? — Пусть говорит, что угодно, лишь бы ты была со мной… — Но это важно. — Я знаю, что обычно говорит Энунд, — ответил Эльвир. Но все же он выслушал ее, подперев голову руками. Некоторое время он размышлял над ее словами. — Ясно одно, — наконец сказал он, — на жертвоприношении я был в последний раз. Но над словами Энунда я еще подумаю. Здесь спешка неуместна.
Все сидели в зале: Сигрид, Эльвир, Тора, Турир Собака и Сигурд. Финн лежал на скамье; в зале были также Гутторм и Рагнхильд. Они говорили про Олава Харальдссона. — Если он прочно осядет в стране, я сочту нужным отказаться от присяги ярлу, — сказал Турир. — Я бы не стал этого делать, — сказал Эльвир, — несмотря на то, что мы со Свейном расстались как недруги. — Ты полагаешь, что тебе следует присягнуть королю и стать его слугой, если он предложит тебе это? — недоверчиво произнесла Сигрид. — Да, — ответил Турир, — я решил, что намного выгоднее быть в дружбе с тем, кто правит страной. Все притихли, и тут Сигурд сказал: — Никогда бы я не стал связываться с человеком, который мне не нравится и которому я не доверяю. — Мне принадлежит земля в Бьяркее, — сказал Турир, — и я затратил много времени и сил, чтобы расширить отцовские владения. И я не хочу, чтобы это добро уплывало из наших рук, если есть возможность воспрепятствовать этому. Финн пристально смотрел на Турира, пока тот говорил. В последнее время на лице Турира появился какой-то мрачный отпечаток, и до Финна доходили слухи, что в торговле Турир был нечист на руку. — Есть вещи, более ценные, чем богатство, — сказал он. Турир повернулся к нему. — Тебя не спрашивают! — Ты хочешь присягнуть Олаву Харальдссону только ради собственной выгоды? — голос Эльвира был жестким, как мороз без снега. — Да, — ответил Турир. — Я не такой дурак, чтобы ради собственной тупости отдавать себя на съедение. Но я скажу вот что: даже если я и присягну королю, я останусь верным своему роду, так повелось исстари. — Клятва есть клятва. И если ты даешь ее, тут не может быть никаких оговорок, — сказал Эльвир. И дразняще медленно произнес:
Таков мой второй совет:
пока еще не поздно,
клятвы не нарушай.
Несчастен клятвопреступник,
тяжелая кара его ожидает.
Турир вскочил. — Я не клятвопреступник, — сказал он, — и не собираюсь им быть! — Интересно, кто управляет тобой, ты сам или твое богатство? — спросил Эльвир. Лицо Турира побагровело. — Скажи спасибо Сигрид, а то бы я вызвал тебя на поединок! — воскликнул он. — Я сыт по горло твоим гостеприимством! Он повернулся и вышел из зала. Сигрид не могла усидеть на месте: вскочив, она бросилась за ним вслед, и никто не стал удерживать ее. Она догнала его во дворе. — Куда ты? — спросила она. — Я решил созвать своих людей и плыть на север, — ответил он. — Я не хочу оставаться на ночлег в доме Эльвира! — Турир! Она стояла перед ним, беспомощно опустив руки, губы ее дрожали. — Ты должна понять, Сигрид, что после этого я не могу оставаться здесь, — спокойно произнес он. Она это понимала. Но ее душили слезы. Турир и его посещения были связующей нитью между ее теперешней жизнью и тем дорогим ей, что она оставила на севере. Теперь она понимала, что, возможно, они никогда больше не встретятся. И приезд Сигурда ей мало в чем помог бы: он никогда не был близок ей. — Турир, — в отчаянии произнесла она, — ты больше никогда не приедешь в Эгга? — Нет, — сказал он, — пока Эльвир не возьмет свои слова обратно, я не приеду в Эгга с мирными намерениями. Но ты должна знать, что если я понадоблюсь тебе, если Эльвир в чем-то обидит тебя, я приеду, как только получу от тебя известие. Она пристально смотрела на него, разглядывая каждую черточку его лица, словно желая, чтобы все это врезалось в ее память. Несмотря на отпечаток горечи и жестокости, лицо его, обращенное к ней, было теперь дружелюбным и открытым. Оглядываясь назад, она вспомнила только то хорошее, что он сделал для нее: счастливые детские годы, его преданность и готовность защитить ее, и вот теперь — ради нее он отказался от мести за оскорбление. Она почувствовала, что тоже должна что-то сделать для него, чтобы показать, как он ей дорог. Немного помедлив, она развязала на шее ремешок, на котором висел молот Тора, и молча завязала его на шее Турира. Он посмотрел на маленький серебряный молоточек с выбитыми на нем знаками, потом вопросительно уставился на нее. — Этот молоточек защищал меня много лет, — сказала она, — с того самого дня, как Хильд дала его мне в Бьяркее. И теперь я хочу, чтобы он защищал тебя. Турир не стал возражать. — Я буду постоянно носить его, — сказал он. — И ты не забывай, Сигрид, что родовые связи крепче всего на свете. И я тоже буду помнить об этом, если наступит день, когда твои сыновья будут нуждаться во мне. Сигрид проводила Турира на корабль. Она стояла в ночной тишине до тех пор, пока всплески весел не затихли вдали. Возвращаясь обратно по тропинке, по обе стороны которой высился лес, она ощутила вдруг холод страха. Зубы ее стучали, и она ничего не могла с этим поделать. По привычке она хотела дотронуться рукой до молоточка, но тут же вспомнила, что его больше нет. Ей вдруг показалось, что в темноте между деревьями притаились духи и тролли, а все боги и божества деревьев, камней, ручьев и курганов проснулись и хотят схватить ее. Она хотела бежать, но не могла пошевелить ногой, как в кошмарном сне. И тут рука ее дотронулась до лба. Медленно и неуверенно она перекрестилась, как это делали Эльвир и Энунд. И ей стало легче. И все-таки она испуганно оглядывалась по сторонам, когда бежала к дому.

__________
Наталия Будур • ТИГРЫ МОРЯ: ВВЕДЕНИЕ В ВИКИНГОЛОГИЮ
«Викинги — это настоящие тигры моря».Саксон Грамматик

Еще раз об эпохе викингов
Предвижу, сколько зла наделают эти люди моими преемникам и их подданным…» Слова Карла Великого, сказанные им во время одного из первых появлений викингов у берегов Южной Франции, оказались пророческими. В те времена Англия уже стонала от набегов норманнов. Смелость и беспощадность викингов наводили такой страх на английских королей, что они не видели смысла сопротивляться морским разбойникам, корабли которых поражали их своей быстротой и внезапностью появления. Год 793 считается началом эпохи викингов. Это год нападения на остров Линдисфарне и разграбления первого английского монастыря — святого Кутберта. Ни одной приморской стране не было от них пощады. Ирландия и Шотландия терпели столько же, сколько и Англия. Не говоря уже о Шетлендах, Гебридах и острове Мэн. «Послал всемогущий Бог толпы свирепых язычников — данов, норвегов, готов и свеев; они опустошают грешную землю Англии от одного берега до другого, убивают народ и скот и не щадят ни женщин, ни детей», — записано об этом времени в одной из англосаксонских хроник. С 835 года по 865 викинги регулярно опустошают южные и восточные берега Англии. Иногда к берегу одновременно пристают до 350 датских драккаров. Разорению подвергаются Корнуэлл, Эксетер, Винчестер, Кентербери и, наконец, Лондон. До 851 года викинги не остаются на зимовку в Англии, а поздней осенью возвращаются домой, увозя добычу. Некоторое время не решаются они проникнуть в глубь страны и не уходят от берега дальше, чем на 15 километров. В 30–50 годы IX века на Ирландию обрушиваются норвежские викинги. Так, по сообщению древних ирландских хроник, в 832 году норвег Тургейс захватывает сначала Ольстер, а потом чуть ли не всю Ирландию и становится ее королем. Однако в 845 году местному населению удается избавиться от ненавистного норвежца и Тургейса убивают. В середине IX века в Ирландию вторгаются даны, но норвежцы не спешат уступать им своих территорий, и в 853 году конунг Олав Белый захватывает Дублин, который, как показали археологические раскопки, был основан все теми же викингами, и создает там свое «королевство», которое просуществует более двух столетий. Именно с этого «плацдарма» и происходит постепенная колонизация норвегами западных областей Англии. Осенью 865 года в Восточной Англии высаживается несметное число датских викингов, во главе которых стоят сыновья знаменитого Рагнара Кожаные Штаны — Ивар Бескостный и Хальвдан. Через год они совершают поход в глубь страны на Йорк. Считается, что сыновья приехали отомстить за своего отца, который погиб в змеином колодце правителя Йорка. Но как бы там ни было, а 1 ноября 866 года даны входят в Йорк. Так Западная Англия оказывается под властью норвежских викингов, а Восточная — датских. До 871 года войско датчан одерживает победы, и часть датчан даже оседает на захваченных территориях, однако в 871 году все изменяется — к власти приходит Альфред, получивший позднее прозвание Великого. Альфред прославился прежде всего тем, что умело повел борьбу с викингами, предварительно изучив их тактику — как и положено истинному полководцу. Поняв, что скандинавы предпочитают морские сражения, он первым делом отстроил заново крепости и в 878 году выиграл крупное сражение, после чего датчане были вынуждены оставить Уэссекс. Вождь викингов Гутрум был крещен, а датчанам позволено остаться на землях Англии. Таким образом, к концу IX века часть Англии была захвачена пришлыми «данами» и там даже образовалась «Область датского права» (Денло). Однако англы продолжали бороться всеми доступными им средствами против датчан, и в X веке Денло стал подчиняться власти английских королей и потерял свою политическую независимость. В 955 году был изгнан последний скандинавский ярл Йорка Эрик Кровавая Секира. Положение вновь меняется в правление Этельреда Нерешительного (X век), когда в Англию вторгается войско Свейна Вилобородого. Страх перед датским конунгом настолько силен, что англичане предпочитают откупаться от него, выплачивая грандиозные суммы — так называемые «датские деньги». В 1013 году Свейн становится королем всей Англии, а Этельред вынужден бежать в Нормандию. После смерти Свейна корона Англии достается его сыну Кнуту, который удерживает страну в повиновении, но в 1036 году, после смерти Кнута, на трон садится внук Свейна, Хардакнут, правление которого никак нельзя назвать успешным, и в 1042 году власть возвращается к старой англосаксонской династии. Королем становится сын Этельреда Нерешительного, Эдуард Исповедник. Влияние норманнов в Англии, точнее на Шетлендских островах, самом северном ее графстве, сохранялось до начала XVIII века — именно до этого времени основным языком на островах был норвежский.* * *
При наследниках Карла Великого «короли морей» вторгаются в бывшие его владения. Напомним, что этот император объединил почти все территории римских кесарей, но монархия распалась после смерти Карла на отдельные государства, терзаемые междоусобными войнами. Франция первая поплатилась за свое «безначалие». Корабли викингов вошли в Сену и Луару. Руан был разорен, знаменитые монастыри разграблены, монахи перебиты, а ценности и святыни расхищены, большая часть населения взята в плен и продана в рабство. Набеги викингов на земли Франции повторялись почти ежегодно, и воинам с Севера удалось даже разграбить Париж. Сохранились записи французских хроник, которые рассказывают, что около 850 года несколько кораблей викингов под предводительством Хастингса появились у стен Нанта. Все попытки защититься или спрятаться в церкви святого Петра оказались бесполезны, и город был предан огню и мечу. После одержанной победы викинги разбили лагерь неподалеку от города и надолго остались там, совершая регулярные набеги на города и монастыри по всей Франции. Затем они уплыли в Испанию, но, потерпев там неудачу, вернулись обратно и разграбили Париж. Король, Карл Лысый, был вынужден бежать в монастырь Сен-Дени. Франции грозила гибель, и лишь непривычный климат и, как пишет хронист, «употребление в пищу незрелых плодов», которые привели к серьезным болезням, вынудили викингов прислать к королю посланников с требованием выплатить дань, после чего они обещали вернуться к себе на Север. Французы заплатили громадную сумму серебром, и норманны убрались восвояси… В конце IX века во главе норманнского войска стал знаменитый Ролло, Хрольв Пешеход, который после нескольких удачных набегов утвердился в Руане и подчинил себе местное население. Эта область вскоре формально была уступлена ему Карлом Простоватым. Так было основано герцогство Нормандия… Спустя полтора века, в 1066 году, потомок Ролло, Вильгельм Завоеватель, захватил Англию, а гобелен его супруги, королевы Матильды, и по сей день остается одним из самых ценных источников по истории Средних веков. Круг истории замкнулся — потомок датских викингов вновь захватил Англию, чтобы больше не уступать ее никому.* * *
Плавая вдоль западного берега Франции, норманны постепенно проникали все дальше и дальше на юг. В 844 году викинги напали на поселения на Астурийском берегу, но были отбиты. Они разграбили много магометанских поселений, Севилью, разбили войско эмира. В Италию скандинавы пришли в IX веке, а в 1016 году немногочисленный отряд норманнов-пилигримов, возвращавшихся из Святой Земли, помог князю Салернскому в борьбе с сарацинами, и итальянцы, пораженные силой и храбростью викингов, стали приглашать их к себе на службу. С тех пор все новые и новые отряды скандинавских воинов прибывали в Южную Италию и даже основали там маленькое норманнское владение, а некоторое время спустя Роберт Гюискар создал на Сицилии сильное государство. Добрались норманны и до Византии, где императоры высоко оценили их воинские доблести и брали на службу в варяжские дружины…* * *
Около 860 года норманны опустошили всю Францию и их легендарный предводитель Хастингс предложил двинуться на Рим. Предложение пришлось викингам по нраву, и они отправились в Италию. Но по ошибке приняли за Рим укрепленный город Лункс, именуемый также Луна. Жители этого города быстро вооружились, и Хастингс, поняв, что крепость взять силой не удастся, решил прибегнуть к хитрости и отправил в город посла, который сообщил епископу и графу, владельцу замка, что датский хёвдинг после долгих скитаний по морю болен и просит лишь одного — позволения купить еду и пиво в городе, а самого его окрестить. Доверчивый епископ решил совершить обряд крещения, а горожане согласились торговать с викингами. Хастингса на щите принесли в городскую церковь, а после крещения отнесли обратно на корабль. Там он приказал воинам сообщить на следующий день о своей смерти и попросить разрешения у епископа похоронить его в церкви. Викинги в точности выполнили приказание своего предводителя, и епископ, ослепленный богатыми дарами, которые якобы оставил церкви умерший Хастингс, и поверивший лживым клятвам, разрешил предать останки викинга святой земле монастыря. Хастингса, в полном боевом вооружение, положили на носилки и понесли в город, а носилки сопровождали все викинги. В воротах их встретили граф и епископ с монахами, и все вместе направились они к центру города в церковь. Там епископ стал отпевать Хастингса, а потом повелел положить в уже вырытую для него могилу. Тут норманны с криками протеста бросились со всех сторон к епископу, а сам Хастингс соскочил с носилок и собственноручно зарубил и графа, и несчастного епископа. Через несколько часов город оказался в руках норманнов. Однако, когда Хастингс узнал, что это не Рим, он пришел в ярость и приказал нагрузить корабли награбленным добром, чтобы отправиться дальше — к берегам вожделенной Италии. Но по пути викингам пришлось выдержать ужасную бурю, у них поломало все мачты и весла, изорвало паруса, и чтобы спасти себя и корабли, пришлось выбросить за борт и добычу, и красавиц-рабынь.* * *
Побывали викинги и на Руси, и вопрос о варягах принадлежит к наиболее спорным в русской историографии. Ученых привлекали легенды о призвании варяжских князей и вполне удовлетворительные объяснения скандинавского происхождения имен Рюрика и Трувора. Однако опровергнуть сообщение о призвании варягов на Русь оказалось достаточно просто. Тем не менее невозможно отрицать тот факт, что скандинавов и русичей связывали тесные связи, а значение норманнского влияния на русскую историю вряд ли можно приуменьшить. Походы же викингов на Русь, начавшиеся в конце VIII века, являются разбойничьими набегами, которые довольно трудно отделить от «торговых поездок». По мере того как местное население училось обороняться от набегов норманнов, все большую роль начинала играть мирная торговля. Одновременно с этим громадное значение для скандинавов имела возможность наняться на службу в дружину к русским князьям. Само слово «варяги» в древнескандинавском языке означало воинов-наемников. Очень важны в то время были и матримониальные связи русских князей с родами северных конунгов. Почти все известные нам князья были так или иначе связаны с Севером. Например, дочь Ярослава Мудрого, Елизавета, была выдана замуж за Харальда Сурового, который всеми силами домогался руки Эллисив (как называли в сагах русскую княжну) и ради нее отправился за богатством в Византию, нанялся на службу в императорскую варяжскую гвардию и даже отказался от трона базилевса, который ему предложила императрица Зоя. Эта, пожалуй, самая романтическая любовная история эпохи викингов часто привлекала к себе внимание известных писателей и поэтов, в том числе Константина Батюшкова и Алексея Константиновича Толстого.* * *
Но викинги, помимо торговли и воинских подвигов — или разбоя и грабежей, как справедливо считали подвергшиеся их нападениям, — успевали еще и открывать новые земли. Им принадлежит честь открытия и заселения Исландии и Гренландии. И именно они первыми из европейцев за несколько веков до Колумба ступили на берег Северной Америки. Норманны привозили домой не только золотые и серебряные деньги, но удивительные по красоте предметы материальной культуры со всего мира, именно в эпоху викингов в скандинавских странах было введено христианство, а сами свирепые воины с Севера заметно «наследили» в западноевропейской культуре… Северные народы были в то далекое время во многом более развитыми, чем остальные народы Европы. Они показали себя талантливыми мореходами и дипломатами, воинами и организаторами, торговцами и ремесленниками, первопроходцами и колонизаторами. Они основали множество городов и государств. И они создали удивительную литературу и искусство, которые по настоящему были оценены лишь в конце XX века. Исторические факты были известны исследователям на протяжении многих веков из летописей, хроник и саг. И лишь в последние сто лет были проведены археологические раскопки и сделано великое множество открытий, которые позволили восстановить мир материальной культуры викингов. Мы постараемся рассказать читателю о мире викингов и начнем с самого главного для любого человека — его дома.

Норманнская усадьба
Благодаря археологическим раскопкам, мы знаем, как выглядели усадьбы в средневековой Скандинавии. В то время королевский двор мало чем отличался от усадеб богатых людей — в основном, лишь размерами домов. Самой известной сохранившейся до наших дней викингской усадьбой считается хутор Стенг в Исландии, прозванный также «исландской Помпеей», поскольку был похоронен под слоем пепла и лавы в 1104 году во время извержения Геклы. Люди, к счастью, успели покинуть усадьбу. В Норвегии, Дании и Швеции жилища строили из дерева, а вот в Исландии и Гренландии, где почти не было лесов, дома складывали из камня и дерна. Главным строением в усадьбе был так называемый длинный дом (длиной около 17 и шириной около 6 метров), в котором находился центральный зал. Это было большое помещение с земляным полом и длинным очагом посреди. Вокруг стен, обшитых досками, был сделан деревянный же настил. В крыше имелось отверстие для выхода дыма, а под стрехой часто прорубались небольшие бойницы для света. У стены, противоположной входу в зал, стояло почетное сидение хозяина, а по обе стороны располагались два украшенных красивой резьбой столба — одно из самых священных мест в доме. Норманны верили, что в этих столбах обитают духи, которые охраняют покой в доме.
В длинных домах, как правило, не было отдельных «спален», а хозяева и гости укладывались на скамьях либо встроенных в стену кроватях. Лишь в особо богатых усадьбах хозяин и хозяйка спали в небольшой комнате, вход в которую находился за поперечным настилом пола у короткой стены дома.
В обычные дни на стенах висели лишь щиты и оружие, а на пирах стены украшали коврами и шкурами.
Главным строением в усадьбе был так называемый длинный дом (длиной около 17 и шириной около 6 метров), в котором находился центральный зал. Это было большое помещение с земляным полом и длинным очагом посреди. Вокруг стен, обшитых досками, был сделан деревянный же настил. В крыше имелось отверстие для выхода дыма, а под стрехой часто прорубались небольшие бойницы для света. У стены, противоположной входу в зал, стояло почетное сидение хозяина, а по обе стороны располагались два украшенных красивой резьбой столба — одно из самых священных мест в доме. Норманны верили, что в этих столбах обитают духи, которые охраняют покой в доме.
В длинных домах, как правило, не было отдельных «спален», а хозяева и гости укладывались на скамьях либо встроенных в стену кроватях. Лишь в особо богатых усадьбах хозяин и хозяйка спали в небольшой комнате, вход в которую находился за поперечным настилом пола у короткой стены дома.
В обычные дни на стенах висели лишь щиты и оружие, а на пирах стены украшали коврами и шкурами.


Для женщин в усадьбе строили особый дом, где хозяйка с дочерьми и прислугой занимались работой. Однако очень часто ткацкий стан стоял в главном доме. Одежду шили из домотканой материи, но иногда и из тканей, которую привозили викинги. Женщины были одеты в свободное платье-рубаху с длинными широкими рукавами, а сверху надевалось верхнее платье-сарафан с незашитыми боками, бретели которого закреплялись на плечах парными фибулами-брошами, а на талии такой сарафан иногда перехватывался поясом. В те времена еще не знали пуговиц и в качестве застежек использовался различные булавки, пряжки и броши. Во многих домах одежду каждое утро зашивали у ворота и рукавов. Среди норманнских женщин особенно были распространены скорлупообразные, кольцевидные и трехлепестковые фибулы. На плечи обычно набрасывалась шаль, заколотая особой брошью — сёлье. Замужние женщины покрывали голову платком. Мужчины одевались в короткую тунику, облегающие штаны и плащ, который закреплялся фибулой на правом плече, чтобы не стеснять движений в бою и иметь возможность в любой момент беспрепятственно обнажить меч. На ногах у норманнов были башмаки из мягкой кожи, которые завязывались ремнями на икрах. Викинги были где-то в среднем на 10 сантиметров ниже современных людей. Женщины занимали особое положение в норманнском обществе. Она оставалась главным человеком в усадьбе, когда муж отправлялся в викингский поход.


Символом власти хозяйки двора была связка ключей, которую носили на поясе. Женщина имела право потребовать развода, если после свадьбы муж отказывался передать ей ключи. Ели обычно молочные продукты, вяленое и сушеное мясо и рыбу вместе с хлебом. Овощи в те времена были еще неизвестны, и лишь в конце «эпохи викингов» стали употреблять в еду капусту. К еде пили молоко, пиво или мед. Вино было дорогим напитком, и лишь в богатых усадьбах его подавали в небольших бокалах (как правило, привезенных из викингских походов) во время больших праздников.

 Готовили еду на открытом огне в очаге либо в закрытых печах. Из саг известно, что в земле выкапывали яму и выкладывали ее стены досками или камнями и закладывали туда мясо или рыбу. Затем раскаляли на огне большие камни и бросали их на мясо, а саму яму при этом присыпали землей, чтобы дольше сохранялось тепло.
Женщины и мужчины ели за разными столами, за исключением свадеб.
Руки скандинавы мыли до и после еды — ведь ели они пальцами. Вилки в те времена были еще неизвестны, лишь жареное мясо накалывалось на подобие современного шампура, а суп ели ложками из дерева или кости.
В английских хрониках встречаются сообщения о том, что викинги были необыкновенно чистоплотными людьми и любили часто мыться. И это действительно так. В скандинавской усадьбе обязательно была баня, в которой по субботам мылись. В скандинавских языках само слово «суббота» означает «банный день».
Отхожие места строились во дворе позади главного дома по несколько «сидений» в ряд. Сидение, вырезанное из куска дерева, клали на землю или ведро. На хуторах, расположенных у моря, отхожие места строились поближе к воде.
Готовили еду на открытом огне в очаге либо в закрытых печах. Из саг известно, что в земле выкапывали яму и выкладывали ее стены досками или камнями и закладывали туда мясо или рыбу. Затем раскаляли на огне большие камни и бросали их на мясо, а саму яму при этом присыпали землей, чтобы дольше сохранялось тепло.
Женщины и мужчины ели за разными столами, за исключением свадеб.
Руки скандинавы мыли до и после еды — ведь ели они пальцами. Вилки в те времена были еще неизвестны, лишь жареное мясо накалывалось на подобие современного шампура, а суп ели ложками из дерева или кости.
В английских хрониках встречаются сообщения о том, что викинги были необыкновенно чистоплотными людьми и любили часто мыться. И это действительно так. В скандинавской усадьбе обязательно была баня, в которой по субботам мылись. В скандинавских языках само слово «суббота» означает «банный день».
Отхожие места строились во дворе позади главного дома по несколько «сидений» в ряд. Сидение, вырезанное из куска дерева, клали на землю или ведро. На хуторах, расположенных у моря, отхожие места строились поближе к воде.


Драконы морей
Предки викингов впервые упоминаются у Тацита в «Германии», где отмечается любопытная форма их ладей, главные черты которых на протяжении веков оставались неизменными. До 1862 года о кораблях викингов знали лишь по описаниям Тацита, араба Ибн Фадлана да изображениям на гобелене королевы Матильды, жены Вильгельма Завоевателя. В 1862 году при раскопках в болотах под Шлезвигом впервые нашли ладью викингов. Нос и корма были одинаковыми, что позволяло идти на веслах в любом направлении, не разворачиваясь. Обшивка была выполнена внакрой. Позднее обнаружили еще несколько судов, из которых наиболее значительными находками являются драккары из Гокстада (1880) и Усеберга(1904). Эти ладьи удалось реконструировать и точно воспроизвести все детали. Установлено, что викингские корабли имели киль, к которому крепились шпангоуты, выполненные из одной штуки дерева. Обшивку внакрой к шпангоутам прикрепляли при помощи штырей, а друг с другом доски соединяли железными гвоздями. Для уплотнения швов между досками прокладывали шнур, скрученный в три нитки из свиной щетины или коровьего волоса, пропитанный смолой. В верхней части обшивки делали уключины.
На викингских кораблях был всего один парус, обычно из шерсти, красно-белый, полосатый. Рулем служило большое весло. Ладьи викингов достигали 30–40 метров в длину и имели от 30 до 60 пар весел.
Эти ладьи удалось реконструировать и точно воспроизвести все детали. Установлено, что викингские корабли имели киль, к которому крепились шпангоуты, выполненные из одной штуки дерева. Обшивку внакрой к шпангоутам прикрепляли при помощи штырей, а друг с другом доски соединяли железными гвоздями. Для уплотнения швов между досками прокладывали шнур, скрученный в три нитки из свиной щетины или коровьего волоса, пропитанный смолой. В верхней части обшивки делали уключины.
На викингских кораблях был всего один парус, обычно из шерсти, красно-белый, полосатый. Рулем служило большое весло. Ладьи викингов достигали 30–40 метров в длину и имели от 30 до 60 пар весел.
 Боевые корабли получили название драккаров, или драконов, по резным носовым фигурам. Эти драконы должны были устрашать противников в бою, и законы запрещали викингам при возвращении домой подплывать к земле на корабле, на носу которого была разинутая пасть дракона, Это, по верованиям древних скандинавов, могло испугать добрых духов земли. Поэтому головы драконов при приближении к родному берегу снимались.
Одновременно с боевыми кораблями строились и торговые, с круглыми корпусами, — когги. Этот тип судов появился еще у фризов. При отливе ладья опускалась и плотно вставала на дно, что позволяло легко разгрузить ее, прилив же поднимал ее и позволял продолжить плавание.
В эпоху викингов также строили большие морские торговые суда, более широкие и «глубокие», чем военные, — кнарры — и маленькие шняки.
Однако бак и квартердек торговых судов использовались как боевые площадки, где во время нападения морских разбойников за щитами располагались воины. В результате этого различия между торговыми и военными кораблями были самые незначительные.
Параметры некоторых найденных кораблей (по Д. Элльмерсу с дополнениями):
Боевые корабли получили название драккаров, или драконов, по резным носовым фигурам. Эти драконы должны были устрашать противников в бою, и законы запрещали викингам при возвращении домой подплывать к земле на корабле, на носу которого была разинутая пасть дракона, Это, по верованиям древних скандинавов, могло испугать добрых духов земли. Поэтому головы драконов при приближении к родному берегу снимались.
Одновременно с боевыми кораблями строились и торговые, с круглыми корпусами, — когги. Этот тип судов появился еще у фризов. При отливе ладья опускалась и плотно вставала на дно, что позволяло легко разгрузить ее, прилив же поднимал ее и позволял продолжить плавание.
В эпоху викингов также строили большие морские торговые суда, более широкие и «глубокие», чем военные, — кнарры — и маленькие шняки.
Однако бак и квартердек торговых судов использовались как боевые площадки, где во время нападения морских разбойников за щитами располагались воины. В результате этого различия между торговыми и военными кораблями были самые незначительные.
Параметры некоторых найденных кораблей (по Д. Элльмерсу с дополнениями):
 Общеизвестно, что норманны считаются самыми искусными мореходами Средних веков и их суда были хорошо приспособлены и к парусному, и к весельному ходу. Входя в реки, они умело пользовались приливами и отливами.
Исследователи отмечают, что викинги очень быстро могли преодолевать расстояние на своих ладьях. Так, например, из Англии в Исландию (1200 км) они добирались за 9 суток, а из Каупанга в Хедебю (685 км) за 10 дней с остановками на ночь.
Общеизвестно, что норманны считаются самыми искусными мореходами Средних веков и их суда были хорошо приспособлены и к парусному, и к весельному ходу. Входя в реки, они умело пользовались приливами и отливами.
Исследователи отмечают, что викинги очень быстро могли преодолевать расстояние на своих ладьях. Так, например, из Англии в Исландию (1200 км) они добирались за 9 суток, а из Каупанга в Хедебю (685 км) за 10 дней с остановками на ночь.
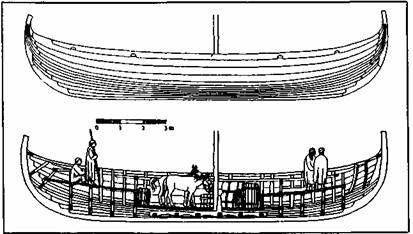 В плаваниях скандинавы ориентировались на береговую линию, видимость луны, солнца и звезд, характер облачности, направление полета птиц и форму волн. На побережье часто имелись приметы, которые мореходы запоминали, а если их не было, то часто сооружались подобия маяков, которые Адам Бременский назвал «горном вулкана».
Подобно «горну вулкана» в Волине, на римской башне в Булони, еще при Карле Великом в начале IX века разжигали огонь, чтобы судам было легче переплывать Ла-Манш из Лондона в Квентовик.
В плаваниях скандинавы ориентировались на береговую линию, видимость луны, солнца и звезд, характер облачности, направление полета птиц и форму волн. На побережье часто имелись приметы, которые мореходы запоминали, а если их не было, то часто сооружались подобия маяков, которые Адам Бременский назвал «горном вулкана».
Подобно «горну вулкана» в Волине, на римской башне в Булони, еще при Карле Великом в начале IX века разжигали огонь, чтобы судам было легче переплывать Ла-Манш из Лондона в Квентовик.
* * *
Викинги были смелыми и отважными воинами, и морские сражения были поединком «один на один». Драккары подходили вплотную друг к другу и сцеплялись абордажными крючьями, после чего начиналось сражение на палубах. Стоявшие у бортов принимали на себя первые удары, а за ними располагались лучники. Битва подходила к концу, когда большая часть команды была убита и корабль переходил в руки врагов. Другими словами, любое викингское сражение было испытанием на выживание. Сами норманны называли такие бои «чисткой корабля». Сражающиеся старались вести морской бой поблизости от побережья. Бои нередко заканчивались схваткой на суше. Часто на корабли брали с собой кузнечные инструменты и наковальни для того, чтобы во время боя чинить оружие. Своими масштабами битвы викингов могут поражать воображение даже современного читателя. Так, в битве в Хьёрунгавоге в Норвегии принимало участие 400 кораблей. Если в походах погибали люди из знатных родов, на родине в их честь устанавливали поминальные камни с руническими надписями. Для высадки на берег у викингов была разработана специальная тактика: Оружием викингов были меч, секира, лук со стрелами, копье, шлем (без рогов!) и щит. Щиты, как правило, делались из дерева и служили защитой от стрел и ударов копья и меча. Обычно они красились в яркие цвета и часто украшались различными узорами и рисунками. Красный цвет был наиболее употребляем и символизировал власть. В начале сражения викинги закрывались щитами и выстраивали своеобразную «стену». Поднятые же вверх щиты были знаком мира. В обычное время щиты носились на спине. На каждом драккаре был свой собственный флаг, который чаще всего вышивался женой или сестрой хёвдинга, предводителя викингов.

* * *
В сознании современного человека викинги ассоциируются с берсерками, однако это не одно и то же. Традиционно берсерков определяют как воинов, которые во время битвы приходили в состояние неистовства, кусали свой щит, сбрасывали одежду и разили врагов направо и налево, а сами при этом оставались невредимы — как говорили скальды, «их не кусала сталь». Вместо плаща берсерки носили медвежьи шкуры, за что и получили свое прозвище (слово ber в древнесеверном языке означало «медведь»), а сами викинги верили, что берсерки во время сражения превращаются в медведей. На сегодняшний день существует несколько теорий, объясняющих поведение берсерков, одна из которых гласит, что викинги превращались в берсерков потому, что перед сражением пили специальный отвар из ядовитых грибов. Другие исследователи считают, что берсерки — это люди с подвижной психикой или невротики и психопаты, которые во время сражений приходили в крайнее возбуждение. Однако большинство ученых придерживается версии о том, что берсерки — это наиболее преданные почитатели Одина, которые просто впадали в боевой (религиозный) экстаз.* * *
Когда викинги бывали дома, они каждый день подолгу тренировались. Кроме того, довольно часто устраивались игрища, на которых мужчины состязались друг с другом в силе, ловкости и умении владеть оружием. Существовало также особое упражнение для сохранения равновесия в бою, которое состояло в том, что человек должен был пробежать по лопастям весел на корабле во время гребли. Саги утверждают, что в этих упражнениях особо отличался конунг Олав Трюгвассон. Викинги в своих играх были склонны к жестокости и насилию — так, состязания в воде заключались в попытках утопить соперника. При игре на льду «кнаррлейк», напоминающей русскую лапту, дело тоже доходило до серьезных увечий и смертоубийства. Любили скандинавы и битвы жеребцов (бои коней), во время которых присутствующие наблюдали за тем, как одно животное убивало другое.
Мальчики начинали тренироваться с пятилетнего возраста, с десятилетнего принимали участие в игрищах взрослых, а в двенадцать лет уже могли отправляться в викингские походы.
При игре на льду «кнаррлейк», напоминающей русскую лапту, дело тоже доходило до серьезных увечий и смертоубийства. Любили скандинавы и битвы жеребцов (бои коней), во время которых присутствующие наблюдали за тем, как одно животное убивало другое.
Мальчики начинали тренироваться с пятилетнего возраста, с десятилетнего принимали участие в игрищах взрослых, а в двенадцать лет уже могли отправляться в викингские походы.
* * *
Когда в IX–XI веках в Скандинавии начали образовываться самостоятельные государства, одновременно стала создаваться система крепостей с постоянными дружинами. Прежде всего это имеет отношение к Дании, где за последние десятилетия были раскопаны некоторые из военных укреплений — Треллеборг, Фюркат и Аггерсборг. Происхождение их строгого и единообразного архитектонического построения до сих пор не получило удовлетворительного объяснения. Предполагают, что они были выстроены по приказу Свейна Вилобородого. Все крепости объединяет единство планировки; круглые в плане валы, охватывающие сгруппированные в правильные четырехугольники длинные дома. Известны и другие оборонительные сооружения датчан, например, Даневирке, «Стена данов», представлявшая собой насыпной вал несколько десятков метров высотой, над которым пришлось потрудиться, по всей вероятности, не одной сотне рабов.
Известны и другие оборонительные сооружения датчан, например, Даневирке, «Стена данов», представлявшая собой насыпной вал несколько десятков метров высотой, над которым пришлось потрудиться, по всей вероятности, не одной сотне рабов.
* * *
Не только разбоем и грабежами занимались викинги, но и торговлей, и товары, обращавшиеся в балтийской торговле, можно разделить на восемь групп (по Иоахиму Херрману): — пушнина, шкуры и кожи; — продукты сельского хозяйства и лесного промысла, прежде всего, мед и воск; — морские продукты, в том числе рыба и моржовая кость; — сырье и орудия труда; — предметы домашнего обихода и утварь; — рабы; — украшения, предметы гигиены и ухода за телом, в том числе костяные и деревянные гребни, пинцеты, копоушки из серебра, притирания, масла и мази, а также краска для глаз; — оружие.

Трелли, ярлы и тинги
Жизнь любого традиционного варварского общества подчинялась раз и навсегда установленным канонам. Право и мораль в нем совпадают или близки, ибо опираются не на одну только систему наказаний, но и на нравственные и религиозные убеждения, преступить которые невозможно. Недаром человека, совершившего преступление, называли объявленным вне закона, и это означало, что он не только лишался всех прав, но и исключался из числа людей вообще. Его можно было убить как дикого зверя и не понести за это никакого наказания. Заметим, что само слово lag в древнесеверном языке означало «право, закон» и одновременно «то, что должно, уложение». То же самое можно сказать и слове rettr, которое, помимо «закона», значило еще и «правильный, справедливый».* * *
В обществе древних скандинавов того времени человек мог быть свободным или рабом (треллем). То есть он рождался с определенным правом — или вообще безо всяких прав. Треллем становились несколькими «путями». Прежде всего, рабом было можно родиться. В рабов викинги превращали почти всех пленников, захваченных в грабительских набегах. Рабом человек становился, когда не мог заплатить свой долг или у него не было возможности прокормить себя и свою семью. Если свободная женщина рожала от раба ребенка, она тоже становилась рабыней. Быть сыном рабыни считалось самым ужасным позором. Рабами хозяин распоряжался как движимым имуществом по собственному усмотрению, мог продать или даже убить. Рабыни не могли возражать против желаний своего хозяина, а судьбы детей рабов тоже решал он. Если бонду казалось, что в усадьбе слишком много младенцев, то новорожденный ребенок рабыни выносился в лес на съедение диким зверям. «Вынос» ребенка в лес был до введения христианства узаконенным поступком, и, даже когда рождался сын свободного человека, отец должен был признать его и дать ему имя. Если же отец бывал чем-то недоволен, то запросто мог пожертвовать ребенка богам — или диким зверям.* * *
Скандинавское общество управлялось конунгами, ярлами и хёвдингами, и несколько раз в год проводился тинг. Собственно слово ting означает собрание свободных людей, которые живут на определенной территории и собираются вместе, чтобы обсудить интересующих всех вопросы и дела. Как уже было сказано выше, на тинг могли приезжать все свободные люди. Знатные же люди были обязаны присутствовать на этих собраниях и в случае отказа должны были платить виру. Если дело не могло быть решено на местном тинге, то его передавали на рассмотрение на всеобщий тинг — альтинг. Замужние женщины не могли говорить на тинге от своего имени и просто сопровождали мужей, но вдовы или одинокие хозяйки дворов считались равноправными членами таких собраний. Когда людей созывали на тинг, им посылали либо стрелу, что говорило о том, что будет обсуждаться убийство, либо деревянную палочку, на которой вырезались руны. Такие палочки втыкались в столбы у почетного сидения в зале либо в притолку у двери, если хозяев не было дома. Из текстов законов нам известно, что часто место тинга огораживалось ремнями, которые ограничивалитерриторию священного действа, на которой нельзя было обнажать оружие. Вел тинг годи, который носил на руке выше локтя золотое обручье. Если давались клятвы, то говорящий должен был положить руку на это кольцо. На тингах утверждались новые законы и обсуждались старые, в которые необходимо было внести изменения. В Исландии было обычным делом, чтобы законоговоритель каждые три года повторял во всеуслышание на альтинге все законы. Таким образом люди не успевали забывать их. На тинге выносились определенные решения. Для каждого конкретного дела избирались судьи из числа присутствующих.* * *
Первым человеком в стране во времена викингов был конунг (король), за исключением Исландии, где все решалось на тинге, и Оркнеев, где главным был ярл. Однако оркнейские ярлы подчинялись норвежским конунгам. Вообще понятие «ярл» наиболее характерно для Норвегии, где громадной властью обладали ярлы Трёнделага — так называемые ярлы Ладе (от названия их усадьбы). Ярлы подчинялись конунгу. Конунгом мог стать человек, родственники которого по материнской или отцовской линии были королями. Причем неважно, законным или незаконным сыном был очередной претендент. Само слово konung означает «сын знатного человека» или «человек из рода богов». Но молодому человеку из рода конунгов, даже не смотря на поддержку знатных семей и отсутствие других соперников, было недостаточно объявить себя правителем страны. Его обязательно должны были «утвердить» на тинге и принести клятву на верность. А конунг, со своей стороны, должен был обещать следовать законам. Хотя конунг и был во времена викингов первым человеком в стране, тем не менее он не обладал неограниченной властью. В одном из сводов законов записано: «Если конунг убьет человека в его доме, то всем в стране посылается боевая стрела, и все должны пуститься по следу конунга и убить его».
Руны, магия и время
До сегодняшнего дня датчане, шведы и норвежцы легко понимают друг друга, хотя и говорят на разных языках. Исландский и фарерский очень отличаются от континентальных скандинавских языков. Это легко объясняется тем, что эти два языка остановились («заморозились») на более ранней стадии своего развития, что имеет особый интерес для лингвистов. Исландцы не видят разницы между языком саг и современным языком и являются, наверное, единственным народом в мире, который легко читает литературные произведения раннего средневековья на языке оригинала. В эпоху же викингов существовал один общий язык — древнесеверный. Вплоть до позднего средневековья скандинавские языки, в которых уже начали возникать свои особенности, продолжали называть в Европе «языком данов». Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что норвеги, свей, даны и исландцы прекрасно понимали друг друга в своих многочисленных поездках и викингских походах. С введением христианства на Север пришел и латинский алфавит. Однако задолго до проникновения новой веры в Скандинавии было свое собственное письмо, которое до сих пор продолжает удивлять ученых. Это так называемые руны. Их происхождение связывают с финикийским, этрусским и греческим письмом, однако никакой удовлетворительной версии на сегодняшний день не существует. Различаются старшие, или общегерманские, руны (существовали до IX века, 24 руны) и младшие, или скандинавские (16 рун). Наибольшее внимание привлекают к себе старшие руны, которые иначе называют «футарком» — по первым шести рунам. Каждая руна имела свое собственное название. Например, руна «а» называлась «асами», а руна «м» — «мужчиной, человеком». Также выделяют англосаксонские руны, которыми в Англии пользовались до X века (33 руны).
Появившиеся в более поздние времена дальские, бесстволые и пунктированные руны особого применения не имели.
Как правило, руны вырезались на дереве, металле или кости, чем, по всей вероятности, и объясняются их своеобразные неровные заостренные очертания.
Также выделяют англосаксонские руны, которыми в Англии пользовались до X века (33 руны).
Появившиеся в более поздние времена дальские, бесстволые и пунктированные руны особого применения не имели.
Как правило, руны вырезались на дереве, металле или кости, чем, по всей вероятности, и объясняются их своеобразные неровные заостренные очертания.

 Восприятие буквы как магического знака свойственно как германцам, так и кельтам. Название рунического алфавита связывают с готским словом runa «тайна».
Особо известны рунические камни. Наибольшее их количество обнаружено в Швеции, где число таких камней доходит до 3 000.
Довольно часто на рунических камнях и предметах культа вырезались отдельные руны или весь рунический ряд в его оригинальном порядке (совершенно отличном от порядка латинского алфавита), что также подтверждает предположение о магической роли рун.
Древние скандинавы верили, что руны обладают особой силой и могут защитить в бою, помочь выздороветь, заставить человека воспылать любовью или лишить оружие врага силы, защитить могилу от ограбления или разрушения, охранить живого от мертвеца.
Вплоть до XIX века в Скандинавии использовался рунический календарь, в котором подразделялись лунные и дневные руны. Последних было 7, и они обозначали дни недели. Лунных же рун было 19 — по числу дней новолуния в конкретном году 19-летнего лунного цикла.
Однако несомненно, что рунические календари — позднее изобретение — не ранее XIV века, — поскольку само понятие «время» для викингов было исполнено особого смысла, совершенно отличного от тех представлений, которые существуют о времени у современных людей.
В аграрном обществе время всегда определяется природными ритмами.
Месяцы носят названия, указывающие на земледельческие и иные работы по хозяйству: например, май называют «временем сбора яиц», июнь — «солнечным месяцем сеттера», октябрь — «месяцем убоя скота», декабрь — «месяцем баранов и случки скота».
Само слово timi обозначало времена года, периоды неопределенной, более или менее значительной длительности. И именно наполненность времени конкретными событиями определяла характер его протекания.
Поскольку скандинавы воспринимали время не как независимое понятие, а нечто осязаемое, то они считали, что на время можно влиять, как это делал, например, конунг Аун, который продлевал себе жизнь, принося в жертву Одину своих сыновей.
Нормой и доблестью было поступать так, как поступали люди испокон веков. Поэтому жизнь человека в викингском обществе, как и в любом другом «традиционном», представляло собой постоянное повторение поступков, ранее совершенных другими.
Одним из способов исчисления времени был счет поколений. Определив принадлежность лица к тому или иному роду и перечислив его родичей в их временной последовательности, древние скандинавы получали вполне удовлетворяющие их представления о ходе событий.
Культ предков был непосредственно связан с отношением скандинавов ко времени — ведь предок мог заново родиться в одном из своих потомков. И именно этим объясняется существование «родовых» имен, которые передавались из поколения в поколение.
В известном смысле викинги считали, что существует лишь настоящее время, включающее в себя настоящее и будущее, ибо время циклично и прошлое регулярно повторяется, а, значит, настоящее, будущее и прошлое расположены как бы в одной плоскости.
И, следовательно, возвратиться в прошлое и изменить его тоже можно — при помощи магии. Будущее время — это одновременно и судьба.
Время для средневекового человека всегда конкретно и связано с жизнью общества. У норманнов не было необходимости знать конкретное время и вполне достаточно для определения времени было знать, например, положение солнца на небе. В одном из древних исландских судебников записано, что обсуждать дела на альтинге надо, когда солнце стоит в небе и освещает поле тинга. Судьи должны подняться на Скалу закона, пока солнечные лучи падают на западную часть ущелья.
Восприятие буквы как магического знака свойственно как германцам, так и кельтам. Название рунического алфавита связывают с готским словом runa «тайна».
Особо известны рунические камни. Наибольшее их количество обнаружено в Швеции, где число таких камней доходит до 3 000.
Довольно часто на рунических камнях и предметах культа вырезались отдельные руны или весь рунический ряд в его оригинальном порядке (совершенно отличном от порядка латинского алфавита), что также подтверждает предположение о магической роли рун.
Древние скандинавы верили, что руны обладают особой силой и могут защитить в бою, помочь выздороветь, заставить человека воспылать любовью или лишить оружие врага силы, защитить могилу от ограбления или разрушения, охранить живого от мертвеца.
Вплоть до XIX века в Скандинавии использовался рунический календарь, в котором подразделялись лунные и дневные руны. Последних было 7, и они обозначали дни недели. Лунных же рун было 19 — по числу дней новолуния в конкретном году 19-летнего лунного цикла.
Однако несомненно, что рунические календари — позднее изобретение — не ранее XIV века, — поскольку само понятие «время» для викингов было исполнено особого смысла, совершенно отличного от тех представлений, которые существуют о времени у современных людей.
В аграрном обществе время всегда определяется природными ритмами.
Месяцы носят названия, указывающие на земледельческие и иные работы по хозяйству: например, май называют «временем сбора яиц», июнь — «солнечным месяцем сеттера», октябрь — «месяцем убоя скота», декабрь — «месяцем баранов и случки скота».
Само слово timi обозначало времена года, периоды неопределенной, более или менее значительной длительности. И именно наполненность времени конкретными событиями определяла характер его протекания.
Поскольку скандинавы воспринимали время не как независимое понятие, а нечто осязаемое, то они считали, что на время можно влиять, как это делал, например, конунг Аун, который продлевал себе жизнь, принося в жертву Одину своих сыновей.
Нормой и доблестью было поступать так, как поступали люди испокон веков. Поэтому жизнь человека в викингском обществе, как и в любом другом «традиционном», представляло собой постоянное повторение поступков, ранее совершенных другими.
Одним из способов исчисления времени был счет поколений. Определив принадлежность лица к тому или иному роду и перечислив его родичей в их временной последовательности, древние скандинавы получали вполне удовлетворяющие их представления о ходе событий.
Культ предков был непосредственно связан с отношением скандинавов ко времени — ведь предок мог заново родиться в одном из своих потомков. И именно этим объясняется существование «родовых» имен, которые передавались из поколения в поколение.
В известном смысле викинги считали, что существует лишь настоящее время, включающее в себя настоящее и будущее, ибо время циклично и прошлое регулярно повторяется, а, значит, настоящее, будущее и прошлое расположены как бы в одной плоскости.
И, следовательно, возвратиться в прошлое и изменить его тоже можно — при помощи магии. Будущее время — это одновременно и судьба.
Время для средневекового человека всегда конкретно и связано с жизнью общества. У норманнов не было необходимости знать конкретное время и вполне достаточно для определения времени было знать, например, положение солнца на небе. В одном из древних исландских судебников записано, что обсуждать дела на альтинге надо, когда солнце стоит в небе и освещает поле тинга. Судьи должны подняться на Скалу закона, пока солнечные лучи падают на западную часть ущелья.
 Расстояние определяется в мире викингов временем — но весьма своеобразно: числом дней плавания на корабле или передвижения по суше. И слово, которое позднее в современных языках стало означать единицу измерения «миля», в древнесеверном языке было ничем иным как «путем между двумя стоянками».
Если же пытаться сравнить деление на временные отрезки в обществе викингов с системой знаков зодиака, то получится следующая картина (по энциклопедии «Мифы народов мира», М., 1992, т. 2, с.143):
Расстояние определяется в мире викингов временем — но весьма своеобразно: числом дней плавания на корабле или передвижения по суше. И слово, которое позднее в современных языках стало означать единицу измерения «миля», в древнесеверном языке было ничем иным как «путем между двумя стоянками».
Если же пытаться сравнить деление на временные отрезки в обществе викингов с системой знаков зодиака, то получится следующая картина (по энциклопедии «Мифы народов мира», М., 1992, т. 2, с.143):


Курганы и их сокровища
До введения в Скандинавии христианства широко были распространены различные погребальные обряды. Нам известны как сожжения с погребальным «инвентарем», так и захоронения в простых грунтовых ямах, каменных выкладках и пышные погребения в больших насыпных могильных курганах, внутри которых встречаются и выложенные камнями камеры, и большие викингские корабли. Мертвых хоронили в гробах или просто клали в землю, реже встречаются захоронения в ладье или кузове повозки. Могилы IX века в общем довольно просты и редко сопровождаются значительным количеством вещей. Богатые вещами могилы, обычно с относящимся к ним надгробным камнем с рунической надписью, появляются только в десятилетия перед и после введения христианства и служат выражением социального статуса и богатства погребенного. На основе исследований, проведенных при раскопках Гокстадского корабля, установлено, что при захоронениях в курганах делалась своеобразная яма полтора метра глубиной, в которую устанавливался киль корабля. Нос корабля направлялся к морю. Затем корабль закреплялся при помощь земли и деревянных планок. За мачтой воздвигалась погребальная камера из досок в форме небольшого дома с плоской или покатой крышей. Тут стоит заметить, что обычно на кораблях викингов не было кают или других каких-либо закрытых помещений под палубой, так что на ночь ставились шатры (палатки) на самой палубе. Очень интересны описания различных обрядов в записях арабского купца Ибн Фадлана, который, например, так описывает «лечение» болезни у викингов: «И если кто-нибудь из них заболевает, то они относят его в шалаш в стороне от себя и бросают его в нем одного… И не приближаются к нему и не говорят с ним, особенно если это раб… Если же он выздоровеет и встанет, то возвращается он к ним, а если умрет, то сжигают они его».
Присутствовал Ибн Фадлан и при похоронах одного знатного викинга. Он рассказывает, что после смерти норманна его друзья определили, какая из рабынь умрет вместе с ним, и повелели ей готовиться к смерти, а сами тем временем занялись приготовлениями к похоронам.
«Когда же пришел день, в который собирались сжечь викинга, — пишет арабский путешественник, — я прибыл на реку, где находился его корабль, и увидел, что он вытащен уже на берег и поставлен на подпорки из белого тополя на помост из больших деревьев… Затем на корабль поставили скамью, и туда взошла женщина, которую называют «помощницей смерти», она разложила шкуры и ткани на скамье, и она же была предназначена убить девушку, которая должна была сопровождать викинга в царство смерти…»
Далее следовали сложные погребальные обряды, на корабль принесли вещи, которые должны были понадобиться мертвому в Валгалле, и, конечно, умерщвленных коней.
После этого родич покойного поджег корабль, который сгорел очень быстро вместе с телом викинга и девушки и всем добром, а на месте сожжения норманны насыпали «нечто, подобное круглому холму, водрузили в середине его столб с начертанным на нем странными буквами именем этого умершего мужа и… удалились».
«И если кто-нибудь из них заболевает, то они относят его в шалаш в стороне от себя и бросают его в нем одного… И не приближаются к нему и не говорят с ним, особенно если это раб… Если же он выздоровеет и встанет, то возвращается он к ним, а если умрет, то сжигают они его».
Присутствовал Ибн Фадлан и при похоронах одного знатного викинга. Он рассказывает, что после смерти норманна его друзья определили, какая из рабынь умрет вместе с ним, и повелели ей готовиться к смерти, а сами тем временем занялись приготовлениями к похоронам.
«Когда же пришел день, в который собирались сжечь викинга, — пишет арабский путешественник, — я прибыл на реку, где находился его корабль, и увидел, что он вытащен уже на берег и поставлен на подпорки из белого тополя на помост из больших деревьев… Затем на корабль поставили скамью, и туда взошла женщина, которую называют «помощницей смерти», она разложила шкуры и ткани на скамье, и она же была предназначена убить девушку, которая должна была сопровождать викинга в царство смерти…»
Далее следовали сложные погребальные обряды, на корабль принесли вещи, которые должны были понадобиться мертвому в Валгалле, и, конечно, умерщвленных коней.
После этого родич покойного поджег корабль, который сгорел очень быстро вместе с телом викинга и девушки и всем добром, а на месте сожжения норманны насыпали «нечто, подобное круглому холму, водрузили в середине его столб с начертанным на нем странными буквами именем этого умершего мужа и… удалились».
* * *
Настоящей сенсацией XX века стали раскопки в Усеберге (Норвегия) где удалось раскопать не только викингский корабль, но и найти массу удивительных по красоте и мастерству исполнения предметов материальной культуры. Именно по этим находкам ученым удалось воссоздать жизнь в норманнской усадьбе и восстановить практически все предметы домашнего обихода и религиозного культа. Произведения искусства древних скандинавов, дошедшие до нас, отличает глубокая связь между функционально обусловленной формой предмета и его богатым декоративным оформлением. Представления о реальном мире и природе сливались с представлениями мифологическими, в которых миром правили боги — асы. Образы богов воплощались в идолах, сделанных в человеческий рост и даже больше, но довольно часто находят и маленькие фигурки богов, вырезанные из камня или отлитые искусными мастерами-кузнецами. Возможно, они восходят к бронзовым статуэткам, впервые появляющимся в первых веках нашей эры. У Адама Бременского есть очень интересное описание трех главных богов древних скандинавов: «… народ (в Швеции) поклоняется статуям трех богов, … в середине триклиния сидит Тор, а Водан (Один) и Фрикко (Фрейр) сидят по одну и по другую сторону от него. Отличительные черты каждого из них: Тор, говорят, владычествует в воздухе и правит громом и молнией, ветром и дождем, хорошей погодой и урожаем. Второй, Водан, что значит «ярость», ведет войны и вселяет в людей храбрость перед лицом врагов. Третий, Фрикко, дарует смертным мир и сладострастие, его идол снабжен поэтому огромным детородным членом…» Находка в Усебергском кургане дает возможность представить, какими удивительными мастерами были норманны и сколь прекрасно их искусство. Особенно поражает резьба по дереву.
Стоит заметить, что декоративное оформление предметов культа, домашнего обихода и оружия делалось не столько ради красоты как таковой, сколько из-за определенных религиозных и магических убеждений.
Богатой резьбой покрывались бытовые вещи, ювелирные изделия, оружие, боевые корабли и стены жилищ. Чаще всего украшенные резьбой вещи красились в какой-нибудь яркий цвет.
Растительные мотивы, почерпнутые из франкского искусства и образы «каролингского льва» в скандинавском искусстве эпохи викингов сливаются с характерным для него ленточным плетением и звериным орнаментом. Однако несомненно в искусстве норманнов и англо-саксонское, и ирландско-шотландское, и кельтское влияния.
В X–IX веках в скандинавской орнаментике появляются новые элементы западно-европейского искусства, а в позднем еллингском стиле находят широкое распространение образы «большого зверя», полностью заполняющие своими сплетающимися драконьими телами плоскость изображения и вытесняющие звериный орнамент.
Вообще в Скандинавии до начала христианизации в орнаментике преобладали условные схематизированные образы, прежде всего зверя, змея и коня.
Находка в Усебергском кургане дает возможность представить, какими удивительными мастерами были норманны и сколь прекрасно их искусство. Особенно поражает резьба по дереву.
Стоит заметить, что декоративное оформление предметов культа, домашнего обихода и оружия делалось не столько ради красоты как таковой, сколько из-за определенных религиозных и магических убеждений.
Богатой резьбой покрывались бытовые вещи, ювелирные изделия, оружие, боевые корабли и стены жилищ. Чаще всего украшенные резьбой вещи красились в какой-нибудь яркий цвет.
Растительные мотивы, почерпнутые из франкского искусства и образы «каролингского льва» в скандинавском искусстве эпохи викингов сливаются с характерным для него ленточным плетением и звериным орнаментом. Однако несомненно в искусстве норманнов и англо-саксонское, и ирландско-шотландское, и кельтское влияния.
В X–IX веках в скандинавской орнаментике появляются новые элементы западно-европейского искусства, а в позднем еллингском стиле находят широкое распространение образы «большого зверя», полностью заполняющие своими сплетающимися драконьими телами плоскость изображения и вытесняющие звериный орнамент.
Вообще в Скандинавии до начала христианизации в орнаментике преобладали условные схематизированные образы, прежде всего зверя, змея и коня.

 Для стиля Усеберга наиболее характерен, например, «зверь хватающий», а для стиля Борре — изображения животных, обращенных головами к середине вещи. Стиль же рунических камней отличается извивающимися лентообразными драконами и змеями. Вполне возможно, что стиль Еллинге и Борре является возрождением старых традиций скандинавского искусства с новыми западноевропейскими элементами.
Искусствоведы выделяют следующие стили орнаментального искусства древних скандинавов:
Для стиля Усеберга наиболее характерен, например, «зверь хватающий», а для стиля Борре — изображения животных, обращенных головами к середине вещи. Стиль же рунических камней отличается извивающимися лентообразными драконами и змеями. Вполне возможно, что стиль Еллинге и Борре является возрождением старых традиций скандинавского искусства с новыми западноевропейскими элементами.
Искусствоведы выделяют следующие стили орнаментального искусства древних скандинавов:

Вершиной искусства резьбы по дереву стали порталы норвежских ставкирок. В истории скандинавской средневековой архитектуры различают три типа церквей: — собор — прежде всего, Нидаросский в Трондхейме, который построен по английским образчикам готической архитектуры в XII веке; — каменные церкви простых геометрических очертаний, состоявшие из двух пределов; — и, наконец, наиболее интересные по архитектуре деревянные (из вертикально установленных, а не горизонтально уложенных, как в русских деревянных церквях, бревен) церкви, порталы которых покрыты красивейшей резьбой — так называемые ставкирки.


Драпа, Нид и песни Эдды
Скальдическая поэзия, столь похожая на бязь скандинавской резьбы, совершенно неприемлема для современного человека. Для того, чтобы объяснить, чем именно, приведем сразу подстрочный перевод одной из вис:Готова тому, кто был добр в сердце,
Золотая рака моему
Славлю я святого конунгу
Он посетил богов господину.
Современный читатель вряд ли догадается, что для викингов она звучала приблизительно так же, как для нас звучит следующая строфа:
Готова златая рака
Доброму сердцем
Моему господину святому,
Любимцу богов,
Которого я прославляю.
В приведенной висе обращает на себя внимание крайняя запутанность текста. Именно в изощренной форме и заключался смысл скальдической поэзии, ибо форма должна была не обнаруживать смысл, то есть актуальное настоящее, и так хорошо известное аудитории скальда, а, наоборот, с помощью особых, строго регламентированных, приемов скрывать его, ибо только особая вычурность формы и возможность ее варьирования заново в каждой новой висе могли сделать простой факт настоящего предметом поэзии. Многочисленные кеннинги с эпитетами почти не оставляют места в строке для сообщения каких-либо фактов, ибо объемы строки были строго ограничены законами скальдического творчества. Кеннинг — это замена существительного обычной речи двумя существительными, из которых второе определяет первое, например, «дракон моря» — корабль. Приведем наиболее распространенные кеннинги: «буря копий» (битва), «море меча» (кровь), «огонь битвы» (меч). Могли быть и многоступенчатые кеннинги. Например, М. И. Стеблин-Каменский, один из самых известных во всем мире скандинавистов-медиевистов, приводит следующий кеннинг: «метатель огня вьюги ведьмы луны коня корабельных сараев», где «конь корабельных сараев» — корабль, «луна корабля» — щит, «ведьма щита» — секира, «вьюга секиры» — битва, «огонь битвы» — меч, а «метатель меча» — воин, то есть просто «он»! По сути дела, виса — это не текст в современном смысле этого слова, она практически ничего не сообщает о конкретном событии. И если для слушателей скальда герои висы были легко узнаваемыми людьми, а о событии не было необходимости сообщать всю информацию, но лишь часть ее, для воспроизведения картины целого, то для современного слушателя висы нуждаются в комментарии. Именно поэтому при записи саг в XIII веке было необходимо объяснять, когда и в связи с каким событием была сочинена та или иная виса. В противном случае возникала опасность неправильного толкования. Основная заслуга скальдов состоит в том, что они впервые избрали предметом поэзии не эпическое прошлое, а единичный факт настоящего, часто самый прозаический. Скальды всегда сочиняли висы о том, что видели сами, или, по крайней мере, слышали от очевидцев. «Вы должны, — говорил Олав Харальдссон скальдам перед своей последней битвой, — быть здесь и видеть то, что произойдет. У вас тогда будут не одни только рассказы других. Ведь вы должны после рассказывать и сочинять стихи обо всем этом». Скальдические стихи сочинялись по свежим следам событий, их содержание было заранее предопределено фактами действительности. Невозможность высказать в глаза заведомую ложь, следовавшая как из актуальности (современности) самих вис (ибо описываемые события всегда были известны слушателям, а многие принимали в них непосредственное участие), так и из веры древних скандинавов в магическую силу слова (лживое слово — посягательство на благополучие того, кому льстят), была на протяжении многих веков доказательством верности скальдических стихов, многие из которых использовались в качестве исторических источников. Скальдическую поэзию можно назвать хитросплетением речи, полной условностей и завуалированных намеков, ориентированных на догадливость и определенный фонд знаний слушателей. Она качественно отличается от эпической поэзии — мы имеем в виду песни «Старшей Эдды», в которых собраны все известные нам сказания о богах и героях древнего Севера. Ибо сказители, передававшие из поколения в поколение песни «Эдды», считали, что лишь воспроизводят древние строки и легенды, и ничего не могли добавить от себя. Они не осознавали себя авторами строф — в отличии от скальдов, которые первыми в истории литературы стали считать себя непосредственными авторами, хотя их авторство и было направлено лишь на форму, но не содержание. Скальдическое искусство исконно было связано с рунической магией. Неслучайно, с происхождением и скальдической поэзии, и рунического искусства в мифах связан именно Один, верховный бог древних скандинавов. В «Старшей Эдде» рассказывается, как Один девять ночей провисел на древе, принесенный в жертву себе же, чтобы добыть знание рун, а в «Младшей Эдде» говорится о том, с каким трудом достался Одину мед поэзии. Не раз руны и скальдическое искусство в древнескандинавской литературе употребляются как синонимы. Наиболее интересна в этом отношении «Сага об Эгиле», в которой рассказывается об одном из самых известных скальдов, который владел рунической магией не хуже, чем искусством складывать висы. Однажды Эгилю подали рог с отравленным пивом. Эгиль принял рог и вырезал на нем ножом, окрашенным собственной кровью, руны. Рог разлетелся на куски. В другой раз Эгиль нашел в постели заболевший девушки рыбную кость с неправильно вырезанными рунами, которые и явились причиной болезни. Скальд вырезал новые, правильные, руны, и девушка выздоровела. Очень известна история о том, как Эгиль, которого конунг Норвегии Эрик Кровавая Секира выгнал из страны и объявил вне закона, оставил на берегу жердь с насаженной на нее лошадиной головой, на которой вырезал рунами заклинание, призывающее духов изгнать Эрика и его жену из страны. Вскоре так и случилось. Существовал даже особый жанр скальдической поэзии — нид, хулительные стихи, которые и вырезал Эгиль на жерди с лошадиной головой. Рассказывают также, что когда один из скальдов сказал нид, то на стенах пришло в движение оружие, многие были убиты, а ярл, против которого был направлен нид, упал без сознания, у него отгнила борода и половина волос по одну сторону пробора. Сочинение нидов запрещалось законом, а за заучивание их взимался штраф. В основе такой веры лежит убеждение в том, что слово может оказать магическое действие. Именно поэтому конунги всегда платили за хвалебную песню — драпу, — которую сочинял для них скальд. Они получали нечто материализованное — славу, и работу скальда необходимо было вознаградить. Исландские законы также запрещали сочинение стихов о женщинах под страхом виры, ибо считалось, что такие строфы могут подействовать как приворот.

Счастливого плавания на викингских драккарах!
В заключение хотелось бы заметить, что все вышесказанное — это лишь слабая попытка приоткрыть дверь в мир викингов, попытаться представить себе жизнь, которую вели люди на Севере больше десяти веков назад. Вряд ли современному человеку возможно до конца понять древних скандинавов, ибо он не в состоянии отказаться от свойственных ему представлений, а тем самым и от известной модернизации прошлого. Так, например, очень трудно понять нам отношение норманнов к убийствам и чувству долгу. Но все дело в том, что у людей того времени не было понятия «убийство вообще», а существовали разные «уровни» убийства — открытое убийство, убийство из долга чести, убийство в бою. Существовали даже два слова. Словом mord называлось «позорное убийство», то есть убийство, о котором совершивший его либо не сообщил окружающим, либо оно состояло в том, что был убит спящий, либо оно было совершено ночью, либо еще каким-либо другим неподобающим образом. А слово vig обозначало убийство в бою или открытое убийство, о котором совершивший его сообщал немедленно, не далее, чем у третьего дома, и, таким образом, мог быть преследуем по закону или заплатить виру родичам убитого. Само по себе убийство далеко не всегда было злом, очень часто оно было необходимой защитой, ибо в обществе норманнов не существовало тюрем и полиции, и люди были вынуждены сами заботиться о собственной безопасности. Очень часто слова древних скандинавов, то есть слова древнесеверного языка, совершенно непонятны нам и не могут быть переведены на современные языки, потому что для них просто нет эквивалента. Однако современный читатель может постараться понять, чем отличаются его представления от представлений человека другой эпохи, и не оспаривать эти различия, а просто принять их. И тогда удивительный мир викингов, их обычаев и нравов, поэзии и эпических сказаний покажется вам безграничным.Счастливого плавания на викингских драккарах!

Последние комментарии
3 часов 16 минут назад
4 часов 22 минут назад
5 часов 20 минут назад
5 часов 35 минут назад
14 часов 45 минут назад
14 часов 46 минут назад