Знание — сила, 2006 № 01 (943) [Журнал «Знание-сила»] (fb2) читать онлайн
- Знание — сила, 2006 № 01 (943) (и.с. Знание — сила-943) 4.37 Мб, 233с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Журнал «Знание-сила»
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Знание-сила, 2006 № 01 (943)
Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал Издается с 1926 года «ЗНАНИЕ — СИЛА» ЖУРНАЛ. КОТОРЫЙ УМНЫЕ ЛЮДИ ЧИТАЮТ УЖЕ 80 ЛЕТ!Журналу «Знание — сила» 80 лет

Самое время сравнить, что хотелось — и что получилось. И что получается сегодня. Мы в основном будем говорить о современном журнале «Знание — сила», история которого началась в 1965 году, когда кабинет главного редактора заняла Нина Сергеевна Филиппова. Она набрала команду блестящих научных журналистов, и они вместе придумали журнал, какого еще нигде не было: естественно-научный, гуманитарный, художественный, философский и массовый одновременно. «Знание — сила» складывался как журнал мировоззренческий, и, хотя теперь это не слишком модно, он остается таковым. Что это значит для научно-популярного журнала? Говорить о науке не как о своде истинных на все времена знаний, а как о бесконечной погоне за истиной, как о драме идей. Драмы идей разворачиваются в пространстве мышления, воображения. В том, что журнал постоянно выстраивал это пространство для каждого, и состояло все его диссидентство. Он никогда не занимался политикой напрямую и отстаивал только одно неотъемлемое право гражданина (и его обязанность) — думать. Мы продолжаем выстраивать это пространство из номера в номер, как умеем, полагая свою работу нисколько не менее актуальной. Тем более, что судьба идей, история их противостояния, их побед и поражений может быть не менее захватывающей, чем любой триллер или боевик, но гораздо более осмысленной. Журнал получился не информационный, а проблемный: даже информация в несколько абзацев, становилась новым кусочком в пазле общей картины мира. Естественно, научной картины мира, которая с XVII века противостоит религиозной и поныне находится с ней в сложных взаимоотношениях. Эти взаимоотношения были и остаются предметом анализа и размышлений наших авторов, что теперь прямо-таки злободневно: большинство наших сограждан сегодня объявляют себя православными и складывают себе новую картину мира из обрывков научных представлений, вынесенных из школы, и околоцерковной мифологии. «Знание — сила» был и остается журналом авторов, в большинстве ученых. Автор получает возможность сказать нечто важное, принципиальное, неожиданное, что не опубликует никакой больше журнал. В журнале каждый занимается своим делом, которого всегда было предостаточно, поскольку на каждого приходилось несколько наук — и никто никого не мог заменить, потому что «физик» мало чего понимал в «психологии» и наоборот. Но каким- то непостижимым образом это собрание кошек, гулявших сами по себе, составляет слаженный организм, двигающийся в одном направлении. Нам везло на дирижеров. Первым и главным стала Нина Сергеевна Филиппова; в трудное для всех время журнал взял на себя Григорий Андреевич Зелен ко; теперь нет с нами ни той, ни другого... Мы-то совершенно уверены, что наш журнал уникален. В конце шестидесятых, когда начато уже подмораживать после оттепели, мы в полную меру воспользовались тем, что научно-популярному журналу отпускалось больше свободы, чем любому другому — свободы интонации, свободы мысли.

В гнусновато-задумчивые семидесятые редакцию называли островом, на котором сохранились человеческие отношения и желание всех делать общее дело. В поздние восьмидесятые журнал впервые позволил себе заняться экономикой и опубликовал многих будущих знаменитостей, героев перестройки, авторов реформ, их сторонников и оппонентов — прежде, чем они стали знамениты. В девяностые, как и все остальные, мы выпускали сдвоенные номера, не платили зарплат и гонораров — ни один человек не ушел из редакции по этому поводу и не перестал с ним сотрудничать. Но тут уже история... Как всякий живой организм, журнал постоянно менялся, не изменяя себе в главном. Очевидно, мы будем меняться еще быстрее и кардинальней, по-прежнему стремясь реализовать первоначальный проект журнала. Когда отошла «заморозка» в ледяном кубе Единственно Верного Учения, обнаружилось множество проблем, которые существовали на периферии общественного сознания, — проблем идеологических и мировоззренческих, но далеких от политики. Сменилось поколение наших читателей; новые читают, понимают, разговаривают по-своему — и нам необходимо освоить этот язык. Серьезные события происходят в науке, значительные изменения — в научной картине мира; мы по-прежнему пытаемся их осмыслить с помощью наших авторов, которые сумеют рассказать новому поколению, что в природе и в обществе все происходит совсем «не так», как кажется на первый взгляд, как написано в прописях, как мы привыкли считать, не задумываясь. Конечно, все, что написано выше, — скорее манифест, идеал, чем описание реального журнала: мы хотели быть такими, стремились к этому, но далеко не всегда это получалось и получается теперь. Насколько получается, попытаемся показать в юбилейном номере, который вы держите в руках. В этом номере, выслушав главного социолога страны и старинного друга журнала Юрия Леваду о месте, которое сегодня занимает наука в общественном сознании, позволим себе обсудить собственные проблемы — проблемы научной журналистики. Нам удастся еще раз услышать голос недавно ушедшего от нас главного реактора журнала последних пятнадцати с лишним лет — Григория Зелен ко. Вспомним знаменитых своих авторов-ученых, но скорее не по степени их знаменитости, а по степени участия в создании журнала. Каждый из них принес нечто свое: особую интонацию, манеру думать, нежданный поворот сюжета. Каждый представил картину своей области знаний. И теперь, много лет спустя, мы возвращаемся к старым темам, чтобы убедиться: это действительно уже тогда была точка роста, и за прошедшее время там много чего выросло. Так, сначала вернувшись назад, вы вновь окажетесь в самой современной науке. И вспомним наиболее значительные акции журнала: серии статей, серьезные встречи в редакции, темы, которые мы подняли первыми и которые потом долгое время привлекали всеобщий интерес. И опять-таки, вспомнив свои давние публикации, заглянем в сегодняшний день и расскажем о том, что выросло на «застолбленном» нами участке. Нам и, надеемся, нашим читателям повезло: не в каждом номере выпадает рассказать о двух научных открытиях, меняющих наши представления, — о морях Арктики, которые, оказывается, некогда были теплыми, и о древнем мире, на карте которого к четырем известным археологи добавили пятый мощный культурных центр, выкопав его из песков Средней Азии. Восемьдесят лет — нешуточный возраст для человека, но не самый большой для культурного феномена, которым так или иначе стал ваш журнал «Знание — сила».
Письма читателей
1926

...Наш кружок электротехников при московском клубе «Детский уголок» существует уже давно. ...Кружок нам нужен для того, чтобы получать знания, навыки по электротехнике. Заниматься по электричеству очень интересно. Ведь редко кто из ребят не мастерит что-нибудь по электричеству у себя дома. А в кружке мы занимаемся организованно, все вместе. Учились мы, как проводить и чинить электрическое освещение, делали разные опыты с электрическими самодельными приборами, изготовляли модели, делали кипятильники, реостаты, электрические звонки и проч. Ходили всем кружком на экскурсии, проводили беседы, писали доклады, рисовали схемы, ремонтировали электрическое освещение в клубе, делали освещение на наших праздниках. ...Мы бы очень хотели через редакцию журнала «Знание-Сила» завязать связь с другими электротехническими кружками и вообще с техническими кружками. Напишите, чем вы занимаетесь, как работаете, какие интересные модели изготовляете, какую проводите общественную работу. Лев Беляков, Борис Костерев, 1926 г.
1932

Дорогая редакция! Журнал «Знание — сила» дает мне много полезного в моей работе и за короткое время стал моим любимым журналом. Хорошо бы, если бы журнал подробнее осветил вопрос об управлении механизмами на расстоянии; кроме того я поддерживаю предложение т. Фридмана о конкурсах на изобретения и добавляю, что недурно было бы организовать конкурс на лучшее изготовление моделей, описанных в журнале «Знание — сила». С приветом Л. Слуткии (г. Владимир). 1932г.
1939
Приближается открытие XVIII съезда Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Трудящиеся города, деревни, учащиеся, взрослые и ребята — все стремятся приурочить к этому великому событию свои новые достижения, новые победы на производственном или на культурном фронте. Отрадно сознавать, что и мы, школьники, можем отметить съезд великой партии Ленина — Сталина своими скромными достижениями, хорошими отметками, сдачей оборонных норм, новой самодеятельной инициативой. О такой новой инициативе, возникшей в нашей 610-й школе Москвы, мы и хотим рассказать накануне XVIII съезда ВКП (б) всем читателям журнала «Знание — сила». Мы хотим поделиться нашим опытом научной самодеятельности в школе, чтобы и другие школьники последовали нашему примеру. ...Мы мечтаем теперь об организации в Москве дворца «Занимательной науки», в котором мы могли бы еще более плодотворно работать. В этом дворце мы — и, конечно, не только мы одни, но и сотни любителей науки из других школ Москвы, — получили бы возможность строить гораздо более сложные и интересные приборы, чем те, которые мы создаем в небольшом школьном кружке. Такой дворец «Занимательной науки» мог бы воспитать у многих школьников экспериментаторские навыки и пробудить у учащихся любовь к самостоятельному научному творчеству. Мы уверены, что наши мечты осуществятся, — ведь мы живем в прекрасной стране, где делается все возможное для развития культуры, где партия и правительство проявляют величайшую заботу о подрастающем поколении. Актив кружка «Юных любителей науки» при 610-й школе Москвы 1939 г.
1965
Где-то я прочитал, что во всем мире издается сейчас 60 или 70 тысяч научных журналов, и каждый из них, надо думать, стремится сообщить своим читателям новое и самое новое. Я сам для себя придумал фантастический сюжет: я — подписчик всех научных журналов. Каждый день к моему дому подъезжает грузовая машина, и по изобретенному мной транспортеру сотни и тысячи журналов подаются к моему столу. Электронный кибер молниеносно отбирает самую интересную информацию и, пожалуйста, я в курсе всех важнейших событий в науке. Увы, к сожалению, сие — несбыточная фантастика, но почему она пришла мне в голову? Я люблю ваш журнал за то, что он щедро рассыпает на своих страницах информацию. Будете ли вы верными этой традиции в будущем голу? Я все равно подпишусь на «Знание — силу», но мне хотелось бы получить заверение от редакции, что «Во всем мире», «Новое и самое новое» и другие ваши разделы, несущие службу информации, не заглохнут и не будут вытеснены длинными статьями, против которых, впрочем, у меня нет возражений. С. Пигалев, член ВЛКСМ (г. Ленинград) 1965г.
1980
Уважаемая редакция журнала «Знание — сила»! Наверное, это неправильно, что ваш журнал считается молодежным. Мне уже пятьдесят лет, а журнал я читаю с детства и всегда все в нем мне нравится. Причем журнал для меня не развлечение. Я обогащаю с его помощью свои познания о Вселенной, о тайнах живых организмов, встречаюсь с интересными людьми, узнаю новости. Я никогда его не читаю мимоходом или в спешке, а выбираю свободное время, так как для меня это большое удовольствие и активный отдых. Мне бы хотелось также, чтобы журнал больше затрагивал сегодняшние злободневные вопросы, а именно: 1.0 загрязнении окружающей среды; 2.0 нарушении природной системы в связи с уничтожением растительного мира человеком; 3. Об опасности в связи с бесконтрольностью прогресса технических средств передвижения и механизированных орудий. Уже сегодня все города буквально забиты легковыми и грузовыми автомобилями. Сельскохозяйственные угодья и поля насыщены техникой всех марок. Бензин, выхлопы газов, дизельное топливо, масло, автол — все это находится в постоянном соприкосновении с человеком. Подтеки горючих материалов, мойки автомашин, тракторов, деталей — все это отравляет верхний растительный слой планеты. Я бы очень хотел видеть эти вопросы в журнале научно обоснованными как предупреждение людям о соблюдении норм пользования энергией великой природы. Л. Токарев. Павлодарская область, совхоз «Саргамысский» №101995

Многоуважаемый коллега В. Барашенков! ...Во-первых, позвольте Вас поблагодарить за весьма интересную и дельную статью, а также поздравить с умением увлекательно и доходчиво изложить предмет, по самой своей сути обреченный на предельную сухость теоретических выкладок. Я не физик, а геолог-нефтяник, физику знал когда-то в объеме курса Путилова, а после этого «царапал» ее геологические приложения да читал «Знание — сила» да «Науку и жизнь». ... Конечно, в исследовании, «чуть раздвигающем строгие рамки науки», спорного всегда будет много больше, чем бесспорного. Впрочем, это относится и к тем исследованиям, которые никаких рамок не раздвигают, а идут, казалось бы, по твердо укатанной колее — если это настоящая наука, а не директивное «покорение природы». Вы пишете: «...наводит на мысль, что в наших знаниях законов природы есть какая-то значительная брешь». Преуменьшаете, коллега. Не в наших знаниях брешь, а наши знания являются узкой шелкой в мощном заборе, за которым скрыты истинные законы природы. Как никогда, сейчас верны предсмертные слова Лапласа: «Как ничтожно мало то, что мы знаем, по сравнению с тем, чего не знаем». Безусловная нелепость — воображать, будто мы исчерпали своим знанием все сущие или возможные поля, субстанции, действии природы. Наверняка о многих из них мы вообще ничего не знаем, а о других знаем примерно столько, сколько древние греки знали об электричестве и магнетизме... ДА. Постников, геолог (пенсионер), г. Уфа. № 12,1995г.
Ольга Балла
Первые сорок лет

Если хочешь, забыв и скуку и лень. Узнать сам. Что делается на земле И что грохочет по небесам; Если хочешь знать, Как борются и боролись — Про борьбу людей и работу машин, Про езду в Китай и на Северный полюс, Почему на метр переменили аршин, — Чтоб твоя голова не стала дурна. Чтоб мозг ерундой не заносило — Подписывайся и читай журнал «Знание — сила».
Начало
Так в 1926 году Владимир Маяковский приветствовал рождение нового издания, обозначив заолно и его будущий — на ближайшие лет сорок—тематический диапазон, стилистику и ценностные позиции. На обложке тоненького, в одну краску, на скверной бумаге журнала значилось: «Ежемесячный научно-популярный и приключенческий журнал для подростков». Его появление стало событием, масштаб которого нам сейчас, наверное, трудно представить себе в полной мере. Впервые в истории страны каждому думающему подростку был предложен шанс личным усилием (буквально физическим: собственными руками) участвовать в великой переделке мира и создавать самого себя по отчетливо сформулированной программе. Какие у этого соблазна подтексты и оборотные стороны — разговор отдельный. Важно, что было предложено — и предложение было принято с великой готовностью.Голоса
Никогда в журнале не было столько читательских голосов, как в самые первые годы. Начинавшийся фактически как орган «кружкового» движения, журнал существовал в режиме постоянного диалога с читателем и создавал у каждого чувство буквально личного участия в работе над ним. С писем от участников кружков начинался каждый номер — они печатались уже на второй странице обложки (рубрика «По кружкам»). Ими же он и заканчивался: на четвертой странице обложки, в рубрике «Переписка с читателем», редакция отвечала своим корреспондентам. И постоянно призывала писать — обмениваться опытом. Они и писали: о кружках слесарей, авиаторов, химиков, геологов. Подробно и конкретно: как налаживали работу, какие были трудности... Спрашивали: «Можно ли в динамомашине заменить электромагниты постоянными магнитами и как?», «Что такое килоуатт?». Журнал отвечал «адресно», лично, с указанием имен. «А. Миланичу ст. Раздельная Ю.З. ж.д., Одесского округа. — Инструкция, как организовать кружок юннатов, тебе выслана. В журнал пиши об исследовательской юннатской работе, о кружках, о постройке моделей и прочей технической работе, выполняемой подростками». «Пионеру Бекману, Чита. — О радиоприемнике ответим письмом, сообщи адрес. По астрономии статьи будут даны в одном из ближайших номеров».
Журнал первых лет полон практическими рекомендациями: как узнавать птиц в полете по силуэтам, чем и как ловить рыбу, какие книжки читать по затронутым темам. Постоянно публикует инструкции: как самому сделать фотоаппарат, ветряную турбину, водяной насос — с чертежами и расчетами. И всегда готов оказать конкретную действенную помощь: «Если ты не можешь достать нужный тебе материал для постройки модели, — обращается редакция к одному из своих корреспондентов, — пиши в редакцию». От читателя ожидалось ответное участие: «Если вы знаете интересные задачи, присылайте их для напечатания в журнале». И вообще: «Просим всех читателей присылать свои предложения по работе журнала...» Довоенная «Знание — сила» была учебником жизни — определенным образом понятой жизни.
Что значит знать?
Да, журнал формировал у своих читателей практические умения и обращался к тем, кто был заинтересован именно в этом. Однако заметим: название он себе выбрал при том все-таки не «Умелые руки», а «Знание — сила». Речь шла не об умениях самих по себе, и направлены они были не на то, чтобы сделать удобнее и проще повседневное существование. Напротив: его как раз предполагалось делать неизмеримо сложнее. Это в каждом случае были умения «интеллектуальные», продуманные, встроенные в систему. Укорененные в знании — представляющие собой часть этого знания, разлитого по всему существу человека. Соответственно ценилось то знание, которое «сила»: способное оказывать на мир и человека преображающее воздействие. И то, и другое следовало преобразовать и в целом, и в каждой из подробностей. Отсюда — широта интересов «Знание — силы», с самого начала выделившая журнал среди прочих изданий. Когда под одной обложкой подряд шли статьи о таких разных вещах, как источники энергии и происхождение человека, фенологические наблюдения и полет Амундсена к полюсу, какие бывают изобретатели и отчего случаются землетрясения, то в этом не было ни досужего любопытства, ни эклектики. Все это воспринималось как части одного иелого и вписывалось в единый проект. Все это была Природа, которую предстояло рационально — без остатка — описать, чтобы освоить и присвоить — тоже без остатка. «Наши бюллетени „Хочу все знать“, — пишут в 1939 году московские школьники, — посвящены жизни и деятельности выдающихся ученых: Ломоносова, Менделеева, Циолковского, Эдисона, Павлова, Джордано Бруно, Коперника, Галилея». Сплошь естествен ники. «Все», которое хотели знать юные энциклопедисты, было организовано иерархически. Это видно уже по количеству публикаций на соответствующие темы. Вершину иерархии занимали физика, химия и технические науки, неотделимые от технических практик. Чуть ниже, но близко к вершине располагались геология и география, совсем рядом с ними была астрономия (космос в 30-е все-таки еще не был так актуален). Ступенькой ниже шли биология с медициной и антропология (потому пригождалась и археология - часто лишь она, расположенная на пограничье естественного и гуманитарного, и представляла в журнале исторические науки). Гуманитарные дисциплины помещались где-то в самом низу. В каком-то смысле они были за пределами того, что считалось настоящим знанием: надежным, достоверным, объективным и полезным.
Статус знания в советском обществе 20-30-х годов был заявлен как очень высокий потому, что знание предполагалось условием общецивилизационного проекта. Для ранней, «детской» «Знание — силы» неспроста писали серьезные, крупные ученые. Основоположник гелиобиологии Александр Чижевский, «Леонардо да Винчи XX века» (как уже при жизни, в 1939-м, назвал его первый международный конгресс биофизиков в Нью- Йорке), в 1931-м написал для журнала статью о реакции живых организмов на окружающую среду на основе новейших в то время научных данных. Сам Циолковский, личность в те годы уже легендарная и культовая, успел в 1933 году опубликовать здесь статью о том, как должен быть устроен аппарат для космических полетов. Лев Ландау в 1939-м нашел время истолковать для школьников теорию относительности Эйнштейна. Такому составу участников, такому уровню актуальности тем (даже с опережением — звездолет!), пожалуй, могла бы позавидовать «Знание — сила» начала XXI века. Однако стоит обратить внимание вот на что — это принципиально отличает журнал его начальной эпохи от того, каким он стал после 1965 года: в этих текстах нет ничего личного. (Поздний XX век назвал подобное «классическим научпопом», не без оттенка пренебрежения.) Авторы даже такого масштаба максимально убирают себя из текста не из скромности и не от внутренней скудости, но следуя свойственной времени этике работы со смыслами. Личным особенностям и странностям, парадоксам хода мысли и прочим «строительным лесам», согласно этой этике, в текстах, имеющих отношение к науке, не место. Должно оставаться общезначимое. Личное таковым не считалось. Тем не менее это активное, агрессивное, присваивающее знание выражало и формировало саму сущность человека. Делая свои модели, выращивая зверей в живых уголках, ставя опыты, читатели создавали себя — живые инструменты уже идущей переделки мира. Журнал воспитывал человека нового типа. Он мыслил скорее задачами, чем проблемами. При этом мыслил глобально. Практические умения и конкретные задачи для него не имели самодостаточного смысла, но были включены в огромный проект осмысления, подчинения и преобразования природы. Все мыслилось в принципе разрешимым и по существу не проблематичным. В журнале ранних лет недаром не найти вопросов или рассуждений о смысле жизни. Этого там нет не потому, что такие вопросы читателя не интересовали, но потому, что на них отвечал весь журнал. Он сам, целиком, был таким ответом.

Интонации
Идеологии как таковой в журнале 20-х годов почти не было. Вернее, она была растворена во всем, как естественное обоснование всех описываемых событий и предлагаемых действий — и как будто не нуждалась в особом предъявлении. В 30-е ситуация изменилась радикально. В это время идеология представлена в журнале как особый пласт знания, который важно не смешивать с другими. Появились отдельные идеологические тексты: статьи о Ленине, Сталине, пятилетках, съездах ВКП (б) вытеснили с первых позиций в журнале письма из кружков (их вообще стало меньше — журнал делался все более монологичным). Появились «идеологические» письма, не имеющие ни к какому знанию никакого отношения. В 20-е все было исключительно по делу. А тут: «С глубочайшим возмущением, ненавистью, гневом узнали трудящиеся Советской страны, — сообщает читатель, — о гнусном террористическом заговоре троцкистско-зиновьевских бандитов. Советский народ единодушно вынес свой приговор: расстрелять, уничтожить гадов!» Тридцать шестой год, сентябрь. На рубеже 30-40-х журнал начинает писать о войне так много, подробно и постоянно, будто она уже идет. Прежний энциклопедизм исчезает. Почти исчезают и письма читателей — голоса с мест. «Знание» почти сводится к тому, что способно пригодиться на войне. Номера 1941 года начинаются рубрикой «Новости военной техники». Из номера в номер идет описание военно-технической игры «Сержант Пионеров в боях и походах». Статьи о том, какие бывают мины, могут ли немцы обстрелять Лондон из пушек. Все, что кроме этого — знание естественнонаучное, притом прикладное (в рубрике «Химические чтения» рассказ об октановом числе сопровождается схемой работы четырехтактного двигателя), техническое («Опыты с центробежной машиной») и практическое (статьи о замазке для лыж, о том, как сделать самодельные тиски, весы, струбцину; задачи по электротехнике). Военная метафорика проникает даже в естественно-научные тексты: статья о кинетической теории газов называется «Молекулы-пули». Последний перед войной номер журнала был подписан в печать 13 июня 1941 года. Снова в руках читателя «Знание — сила» появилась лишь в 1946-м — и полиграфически, и содержательно преобразившись едва ли до неузнаваемости. Во многом это был уже совсем другой журнал. Все та же задача — нести популяризованные знания молодым членам общества — выполнялась и понималась иначе. Журнал начал выпускаться Главным управлением трудовых резервов при СНК СССР и «повзрослел»: стал адресоваться уже не только к подросткам, но к молодым вообще («научно- популярный журнал рабочей молодежи»). Тексты стали гораздо сложнее, практического руководства существенно меньше: это перестало быть главным. Знание-умение начало вытесняться просто знанием. Но наука все еще была активной и свои отношения с природой рассматривала исключительно в терминах борьбы. Возвращается энциклопедизм — иерархический энциклопедизм 30-х годов, даже несколько расширенный. Заметно повышает свой статус биология (увы: главным образом благодаря экспериментам коллег академика Лысенко). Появляются новые рубрики («Наука и фантастика», «Наука и спорт». «Шахматы»), рассказы о профессиях, об открытиях современных ученых, правда, только отечественных («Рассказы сталинских лауреатов»). Журнал начинает печатать фантастику уже в 1946-м. Но самое важное: он меняется на уровне интонаций. «Знание — сила» и до войны не заигрывала с читателем, не была расположена ни к шуткам (ничего юмористического в принципе не печаталось), ни к иронии. Вместе с тем известное игровое начало было хотя бы в виде соревновательности: конкурсы, задачи, которые читателям постоянно предлагалось решать. Играли даже перед самой войной — в «сержанта Пионерова». А само изготовление моделей «больших», настоящих машин и механизмов — разве не игра? Маленькое сотворение мира, не в шутку состязание с Творцом, начинающееся с уверенного, виртуозного копирования Его работы... Но после войны и это игровое начало ушло. Журнал стал очень серьезным и окончательно монологичным. Читатель из активного участника журнальной жизни превращается в пассивного получателя знаний. К началу пятидесятых письма исчезают со страниц журнала вообще. Нет, читатели пишут, письма довольно регулярно пересказываются и комментируются в специальной рубрике — но прямой читательской речи больше почти нет. Ближе к концу пятидесятых в «Знание — силе» появляются шуточные иллюстрации к серьезным статьям. Не карикатуры на американских империалистов, как в начале десятилетия, — вообще ничего политического! — а смешные антропоморфные фигурки, изображающие — параллельно «серьезным» иллюстрациям к тому же тексту — атомы, фагоциты, пожирающие клетки или еще что-нибудь такое весьма отвлеченное. Кажется, это - симптом меняющихся отношений с наукой как областью смыслов. С одной стороны, еще задолго до «гуманистического поворота» «Знание — силы», начавшегося во второй половине 60-х, — у науки (или у восприятия ее «вненаучной» аудиторией) появилось «человеческое лицо». С другой — что едва ли не важнее — возникло ироническое отношение к ней. Пока еще совсем чуть-чуть. Дружески ироническое. Такое, которое, во-первых, защищало от пафоса, во-вторых, превращало науку во что-то «домашнее», принципиально обживаемое, насыщаемое именно личными, даже частными смыслами. Почему-то именно в этом видится мне первый признак будущей тенденции в жизни журнала, которой предстояло нарастать с конца 60-х годов и формировать его облик вплоть до по меньшей мере начала 90-х. Признак, появившийся еще при совсем другом редакционном составе, нежели тот, что создавал неповторимо интеллигентскую атмосферу журнала «Знание — сила» времени нашего детства. Я имею в виду то стилеобразующее чувство — в облике журнала, начиная с 60-х, очень выраженное, — что наука и знание могут стать для человека областью личной свободы, способом достижения независимости от идущей извне идеологической формовки. Что наука может быть не общим проектом, а частным делом. И что именно в этом качестве, а не как включенность в какой бы то ни было проект, она способна быть источником личного достоинства. Именно так название журнала и прочитывалось: «знание» — потому и сила", что знающего, понимающего, что к чему, не раздавишь, не проведешь. Знание — дистанция от всего, что навязывает нам себя в качестве очевидности. А вовсе не овладение природой, о которой знание как раз и открывает чем дальше, тем больше, что овладеть ею нельзя. Впрочем, это уже — за хронологическими рамками нашей статьи...
О том, чего не было
А не было очень многого — такого, что более поздним временам показалось бы принципиально важным. Очень мало было, как уже сказано, гуманитарных тем. Многого и попросту не было: литературоведения, психологии. Почти не было языкознания (статья Ф. Давыдова о происхождении языка в 1939 году стояла особняком). Искусствоведение — очень дозирование — появилось лишь к началу шестидесятых. Довоенный журнал эти вещи вообще не волновали, послевоенный, по существу, тоже — не считать же искусствоведением упоминание о портрете Мичурина, сделанном из зерен пшеницы и риса, или рассказ об архитектурном оформлении Волго-Донского канала, призванном воплотить величие сталинской эпохи. Не было человека как особой области проблем: человек в этом — предположительно устоявшемся — образе мира не переживался как проблематичный. Считалось безусловно необходимым человека формировать, воспитывать (следственно, предполагалось, что он пластичен, причем, наверное, в любом возрасте). Но как он внутри себя устроен, похоже, таким вопросом даже не задавались. В этом ориентированном на будущее журнале было мало прошлого вообще и истории в частности. Последнюю представляли прежде всего очерки истории техники и сопутствующих ей культурных форм — например, чертежей; рассказы по истории наук, практически всегда естественных; об ученых прошлого. Сюжет всех этих текстов был, по существу, общим: восхождение от неумения — к умению, от незнания — к знанию, от несовершенства — к совершенству. Прошлое в этой картине мира было, попросту говоря, хуже настоящего (не говоря уже о будущем). Оно было тем, что предстояло превзойти, и заслуживало упоминания только в этом качестве. В принципе не было проблематизации науки и предложенного ею образа мира. Вплоть до середины 60-х наука предъявлялась в журнале скорее как совокупность достигнутых результатов, чем как парадокс и поиск, который еще неизвестно, чем закончится. Скорее как область уверенности, чем как зона эксперимента и риска. С этим связано и то, что сколько- нибудь развернутых дискуссий с читателями по научным вопросам не было: наука предъявлялась им как данность. Недаром читатель 20-50-х годов, даже активно пишущий в редакцию читатель 20-х, чего точно не делал, так это не спорил с журналом. Не предлагал сногсшибательных гипотез об устройстве мироздания или отдельных его частей, сумасшедших проектов. Потому что запроса не было. Читателю задавали конкретные вопросы. В 20-40-е годы они имели исключительно такую форму: как вы делаете то-то и то-то? как бы вы решили такую-то задачу? В 50-е постановка вопросов стала более сложной: что вы знаете об исчезающих островах? Возможна ли, по-вашему, подземная лодка, и как она может быть устроена? Читатель и отвечал. Правда, ответов его почему- то не публиковали, давая взамен квалифицированный комментарий специалиста по спорной проблеме.И снова голоса
А вообще "антропологический поворот" (он же и поворот к проблематизации знания: человек вообще — похоже, проблемообразуюшее начало, если как следует подумать...) назрел и даже начался уже в самом начале 1960-х. Знанию в журнале стало окончательно тесно в тех рамках, которые ему очерчивались в первые четыре десятилетия. И оно стало искать выходы. Еще предстояла работа по выявлению гуманитарных смыслов, культурных последствий научных поисков и открытий, которой прославился журнал 60 - 80-х годов, заняв, на мой пристрастный взгляд, совершенно особое место в культуре того времени и в интеллектуальных биографиях своих тогдашних растущих читателей. А пока — появились чисто гуманитарные рубрики, даже первая в истории журнала рубрика об искусстве. Она, правда, носила помпезное название "Сделано на века" (название, интонационно близкое скорее к точке, чем к знаку вопроса, любимому знаку журнала более поздних лет). Но в ней уже шла речь о петербургском Медном всаднике, о московской Спасской башне... — о человеческих творениях, в которых то, что можно измерить и сосчитать, — не главное: присутствуя в культуре, они провоцируют и наращивают все новые и новые смыслы, неизбежно при том какие-то теряя. Их хочется назвать "смыслонакопителями" или "смыслоуловителями". Сильно сомневаюсь, что авторам тогдашних статей приходило в голову что-то подобное. Они-то наверняка были уверены, что транслируют читателям нечто устоявшееся, готовое, в буквальном смысле вечное. Однако ж само присутствие искусства на страницах, посвященных дотоле лишь таким "объективным" вещам, как природа и техника, кажется, не проходит даром. Оно инициирует брожение — как водится, непредсказуемое. А мне опять-таки кажется, что и тут все началось с совершенно незаметной вещи. С одной маленькой фразы, мелькнувшей в статье, посвященной опять же, что характерно, искусству. Ее обронил в 1961 году инженер-физик Е. Рудаков, сотрудник акустической лаборатории Московской консерватории, анализируя редкостный голос перуанской певицы Имы Сумак: "Человек — это больше того, что мы о нем знаем".Главная Тема
Слуга двух господ: научная журналистика на службе взаимопонимания

Нам редко удается поговорить о своем деле — мы рассказываем о других. Но юбиляр естественно оказывается в центре внимания, и мы решили не упускать редкую возможность обсудить собственные проблемы. Как-то сразу обнаружилось, что наши проблемы — далеко не только наши. Это кардинальные проблемы современной европейской культуры: как совместить несовместимое — научную и религиозную картины мира? Очевидно, время самого острого противостояния прошло, и стороны ищут компромисс. Это проблемы вчерашнего (и во многом не изменившегося) советского человека, который в принципе чужд компромиссам, диалогу предпочитает крайности. Это старые, как мир, проблемы умственной лени читателей, которые не слишком любят напрягаться. Ученых, которые далеко не всегда понимают глубинный и общий смысл своей конкретной работы, еще реже в состоянии об этом рассказать (тем более написать) и совсем редко готовы потратить на это свое драгоценное время. Даже когда от внимания к ним общества в какой-то степени зависит их выживание. А для нас часто это проблема выбора между выживанием и смыслом выживания. Впрочем, мы давно его сделали в пользу последнего. Наверное, мы не так уж не правы в этом выборе, поскольку живы до сих пор.
Юрий Левада
Человек в "расколдованном" мире

Давно уже никто не удивляется тому, что сегодняшняя среда человеческой жизни и деятельности (материалы, инструменты, средства коммуникации, связи, информации и прочее) в огромной мере созданы или преобразованы научно организованным знанием. А вот вопрос о том, как это знание влияет на самого человека, на его сознание, на цели и ценности его жизни, на его представления о мире и о себе самом, вызывает не меньше, а пожалуй, больше сомнений и дискуссий, чем, допустим, лет сто назад. В начале прошлого века знаменитый немецкий социолог Макс Вебер обозначил влияние науки на человеческий мир как "расколдовывание" (das EntzauberungV Это значит, что благодаря развитию и распространению научных знаний мир перестал казаться исполненным священных сил, внушающих трепет или ожидания чудес. Но этот мир отнюдь не стал полностью известным и понятным даже для еамых квалифицированных носителей специальных знаний, тем более для профана, человека обычного. Вебер однажды использовал такой пример "расколдовывания": люди привычно ездят в трамвае (это ведь было первое средство массового транспорта, созданное на научной основе), не задумываясь о природе электрического тока, принципах его передачи или работы электромоторов: делает л и - и о том, научная новинка умнее или добрее тех, кто ей пользуется? Изобретают компьютеры сотни, в разработке и производстве их заняты, наверное, сотни тысяч, пользуются ими сотни миллионов во всех странах мира. И подавляющее большинство последних не задумываются над принципами устройства умнейшей машины и не ломают головы над философской загадкой примерно 40-летней давности "может ли машина мыслить?" Через пару десятков лет подобная судьба — страшно подумать — ждет генную инженерию, психотропные средства и пр., и пр. "Расколдовывание" устраняет любопытство, но не невежество. Успехи практического, "прикладного" научного знания не смогли заставить человека подходить с единообразными мерками научного мышления ко всем сферам и тайникам его жизни — и социальной, и личной.
Несбывшиеся предвидения
На грани XIX и XX веков Герберт Уэллс, прославившийся своими литературно-публицистическими фантазиями ("Война миров" и др.), попытался представить, в каких направлениях будет развиваться человечество в наступающем столетии, до 2000 года. Его книга "Предвидения о влиянии процесса механики и науки на человеческую жизнь и мысль" в переводе с 6-го английского издания вышла в Москве в 1902 году. Главным двигателем прогресса в XIX веке Г. Уэллсу представлялись средства передвижения, прежде всего — железные дороги. "В хронологической таблице будущего" XIX век "будет изображаться символическим паровозом, несущимся по рельсам". (О влиянии этого символа можно судить и по более близким нам — еще недавно — формулам "локомотивы истории", "наш паровоз, вперед лети" и т.п.). С некоторыми оговорками в реквизит наступающего века знаменитый фантаст включал автобус и асфальтированные шоссе для него, живописал перспективы воздухоплавания (в основном для военных действий), но довольно скептически относился к авиации, отодвигая ее применение на вторую половину столетия. Оценивал будущее телефона, но, видимо, еще не знал о радио. Довольно реалистически представлял разрастание крупных городов, механизацию домашнего хозяйства, переселение богатых горожан в предместья. Ожидал применения мобильного боевого средства — чего-то вроде сочетания велосипеда с пулеметом. Полет такой технической фантазии с высоты сделанного и случившегося в XX веке часто представляется невысоким. Но главная слабость размышлений английского фантаста в другом. В разных главах своих "Предвидений" Уэллс возвращался к мысли о том, что прогресс науки и техники ("механики", как тогда писали) неумолимо приводит к формированию "нового среднего класса" из научно образованных инженеров, врачей, агрономов и других специалистов, к которым примыкают и наиболее квалифицированные рабочие. По его мнению, научная образованность и практика наделяют этих людей особыми интеллектуальными и моральными качествами — они инициативны, хладнокровны, рассудительны, благородны, свободны от крайних эмоций. Такой класс призван вытеснить из общественной структуры "незаслуженно богатых" (старую знать, акционеров) и безнадежно бедных, прорваться в политику, составив как бы новую образованную правящую аристократию (Г. Уэллс с презрением относился к массовой демократии, парламентским демагогам). Новые лидеры общества, как ему казалось, смогут привнести рассудочную терпимость в семейные дела, подчинить своим вкусам литературу и искусство, избавить религию от представлений о потустороннем мире. А поскольку в руках образованных специалистов окажется и военная сфера, не будет нужды в воинской повинности и огромных армиях. Сражаться будут небольшие мобильные отряды высокообразованных профессионалов, не станет и больших жертв. Как известно, реальные процессы в XX веке развивались совсем по иным сценариям и — что еще важнее — по иным принципам. Надежды Уэллса на спасительный "новый образованный класс" были столь же нереальными, как звучавшие на всем протяжении "паровозного" века апелляции к "новым людям" — организациям радикальных революционеров или пролетариям всех стран. Великий фантаст как будто не видел, возможно, сознательно упрощая предмет своего внимания, что достижения научного знания воздействуют на жизнь людей через сложные системы общественного производства, социальных, экономических, политических отношений, которые скорее используют достижения научной и технической мысли, чем поддаются их влиянию. XX веку с его все более наукоемким производством понадобились образованные, хорошо обеспеченные и социально защищенные работники, в том числеменеджеры, проектировщики и т.д. Но никакого нового класса, — солидарного в своих интересах, способного влиять на общество, — они не составили. Особенно наглядны просчеты "предвидений" применительно к самым болезненным для прошедшего века сферам, где величайшие успехи знания оказались средствами массового уничтожения и насилия, а социальные группы и организации, с этими успехами связанные, — вполне адекватными компонентами соответствующих систем социального принуждения. Насколько, при каких условиях, под каким контролем могут те же средства применяться в целях мирных и полезных, решается трудно и, как известно, вовсе не самим ученым сообществом, а на разных уровнях внутригосударственного и международного порядка. В ожиданиях на XX век крупно ошибались многие теоретики и практики. Если просчеты писателя Г. Уэллса лишь поучительны, то несостоятельные ожидания и обещания практических деятелей самых разных направлений — в том числе выступавших под знаменами науки и научности — повлекли свои практически значимые последствия. Одна из неожиданностей XX века — видимое переосмысление отношений между наукой и религией, а точнее, между претензиями научно организованного знания и религиозными представлениями на обладание одним и тем же "предметом" — сознанием человека. Не произошло ни вытеснения веры из человеческой жизни, ни формирования "позитивной" религии без чудес и потусторонних сил (о чем вместе с классиками позитивизма XIX века мечтал, кстати, и Г. Уэллс). Рассудительно-респектабельная западная цивилизация за последние 100- 150 лет приложила немало усилий для того, чтобы от попыток насильственного решения вековых догматических споров перейти к взаимному признанию прав на существование обеих сторон, разведенных по разным сферам или плоскостям человеческой жизни, с тем, чтобы человек мог сам решать, что ему ближе или как ему между этими плоскостями маневрировать. Явные конфликты вспыхивают скорее в "пограничных" слоях соприкосновения традиционных норм жизни с такими проблемами, как регулирование рождаемости, клонирование, признание гомосексуальности и пр. От забот и споров такого типа нас пока надежно отгораживают проблемы и страсти, порождаемые собственными метаниями и катаклизмами. Сейчас, как известно, маятник доминирующего идеологического стандарта качается от принудительного атеизма к новой имитации государственной церкви и демонстративной массово-принудительной воцерковленности. Мало кого удивляет, что в стране победившего (в недавнем прошлом) научного материализма космонавты берут в дорогу иконы, а высшие чиновники конституционно светского государства ищут церковного благословения. Или что неуважительное отношение к церковной символике — даже в искусстве — может стать поводом для скандального судебного преследования. Для размышления о природе таких перемен — несколько цифр из исследований разных лет. В 1989 году верующими считали себя 30 процентов населения (тогдашнего Союза), сейчас — более 60 в России. Но из них (только относящих себя к православию) более трети никогда не посещают службы, а почти две трети не причащаются (июль 2005 года, 2100 человек). В сентябре 2005 года (1600 человек) 60 процентов утверждали, что религия в их жизни значительной роли не играет. Действительно, заметного влияния массовой или официально-показной религиозности на нравы и общественный порядок не видно. Но если нет не только массового фанатизма веры, но и характерного для отечественной истории "обрядоверия" (в котором сто лет назад усматривали гарантию прочности церкви в России), а также воспитательного, морального воздействия как будто возрожденной религиозности, что стоит за показательными цифрами (и церемониями)? Скорее всего, попытка приобщиться — хотя бы символически — к утраченной традиционной опоре. Причем одновременно с двух сторон: и сверху, с высот власти (ослабленное государство, лишившееся исторического и идеологического оправдания), и снизу (растерявшийся человек).Особый случай: Библия и Дарвин
Вот уже полтораста лет, как взгляд на происхождение человека служит чуть ли не главным — во всяком случае, самым заметным — камнем преткновения во всех отношениях между догматически религиозными и научными представлениями. Результаты недавних опросов позволяют сравнить оценки этой проблемы общественным мнением в США и в России Согласно данным организации Гэллапа (ноябрь 2004 года, опрошена 1000 человек), библейский рассказ о происхождении человеческой жизни на Земле более правильным считают 57 процентов американцев, теорию эволюции — 33 процента. Но сохраняют популярность и более осторожные варианты суждений. Так, в октябре 2005 года 67 процентов из 800 опрошенных компанией "ЮС Ньюс" считали возможным верить и в Бога, и в теорию эволюции. Для совмещения несовместимых позиций уже давно используется идея "направляемой (божеством) эволюции". В ходе упомянутого выше опроса "ЮС Ньюс" ее принимают 30 процентов. Образец для компромисса был задан в специальной энциклике папы Пия XII Humani generis, выпущенной в 1950 году. Католическая церковь не возражала против изучения вопроса о происхождении тела человека от других живых существ, но настаивала на божественном сотворении его души. В нашем варианте "расколдованного" мира место для компромиссов и свободы личного выбора не приготовлено, поэтому человеку приходится метаться между крайностями, уступая "деспоту" господствующего обычая. По одному из наших опросов (август 2005 года, 1600 человек), 49 процентов россиян полагают, что человек сотворен Богом, а 26 — что он произошел от обезьяны. Мнения о сотворении придерживаются 45 процентов (против 31) молодежи 18-25 лет и практически столько же (46:32) — среди тех, кому сейчас от 25 до 40 лет, то есть кончавших советскую школу. Это значит, что "либеральный" путь формирования свободомыслия (и толерантности к чужим убеждениям) в ближайшем будущем останется маловероятным. А защищать музей Дарвина от налета каких-нибудь крестоносных фанатиков, может быть, и придется...Григорий Зеленко
Смыслы науки и интересы общества

В самосознании журналистов научно-популярного толка есть один парадокс, с которого мне хотелось бы начать. Не раз в беседах со своими коллегами по профессиональному цеху и даже с научными работниками мне доводилось слышать, что наша работа — это "перевод с научного языка на общечеловеческий". Я с таким мнением согласиться не могу. Более того, оно представляется глубоко бессодержательным. На мой взгляд, значительную долю труда людей, работающих в науке, занимают технологии. Как мне кажется, более 99 процентов общего объема времени, трудовых усилий и т.д. Начиная с мытья пробирок и кончая изобретением какого-нибудь нового циклотрона — это все технология. Центрифугирование, разработка новых методов анализа и установок к ним, приборы, позволяющие следить за работой нашего мозга, раскопки древних стоянок, поиск новых свидетельств об истории каких-либо народов или человечества в целом, новые методы клонирования млекопитающих и т.д. — все это технология (я специально смешал в кучу примеры из разных областей). И именно этой поденной работе, то есть этой самой технологии посвящен практически весь массив текущих публикаций в научной прессе. Так чем же, на мой взгляд, на самом деле реально занимается наука? В чем высший резон ее существования и высшие побудительные мотивы, двигающие ее создателей? Что приходится на долю какой-нибудь половины процента, остающейся от технологии? Это — создание новых смыслов. А они постепенно так или иначе (через школу, книги, телевидение и т.д.) меняют картину мира, которая неизбежно существует в голове у каждого человека во все времена и необходима для целостности его самосознания и в качестве глубинных основ его. Значит, новые смыслы меняют и его самосознание. Так вот, на мой взгляд, задача журналистов нашего цеха состоит в том, чтобы, вглядываясь в поденщину научной деятельности, находить — обнаруживать, сознавать, чуять (тут многие синонимы возможны) — именно то, какие новые смыслы созревают в современной науке. Несколько примеров — разных и по калибру, и по содержанию. Долгое время человечество (вернее, та его часть, которая размышляла об этом) осознавало себя живущим в мире, основу которого составляла ньютоновская Вселенная. Потом, в начале XX века, пришел Эйнштейн, несколько позже возникла квантовая механика, и в результате облик Вселенной, а значит, и картина мироздания в нашем сознании в принципе изменились. Сейчас — в результате буквально шквала открытий, начавшихся десятилетие-иолтора назад, — картина Вселенной вновь стремительно меняется. Откликаясь на события в физике космоса, журнал "Знание — сила" завел регулярную рубрику "Накануне большого слома", имея в виду, что прорыв в осмыслении новых данных о нашей Вселенной может произойти в любой момент. И тогда неизбежны перемены в картине мироздания. Еще один пример. Из прошлого века к нашим дням сохранилась лишь одна из многих идея эволюционного развития — дарвиновская, хотя и она претерпела многие изменения. Или вот еще: в середине 60-х годов группа геофизиков, главным образом французских, выдвинула гипотезу "плитотектоники" — дрейфа огромных континентальных плит. С этим дрейфом связано множество других явлений планетарного масштаба: срединно-океанические хребты, процесс наддвига полуострова Индостан на север и образование грандиозной горной системы Гималаев, примерно такое же по механизму образование тысячекилометровых горных цепей на западе Южной и Северной Америк. Между прочим, журнал "Знание — сила" первым рассказал об этой гипотезе широкому читателю еще в 1967 году (и встретил упорную обструкцию со стороны академических инстанций и чинов). За минувшие годы гипотеза получала множество подтверждений (хотя и не решила ряда крупных проблем) и обрела статус признанной теории. Она инициировала множество работ — и теоретических, и экспериментальных — по изучению событий, происходящих под земной корой, в мантии и на границе твердого ядра планеты. В результате картина жизни нашей планеты как космического тела в корне изменилась. "Картина изменилась" — эти слова приходится повторять как рефрен...
 В оформлении статьи использованы работы Э. Штейнберга
В оформлении статьи использованы работы Э. Штейнберга

Еще пример из области особенно мне интересной, из палеоантропологии. Когда я пришел работать в журнал и в общем-то случайно заинтересовался темой происхождения человека, я столкнулся с твердым и почти всеобщим мнением (например, известного антрополога М. Нестурха), что одного миллиона лет было куда как достаточно для перехода от нашего обезьяньего предка, общего с шимпанзе, к современному человеку. И когда Луис Лики объявил о находке переходной формы древностью в 1,8 миллиона лет — даже не обезьяньего предка, а его позднего потомка, весьма далекого от современных сапиенсов! — это вызвало в мировой науке буквально шквал противостояния. Лики и его клану пришлось долгое время доказывать свою правоту. Но затем находки посыпались одна за другой и у Лики, и у других исследователей, и рубеж перехода "последняя обезьяна — первый предок человека" стал стремительно отодвигаться в глубь тысячелетий. Сейчас, когда речь уже о 7 миллионах лет, многие антропологи сомневаются и в этой датировке, но речь о крамоле уже не идет. Между тем столь масштабное увеличение времени перехода от обезьяны к человеку опять-таки резко меняет картину нашего прошлого. Главное: новейшие исследования и размышления выявили полное несоответствие прежних представлений вновь добытым фактам. Помните, "труд создал человека"? Ничего подобного. Сегодня картина рисуется так. Сначала возникло прямохождение. Оно вызвало кардинальные изменения в образе жизни наших предков. Потом пошел в рост головной мозг. (Вновь изменение в образе жизни!) Затем появились изменения в строении руки. И лишь после этого обнаруживаются орудия труда. На сегодня дата древнейших орудий — 2,4-2,5 миллиона лет. Значит, если принять за первоначальную дату 7 миллионов лет. то 4,5 миллиона заняли первоначальные этапы эволюции наших предков, подготовившие и предопределившие дальнейший ход событий. И дальше все было очень непросто, недаром сап пенсы в Африке появляются примерно 120 тысяч лет назад, в Европе — 70-90 тысяч лет назад, а человек современного типа (sapiens sapiens) — и вовсе 40-50 тысяч лет назад. К этой же дате — 40-50 тысяч лет назад — ведущий палеолингвист мира Сергей Старостин относит время возникновения первого и древнейшего прапраязыка. (Кстати, как- то в середине 60-х годов в Президиуме АН СССР возникла дискуссия о некоторых проблемах развития антропологии в нашей стране, и академик Лысенко сказал одному видному антропологу: "Зачем вообще нужна ваша наука? Дайте мне 5 миллионов лет, и я из свиньи выведу человека". На что ехидный академик И. Кнунянц под одобрительные смешки окружающих тут же заметил: "Да кто же вам даст 5 миллионов лет?!"). Теперь мы видим, что даже природе было мало пяти миллионов лет, и все было "не так", как пел В. Высоцкий.


И последний пример, самый актуальный. Я утверждаю, что мы стоим на рубеже резкого сдвига в понимании физического существа человека (но не его мозга) и механизмов его функционирования. Генетика, столетие которой мы отметили пару лет назад, по праву стала лидирующей биологической наукой. Совершив прорыв грандиозного масштаба — расшифровав геном человека, хотя и не прочтя его, генетика буквально каждый месяц приносит необычайно важные открытия в области наследственности человека и существования, и действия отдельных его генов. Однако наследственные структуры — хоть и важнейшая, но малая часть основного структурного элемента нашего тела, клетки. И то. что мы называем жизнью, есть в конечном счете функционирование именно этих крошечных комочков протоплазмы. На самом деле это вовсе не комочки!.. Наши клетки, за некоторым исключением (эритроциты, лимфоциты и т.д.), — образования такой сложности, что я даже не знаю, с чем их можно было бы сравнить. Органеллы клетки, ее внутренние структуры и субструктуры... непрерывное перемещение молекул внутри клетки, в нее и из нее... беспрерывная работа клеточных систем, включающих и выключающих точно определенные гены — нет, положительно воображение мне отказывает. Как все это устроено так, чтобы сосуществовать, взаимодействовать, отвечать на вызовы внешней (для клетки) среды и продолжать свое существование в гармонии с другими клетками? После расшифровки генома стало ясно, что в нем. вернее, в той его части, где определенно содержатся гены, находится не более 30 тысяч генов. А в клетке действуют многие десятки тысяч белков, может быть, даже сотни тысяч. Значит, один ген или одни гены в кооперации с другим или со многими способны производить множество различных белков. Но как это делается? И как управляется эта тончайшая система молекул?:

Даже сравнение клетки с большим городом не проходит: насколько я понимаю, современную Москву надо усложнить (именно усложнить, а не увеличить) в сотни или даже тысячи раз, чтобы ее можно было уподобить клетке. Мораль последнего пассажа: наступает век биологии клетки, и нас ждут неожиданности, сравнимые с тем, что принес первый век генетики. Я говорю не о новых лекарствах и способах лечения (стволовые клетки, например), не о прорыве в производстве продуктов питания — все это само собой разумеется. Я говорю о самом важном: о новом понимании физической природы человека. (Исключаю при этом головной мозг, перед которым, похоже, наука стоит в недоумении.) Но стоит заговорить о популяризации знаний как индикаторе состояния науки, как меня покидает то воодушевление, с которым я размышлял о смыслах науки, меняющих мир и сознание человека. "Популяризация шаний" — ложный штамп, доставшийся нам по наследству от советских времен, от ЦК КПСС. Популяризировать можно деятельность исследователей, прикладные достижения науки, наконец, те смыслы, о которых шла речь вначале. Знаниям же надо обучать. Всем известно, в каком положении сейчас находится наука в нашей стране, как исследователи вынуждены добиваться грантов, а потом отчитываться по ним и сколько времени это занимает. Почему я говорю об этом? Потому что популяризация науки в большей степени должна быть делом рук самих ученых. В любой форме: статья, интервью, подсказка журналисту, "где искать", просто участие в жизни и работе редакций научно-популярных изданий. А это требует времени и переключения внимания, что исследователям нередко дается еще труднее, чем просто найти время для написания статьи. И еще, может быть, главное: все-таки исследователю легче согласиться с идеей написать о том, что занимает его каждый день, о своей повседневности, чем задуматься над общим смыслом (опять смысл) происходящего в его области. Большая часть так называемых научно-популярных изданий и публикаций в обшей прессе преподносят читателям не сущность происходящего в науке и даже не знания, а — сведения: по преимуществу информацию о последних событиях. Новомодные журналы зачастую дают сведения прикладного характера: вот тут — рассказ о новой системе коробки скоростей, а рядом — реклама очередной автомобильной новинки. Я, конечно, слегка преувеличиваю, но все-таки... При той устремленности аудитории к благам цивилизации, которую отмечают все социологи, эти "сведения" самим фактом своего пребывания в поле зрения читателей отодвигают далеко-далеко всю фундаментальную науку и ее значимость для мировой цивилизации. Те же издания, которые стремятся продолжать "классическую" линию популяризации, сильно проигрывают на рынке печатных изданий. И здесь я хотел бы снова вернуться к науке. Ее трудное положение сказывается, естественно, на ее достижениях и на ее имидже. А следом — и на внимании, которое ей уделяет общество. Ученые могли бы, как мне кажется, хотя бы попытаться сдвинуть гирьку в другую сторону. Но хотят далеко не всегда. И отсюда — логическая ниточка к заключительному пассажу, может быть, несколько неожиданному для кого-нибудь из читателей. Я хочу сказать, что при советской власти по целому ряду позиций дела обстояли много лучше, чем теперь. ЦК КПСС проводил решительную линию на популяризацию науки, и благодаря этому существовали журналы, издательства, телевизионные программы. Государство было заинтересовано в том, чтобы наука работала на оборону, благодаря этому кое-что перепадало и необоронным отраслям науки. А также сфере научно-популярной журналистики. Это — благодаря.

А вот что — вопреки. Вопреки общим установлениям, несмотря на все ограничения, в науке все-гаки была более свободная интеллектуальная и идеологическая обстановка. Вопреки — из-за идеологической подавленности и казарменности многих других сфер общественной жизни наука привлекала внимание людей своими поисками и находками, своей относительной свободой, даже просто своим отличием от скучных однообразных буден. Вопреки — талантливые люди, которые не могли опубликовать свои официально не признаваемые идеи в профессиональных изданиях, шли в научно-популярные издания, где их приветствовали от всей души: ведь они несли действительно содержательные материалы. Так, "Знание — сила" получила палеонтолога Сергея Мейена, ставшего позже мэтром в своей науке, генетика Раису Берг, геофизика Николая Шебалина, геолога Петра Кропоткина, математика и историка Сергея Смирнова, физика Юлия Данилова, историка Натана Эйдельмана и многих других. Они стали авторами журнала и друзьями редакции на многие годы. А теперь человек, даже и не из науки, может печатать и широко распространять любые свои идеи, вплоть до вполне завиральных. Примеры называть не хочу — они у всех на виду. Вопреки — научно-популярные журналы, опять же несмотря на известные догмы и ограничения, были той областью журналистики (еще, пожалуй, спортивная), где слегка веяло духом свободы и независимости. И это, конечно, привлекало читателей. И все это теперь ушло в прошлое. Сейчас наша страна — и общество! — находятся на переходном этапе. Журналистика, посвященная науке, находится в месте некоего средостения науки и общества. Если она и служит индикатором чего-то, то, по-моему, отношений между этими двумя субъектами. Отношения же эти отражают состояние страны, в том числе и общества, и науки. Ясно, что наука никогда больше не будет занимать того места в обществе, какое она занимала в 50 - 80-е годы. Ясно, что науке по праву принадлежит значительно большая роль в жизни страны, чем та, какую она играет сейчас. Ясно, что общество неизбежно будет уделять науке больше внимания, чем сейчас, если страна хочет остаться в строю цивилизованных и развитых стран. Ясно, что в иное положение по сравнению с нынешним должна будет перейти научно-популярная журналистика. Но когда и как это все произойдет? И каковы будут плоды?
Борис Жуков
Кунсткамера

Сегодня мало какое солидное издание "общего интереса" может обойтись без раздела "Наука". Но легко обходиться без самой науки. Первого апреля 2005 года среди новостей одного из самых популярных российских интернет-изданий появилась такая заметка: Найден неизвестный науке гигантский монстр. Доктор Чже-си Ло (Zhe-Xi Luo) и его коллега Джон Вибл (John Wible) из музея естествознания Карнеги в Питсбурге сообщили об археологическом открытии: найдены окаменелые останки ранее не известного науке хищного существа, жившего более 150 миллионов лет назад. Динозавр получил имя Fruitafossor windscheffelia по названию города Fruita, штат Колорадо, где была найдена окаменелость. По словам ученых, это существо чем-то напоминало ящеротазового рогатого зауропода, имело костный панцирь и передвигалось на двух задних ногах, но не связано ни с чем живым, населяющем Землю сегодня. Полые трубчатые зубы животного указывают на то, что оно было практически всеядным — питалось насекомыми (в основном термитами и тараканами), беспозвоночными, млекопитающими и некоторыми видами растений. По своим размерам динозавр сопоставим с небольшим грузовиком. Он был оснащен 12-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 380 лошадиных сил с каталитическим нейтрализатором выхлопа; 16-ступенчатой полуавтоматической коробкой передач и, что особенно подчеркнули эксперты, полным электропакетом уже в базовой версии. Скажем сразу: вид Fruitafossor windscheffeli в самом деле был описан в апрельском номере Science палеонтологами из питтсбургского музея по останкам, найденным в 1998 году на раскопках в Колорадо. Он действительно жил более 150 миллионов лет назад, только это был не гигантский всепожираюший динозавр, а млекопитающее размером с бурундука, специализированный поедатель общественных насекомых. Обращение к первоисточникам позволяет проследить ход мысли авторов заметки: клюнув на пышное латинское имя и мезозойскую древность находки, они вскоре обнаружили, что речь идет о существе вполне заурядном. И решили по случаю первого апреля обратить все в шутку. Нормального сюжета в раздел научных новостей из такого сообщения все равно не сделаешь: новое ископаемое — не самое большое, не самое древнее, не "переворачивает все устоявшиеся представления" в какой- нибудь области... Словом, в нем нет ничего сенсационного, а значит, ничего такого, что позволяло бы ему претендовать на место среди новостей. ...Несколько веков назад в Европе были весьма популярны кунсткамеры. Эти собрания, ставшие предками современных естественно-научных музеев, включали в себя весьма разнородные, с нашей точки зрения, объекты: скелеты и чучела вполне нормальных, но экзотических для данной местности тварей соседствовали в них с результатами грубых дефектов развития (двухголовой змеей или пятирогой козой), археологическими находками и вовсе уж случайными "шутками природы" вроде камня в форме человеческого уха. Попадались там и экспонаты, атрибуция которых была, мягко говоря, недостоверна (зуб дракона, рог единорога и т.п.), а то и просто смешна даже с точки зрения тогдашнего знания (какой-нибудь "череп Сократа-ребенка"). Единственное, что объединяло всю коллекцию, — все это были диковинки. То, чего нельзя увидеть в обычной жизни. Сама мысль о какой-то внутренней связи хотя бы некоторых из экспонатов или о том, как могло возникнуть то или иное странное образование, показалась бы владельцу кунсткамеры не только нелепой, но и обидной, снижающей статус собранных им чудес. Сегодня настоящую кунсткамеру, наверное, уже нигде не встретишь — от любой музейной коллекции требуется прежде всего научность. В современном обществе наука традиционно занимает самое почетное место. В частности, ни одно солидное средство массовой информации, будь то газета, журнал, радиостанция, телекомпания или интернет-сайт, не могут обходиться без специального раздела, посвященного науке. Там мы обязательно найдем (если издание высокопрофессиональное и современное) сообщения о самых передовых и интересных научных открытиях, отобранные и сервированные по старому доброму принципу кунсткамеры. Действие этого принципа начинается уже с отбора того круга дисциплин, новости которых имеют шансы попасть на страницы прессы. (Необходимая оговорка: здесь и далее мы говорим только об изданиях общего направления, не рассматривая собственно научные и научно-популярные.) Что такое наука, предстающая перед нами в одноименных разделах СМИ? Это молекулярная биология, нанотехнологии, информатика, космические исследования. На долю этих четырех сильно перекрывающихся между собой направлений приходится чуть ли не девять десятых всех сообщений "о науке". Прочие науки обычно вспоминают по какому-нибудь специальному поводу: геофизику и геотектонику — после катастрофических землетрясений и цунами, климатологию — после особенно сильного урагана или дебатов о Киотском протоколе, океанологию — по случаю Эль-Ниньо. А давно вам случалось видеть какие-нибудь новости лингвистики, науки, между прочим, ничуть не менее точной, чем молекулярная биология? А существует ли сегодня наука география, и если да, то чем она занята? А что новенького слышно в зоологии?


Если уж на то пошло, часто ли нам приходится читать о фундаментальных исследованиях по физике и химии? Судя по сообщениям прессы, современные химики вовсе забросили изучение натуральных веществ и занимаются исключительно конструированием разного рода экзотических молекул вроде гелида цезия или "молекулярного резистора" — небольшой органической молекулы, ведущей себя как простейший элемент электронной схемы и потому подающей большие надежды на использование в электронике следующего поколения. То же самое касается физики: большинство попадающих на страницы прессы работ в этой области посвящено созданию неких изощренных конструкций, как правило, имеющих перспективы практического применения. Собственно, это уже следующий этаж нашей кунсткамеры: отбор сюжетов внутри каждой из допущенных в медиа-пространство дисциплин. Здесь вне конкуренции идут высокотехнологические разработки и проекты. Даже слова "фундаментальная наука" обычно означают лишь то, что данный высокотехнологичный проект — например, "Геном человека" или "Гюйгенс" — не имеет конкретной практической цели. В некоторых изданиях понимание науки как завтрашней технологии даже закреплено названием раздела — "Наука и технологии", "Прогресс". Бывают, конечно, и иные сюжеты: подобные разделы нередко уделяют внимание палеонтологическим и археологическим находкам, открытиям в астрономии, порой даже снисходят до описания только что открытого вида живых существ. Тем не менее высокие технологии почти всегда присутствуют и в этих заметках в виде методов и инструментов, позволивших открыть неизвестный ранее объект, установить его рекордный возраст или другие необыкновенные качества. Авторы приведенной выше первоапрельской заметки о "доисторическом монстре" изумительно точно восполнили этот пробел последней фразой, придавшей всему тексту жанровую завершенность и в то же время пародийную гротескность. Впрочем, упоминания о технологиях присутствуют все-таки не во всех сюжетах. А вот что обязательно, так это диковинность или хотя бы рекордность их предмета: самый большой микроб, самая далекая планета, самое древнее пиво... Тут принцип кунсткамеры торжествует безоговорочно: неэкзотичным и нерекордным вещам входа в СМИ нет. Ну разве только если существование такого предмета "заставляет пересмотреть господствующие теории" или даже "переворачивает все представления" в соответствующей области знания. Хотя при чтении первоисточника (а часто и самой заметки) быстро выясняется, что просто организмы данного типа до сих пор не находили в отложениях этого возраста или что такая-то древняя цивилизация использовала не только привозную медь, но и сама умела ее выплавлять. Вот и весь "переворот во взглядах". Этот прием соответствует даже не кунсткамере, а ее выродившемуся потомку — балаганному паноптикуму, куда простака могли зазвать обещанием "животного, у которого на месте головы хвост", и показать клячу, привязанную за хвост к коновязи. Конечно, сами по себе без искусственно наведенной "сенсационности" такие сюжеты вполне имеют право на существование и читательский интерес. И никто, надеюсь, не заподозрит автора этих строк в попытке доказать, что изучать планеты и нуклеотидные последовательности неинтересно или недостаточно важно. Главная беда такого рассказа о науке — не то, что в нем есть, а то, чего в нем нет. То, что и отличает, собственно, научный музей от кунсткамеры. Давно ли вам попадалось — пусть не в подборке научных новостей, а в виде более обширного текста — изложение некой научной теории, гипотезы, концепции? Особенно такой, которая и в самом деле что-то объясняла бы, устанавливала бы связь между явлениями, известными вам порознь? Воспринимая науку как собрание диковинок, общество практически забыло, что наука — это не нагромождение фактов (их можно собирать и копить без всякой науки) и даже не хитрые устройства, расширяющие наши возможности. В конце концов со времен олдовайской галечной культуры и примерно до середины позапрошлого века человечество создавало новые инструменты и технологии вне всякой связи с наукой, в лучшем случае оставляя ее объяснять задним числом, почему эта штука работает. Наука же — это прежде всего способ организации известных фактов, позволяющий извлечь из них новое, не добываемое непосредственным наблюдением знание. Это определенная философия, совокупность смыслов- теорий, целостная картина мира. Это, наконец, постоянное переосмысление собственных методов, безжалостно отделяющее то, что достоверно известно, от возможного, предполагаемого, правдоподобного. Эту суть науки совершенно невозможно сохранить в кунсткамерном формате, поскольку он надежно исключает рождение на свет даже самых очевидных вопросов. В апреле 2005 года многие издания, имеющие у себя разделы науки, сообщали о том, что недавно найденное в Центральной Африке человекообразное существо, жившее там около 7 миллионов лет назад, было, судя по всему, прямоходящим. И никто из писавших даже не сопоставил этого факта с тем, что возраст древнейших человеческих орудий не превышает двух миллионов лет, и значит, становление прямохождения никак не связано с орудийной деятельностью. Что же заставило наших предков избрать этот способ передвижения, крайне неэффективный и порождающий множество проблем? Ответа на этот вопрос, насколько мне известно, нет и у специалистов, но характерно то, что журналистам (представляющим в данном случае общество в целом) даже не пришло в голову его задать. Но и тогда, когда элементарное теоретическое обобщение напрашивается само собой, ему не находится места в кунсткамере. В августе того же года новостью недели в научных разделах СМИ стало обнаружение "совершенного генома": оказалось, что у морской бактерии Pelagibacter ubique вся ДНК состоит только из генов, кодирующих белки, причем каждый ген представлен единственным экземпляром. "Молчащих" или повторяющихся участков в этом геноме нет. Некоторые из писавших о "совершенном геноме" ограничились изложением этих фактов. Другие с пафосом рассказывали о том, что бактерия со столь совершенным генетическим аппаратом завоевала огромные пространства морей, а ее биомасса больше биомассы всех рыб в Мировом океане. И никто не обратил внимания на занятный комментарий на одном из англоязычных сайтов: еще до нынешнего исследования об этой бактерии было известно, что ее почти невозможно выращивать в культуре, — незначительные отклонения в составе питательной среды оказываются для нее смертельны. Теперь понятно, почему: система, не имеющая ни резервных мощностей, ни механизмов регуляции активности, может успешно функционировать только в сверхстабильной среде... Ученые, с которыми я пытался обсудить подобные эффекты, разводят руками: мол, какие теории можно излагать людям, делающим орфографические ошибки в слове "энзим" и на полном серьезе пишущим о лечении гипнозом генетических болезней?! Что они в них поймут? Журналисты переадресуют ответственность читателям: мы-то, может, и поняли бы. но поди-ка изложи серьезную научную теорию людям, которые в принципе не способны прочесть текст, размером превышающий "три экрана" (то есть около пяти тысяч знаков)! Не остаются вне подозрений и сами ученые, которых, по мнению многих экспертов, система грантов ориентирует на получение конкретного и предсказуемого результата, отучая от теоретических фантазий. В результате излагать широкой публике просто нечего — стройные и оригинальные теории появляются все реже и реже. Доля правды, похоже, есть в каждом из этих утверждений- Но речь идет не о том, кто виноват, а о том, что делать. Хотя бы как относиться к тому, что в глазах общества наука все больше превращается в бесконечную кунсткамеру.
Добрые слова
Бывший когда-то весьма популярный журнал "Знание — сила" обретает сейчас новую жизнь и новое дыхание. Б наши дни вся проблема Знания является многоплановым и актуальным явлением. Сегодня повсюду говорят об "экономике знаний", об инновационных технологиях в приобретении знаний, о таких вещах, как мировой и общественный опыт и традиции, без которых немыслим и современный подход к овладению знаниями. Познание мира во всех его проявлениям формирование информационного общества, утверждение демократии и права и многое другое — все это основывается на глубоком и всестороннем знании. Отсюда неразрывная связь проблемы Знания с наукой и образованием, с управлением экономикой и политической жизнью, процессом принятия решений и с индивидуальным выбором человека, с культурой и духовной жизнью. И все это может быть в центре обновленного журнала "Знание — сила", вызвать к нему интерес самых различных слоев населения. Пожелаем журналу успехов на этом пути. Директор Института всеобщей истории РАН, ректор Государственного университета гуманитарных наук академик А.О.ЧубарьянМне очень приятно поздравить любимый журнал "Знание — сила" с 80-м днем рождения! Шлю поздравления в первую очередь от многочисленного интернационального коллектива (и физиков, и лириков) Объединенного института ядерных исследований в Дубне, которому скоро будет 50 лет. 2006 год и для вас, и для нас — юбилейный! Мне хочется также поздравить журнал с юбилеем от всей нашей семьи, три поколения которой читают и любят "Знание — сила"! Не скрою, что с детства помню пожелтевшие страницы журнала "Знание — сила" № 10 от 1938 года (он бережно, как семейная реликвия, хранится в нашем доме), в котором был опубликован очерк писателя Олега Писаржевского, посвященный молодому ученому Норайру Сисакяну, это был первый очерк о моем отце, впоследствии известном ученом-биохимике, одном из основоположников космической биологии. Сегодня номера журнала с интересом читают моя младшая дочь Настя, студентка МГУ имени М.В. Ломоносова, и ее сверстники. В последнее время много пишут и говорят об экономике знаний, об обществе знаний, о преобразующей роли знаний, о коммерциализации знаний — это все, конечно, очень актуально. А журнал с замечательным афористичным названием "Знание — сила" (подобно великому грибоедовскому "Горе от ума" или вечному "На всякого мудреца довольно простоты" Островского...) вот уже восемь десятков лет несет миллионам читателей истину о знаниях, которые не всегда удается коммерциализовать (ведь порой знания — бесценны!). Многие лета! Профессор Алексей Сисакян, директор ОИЯИ, действительный член РАЕН и НАН Армении, автор трудов по физике элементарных частиц и поэтических сборников
Лица необщим выраженьем

"Знание — сила" — журнал авторский: публикаций ученых всегда было намного больше, чем публикаций журналистов. Такова принципиальная установка редакции. Нам удастся представить в этом номере далеко не всех наших авторов, даже перечислить всех не получится. В первую очередь вспоминаем тех, кого по праву можно считать такими же создателями журнала, как и сотрудников редакции. Есть авторы одной идеи, которые исчезали, исчерпав ее. Есть другие, оставшиеся на долгие годы сотрудничать с журналом, извлекая из материала размышлений общезначимые смыслы. Есть и такие, которые только здесь могли в 70 - 80-е годы найти поле для интеллектуальных игр. Им нравилось приходить в редакцию, спорить, рассказывать, играть в "скрейбл" и в шахматы, пить чай с сушками и вешать на стены смешные и мудрые изречения. Своим человеком на долгие годы стал Натан Эйдельман, историк, писатель, член редколлегии, друг. Так прижился двуликий Игорь Можейко, он же знаменитый Кир Булычев, выступавший на страницах журнала то как историк, то как фантаст. Сыпал анекдотами и забавными историями героический полярник Зиновий Каневский, потерявший во льдах Арктики обе руки, но никогда не терявший мужества и чувства юмора; он вписал в историю журнала много ярких страниц о полярных исследованиях и о судьбе репрессированных полярных исследователей. С гитарой являлся Игорь Галкин, читал свои стихи, писал о Луне. Благодаря этим людям в редакции была особая творческая атмосфера, тот редкий стиль, кода общение — это роскошь и участвовать в торжестве духа — большая честь. В такую атмосферу редакции приходят и остаются новые авторы. Так, в самом начале восьмидесятых пришел Анатолий Вишневский с идеей демографической революции, которая уже произошла, а мы и никто этого не заметили. Опальный некогда академик Татьяна Заславская боролась против окончательного уничтожения деревень путем их "сселения". Всеволод Шевченко откапывал в глубине веков единый корень наук и искусств, а Юлий Данилов, блестящий математик и переводчик, вычитывал научную методологию в "Алисе" Льюиса Кэрролла и писал о синергетике. Как вести с фронта присылал в редакцию ошеломительные результаты новгородских раскопок академик Валентин Янин. Переписывал древнюю историю Евгений Черных. О современной "культуре хамства" талантливо и необычно писал философ и социолог Леонид Невлер, а в продолжение - известный историк Александр Ахиезер объяснял причины российской "культуры бедности", ее неспособности к самоорганизации и к диалогу. Только в нашем журнале появились рассказы Владилена Барашенкова об электрояде, суперкомпьютерах и теории относительности. Многие осознавали журнал и редакцию как общественную ценность и готовы были использовать все свои регалии, чтобы в опасный момент защитить нас. Писали письма, ходили на прием к секретарям ЦК КПСС при орденах и медалях верные друзья^ бессменные члены нашей редколлегии, академик-химик Иван Кнунянц, математик Вольдемар Смилга, сейсмолог Николай Шебалин. Трудно вспомнить, когда появился Сергей Смирнов — историк и математик, а теперь еще журналист и писатель. Именно ему журнал обязан серией исторических обзоров "Годовые кольца истории". Продолжает традицию психологических тренингов Владимира Леви и Анатолия Добровича Маргарита Жамкочьяц, очень просто умеющая рассказать о сложной жизни ребенка в школе и дома. Игорь Лалаянц продолжает задавать головоломные биологические загадки нашим читателям. Готов снова и снова обсуждать и пересматривать административное деление огромной нашей страны Леонид Смирнягин; опять зовет на свои сократические чтения географ, новатор и либерал по своей природе Вячеслав Шупер; снова предсказывает землетрясение Андрей Никонов и обсуждает ущербность нашей публичной общественной жизни Борис Дубин. А в статьях выдающихся современных историков Андрея Юргановд, Игоря Данилевского, Игоря Андреева древняя российская история отвечает на многие вопросы истории современной. Даже упомянуть всех наших авторов невозможно! И число их растет. Скажем еще только о совместной с радио "Эхо Москвы" передаче "Не так!" — символическое для журнала название! Этой передаче больше тринадцати лет, и все эти годы каждую неделю историки, авторы журнала "Знание — сила", предстают перед миллионной аудиторией. Это еще один вклад журнала в отечественную культуру. А замечательный биолог-этолог Евгений Панов станет рассуждать о том, есть ли язык у пчел, соловьев и чрезвычайно умных кукушек, у дельфинов и шимпанзе. И это будет продолжением разговора, начатого очень давно, но время вносит изменения!, и разговор не кончается. Мы вернемся и к другой теме, увлекательно начатой в восьмидесятых А. Кроником и Е. Головахой о психологическом времени: тогда авторыпредложили даже способ его измерения... Собственно, на этом принципе — возвращения к старым публикациям и сопряжения его с новым современным материалом — построен весь этот юбилейный номер...
МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Натан Эйдельман"Дети 1812-го..."
"Знание — сила", 1975, № 11,12
Первый раз Натан Эйдельман напечатал свою статью в журнале "Знание — сила" в начале 60-х годов. И готом уже печатался здесь постоянно: он опубликовал в журнале более пятидесяти статей, и многие из них становились началом будущих книг. "Дети 1812-го..." — размышления о поколении декабристов, той "фаланге героев", "воинов сподвижников", которые, го словам Герцена, вышли "сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение". ...Архив Октябрьской революции в Москве, на Пироговской улице. Листки с номерами в толстой пачке из 56 писем — чудом уцелевшая и не изучавшаяся часть архива Ивана Матвеевича Муравьева... Номер на письмах ставился для того, чтобы адресат знал, сколько посланий затерялось по дороге, и. кажется, доходило одно письмо из четырех: война между Францией и Россией, пожалуй, не самое благоприятное условие для бесперебойной почтовой связи между этими державами... Те же самые обстоятельства, что тормозили переписку, переместили Ивана Матвеевича из Мадрида на родину. Наполеон слишком грозен и победоносен, чтобы испанский двор смел интриговать против него... Франции не нравится активный русский посол за Пиренеями — Ивану Матвеевичу приходится уехать; в Петербурге должны одобрять его дипломатию, возвращаясь, он, кажется, ждет наград, повышения. Нас очень интересует Анна Семеновна Муравьева-Апостол и семеро ее детей, пачка же старинных писем на французском языке из Архива Октябрьской революции вполне способна удовлетворить любопытство... Прочитав писем десять, привыкаем к их ритму, структуре — и уже уверены, что одиннадцатое, двадцать пятое, пятидесятое послание начнется, скорее всего, с упреков рассеянному и ленивому Ивану Матвеевичу: редко пишет, на вопросы не отвечает, номеров на письмах не выставляет... Затем неизменная вторая часть всякого письма: денег нет, долги растут — что делать? Наконец, дети. Странно и даже страшно читать милые подробности, смешные эпизоды, материнские опасения: ведь мы уже все наперед знаем, какими станут, что испытают, сколько проживут. Письма из далеких старых лет — из первых томов "Войны и мира"... О трех младших Анна Семеновна пишет маловато, уверенная, что отца пока что они не очень интересуют. Семилетняя Елена вообще упоминается лишь в обычном: "дети здоровы", "дети по тебе скучают"; о десятилетней Аннете — чуть больше, потому что часто болеет и однажды "была при смерти". Крохотный Ипполит... У этого — особые права, самый юный, незнакомый отцу, но все же сын — третий продолжатель фамилии. "Ипполит единственный из всех нас, кто делает все, что хочет", "Ипполит начинает интересоваться своим папа". Анна Семеновна энергично, твердо, разумно управляет маленьким шумным государством (только изредка намекает на собственные болезни — "кровь горлом", — не думая и не гадая, что стоит на пороге смерти, и вспомнит о ней только однажды: "Если я увижу детей несчастными, то умру от горя"). Едва ли не в каждом письме отдается должное ее первой помощнице во всех делах, чуть ли не второй матери для малышей — старшей дочери Лизе (или Элизе). Материнские комплименты 16-летней девице, конечно, пристрастны, но, узнав Анну Семеновну поближе, заметим, что она вообще судит о своих детях здраво и порою строго; прочитав к тому же несколько страничек, написанных рукою самой Лизы, знакомимся с действительно мягкой, сдержанной, не по годам умной, образованной, музыкальной, красивой — да, видно, не просто красивой, а необыкновенно красивой девушкой. Анна Семеновна однажды замечает, что "Элиза вообще самая необыкновенная девушка, которую она когда-либо знала"; в ту пору красивее Лизы, пожалуй, только одна особа. Катю, вторую дочь, мать ценит как личность не столь высоко, однако "хороша так, что дальше уж некуда, и где ни появляется, все восхищаются". Между двумя красавицами и тремя малышами — двое мальчиков, которые большей частью находятся вне дома. 10 августа 1806 года, через восемь месяцев после Аустерлица и за десять месяцев до Тильзита, сквозь воюющие армии прорывается письмецо № 79: "Сегодня большой день, мальчики возвращаются в пансион" — после каникул. В связи с таким событием сыновьям разрешено самим написать отцу и перед нами — самые ранние из сохранившихся писем Матвея и Сергея. Тринадцатилетний Матвей: "Дорогой папа, сегодня я возвращаюсь. Я очень огорчен тем, что не получил награды, но я надеюсь, что награда будет возвращена в течение этого полугодия. Мама давада обед моему профессору, который обещал ей хорошенько за мной смотреть". Чуть ниже — корявый почерк десятилетнего Сергея: "Дорогой папа, я обнимаю тебя от глубины души. Я бы хотел иметь маленькое письмецо от тебя. (К этому месту примечание матери: "Того же требует Матвей".) Ты еще мне никогда не писал. В этом году я иду на третий курс вместе с братом. Я обещаю тебе хорошо работать. До свидания, дорогой папа, я тебя обнимаю от всего сердца". В парижские годы происходят постепенные перемены в "старшинстве": Сергей, впервые обогнавший брата, незаметно, постепенно становится "лидером", чье превосходство охотно, а с годами все более признает добродушный Матвей. Дети переходят из класса в класс под гром наполеоновских побед. Кроме огромной суммы за учение (примерно сотня крестьянских оброков). в письмах матери так много других цифр и расчетов, что они порою похожи на математическую статью, в которую, впрочем, впутываются названия разных необходимых вешей и вещиц, так что вдруг появляются живые портреты мальчиков, "которым необходимы новые башмаки, да еще выходная обувь; разумеется, зеленые панталоны, редингот — это уже 1600 ливров", да еще дочерям не в чем выезжать. Матвею надо лечить ноги. В общем, один парижский год стоит семейству 20 тысяч ливров, или 8-9 тысяч русских рублей.

Парижские долги растут. Анна Семеновна выдает векселя десяткам людей, даже слугам, и взывает к мужу; "Мой дорогой, продай, пожалуйста, земли и пришли поскорее денег!" Заканчивая послание, жена пишет Ивану Матвеевичу: "Кажется, мой друг, наше счастье минуло". Больше по почте ни слова, о самом главном семейном событии — опале и полной отставке отца. ...10 января 1808 года. "Поздравляю тебя, мой друг, с двумя большими дочерьми, Катерина больше Элизы, а та выше матери, только Матвей не растет совсем, Катерина на голову выше его, Сережа тот тоже большой. Матвей начал работать чуть лучше. Сережа работает очень хорошо в течение последнего месяца, его профессора очень довольны им, оба начали заниматься по-русски. Посол граф Толстой. Они от этого в восторге". Итак, Матвей на шестнадцатом, Сергей на тринадцатом году знакомятся с родным языком. Позже Льву Толстому, размышлявшему над воспитанием многих декабристов, покажется, будто все движение это занесено, завезено вместе с "французским багажом", что оно не на русской почве выросло. В этом была одна из причин (правда, не единственная, не главная!), отчего "Война и мир" не идет дальше 1820 года, роман "Декабристы" не окончен. Но затем писатель еще и еще проверит себя: художественное, историческое чувство подсказывало, что "декабристы-французы" — это фальшь, что слишком легко таким способом "отделаться" от серьезного объяснения серьезнейших чувств и наблюдений сотен молодых людей. Поздно начинают учить русскому языку, но "они в восторге", и Анна Семеновна еще гюнторит в других письмах даже с некоторым удивлением: "В восторге!" Откуда восторг? Во что перельется? Тут почти что афоризм, формула воспитания, развития личности. Вероятно, они знакомятся со своим языком позже всех молодых людей в мире, заговорят по-русски позже миллионов неграмотных соотечественников. Но для других родной язык — явление естественное, с первым молоком, "само собой"; для них же здесь — событие осознанное, общественное. К смутным впечатлениям — "мы русские", — закрепленным домашними разговорами, стычками с одноклассниками, вдруг добавлен язык, и пошла бурная химическая реакция, едва ли не взрыв. Эксперимент опаснейший! Сотни недорослей, не знавших ни слова по-русски "до первых усов", останутся "французиками" вроде Ипполита Курагина из "Войны и мира". Но для некоторых, для Матвея и Сергея, первые слова по-русски — столь значительное событие, что если бы составлялась летопись их жизни, его следовало бы сравнивать, скажем, с 1812 годом и временем образования тайных обществ, в той летописи было бы написано: "Зима 1808. Начинают учиться по-русски. Восторг". Тем временем культ Ивана Матвеевича растет — все, от Лизы до Ипполита, особенно старшие мальчики, относятся с обожанием к эгоистичному, усталому занятому своими неприятностями тайному советнику; чем дальше он, чем недоступнее, чем реже отзывается, тем, по известной психологической формуле, милее, притягательнее для детей. Мать — "проза", отец — "поэзия", даль, Россия. "Ради бога, вытащи нас из этой парижской пучины. Я ничего другого не желаю на свете". Этот вопль был наконец услышан, Иван Матвеевич все же продает какие-то земли, Анна Семеновна расплачивается с долгами. О постепенных приготовлениях к отъезду знает только Элиза: "Я боюсь, что если мальчики узнают, они перестанут совсем трудиться, в то время как сейчас они убеждены, что пробудут здесь еще два года". Наконец, 21 июня 1809 года отправляется последнее письмо из Парижа: "Я еду завтра!" А на другой день кондуктор дилижанса прослезится, наблюдая прощание Лизы с Ожаровским, Анна Семеновна ужаснется, что до Франкфурта ехать неделю "в совершенно открытой коляске, без скамеек", мальчики же обрадуются невиданной дороге и неслыханным приключениям. К выброшенному из службы и отвыкшему от семейного шума Ивану Матвеевичу едет из Парижа жена с семью детьми. На дворе лето 1809 года, и у Анны Семеновны впереди меньше года жизни, у Сергея и маленького Ипполита — семнадцать, Иван Матвеевич — на поддороге, ему жить 42 года, старшему же сыну, Матвею, остается семьдесят семь... На границе Пруссии с Россией дети, завидевши казака на часах, выскочили из кареты и бросились его обнимать. Усевшись в карету ехать далее, они выслушали от своей матушки весть, очень поразившую их. "Я очень рада, — сказала она детям, — что долгое пребывание за границей не охладило ваших чувств к родине, но готовьтесь, дети, я вам должна сообщить ужасную весть; вы найдете то, чего и не знаете: в России вы найдете рабов!" Действительно, нужно преклониться перед такой женщиной-матерью, которая до пятнадцатилетнего возраста своих детей ни разу не упоминала им о рабах, боясь растлевающего влияния этого на сознание детей. Матвей, Сергей, умные мальчики, не знают, что их великолепное образование и благополучие оплачены трудом полутора тысяч полтавских, тамбовских, новгородских рабов. Родные находят, что такое знание может растлить, то есть воспитать крепостника, циника, равнодушного. Итак, сначала благородные правила, не допускающие рабства, а затем — внезапное открытие: страна рабов, оплачивающих, между прочим, и обучение благородным правилам. Разумеется, длинной дорогой, от границы до столицы, мальчики успели надоесть матери (а позже — отцу) вопросами: "Как же так?" Мать... На Большой Никитской улице, в доме 237, в Москве, Анна Семеновна вдруг заболевает и через несколько дней умирает. За гробом — муж и семеро детей. Младшему — четыре года, старшей — девятнадцать. Матери не стало. Кутузов принял командование меньше чем за 8 месяцев до своей кончины. За год до смерти, в апреле 1812, он и не подозревал о том, что главные события его биографии — впереди. Матвей: Бородино, Тарутино, Малоярославец... Сергей: Витебск, Бородино, Тарутино, Малоярославец, Красное, Березина... Ведомость об уборке тел на Бородинском поле (после изгнания французов): "Сожжено было 56811 человеческих тел и 31664 лошадиных. Операция эта стоила 2101 рубль 50 копеек, 776 сажень дров и две бочки вина". Сергею же через два дня после битвы исполнится 15 лет и 11 месяцев. Во время Бородина его держат при главной квартире армии. После Малоярославца молодых офицеров корпуса путей сообщения возвращают доучиваться в Петербург, но Сергей Иванович, к тому времени уже шестнадцатилетний, использует родственные связи — и остается. Его берет в свой отряд муж сестры Лизы — генерал Ожаровский. После сражения при Красном Сергею — золотая шпага с надписью: "За храбрость" К концу года, после Березины, он уже поручик и получает Анну четвертого класса...

Матвей Иванович — 60 лет спустя: "Каждый раз, когда я ухожу от настоящего и возвращаюсь к прошедшему, я нахожу в нем значительно больше теплоты. Разница в обоих моментах выражается одним словом: любили. Мы были дети 1812 года. Принести в жертву все, даже самую жизнь, ради любви к отечеству, было сердечным побуждением. Наши чувства были чужды эгоизма. Бог свидетель тому..." Чем отличался среднестатистический "сын 1812-го" от своих внуков, правнуков, отцов? Как уловить в их речах, записях, манерах, шутках, огорчениях нечто особенное, что позже, при подобных же обстоятельствах, иначе проявлялось? ...Какова была молодежь 1812 года? Ведь можно подыскать письма циничные, проникновенные, поэтические, бездарные. Но, прочитав или хоть пробежав 10, 100, 1000 таких документов, причем написанных не выдающимися, а обыкновенными грамотными молодыми людьми, можно уловить нечто, именуемое "дух времени". Мне вот каким представляется "сын 1812-го": юный, более или менее образованный дворянин, офицер; ему 15-20 лет, но он много взрослее своих сверстников из последующих поколений — служит, видал кровь и порох, выходил на дуэли, имел любовные приключения (или. по крайней мере, так утверждает), ездит верхом, фехтует, танцует, болтает по-французски, немало читал и слыхал еще больше. Эти прапорщики, поручики, воины и танцоры часто пишут и думают так чувствительно, как в наши дни постеснялся бы зеленый школьник. И все же эти юноши были и впрямь чувствительны, воображение их, по теории Ивана Матвеевича, наполняло мир красками. Это сочетание зрелости и детскости поражает при знакомстве с людьми, жившими полтора и более века назад. Если есть эпохи детские и старческие, это была — юная. Пушкин скажет: Время славы и восторгов. Лицейские, ермоловцы, поэты... Часто удивляются, откуда вдруг, "сразу" родилась великая русская литература? Почти у всех ее классиков, как заметил недавно писатель Сергей Залыгин, могла быть одна мать, родившая первенца — Пушкина в 1799, младшего — Льва Толстого в 1828 (а между ними Тютчев — 1803, Гоголь — 1809, Белинский — 1811, Герцен и Гончаров — 1812, Лермонтов — 1814, Тургенев — 1818, Достоевский, Некрасов— 1821, Щедрин — 1826)... Откуда это? Не претендуя на полный ответ, хочу только обратить внимание на одну из причин, которая кажется очень существенной. Прежде чем появились великие писатели, и одновременно с ними должен был появиться читатель. Мальчики, "которые, пустясь в пятнадцать лет на воле", они и были теми, кому нужны были настоящие книги. Они, "по детскости своей", еще не нашли ответов на важнейшие вопросы — и задавали их; а по взрослости — думали сильно, вопросы задавали настоящие и книжки искали не для отдохновения и щекотания нервов. Ну как тут не появиться Пушкину! Равнодушное, усталое, все знающее или (что одно и то же) ничего нс желающее знать общество для литературы страшнее семнадцати николаевских цензур. Последние стремятся свалить исполинов, но при равнодушии гиганты вовсе не родятся на свет. Но довольно об этом. Война не кончилась... Матвей: Лютцен. Бауцен, Пирн, Кульм (рана в ногу, два ордена), Лейпциг, Париж. Сергей: Лютцен (Владимир IV степени с бантом). Бауцен (произведен в штабс-капитаны), Лейпциг (в капитаны), затем состоит при генерале Раевском и участвует в битвах 1814 года: Провен, Арси-сюр-Об, Фершампенуаз — Париж (Анна II класса). Братья-победители: гвардии прапорщик Матвей — неполных двадцати одного года; Сергей — семнадцатилетний капитан (позже, когда перейдет в гвардию, снизится на два чина и будет гвардии поручик). В конце марта 1814 в Париже собралась едва ли не половина будущих декабристов — от прапорщика Матвея Муравьева-Апостола до генерал- майоров Орлова и Фонвизина; одних Муравьевых — шесть человек. Первый "съезд" первых революционеров задолго до того, как они стали таковыми. Кажется, только вчера был пансионат, уроки, куклы с младшими сест- ' рами. И вдруг из детства — в зрелость. Отрочество и юность пройдены ускоренно, как офицерские чины после каждой крупной битвы. Затем 1814 - 1825, как мало арифметически и как много исторически! Только что в походе на Париж царь был во главе их, и вот он — первый враг, и молодые офицеры понимают, что это они призваны принести себя в жертву для того, чтобы их стране и народу было лучше. Братья Сергей и Матвей — в числе первых членов первых обществ. Это были очень хорошие люди. Лев Толстой, не разделяя революционных идей, заметил о Сергее Ивановиче: "Один из лучших людей того, да и всякого времени". Они вовсе не были природными заговорщиками, отчаянными бунтарями. Наоборот, с характером мягким, добрым Сергей и Матвей вслед за Пушкиным могли бы повторить, что "рождены для жизни мирной". Но именно их доброта, чистота не позволили уйти в сторону, присмиреть, переложить тяжесть на других. Им было неудобно, просто невозможно не восстать. 14 декабря 1825 года — Сенатская площадь, поражение северян. 29 декабря Сергей Муравьев-Апостол поднимает на юге Черниговский полк. Отчаянная попытка зажечь другие полки, дивизии, корпуса, но 3 января — поражение. Матвей и раненый Сергей — в плену, двадцатилетний Ипполит убивает себя. 13 июля 1826 года Сергей Муравьев-Апостол, как всегда ободряя других, мужественно и спокойно погибнет на виселице. Столь же уверенно и безусловно утвердившись навсегда в людской памяти.
РАЗМЫШЛЕНИЯ У КНИЖНОЙ ПОЛКИ
Яков ГординЧеловеческая драма Взгляд на историка из сегодняшнего дня
 * Юлия Эйдельман. Дневники Натана Эйдельмана. М., Материк, 2003.
* Юлия Эйдельман. Дневники Натана Эйдельмана. М., Материк, 2003.
Сегодня
На мой взгляд, Эйдельман вел дневник в точном смысле слова. Но это особый дневник, отличающийся от дневников, так сказать, классических, с их подробным описанием происходящего*. Для эйдельмановского дневника характерна неимоверная концентрация разных пластов мировидения — быта и бытия. По трансформации текста от периода к периоду можно определить глубинные изменения во взаимоотношениях автора и мира. Если, оставив в стороне прелестные фрагменты детского дневника, начать с записей 1955 года, то можно проследить этот процесс концентрации, стремительное повышение уровня лапидарности записей. Это соответствовало мощному интеллектуальному "взрослению" Эйдельмана, нарастающей потребности вобрать в себя максимум значимого жизненного материала. Это, если угодно, был процесс превращения историка в историософа и художника. Толстой, к которому Эйдельман относился с глубоким интересом, считая, что без учета толстовской доктрины невозможно понять и воспроизвести последнюю треть русского XIX века, писал, отчаявшись совладать с материалом петровской эпохи: "История хочет описать жизнь народа — миллионов людей. Но тот, кто не только сам описывал даже жизнь одного человека, но хотя бы понял период жизни не только народа, но человека из описания, тот знает, как много для этого нужно. Нужно знание всех подробностей жизни, нужно искусство — дар художественности, нужна любовь". Все это имеет прямое отношение к Эйдельману — и автору дневника, и автору научных монографий, и автору "Большого Жанно". Толстой в 1870-е годы пришел к выводу, что история-наука не в состоянии адекватно передать историческую реальность. Нужна история-искусство. Оставаясь высокопрофессиональным историком, Эйдельман стремительно расширял свои творческие взаимоотношения с прошлым и настоящим. И дневник демонстрирует нам этот грандиозный процесс. Чего стоят только одни списки осуществленных и задуманных работ в разных жанрах. На основе дневника можно было бы реконструировать творческий метод Эйдельмана, восходяший к толстовскому осознанию подробности человеческого бытования в истории. Отсюда бесчисленное количество разнокалиберных фактов, ситуаций, зафиксированных встреч, случайных и принципиально важных разговоров — и все это образует невероятно плотную, насыщенную лаву проносящейся жизни. Думаю, однако, что для широкого читателя важнее другое — личность автора и встающая из этого потока человеческая драма. Дневник запечатлел удивительный и горький "парадокс Эйдельмана", особость его судьбы, не совпадающей с обстоятельствами повседневной жизни. Чем благополучнее становились эти обстоятельства, тем острее ощущается в дневниковых записях нарастание трагедийности восприятия автором себя в историческом потоке. Тому, на мой взгляд, было несколько причин. Разумеется, мучительный "личный фон" играл существенную роль, но не он был определяющим в последнее десятилетие жизни Эйдельмана. У Эйдельмана и глубоко почитаемого им Тынянова был один уникальный общий герой — Павел I. Им жадно интересовался и Толстой, утверждавший в 1867 году — эпоха завершения "Войны и мира"! — что в Павле он "нашел своего исторического геооя".
В "Подпоручике Киже" есть у Тынянова поразительная по точности фраза — Павел осознает, что он "царствует слишком быстро". И Тынянов, и Толстой воспринимали Павла как отчаянного борца с естественным ходом истории. Работая над своей блестящей книгой "Грань веков", Эйдельман другими путями пришел к тому же выводу. Он уверенно апеллирует к яснополянскому мудрецу: "Великий мыслитель видел возможность развить свои любимые идеи; симпатизируя Павлу как личности, даже порой идеализируя его, Толстой тем не менее понимал его обреченность: даже самодержавный царь не может создать то, для чего нет исторической основы. Нельзя (по Толстому) "выдумывать жизнь и требовать ее осуществления". И, внимательно читая дневник, пробиваясь сквозь плотную массу исторических фактов, современных автору событий, личных признаний, пересказов важных и неважных на первый взгляд бесед, мы оказываемся лицом к лицу с трагическим "парадоксом Эйдельмана". Такого, казалось бы, жизнелюбивого, сильного, энергичного Эйдельмана тяготила его яркая, насыщенная жизнь. В дневнике попадаются пронзительные записи. Вот одна из них — обращенная к недавно умершему отцу: "Милый мой, ты слышишь ли меня? Где ты? Сколько еще дней?.. Скорее, Господи!!*! Вот так люди всю жизнь торопят жизнь". В мировидении, а стало быть, и в судьбе Эйдельмана была одна фундаментальная черта, роднившая его с Толстым. Оба они понимали неизбежность естественного хода истории и губительность резкого воздействия на него. Сознание детерминированности событий не снимало изнурительного дискомфорта.
 В редакции "Знание - сила". За шахматами Роман Подольный с Натаном Эйдельманом
В редакции "Знание - сила". За шахматами Роман Подольный с Натаном Эйдельманом
Возникало жестокое противоречие. С одной стороны, Эйдельман-историк изучал и воспроизводил (как говорилось, разными методами) картину прошлого, с другой — Эйдельман-гуманист, человек необычайной доброты и терпимости, обремененный обостренным чувством справедливости, не мог внутренне примириться с неоправданной жестокостью процесса. По прочтении — уже не первом — "Иосифа и его братьев" он записал: "...лучшее — Иосифа везут купцы и учат, что время даст всему вызреть само..." Он понимал, что мудрость — в этом. Но примириться не мог. Отсюда его самоубийственно интенсивная деятельность просветителя, которая еще далеко не оценена. Он "жил слишком быстро". Отсюда неимоверная плотность дневниковой ткани — стремление запечатлеть все, остановить это бесконечное мгновение, называемое историей, чтобы, всмотревшись, разглядеть зерна благородства. Отсюда — гомерические планы: записи, поражающие многообразием будущих тем для книг. Это было не просто талантливое изучение и воспроизведение истории, это была постоянная борьба с реальной историей во имя справедливости. Как ни странно это звучит, но если бы я писал книгу об Эйдельмане, я назвал бы ее "Человек против истории". Толстой, изнемогший (по тем же причинам) в единоборстве с историческим материалом, отринул его и принялся писать "Анну Каренину". У Эйдельмана не было возможности такого маневра. Но он написал "Большого Жанно" — свой вариант истории. Думаю, что это был, быть может, неосознанный подступ к его главной книге — книге вне жанра и с сюжетом вне времени, вернее — во всех временах, концентрат его представлений о справедливом мире. Очевидно, чем дальше, несмотря на, так сказать, стабилизацию внешних обстоятельств, внутренний конфликт становился все определеннее. Это особенно очевидно в дневнике перестроечного периода, когда люди эйдельмановскош круга жили надеждой на благие перемены, а у Эйдельмана появилось множество возможностей, о которых до того не приходилось мечтать. В дневниках за 1970-е — начало 1980-х годов есть немало страшных записей. Это можно объяснить и личными обстоятельствами, и мерзостью политическом, торжествовавшей вокруг. В мае 1977 года: "Кошмарные дни... Мысли о близости конца (одна дама находит, что я похож на смертника) — но я вычислил себе 57-58 лет (Лунин, Пущин, Герцен)". Он мучительно переживал смерть отца, умиранию которого посвящены пронзительные и трогательные записи. Его терзали катастрофические предчувствия, касающиеся судьбы страны. В марте 1980 года: "Апокалиптичность. Ошушение позднеримского конца времен".

Дневник 1984 года — мрачное, мертвое время — заканчивается записью: "Усталость... — и открытия, открытия. Попробую еще пожить". Все это легко объяснимо. Но чем объяснить запись апреля 1987 года: "Усталость, спад, мысли о самоубийстве, 2117 годе, слезы". 2117 год — случайная цифра, увиденный номер впереди идущей машины — двухсотлетие революции, мысль о своей правнучке — еще не рожденной! — которой, возможно, придется жить в том году. И что ее ждет в этой истории? Вообще дневник 1985 — 1989 годов, последнего пятилетия жизни Эйдельмана, удивительный сплав лапидарно, но ярко запечатленных роковых событий и сущностных черт наступающей новой эпохи, которую он, безусловно, приблизил своими книгами и своим неистовым гуманистическим просветительством, энергичной фиксацией бесчисленных творческих замыслов и свершений и безжалостно нарастающего экзистенциального отчаяния. Разумеется, были внешние факторы, отравляющие его жизнь. Его терзало наступление агрессивного шовинизма, которому власть не умела противостоять. Особую роль в его жизни тех лет сыграл тяжелый конфликт с Виктором Астафьевым, которого он высоко ценил как писателя. Эйдельман постоянно с горечью возвращается к этому сюжету Была отвратительная малограмотная травля, развязанная некими А. Мальгиным и Зильберштейном в "Литературной газете" по поводу блистательного "Большого Жанно". Но все это было преодолимо, если помнить об интеллектуальной и душевной мощи Эйдельмана, о сознании важности его дела, о тесном дружеском круге, состоящем из людей незаурядных, о тяге к нему людей новых поколений, о его оглушительной популярности. Все это было преодолимо, если бы здесь не расходились линии жизни и судьбы, судьбы, которую и определяла его библейская по своему масштабу схватка с несправедливостью мировой истории, заставляющая его жить "слишком быстро" и внутренне столь мучительно. Его мистическая уверенность в предопределенности жизненного срока, о котором он пишет в дневнике — смертный рубеж его главных героев: Лунина, Пущина, Герцена, — свидетельствует о его абсолютном психологическом включении в цельный исторический контекст, об отождествлении своей судьбы с судьбами тех, кого он выбрал в качестве эталонных для себя фигур. Дневник куда явственнее говорит о роковой нерасторжимости связей Эйдельмана с историческим потоком, чем ею книги. Он был и ощущал себя отнюдь не просто последователем — он был живым персонажем воссоздаваемой им исторической драмы. В этом была суть его судьбы, отличной от его бытового существования, суть разрыва между бытом и бытием. Он взял на себя неимоверно тяжелую ношу.
Сергей Мейен
За кулисами доисторического ландшафта
"Знание — сила", 1983, № 7
Сергей Мейен появился в редакции в 1967 году и сразу "пришелся", полюбился. Его интересы были так многогранны, что, казалось, статьи не смогут вместить их, хотя в статьях своих был он подробен, обстоятелен и неспешен. Он с жаром говорил и писал о ботанике и палеоботанике, но это была лишь часть его картины мира. И она, конечно, не существовала без представлений об эволюции и ее механизмах, без попыток понять, что есть живое и неживое в природе, как и когда произошло разделение на царства животных и растений, наконец, каким было прошлое планеты и есть ли возможность его увидеть. И на всех статьях лежала печать таланта, а легкость, простота и увлеченность не могли скрыть профессионализм, глубокие знания и огромную эрудицию. Его интерес к вещам, казалось бы, самым разным, словно к цветным осколкам, которые работой и напряжением ума и воображения складываются в великолепную мозаику — целостную систему, — вот, пожалуй, качество, отличающее и отмечающее Мейеиа. В популярных книжках по палеонтологии, школьных учебниках, в краеведческих музеях и вузовских аудиториях видим мы реконструкции доисторических ландшафтов. Иные больше похожи на смесь ботанического сада и зоопарка. На картинке аккуратно рассажены разнообразнейшие растения, между которыми греются на солнышке или прыгают доисторические звери. Чаше же реконструкции более реалистичны. Вот темный лес каменноугольного периода с гигантскими папоротниками и плаунами, среди которых поблескивает спина стромной амфибии. Некоторые из таких картин — настоящие шедевры живописи. Они оставляют у многих сильное впечатление, внушают уважение к тем, кто смог восстановить картины далекого прошлого Земли. Впрочем, нередко попадаются скептики, задающиеся вопросом: "А кто все это видел?" В самом деле, как можно проверить нарисованное? Можно было бы взять одну из распространенных реконструкций и подробно разобрать, привести все те факты и соображения, которые легли в ее основу. Однако это будет скучно. Придется углубляться в морфологию и систематику многих вымерших существ, рассказывать, что и в каком захоронении было найдено и так далее. Потребуется масса специальных терминов, которые надо будет непрерывно пояснять.

Лучше поступить иначе и познакомиться с работой палеонтолога, посмотреть, как он извлекает сведения из окаменелостей, попавших на лабораторный стол. О том. как реконструируют внешний облик животных, писалось не раз. Нередко вспоминают великого французского палеонтолога Жоржа Кювье, впервые использовавшего для восстановления облика ископаемых четвероногих животных закономерное сочетание разных органов — копыт и жвачных зубов у травоядных, когтей и мощных клыков у хищников. Мне бы не хотелось дальше рассказывать о реконструкциях животных, так как с ними публика худо- бедно знакома. Иное дело — растения. На растительный фон реконструкций зрители обычно не обращают внимания, особенно если ландшафт относится к последним геологическим периодам. Ископаемые растения как бы остаются в тени. Необычные звери, какие-нибудь исполинские или рогатые динозавры поражают взор, но трудно кого-нибудь удивить обликом ископаемого растения. Стоит рядом с динозавром какое-то дерево с перистыми листьями, что-то вроде пальмы. Мало кого заставит ахнуть сообщение, что это вовсе и не пальма, а давно исчезнувшее голосеменное растение с замысловатым названием. Главный смысл реконструкции внешнего облика вымерших растений состоит в том, что в них палеоботаник подытоживает свое исследование, представляет растения в таком виде, чтобы их можно было разместить в одной системе с растениями наших дней. Задача, стоящая перед палеоботаником, куда сложнее тех, что приходилось решать Кювье. Растения почти никогда не сохраняются в прижизненном сочетании разных органов. Палеоботаник находит в захоронениях "салат" из листьев, семян, веток, пыльцы. Вся история палеоботаники — это непрерывный пересмотр гипотез о том, каким растениям они принадлежали, как сочетались при жизни. Правда, иногда у растений можно подметить связь между отдельными органами, но и тогда объяснить разумный смысл установленной зависимости не удается Функциональные, причинно-следственные связи между органами приходится подменять простой регистрацией повторяющихся совпадений. Например, если мы найдем в кайнозойских отложениях шишку, устроенную наподобие еловой или сосновой, то мы можем заключить, что у тех же растений не было листьев, а были, скорее всего, иглы. Подвести же под это заключение определенную зависимость, сказать, есть ли таковая вообще, никто не может. Кстати, у некоторых хвойных вместо игл на ветках сидят ланцетные листья напоминающие ландышевые, с множеством параллельных жилок. Есть и хвойные с обычными иглами, но без шишек — семена сидят тут и там поодиночке. Непонятные и неустойчивые, а то и отсутствующие взаимозависимости между органами у растений усложняет еще одна их особенность — параллелизм, то есть поразительное сходство органов разных растений. Например, палеоботаникам нередко приходилось решать, что за побег отпечатался на породе — хвойный, плауновидный или мох. Что же делать палеоботаникам? Как воссоединить разрозненные части растений и как сделать реконструкции доказательными? Все это не праздные и не чисто академические, оторванные от практики вопросы. Без знания прижизненного сочетания частей нельзя получить доброкачественную систематику ископаемых растений. а ошибки в систематике — это всегда ошибки в решении многих геологических вопросов: установлении возраста пород, сопоставлении геологических разрезов, в палеоклиматических палеогеографических реконструкциях.
 Отпечатки и реконструкции верхнепермских и верхнекарбоновых растений
Отпечатки и реконструкции верхнепермских и верхнекарбоновых растений
Отсутствие данных о внешнем облике вымерших растений, о прижизненном сочетании встречающихся порознь частей чревато и серьезными ошибками в понимании всей эволюции растений. Открыв палеоботанические монографии середины XIX века, можно встретить в них описания многих современных групп, в том числе и покрытосеменных (цветковых) растений из палеозойских отложений . Теперь мы знаем, что не было в то далекое время покрытосеменных, они появились лишь в последней трети мезозойской эры. За покрытосеменные палеоботаники принимали изолированные листья, семена, отпечатки коры, а восстановить общий облик растений не смогли. Нечто сходное произошло и с покрытосеменными мелового периода, последнего в мезозойской эре. Находили отпечатки листьев и смело сравнивали их с листьями современных родов. Получалось, что покрытосеменные тогда не только появились и расселились, но и прошли длительный эволюционный путь, достигли уровня организации современных родов. Между тем остатки пыльцы покрытосеменных отнюдь не подтверждают выводов, сделанных по разрозненным листьям. В последние годы были найдены и достаточно детально изучены плоды, соплодия и цветки некоторых меловых и палеогеновых (то есть уже кайнозойских) покрытосеменных. Стали появляться реконструкции того, как были связаны разные органы. Получается, что даже палеогеновые (то есть кайнозойские) покрытосеменные лишь изредка относятся к современным родам. Обычно же это представители особых родов, совмещающих признаки нескольких современных родов одного или близких семейств. Из-за смешения признаков эти вымершие растения называют "синтетическими типами".
 Эти рисунки иллюстрируют ход реконструкции семеносной капсулы вымершего рода голосеменных кардиолепис
Эти рисунки иллюстрируют ход реконструкции семеносной капсулы вымершего рода голосеменных кардиолепис
Интересно, что такие же "синтетические типы" известны среди хвойных в мезозое и кайнозое. И здесь, если обращать внимание только на некоторые разрозненные органы, можно говорить об очень раннем появлении современных родов и семейств. Но лишь только выясняется, каково было прижизненное сочетание органов, то возраст нынешних родов и от части семейств становится менее почтенным. Итак, одна из важнейших практических задач палеоботаники — научиться реконструировать общий облик вымерших растений, устанавливать прижизненную связь частей, попадающих в захоронения порознь. Как это делается? Строго говоря, палеоботаникам нс надо здесь ничему специально учиться. Достаточно систематически, каждый раз, когда открывается возможность, применять простейшие приемы реконструкции, известные с прошлого века и требующие лишь наблюдательности. Условно назовем эти приемы так: поиск аналогии (модели), установление органической свя- *и, прослеживание маркеров, повторное совместное захоронение. Если речь идет о растениях последних периодов, когда не слишком рискованно проводить сопоставление с современными растениями, широко используется метод аналогий. Так, если мы нашли водном и том же захоронении листья и рассеянные между ними окрыленные плодики, причем те и другие не отличаются от березовых, то мы смело приписываем и листья, и плодики одним и тем же растениям, которые обозначаем родовым названием береза. Таким способом редко удается реконструировать достаточно древние растения. Правда, некоторые роды появились сотни миллионов лет назад. Первенство по возрасту принадлежит плаунку (селягинелле) — изящному споровому растению. Этот род обнаружен в отложениях каменноугольного периода с возрастом более 300 миллионов лет. В захоронениях были найдены вместе облиственные побеги, шишечки, споры и все это — как у современных плаун ков. Они и служили в данном случае моделью для реконструкции. Чаще же для столь древних растений моделями служат другие вымершие растения, которые удалось достаточно полно реконструировать иными методами. Наиболее надежный способ узнать о том, какова была прижизненная связь органов, — это отыскать такой экземпляр, на котором они не успели разъединиться. Но природа не слишком щедра на такие подарки палеоботаникам. Некоторые находки производили сенсацию в ботаническом мире. В 1960 году американец Ч. Бек сообщил, что в девонских отложениях он нашел находящиеся в органической связи стебли, относимые к высокоразвитым голосеменным, и вайи, приписывавшиеся архаичным папоротниковым растениям. Так была установлена группа прогимноспермов, считающаяся теперь предковой по отношению ко всем семенным растениям. Иногда установление прижизненной связи частей требует от палеоботаника преодоления серьезного психологического барьера. Мы привыкаем к определенному сочетанию листьев и органов размножения, отказаться он него бывает очень трудно. В раннемезозойских отложениях Европы встречаются листья, сходные с гинкговыми. Вместе с ними давно находили веточки с пучками спорангиев — несомненные мужские органы размножения тех же растений. А найти женские органы размножения никак не удавалось. Лишь много лет спустя выяснилось, что они были в захоронениях. попали на страницы монографий и получили свое название. У гинкговых семена сидят на концах тонких веточек, а здесь семеносные органы были пластинчатыми и парными. Семена сидели на пластинках в два ряда. Предположение, что у растений с гинкгоподобной листвой могут быть столь необычные семеносные органы, даже не приходило никому в голову. Не берусь говорить от имени всех своих коллег-палеоботаников, но для меня реконструкция прижизненного облика растений — самая интересная работа. Здесь каждый шаг — маленькое открытие, хотя иногда и разочарование — не все гипотезы оправдываются. Эта работа как разгадывание кроссворда на страницах геологической летописи. Рассеянные части растений комбинируешь и так, и этак. Чтобы найти маркеры, приходится прибегать к сложным методам исследования. Выявить общий маркер — все равно что не ошибиться в общей букве, соединяющей слова в кроссворде. Мгновения, когда вдруг ощущаешь, что все сошлось и все правильно, когда в это поверили и коллеги, — высокая награда в скрупулезной работе по реконструкции растений. Результаты подобных изысканий имеют немалый научный смысл. Реконструкция растений чаще всего не главный, а побочный продукт палеоботанической работы. Это маленькая привилегия палеоботаника — среди повседневной рутинной работы по обслуживанию геологических работ находить отдушины, питающие ум.
ОТКРЫТИЕ!
Надежда АлексееваТеплой полярной ночью

Геологи подозревали, что Арктический бассейн в меловой период был... теплым. Но доказать это им до сих пор не удавалось. Это удалось — с цифрами в руках! — сделать палеоботаникам, ученикам и последователям Сергея Мейена. Работой руководил Алексей Борисович Герман, нынешний глава лаборатории, которую некогда возглавлял С. Мейен. Новую карту Северного полушария мелового периода можно посылать в школы. Картина мира опять несколько изменилась. Шесть недель темной полярной ночи. Еще несколько недель на пару- тройку часов ночной мрак сменяется серыми сумерками. И вот наступает долгожданный момент: над краем горизонта вспыхивает солнце! Вечные льды, белое безмолвие зимой и летнее буйство карликовой растительности, успевающей за три-пять недель расцвести, дать потомство и отмереть. А если вам сказать, что под низким полярным небом раскинулсяпросто сад Эдем? И зимние температуры не опускаются ниже ноля? Вы поверите? Не знаю. Но, тем не менее, это было. В середине мелового периода Арктический бассейн был теплым. Об этом говорят многие геологические и палеонтологические данные: отсутствие ледниковых отложений, крупные угленосные пласты, теплолюбивая морская фауна. А самое главное об этом расскажут обычные листья листопадных растений, росших некогда по берегам этого бассейна. Как и у современных, у тех древних цикадовых деревьев сезонный цикл заканчивался сбросом листвы. Слой опавших листьев накапливался, постепенно перекрывался грунтовыми наносами, и, в конце концов, становился ископаемым. Можно ли получить по ним не только качественные, но и количественные характеристики древнего климата? Этот вопрос через много миллионов лет задали себе ученики и продолжатели исследований Мейена.
 Гипотетическая реконструкция основных морских течений в Северном полушарии в позднем мелу
Гипотетическая реконструкция основных морских течений в Северном полушарии в позднем мелу
Давно установлено, что самые чувствительные индикаторы климатических условий — растения. Они непосредственно взаимодействуют с окружающей средой — атмосферой и почвой. Чтобы выжить в изменяющихся условиях, не способные убежать в поисках лучших мест, они вынуждены приспосабливаться, меняя свое морфологическое строение. Как качественные, так и количественные характеристики климата можно получить, изучая систематический состав древних флор (этот профессиональный термин объединяет всю растительность данной местности; слово может непривычно принимать форму множественного числа): жизненные формы растений, форму и текстуру листьев, строение корневой системы и ископаемой древесины. Отдельные морфологические признаки древних растений однозначно или с большой степенью вероятности свидетельствуют об особенностях климата, в котором растение существовало. Однородность древесины характерна для растений тропического безморозного климата, а годичные кольца говорят о его сезонности. Современные мангры встречаются лишь по берегам тропических морей, поэтому признаки, говорящие о принадлежности растений к манграм, свидетельствуют о тропическом климате их произрастания. Мелкие кожистые листья растений обычно характерны для сухого климата, а оттянутые верхушки листа ("капельное острие") часто встречаются у деревьев муссонного или влажного тропического леса. Толстая кожица, опушение, мелколистность. подвернутость края листа обычно рассматриваются как свидетельства водного дефицита, однако ксероморфные признаки могут отражать не засушливый климат, а физиологическую сухость, избыток прямого солнечного света и недостаток азотистого питания, приспособление к арктическим и альпийским условиям. О параметрах климата можно судить и по разнообразию флоры: оно тем выше, чем более теплым и влажным является климат. Так есть сейчас и, очевидно, так было в прошлом. Для реконструкции климата недалекого геологического прошлого палеоботаники обычно сравнивают ископаемые растения с ближайшими или сходными из ныне живущих, и, зная условия произрастания современных, делают выводы о климате прошлых эпох. Но большинство современных видов растений имеет возраст не более 10-12 миллионов лет, а родов — 20-25 миллионов лет, поэтому такой метод используется в палеоклиматологии только для последних нескольких миллионов лет. Для более древних времен он обычно не годится: слишком мало растения того времени похожи на современные, слишком неопределенны и гипотетичны их "климатические приоритеты". Гораздо более надежны, по всей видимости, методы, в которых учитывается строение листьев ископаемых растений. Еще в начале прошлого века ботаники заметили, что среди древесных цветковых растений тропиков больше, чем в умеренных широтах, видов с цельным краем листа. Крупные листья характерны для растений влажных и теплых мест, мелкие — для растений жарких или холодных сухих. Сходные типы климата налагают на растения сходные физические ограничения. Поэтому различные виды, произрастающие в одинаковых, но разделенных в пространстве и во времени климатах, вырабатывают сходные морфологические признаки. Говоря "дождевой тропический лес", "тайга" или "тундра", мы подразумеваем растительность вполне определенного облика и вполне определенной климатической приуроченности, вне зависимости от состава слагающих ее растений.
 Листья платанообразных из позднего мела Анадырско-Корякского субрегиона
Листья платанообразных из позднего мела Анадырско-Корякского субрегиона
Российский ученый Алексей Герман изучал растительный мир прошлого самыми современными методами, позволяющими сопоставлять морфологические особенности листьев с количественными параметрами климата: средняя температура самого теплого и холодного месяца, количество осадков, продолжительность вегетативного периода и так далее. Ему удалось реконструировать климатические условия позднемеловой эпохи (74-107 миллионов лет назад) на территории Евразии и Аляски. Материалом для исследования послужили многочисленные коллекции растительных остатков (несколько тысяч экземпляров) из меловых отложений тех мест. Среди прочего выяснилось, что Арктический бассейн в середине мела был теплым и, по-видимому, если в нем и образовывался лед, то лишь в весьма незначительном количестве: нигде не было найдено следов ледниковых отложений этого возраста. О теплом и влажном климате меловой Арктики свидетельствуют и крупный пояс угленакоплений в северных высоких широтах. Влажный климат Арктики в меловом периоде, видимо, свидетельствует о существенно иной структуре атмосферной циркуляции и ином распределении атмосферных осадков. Средняя температура наиболее теплого месяца 20,4 градусов и наиболее холодного месяца 5,8 для арктических флор кажутся невероятными. Однако если предположить, что основной контроль температурного режима в этой части Арктики принадлежал влиянию теплого Арктического бассейна, это уже начинает восприниматься по-другому. Как отмечает в своей работе А. Герман, Арктический бассейн, по-видимому, смягчал сезонные температурные колебания вблизи побережья, "добавляя" в атмосферу некоторое количество тепла в летний сезон и существенно повышая зимние температуры, не давая им в темный зимний период опускаться ниже нулевой отметки и местами меняя экваториально-полярный температурный градиент на противоположный. Наклон земной оси в то время, скорее всего, не отличался от современного — значит, в высоких широтах солнце зимой, как и сейчас, скрывалось за горизонтом на широте 85° на целых четыре месяца. Высокое испарение с поверхности теплого Арктического бассейна должно было порождать сильную облачность, прибрежные туманы и обильные дожди в прилегающих к нему районах. Чем объяснить все эти чудеса? Ученые предположили, что Арктический бассейн в тот период "подогревался" теплыми водами из низких широт, поступавших, очевидно, по Западному Внутреннему проливу на Северо-Американском континенте. Российский ученый Д.П. Найдин, изучавший меридиональные связи морской биоты в Северном полушарии в позднем мелу, показал, что Западный Внутренний пролив, вместе с системой Тургайский пролив — Западно-Сибирское море. "... регулировали характер водных масс низких и высоких широт. Они были активными меридиональными терморегуляторами. При их посредстве тепло доставлялось в полярные широты, что существенным образом влияло на климатические условия Палеоарктики". Приблизительно 90 миллионов лет назад существовала Берингийская суша (Берингийский мост), Арктический бассейн был изолирован от Прото-Пацифики, зато открыт меридиональный Западный Внутренний пролив, по которому, вероятно, тепло и переносилось морскими течениями из экваториальной области в Арктический бассейн. По мнению А. Германа, мощное теплое морское течение могло возникнуть благодаря Северо-Пассатному течению, пересекавшему с востока на запад в низких широтах океан Тетис и Центральную Атлантику. Все это и определило основные черты палеогеографии арктического региона. Примерно так же современный Гольфстрим определяет умеренно теплый климат, не свойственный для высоких широт, на территориях Северного полушария, подверженных его влиянию. Отток вод из Арктического бассейна мог, по-видимому, происходить по Атлантическому проливу (между Фенноскандией и Гренландией) и проливам, соединявшим бореальное Западно-Сибирское море с Тетисом. В познании прошлого нет отдельных обособленных дисциплин — в этом был убежден Сергей Мейен, память о котором нежно хранят в его лаборатории его ученики и последователи. В 1967 году ученый рассказал читателям нашего журнала о загадке ископаемой тропической зоны: "На пермско-каменноугольной карте на долготе Америки и Западной Европы ширина ископаемой тропической зоны — 6-8 тысяч километров. На долготе Памира зона сужается до тысячи километров. К тому же почти вся эта зона располагается в северном полушарии! Зато южное полушарие ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ занято единой южной внетропической, возможно холоднолюбивой, "глоссоптериевой" флорой... Растения ясно говорят: южная граница тропических флор за эти миллионы лет последовательно уходила (относительно Индии) все на юг и на юг..." Объяснение этому парадоксу он нашел в теории плитотектоники. Через много лет ученые его школы перекроили карту Северного полушария древности, окончательно, с цифрами в руках, доказав существование в нем огромного теплого морского бассейна.
МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Вячеслав Шупер
Время Курдюмова Воспоминания о хрустальном дворце
 С. П. Курдюмов
С. П. Курдюмов
В сентябре 1982 года проходила первая в нашей стране конференция по синергетике — новому научному направлению, нацеленному на создание общей концепции поведения систем различной природы. В том же месяце в "Знание — сила" появилась первая из серии статей, посвященной згой дисциплине: одна из первых в мире попыток популярно рассказать о синергетике. Автором многих статей серии был член-корреспондент РАН Сергей Курдюмов. О нем вспоминает другой постоянный наш автор и друг редакции. Хрустальный дворец как таковой никогда не существовал. Но великая наука, которая не могла быть создана только великими ассигнованиями, в нашей стране была. Она существовала благодаря великим ученым, и сама порождала их. Они решали задачи, поставленные Партией и Правительством, но при этом добывали научное знание о мире, бесценные крупицы объективной истины. Среди всех этих замечательных ученых были и те, которым мы обязаны не только исключительно ценными научными результатами, но и самой наукой — той республикой духа, в которой мы находили свободу и демократию, преданность научной истине и равенство всех перед ней, доброжелательный патернализм в рамках научных школ, помогавший молодым ученым встать на ноги, сформироваться, а в дальнейшем, возможно, идти уже своим путем. Науку, как хрустальный дворец, построенный на самых возвышенных ее идеалах, создавали совсем немногие; теперь их не осталось почти совсем. Одним из последних ушел от нас Сергей Павлович Курдюмов (1928-2004). Сергей Павлович был самым ярким романтиком науки среди всех, кого мне приходилось встречать за три десятилетия научной работы. Придя в Институт прикладной математики АН СССР фактически вместе с его основателем М.В. Келдышем (1911-1978), он со временем стал лидером такого мощного и перспективного направления, как синергетика, автором подлинных открытий в этой области. Он и возглавил институт в самое трудное для него время, когда нечем было платить за воду и электричество, когда Академия вроде бы дала на это деньги, но потом забрала их обратно, после чего у С.П. случился сердечный приступ. Наука для С.П. была совершенно свободна от полосатых шлагбаумов, разделяющих различные предметные области. Именно это создавало ему свободу нестесненного и плодотворного междисциплинарного общения, формы которого были предельно разнообразны: семинары на "своей" или "чужой" территории, самые необычные междисциплинарные проекты, а прежде всего — готовность слушать любых собратьев по науке и говорить перед представителями любых дисциплин — философами или востоковедами, психологами или экономистами. Ученые, работающие в самых различных областях знания, считают себя его последователями и учениками. Отечественная модель организации науки, со всеми ее достоинствами и недостатками, так же коренится в отечественной истории и культуре, как существовавшая на протяжении многих десятилетий модель экономики. С той только разницей, что она оказалась несравненно успешней, чем плановое хозяйство. Во Франции формирование научных школ фактически запрещено на законодательном уровне — по Закону о мобильности научных кадров, в случае освобождения вакансии Директора лаборатории, никто из сотрудников данной лаборатории не может на нее претендовать, новое начальство всегда прибудет со стороны. Что ж, это вполне естественный подход для людей цивилизованных и посредственных. Разве в нашей науке в самые лучшие ее времена не процветал махровый фаворитизм? Практически все наши зарубежные коллеги с удивлением и завистью воспринимают нашу свободу междисциплинарных контактов, рассматривая ее как проявление непонятной русской души, вроде широких застолий и разгильдяйства. А ведь сами мы так привыкли к этой свободе, что давно перестали ее замечать, тем более ценить, как никогда не ценили цивилизованные люди свободу открыто выражать свои взгляды или выезжать заграницу. Научные школы тоже воспринимались нами как нечто совершенно естественное (научная безотцовщина возможна, но прискорбна), а ведь они были нашим бесценным достоянием и отношения между учителями и учениками зачастую служили важнейшими конструкциями хрустального дворца. Увы, все лучшее, что было и, может быть, еще остается в отечественной науке, коренится в структурах и идеологии традиционного общества, выковавшей русскую интеллигенцию с ее представлением об общественном долге, который должен стоять превыше заботы о личном, нестяжательством, высокой духовностью и нетерпимостью к чуждым мнениям, воинствующим неприятием власти и стремлением к рациональному переустройству мира, доходящим до маниловщины идеализмом, отсутствием осознания ценности собственной личности при готовности героически отстаивать права других. Великие идеи Просвещения на российской почве породили интеллигенцию как слой, одинаково враждебный власти и народу, срывавший демократические реформы просвещенного абсолютизма, ввергший страну в кошмар диктатуры пролетариата, частично уничтоженный этой диктатурой, частично ею преображенный. С.П. Курдюмов по происхождению, воспитанию и образу жизни был типичнейшим русским интеллигентом. Одевался тщательно и старомодно, не уделяя ни малейшего внимания своему гардеробу. Снимал шляпу, целуя руку даме, и при этом был лишен малейшей склонности к донжуанству. Щедро раздавал книги из своей библиотеки. Всегда готов был материально помочь любому аспиранту или молодому ученому и считал это своим долгом. А уникален он, пожалуй, тем, что в нем не только расцвели все лучшие черты нашей интеллигенции, но даже далеко не самые симпатичные ее качества благодаря исключительным свойствам его личности каким-то непостижимым образом преобразовались в нечто позитивное, приятное и полезное для окружающих, ценное для науки. Идеализм проявлялся как исключительное прекраснодушие, желание видеть в людях только хорошее и иногда даже вызывавшее улыбку стремление всем помочь. На первых думских выборах (1993) С.П. голосовал за партию "Женщины России" с совершенно невнятной политической платформой, потому что женщин обязательно надо поддержать. Фанатичное неприятие власти чудесным образом превратилось в отвращение ко всякой казенщине, чинопочитанию, административному произволу и бюрократическому давлению на науку. С.П. мыслил и действовал как типичный интеллигент-народник, защищая и научную молодежь, и вполне зрелых ученых от произвола чиновников от науки и просто чиновников. Если в мрачные времена тоталитаризма защищать приходилось отдельных людей, то сейчас — целые институты и даже саму Академию наук. Постепенно мы становимся иностранцами в своей стране. Мы помним, как лет пятнадцать назад молодые ученые, приезжавшие из стран Запада, были скорее потрясены, чем восхищены возможностью непринужденно общаться с Директором Института прикладной математики им. М.В. Келдыша, в том числе и у него дома и даже получить в подарок коробку конфет. Они рассчитывали увидеть его издали, а если повезет — послушать его выступление откуда- нибудь из задних рядов. Возможность отнимать время у ученого такого уровня своими незрелыми идеями практически для всех желающих была, безусловно, невероятным расточительством. Но именно благодаря этому выросли мы и сформировались наши взгляды. Сейчас время другое и владелец коммерческой структуры, в которой работает всего несколько человек, в заключение лекции предлагает задать вопросы, предупреждая при этом, что после лекции он на вопросы отвечать не будет. Время — деньги. Наши студенты старше нас. Они все это усвоили еще в детстве и редко страдают романтическими порывами. Но нам повезло больше, чем им, ведь на нас с невообразимой по нынешним временам щедростью тратили время такие ученые, как Курдюмов.

В любой области знания в период творческих исканий были люди, которые не только получали ценные результаты и задавали образцы научной работы, но и создавали атмосферу праздника, захватывающей и интересной игры, целью которой было постижение объективной истины. Автор провел самые счастливые голы своей молодости в Лаборатории экологии человека Института географии АН СССР. Ее заведующий Ю.В. Медведков, фактически вытолкнутый из страны, ныне профессор в Колумбусе, штат Огайо, был одной из самых ярких фигур в отечественной географии в 70-е годы. Атмосфера еженедельных семинаров в лаборатории была непринужденной; всем присутствующим предлагали чай с булочками. Вольный дух дискуссий и высокий их уровень сделали лабораторию центром новаторской географической мысли. И здесь мы находим ту же щедрость не только по отношению к ученикам, но и ко всем без исключения прихожанам. И тот же демократизм, готовность отчаянно спорить с собственными учениками (с непредсказуемым результатом) вместо того, чтобы поставить их на место. Именно такие семинары, прежде всего, формировали будущих соратников С.П. Курдюмова, ставших пропагандистами идей синергетической революции в своих науках.

В 80-е годы блистательный экономико-географ Б.Н. Зимин (1929- 1993), по состоянию здоровья почти не выходивший из дома, еженедельно собирал у себя изрядную группу аспирантов и молодых кандидатов, чтобы напоить чаем с пирожными и конфетами (и то, и другое тогда было дефицитом) и прочесть очередную лекцию из своего новаторского курса по географии промышленности, такого же яркого и необычного, как его автор. Наука движется вперед, прежде всего, благодаря людям, которые отдают ей почти все, и даже если сами получают совсем немного, то все равно считают себя счастливыми. Много ли их осталось сейчас? Наука исторически была детищем университетов, а университеты — детища церкви. В университетах Англии целибат был отменен только в 1854 году, но неофициально соблюдался еще многие десятилетия. Об этом родстве забывают сейчас иногда даже те, кто облачается в торжественных случаях в пышную мантию, поразительно напоминающую епископскую. Наука — не обанкротившаяся фирма, нуждающаяся в услугах кризис-менеджеров, и подлинные причины ее бедственного положения следует искать не в ней, а вне нее. Как и церковь, она приходит в упадок от угасания веры, в данном случае — в объективную истину, в саму познаваемость мира, которая требует веры, как всякая аксиома. Если люди становятся равнодушными к истине и интересуются только эффективностью, науке не помогут никакие ассигнования и никакой менеджмент. Угасание веры в объективную истину, исчезновение всякого пиетета по отношению к науке имеет ту же причину, что и угасание всякой веры. Причина эта — в восстании масс, описанном еще X. Ортегой-и-Гассетом (1883-1955), в их нежелании далее следовать за элитами, в стремлении опустить все до уровня своего понимания и своего вкуса. Модель развития России должна была бы быть основана именно на противостоянии восстанию масс, неизбежное следствие которого — катастрофическое падение интеллектуального уровня. Богатые могут позволить себе роскошь быть глупыми, бедные — нет. Печальная истина состоит в том, что с дьяволом приходится играть по его правилам, иначе можно оказаться в положении карася-идеалиста, решившего рассказать щуке про добродетель. В условиях информационного общества, когда рационализм становится не только ненужным, но вредным, ибо манипулирование общественным сознанием несовместимо с институтом рациональной критики, нужны смелые шаги, далеко выходящие за рамки классических представлений о рациональности. Восстановление фундаментальных исследований требует на порядок больше времени, чем прикладных. Почему бы не попытаться руками информационного дьявола распространить в обществе страх перед исчерпанием наличного фундаментального знания для дальнейшего развития прикладных исследований и технологий? Это уж никак не менее обосновано, чем угроза исчерпания различных видов природных ресурсов, включая энергетические, или разрушения озонового слоя — благоглупости, на которые тратятся миллионы. В 70-е годы среди американских экономистов был популярен афоризм: "Плановая экономика — как говорящая лошадь. Странно, прежде всего, то, что она существует". Но никто никогда не говорил ничего подобного о советской науке, организация которой была уж никак не менее противоестественной. Власть нуждалась в науке и понимала это, поэтому мнение тех, кто занимал в науке высокое положение, стоило немало. Сказать, что советская модель организации науки была экстенсивной, значит сказать мало. Хрустальный дворец имел ярко выраженные сюрреалистические черты в духе Кафки, очень точно описанные в некоторых романах братьев Стругацких. Именно царивший в АН СССР кромешный бардак позволял одним решать интереснейшие научные задачи, другим — ловить рыбку в мутной воде, делая карьеру на критике буржуазных теорий, как правило, не утруждая себя сколько-нибудь основательным знакомством с ними, третьим — и их было большинство — просто бездельничать. В советские времена все что-то воровали у государства. Ученые воровали время, которое лучшие из них использовали как творческий отпуск. Незримая автономия науки в условиях тоталитарного режима иногда становилась вполне очевидной: хотя мерзостей в АН СССР было через край, А. Д. Сахаров так и не был из нее исключен, несмотря на сильнейшее давление партийного руководства. Советская модель организации науки не могла, подобно улыбке чеширского кота, существовать отдельно от того строя, при котором она сформировалась. Но сейчас, даже не сейчас, а более десяти лет назад, необходимы были талант, мужество и политическая воля для творческих поисков новой национальной модели организации науки. Этого сделано не было. С.П. Курдюмов с горечью говорил, что молодые реформаторы-экономисты считают нашу науку серой, а это если и справедливо, то только но отношению к той области науки, к которой они сами принадлежат. Копировать зарубежные образцы организации науки и высшего образования, эффективность которых значительно менее очевидна, нежели эффективность экономик этих стран, и уж совсем не очевидна их пригодность для России. Либо, наоборот, дать отечественной науке умереть естественной смертью, помогая ей лишь наркотиками для облегчения страданий — два пути наименьшего сопротивления. И оба ведут к поражению. Ведь даже не поставлена великая цель, рождающая великую энергию. Но мы — всего лишь очередное звено в социальной эстафете, порожденной великим чудом возникновения науки Нового времени. Мы — наследники Просвещения и не вправе отречься от него. Мы должны защищать науку как последнюю цитадель веры в Разум. Только пример церкви, пережившей и гонения, и равнодушие, может позволить нам сохранять тот оптимизм относительно судьбы науки, который завешал нам С.П. Курдюмов. В оформлении статьи использованы работы В. Бреля
ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ
Георгий Малинецкий
Пределы синергетики

Испытание будущим
Дело будущего — быть опасным, и следует считать заслугой науки то, что она снабжает будущее качествами, которые помогут ему сослужить свою службу. Э Валлерстайн
Мода на синергетику в определенных научных кругах, вероятно, во многом порождается кризисом, в котором находится на рубеже XXI века и наука в целом, и философское познание. Заканчивается эра экстенсивного развития, исчезает возможность вести исследования по всему фронту и воплощать знание в технологиях без каких-либо ограничений. Необходимо делать выбор, редактировать поле возможностей, накладывать ограничения на технологии, исходя из принимаемых смыслов, ценностей, образа желаемого будущего. При этом появляется острейшая потребность в междисциплинарном диалоге, так как смыслы и ценности, представления о желаемом будущем — предмет гуманитарных дисциплин. Но они во многом зависят от картины мира и технологий, определяемых прежде всего естественно-научными исследованиями. Приходит время постнеклассической науки (в понимании В. Степина). В философском познании ясно выделяются две линии. Первая связана с представлением о возможности выделить наиболее важные причинно-следственные связи (в идеале — законы), отбросив второстепенное. Условно ее можно назвать линией Ньютона. Второй взгляд предполагает, что все одинаково существенно (или несущественно) и выделить главное в принципе невозможно. Имея в виду картезианский взгляд на физические явления, ее можно было бы назвать линией Декарта. Имея в виду опыты постмодернизма, номадологический проект, представления о деконструкции, равнозначности множества текстов, интерпретаций, субъективности типа упорядочения — линией Дерриды. Синергетика в своем подходе к реальности, конечно, развивает линию Ньютона. Одно из ее ключевых понятий — понятие о параметрах порядка: ведущих переменных, параметрах, процессах, сущностях, которые возникают в ходе самоорганизации и определяют динамику системы. Утрируя, можно сказать, что параметры порядка — это главное в системе, и само их наличие во многом делает возможным научное познание объекта. Синергетика развивается в результате синтеза предметного знания, философской рефлексии и математического моделирования. У моделирования многовековой опыт анализа процессов, идуших в разных временных масштабах. Выделение быстрых и медленных переменных стало классикой со времен Лапласа. Развитие синергетики позволило увидеть множество других возможностей развития процессов во времени. Это прообразы, вспомогательные инструменты, используя которые можно описывать и исследовать различные сущности. С.П. Курдюмов и его научная школа работали с идеей темпомиров. В нелинейной среде с сильной положительной обратной связью процессы в разных участках могут идти в разном темпе, быть локализованы в пространстве и поэтому идти независимо (это близко к картине практически независимого развития цивилизаций, которую часто имеют в виду, разрабатывая в философии истории цивилизационный подход). Синергетика позволяет совершенно по-другому подойти к классическим парадоксам, связанным с необратимостью. Наконец, недавно построенная теория русел и джокеров позволяет рассматривать объекты, которые в разных состояниях имеют разный горизонт прогноза и требуют иногда детерминированного, а иногда вероятностного описания (иначе говоря, для таких объектов в разных состояниях время течет по-разному). Тут и возникла сверхзадача, которая, вероятно, во все большей степени будет определять и развитие синергетики, и всей науки в целом: проблема долгосрочного прогноза, исследование доступных цивилизации альтернатив исторического развития. Ограниченные возможности биосферы вынуждают сменить весь набор базовых технологий, обеспечивающих существование человечества. Причем прежде всего это касается социогуманитарных технологий, технологий управления и только потом — сельскохозяйственных, промышленных, информационных и прочих. К сожалению, исполнилось пророчество В. И. Вернадского — человечество действительно стало геологической силой, не став при этом стратегическим субъектом, готовым взять на себя ответственность за собственную судьбу. "Общество риска", которое прогнозировал немецкий соииоло1 Ульрих Бек, после Чернобыльской аварии стало реальностью. От этого вызова нельзя уклониться. Отсутствие решения ключевых проблем тоже станет решением. Скорее всего неудовлетворительным.
Семиодинамика — прошлое и будущее синергетики
Это переплетете индивидуальной и коллективной памяти увеличивает срок нашей жизни, продлевая ее вспять по времени, и представляется нам обещанием бессмертия. У. Эко Разработка нового междисциплинарного подхода — семиодинамики, науки о законах развития знаковых систем, была начата задолго до того, как в нашей стране получили известность работы Ильи Пригожина и брюссельской научной школы и работы Германа Хакена и его коллег. Рациональное, логическое составляет лишь небольшую часть того, что требует осмысления в семиодинамике. И сам Р. Г. Баранцев, крупный ученый, идеолог нового направления, в последних работах огромное внимание уделяет целостности, гармонии рационального, эмоционального и интуитивного освоения мира. Передний край синергетики движется в сторону семиодинамики. Это, например, динамическая теория информации, которой удается определять распространение по территории языков, религий, зон влияния разных цивилизаций. В работах Б.Н. Пойзнера развивается эволюционная теория культурных и научных образцов, поразительно близкая к теории биологической эволюции. Идея "количественной истории", клиометрии выдвигалась выдающимся французским историком Фернаном Броделем и развивалась его научной школой. Его глубокий количественный анализ мира Средневековья на много лет предопределил магистральный путь исторического анализа Однако, развивая эту традицию, теоретическая история претендует на большее: выделение параметров порядка в историческом процессе на различных временах и масштабах, моделирование, дающее не только новые инструменты для ретроспективного анализа. Она призвана давать исторический прогноз, возможность предвидеть. Разработка теоретической истории — одна из междисциплинарных сверхзадач для всей науки. За прошедшее десятилетие в этом направлении удалось очень значительно продвинуться. Особенно интересны работы С. П. Капицы, посвященные моделированию глобального демографического перехода; в этих исследованиях оказ&аась востребована теория режимов с обострением, созданная С. П. Курдюмовым и его научной школой для задач из совсем другой области — физики плазмы и газовой динамики. Другие ученые выдвинули базовые математические модели многих исторических процессов. Мост между естественно-научной и гуманитарной культурами сейчас начал строиться не только "со стороны естественников" (как это обычно и бывает), но и "со стороны гуманитариев". Синергетические идеи используются в работах по стратегическому планированию, в которых воплощены идеи параметров порядка — главных факторов, а также согласование геополитических, геоэкономических и геокультурных аспектов прогноза. Впервые в анализе социально-экономических и социально- политических систем использовались синергетические теории жесткой турбулентности и самоорганизованной критичности. И все же теоретическая история представляется рубежом, путь к которому в синергетике пока не пройден.
Синергетика и технологии, меняющие реальность
В свою очередь фундаментом наших гипотетических потрясении будут технологии, то есть обусловленные состоянием знаний и общественной эффективностью способы достижения цели, поставленных обществом, в том числе и таких, которые никто, приступая к делу, не имел в виду. С. Лем. Сумма технологииНовые технологии несут и новые возможности, и новые опасности. Синергетика и в разработке самих технологий, и в решении вопроса, следует ли ими пользоваться, может играть ключевую роль. Множество новых технологий активно используют эффекты самоорганизации либо открывают возможности для возникновения новых типов самоорганизации (яркий пример — сотовая связь). Совершенно необходимо теперь учитывать системные эффекты, обусловленные внедрением нового способа воздействия на общество, человека, государство. И решать здесь множество возникающих проблем без математического моделирования, без стратегического прогноза, без представлений о целом опасно и неразумно. Человечество вступило в новые области пространственных, временных и иных масштабов, где нет опыта, а "здравый смысл", интуиция, вырабатывавшиеся на основе анализа иных ситуаций, могут оказаться очень плохими советчиками. (Например, ядерные отходы, которые производят атомные электростанции, будут представлять угрозу и на времена в 100 тысяч лет. Большой спектр опасностей таят в себе биотехнологии и т.д.) Наконец, концепция устойчивого развития в "технологическом пространстве" означает, что нам придется изменить почти весь набор системообразующих технологий. И на всю эту грандиозную научную, техническую, социальную работу нам отпущено всего несколько десятилетий! Речь идет, например, о технологии управлении риском природных и техногенных катастроф, социальных нестабильностей. С одной стороны, опасно и неразумно не рисковать. С другой — в современном мире мы все чаще сталкиваемся с эффектами синергетического усиления нестабильностей, когда беда в одной сфере жизнедеятельности влияет на многие другие и с усилением возвращается в ту сферу, где она возникла. В 2002 году Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН и десять других академических институтов предложили создать Национальную систему научного мониторинга опасных явлений и процессов в природной, техногенной и социальной сферах. Такая система могла бы собрать воедино информационные потоки, знания и модели, усилия экспертов и специалистов по государственному управлению.

В развитых странах готовится большой технологический скачок, который ожидается в ближайшем десятилетии. Он связан с переходом к нанометровым пространственным масштабам. (1 нанометр — 10~5 м). Сегодня трудно прогнозировать последствия этого технологического скачка. Например, экономический эффект от внедрения компьютерных технологий в системы управления оказался очень и очень скромным вопреки ожиданиям и экономическим прогнозам. Тем не менее возможные результаты могут быть фандиозны. Это, к примеру, новое поколение систем диагностики и лечения, способных увеличить продолжительность активной жизни на десятки лет. Это новые виды вооружений, которые могут сделать неэффективными многие существующие виды оружия. Это новые поколения материалов, в частности, "умные материалы", способные адаптироваться к происходящим изменениям. И это тоже предмет для моделирования, системного анализа, стратегического прогноза для синергетики. Но исследования в должном масштабе в России в настоящее время не развернуты (структура управления, в том числе и научного, не готова работать с ориентацией на будущий технологический прорыв), опасности отставания в этой сфере, которое закладывается сейчас, не поняты. В нашей стране сфера нанотехнологий — еще не взятый рубеж синергетики. Хотелось бы верить, что в ближайшие годы удастся шагнуть за этот предел. В оформлении статьи использованы работы В. Бреля
МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Раиса Берг
Корреляционные плеяды
"Знание — сила", 1970, № 9
В 1967 году в журнале "Знание — сила" была напечатана первая научно-популярная статья Раисы Львовны Берг. За ней последовали другие. За время сотрудничества с журналом Раиса Львовна опубликовала пять статей, вошедших в золотой фонд наших публикаций. В них излагались вещи, лишь недавно в то время допущенные в широкую печать: основы наследственности, теория стабилизирующего отбора. Назначение разных частей цветка различно. Пылинки выдают пыльцу, тычиночные нити подводят ее к определенному участку на теле насекомого. Рыльце снимает пыльцу, столбик обеспечивает подгонку рыльца к тому месту, где на тельце насекомого расположена порция пыльцы. Чашелистики, лепестки, шпорца заставляют насекомое принять нужную позу. Измерения показали: чем более непосредственное участие принимает та или иная часть цветка в устройстве пыльцы, тем стандартнее ее размеры. Комплекс свойств, характеризующий стандартные цветки, включает еще один признак — наличие насекомого, специфического переносчика пыльцы. Экономическое значение стандарта совершенно ясно — растение не бросает пыльцу на ветер, стандарт размеров тычиночных нитей, шпорец, столбиков, стандарт уровня стояния нектара в резервуарах позволяет тратить минимальное количество пыльцы, достигая при этом максимальной надежности ее перекрестного опыления. Для обеспечения этой экономии недостаточно одного стандарта — нужна согласованность размеров частей друг с другом в пределах цветка и стандарт размеров всех одновременно распустившихся цветков! И с размерами насекомого!


Где же калибровщик, способный решать столь сложные задачи? Ответ тривиален: это отбор (обыкновенная говоряшая лошадь из английского анекдота) — отбор, который может хотя не все, но еще и не такое. Отбор в пользу нормы, гибель всех уклонений от нее академик Н. И. Шмальгаузен назвал стабилизирующим отбором. Растение, не способное правильно поместить комочек своей пыльцы на насекомом, практически бесплодно. Его пыльца никогда не попадает на рыльца цветка того же вида, что и оно само. Стандартные выживают, нестандартные сметаются с лица Земли, хотя, быть может, гибнущие — крупнее, красивей, еще скаредней или, наоборот, щедрее своих собратьев — тех, кто принял участие в воспроизведении следующего поколения. Технический контроль размеров производят сами транспортировщики пыльцы — насекомые. Испытание, сопоставление, выверка идут непрерывно, пока длится цветение. Насекомое производит калибровку не размышляя, квантовано ли физическое пространство и содержится ли мера протяженности внутри самих пространственных интервалов, остаются ли аксиомы и постулаты правильными, вопреки тому, что опытные законы, которые определили их выбор, оказываются лишь приблизительными. Проблема та же, что с часами, на которые не дано посмотреть ни червю, ни пчеле. Переносчик пыльцы действует, как будто зная, что измерять можно только с помощью жестких стержней, не меняющих существенно свою длину в тех границах температурных колебаний, тех изменений давления, влажности, электромагнитных флуктуаций, в которых возможна жизнь. От химического строения измерительного прибора насекомое абстрагируется. Жесткий стержень, перемещаемый с целью калибровки, — само насекомое. В одном существе слиты грузчик, водитель, транспортное средство и измерительный прибор. Там, где нет локализации пыльцы, нет и калибровки, и цветы мака изменчивы в широких пределах. Там же, где калибр цветка есть, он выверен по насекомому и по другим цветкам растений того же вида, растущих поодаль, но отнюдь не по размерам стеблей, листьев и соцветий самого растения и уж, во всяком случае, не по условиям его произрастания. Есть теневые и световые листья. Теневых и световых цветков не бывает. Цветки независимы. Одни условия среды во взаимодействии с генотипом определяют рост растения в целом. Это — минеральное питание, освещение, влажность. Другие — выступают в роли браковщиков размеров цветков: насекомые — переносчики пыльцы. А уж они-то решительно никакого влияния на рост и развитие растения не оказывают. Производственные цеха и отдел технического контроля разобщены. Испытание пригодности не может подправить испытуемую деталь строения, жесткий стержень перемещается с неумолимостью: пригоден, и твои гены вольются в фонд следующего поколения, непригоден — потомки обойдутся без твоих наследственных задатков. Так возникает в эволюции жесткий наследственный детерминизм, стандарт, независимость от формирующих условий среды.
 Цветки растений точно приспособлены к своим опылителям - насекомым
Цветки растений точно приспособлены к своим опылителям - насекомым
Эволюция насекомых и растений — единый процесс. Независимы от условий не только размеры определенных частей цветка — не реагирует на изменение условий существования и длина хоботка пчелы. Это давно, еще в двадцатые годы нашего века, показал профессор Московского университета В. В. Алпатов. Оказалось, что не одни шмели могут опылять клевер, но и южные породы медоносной пчелы и не только импортные итальянские пчелы, но и свои — кавказские. Труднейшая проблема получения семян клевера, труднейшая именно из-за отсутствия или нехватки переносчиков пыльцы, была решена. Биоматематика — вернее, ее ветвь, биометрия — сразу стала на службу сельскому хозяйству. А уж если хоботок у пчелы длинный, достаточный, чтобы добыть нектар из трубочкицветка красного клевера, то он инвариантно срабатывает у всех представителей данной породы, даже если сами они недомерки. Но пчелы редко бывают недокормленными. Они развиваются в ячейках заданного размера, а параметры ячеек, как и их форма, а тем самым и порция пищи, получаемая дичинкой, создаются инстинктивными действиями рабочих пчел. Гены, ответственные за строительный инстинкт рабочих пчел, определяют по цепочке: стандарт размеров ячей, развивающихся в них личинок, взрослых особей целого поколения, стандарт длины хоботков, а вслед за ними — стандарт размеров цветков. Гены, контролирующие строительный инстинкт рабочих пчел, — причина стабилизации цветков, опыляемых пчелами растений. Набор генов биоценоза выступает как целое, части которого связаны причинно-следственными отношениями. Пространственное, хорологическое постоянство соблюдено везде, где разобщены формирующие и отбирающие факторы среды. Создать комплексы свойств, согласованных друг с другом, иначе говоря, коррелированных друг с другом и независимых от других свойств того же организма, могут все условия среды, все обстоятельства жизни, не принимающие участия в формировании организма или его части, если речь идет именно о части. В роли браковщиков, ответственных за повышение жесткости генотипического контроля, выступают живые компоненты среды — самцы по отношению к самкам и самки в отношении к самцам, родители по отношению к представителям следующего поколения — будь то детеныши, птенцы, яйца, икринки или семена, — и детеныши не отстают от представителей старшего поколения, безжалостно бракуя тех, кто не способен произвести на свет свое потомство, пусть даже при этом гибнут и родители, и дети. Цветки и насекомые, хищники и жертвы, хозяева и их всевозможнейшие паразиты несут службу в ОТК своих предприятий-сообществ, осуществляя стабилизирующий отбор. Подобно живым браковщикам на поприще повышения жесткости наследственных программ выступают специфические функции — полет и парение, бег и корчевание корней, брачные игрища и гнездостроение. Летучка одуванчика не более стандартна, не менее подвержена влиянию внешних условий, чем ритуал ухаживания самца за самкой у всех видов, где есть самцы и самки и где идет вербовка. Полет выступил как испытатель аэродинамических свойств летучки, функция размножения — как браковщик повадок самца. Третье условие стандартизации — контроль над одними частями или признаками со стороны других частей или признаков того же организма. Согласованность размеров тычинок и пестиков у растений, размножающихся самоопылением, возникает именно этим путем. Среда органа — другие органы того же организма. Работать совместно органы могут и в том случае, если они не взаимодействуют в процессе роста и формирования организма. Тогда один орган становится испытателем пригодности другого. Образуется стандарт и согласованность размеров и расцветок, форм и функций. Каждая особенность подвергается испытанию в сочетании со всей организацией вила, и каждый уже отобранный признак становится фактором других признаков. Окраска скорлупы яйца должна быть строго согласована с инстинктом гнездостроения, а не то — беда. Так всевозможнейшими путями возникают независимые друг от друга группы коррелированных друг с другом признаков. Описал эти группы профессор Ленинградского университета П. В. Терентьев. Он дал им имя — корреляционные плеяды. Комочек пыльцы клевера на нижней стороне головы шмеля — очень узкое поле наблюдения. Неожиданно распахнулся широчайший горизонт — локализация пыльцы, строжайший режим экономии, стандарт размеров, жесткий генный контроль, независимость, преисполненная достоинства и дисциплины. Свобода на службе согласования. Нигде независимость живого от среды — независимость, которая возникает под отбирающим влиянием среды и обеспечивает совершенство приспособления к разным сторонам окружающей действительности, не выступает так ясно, как на примере корреляционных плеяд. Все равно, какие признаки вовлечены в них — касающиеся организации в пространстве или во времени.

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ НАУКИ
Елена Щукина
Отбор, охраняющий норму
История вопроса
Ни наследственность, ни естественный отбор не были в нашей стране чисто академическими проблемами. В Советской России дарвинизм стал частью обязательного учения — марксизма. "Дарвин стал у большевиков чем-то вроде иконы в их маленьком иконостасе", — писала Раиса Львовна много позже в воспоминаниях. И естественный отбор, справедливо выдвинутый Дарвином на роль главной движущей силы эволюции, также помещался на иконе как обязательный атрибут, наподобие стрел у святого Себастьяна. Портрет, однако, не был детально проработан, и вся картина подвергалась критике. Дарвин не объяснил, почему многие виды существуют неизменными в течение долгого времени, что мешает им и дальше оттачивать свое приспособление — ведь всегда можно сделать еще лучше. Вот и задавали Лев Семенович Берг и Александр Александрович Любищев дарвинизму неудобные вопросы: почему же, несмотря на случайный характер индивидуальных уклонений, подхватываемых отбором, у многих групп организмов возникают схожие приспособления? Почему одновременно в разных таксономических группах происходят одинаковые преобразования? Дарвин действительно сосредоточился в своей книге "Происхождение видов" на той форме отбора, которая будет позднее названа движущей, то есть приводящей к установлению новой нормы, новых приспособлений к окружающей среде. Консерватизм живой природы требовал отдельного объяснения. Ученые же, стремившиеся такое объяснение дать, оказывались в положении иконоборцев — раз они обсуждают атрибут, тут недалеко и до отрицания самого образа. Дальше, по выражению Алисы из Страны Чудес, становилось "все страныие и страныие". Естественный отбор с иконы потихоньку убрали. "Народный академик" Лысенко постановил "здоровую зависть", а не конкуренцию главным двигателем биологического прогресса. Лысенко отрицал внутривидовую борьбу за существование, то есть, по существу, естественный отбор как таковой. Что ничуть не мешало ему называть свое учение "советским творческим дарвинизмом". Безобразие это продолжалось в биологической науке, как мы знаем, достаточно долго и носило системный характер. С одной стороны, в Советском Союзе постепенно пропал естественный отбор, с другой стороны, катастрофа постигла в 1948 году науку о наследственности — генетику. Господствующая идеология "пробовала на зуб" все науки, однако от точных быстро отступилась. Атомная бомба как аргумент в споре с капитализмом весила куда больше, чем все идеологи, вместе взятые. У генетиков атомной бомбы не оказалось, и они поапатились кто чем: кто головой, кто должностью, а большинство — возможностью дальше заниматься своей наукой. Отечественной генетике было что терять. Перед войной, в 1937 году, был разогнан Медико-генетический институт в Ленинграде, это было лучшее учреждение такого профиля в мире. В 20-х — начале 30-х годов в Ленинграде была создана мощная научная школа. Кафедра генетики в Ленинградском университете была основана Ю.А. Филипченко еще в 1926 году, это было первое в Советской России место, выпускавшее именно генетиков. Студентам читали курсы цитологии наследственности, на большом практикуме царила дрозофила, в распоряжении студентов — первоклассные учебники по общей и частной генетике, написанные Филипченко, покойным основателем кафедры. Разгром генетики был еще впереди, на кафедре давали первоклассное образование и делали большую науку. Наука была на мировом уровне. В 1933 году в Институт генетики по приглашению Н.И. Вавилова прибыл известный американский генетик Г. Дж. Меллер и взял к себе в рабочую группу в Академии наук четырех студентов. В их число входили и Раиса Берг, и Рапопорт — впоследствии крупнейшие советские генетики. Группа студентов работала по теме, предложенной Меллером, — изучение соотношения между дозой облучения и частотой хромосомных перестроек у дрозофилы. "Мы первыми в мире показали, что внутрихромосомные перестройки возникают под действием X- лучей в результате двух разрывов, — пишет в своей книге "Суховей" Раиса Львовна. — Доклад Меллера в Париже включал наши данные". К концу царствования Хрущева от былого великолепия не осталось практически ничего. По периферийным институтам, по непрофильным специальностям схоронились уцелевшие. Широкая общественность была полностью уверена, что наследственность изменяется под действием среды обитания, а приспособление организмов к этой среде — результат наследования благоприобретенных признаков. В такой атмосфере само понятие "ген" было абсолютно новым. читателей необходимо было заново знакомить с былыми достижениями отечественной науки. За рубежами нашей Родины дело обстояло по-другому. Наш бывший соотечественник Феодосий Добжанский, Эрнст Майр и Джордж Симпсон строили Синтетическую теорию эволюции, объединявшую дарвинизм с популяционной генетикой. В 1944 году Симпсон опубликовал свою классификацию форм отбора. Он подразделил отбор на движущий, центростремительный, центробежный и дизруптивный. Особенно важными оказались движущий и центростремительный. Первый из них двигал популяцию вперед, второй позволял ей удерживать достигнутый уровень адаптации. Г. Меллер
Г. Меллер
 Н. Вавилов
Н. Вавилов
 Л. Берг
Л. Берг
Стабилизирующий отбор
Оказалось, что центростремительный отбор был описан под именем стабилизирующего Ш мал ьгаузеном давно — еще в 1937 году. После знакомства англоязычного научного мира с работами Шмальгаузена все стали называть его так же. Отбор закреплял, стабилизировал фенотип особи, выбраковывая уклоняющиеся от стандарта, от видового среднего значения экземпляры. Так создается тот комплекс видовых черт, который и позволяет нам отличать один вид от другого. Так разводят собак: служебные обязаны сдавать экзамены по общему курсу дрессировки и защитно-караульной службе. Иначе их не допустят к вязке, хотя поведение не передается по наследству и щенков придется учить заново. Но если не выбраковывать неспособных к обучению и послушанию особей, порода очень быстро разваливается: так произошло с ротвейлерами, которых разводили бесконтрольно, не устраняя от размножения собак неуравновешенных, и теперь многие из них неуправляемы. Совсем другое дело — сибирская лайка, которая ходит с хозяином на охоту. Если дураков-пустолаев убивают, популяция умнеет на удивление быстро. Шмальгаузен пришел к идее стабилизирующего отбора из эмбриологических соображений (он занимался не только эволюционной морфологией позвоночных, но и эмбриологией. Одновременно с Дж. Гекели он открыл закон независимости размеров одной части зародыша от другой его части (гетерономного роста). Не все части зародыша растут одинаково быстро: у позвоночных, например, голова растет быстрее других частей. И человек рождается с головой, которая гораздо меньше вырастает за жизнь, чем тело: мозг "надо куда-то класть". Его нельзя "потом доделать", как руки, ноги и туловище. Мозг имеет трехмерную организацию, важную для его функционирования, и должен помешаться внутри черепа. Исследования Шмальгаузена на курах показали, что такие системы организма, как покровы, нервная система, органы чувств, обладают большей независимостью, чем, например, кости и мускулатура. Значит, их собственный размер важнее, чем их соответствие с другими частями зародыша. Все это навело Шмальгаузена на мысль об адаптивной ценности стандарта и о путях, которыми он достигается в эволюции. В дальнейшем Шмальгаузен пришел к выводу, показавшемуся ему парадоксальным, — к выводу о большей стабильности фенотипа по сравнению с генотипом. Сейчас нас совершенно не удивляет такой факт: после прочтения генома человека стало известно о множестве генетических вариантов, никак не влияющих на внешний вид и функционирование организма. Пока "машина работает", стабилизирующему отбору "неинтересно копаться в моторе". Если бы не СПИД, мы бы никогда не заметили, что у 1,5 процентов русской и татарской популяции нет одного из клеточных рецепторов. Отсутствие его совершенно никак не влияет на жизнь человека, за исключением одного момента: такой человек вообще невосприимчив к СПИДу. Даже если колется зараженной иглой.Ученики научили учителя
Как же так получилось, что эмбриолог и морфолог позвоночных Шмальгаузен стал писать о фенотипе и генотипе? Ведь даже методология у морфологии и генетики различна. Морфолог описывает структуру и пользуется сравнительным методом, а генетик ставит эксперименты. Новые методы пришли с новыми людьми. В 1939 году Шмальгаузену в докторантуру Института эволюционной морфологии животных им. А.Н. Северцова поступила новая сотрудница — Раиса Львовна Берг. Это было не просто зачислением в ученики Шмальгаузена еще одного ученого: с ней достижения генетиков "пришли" в эволюционную морфологию, восстанавливая научные и человеческие связи, разорванные еще в 1911 году. В тот год, после того как в знак протеста против введения полицейского режима в Московском университете из Института экспериментальной зоологии уволились все сотрудники, начиная от его директора профессора Мензбира и до последнего швейцара, в институте остался один человек — А. Н. Северцов. Абсолютно чуждый политике, А.Н. Северцов, тем не менее, от нее не уберегся. С этого момента началась научная и человеческая его изоляция. Представители демократической общественности перестали с ним здороваться, что в свете тогдашних представлений о лояльности означало и прекращение всяких контактов с его учениками. Самым любимым и выдающимся среди этих учеников был Иван Иванович Шмальгаузен, оказавшийся таким образом в изоляции от достижений блестящей школы русских генетиков, созданной Н.К. Кольцовым, учеником как раз академика Мензбира. Раиса не собиралась скрываться от преследования генетиков и менять специальность. Она хотела работать с человеком, написавшим книгу "Пути и закономерности эволюции". К тому времени она уже защитила кандидатскую диссертацию и была признанным специалистом. Вот что пишет Раиса Берг в своей книге "Суховей": "Шмальгаузен спросил, какова моя специальность. Я сказала, что я генетик. Генетика стремительно катилась к гибели. (Дело происходит в 1939 году, уже разогнан Медико-генетический институт, его директор физически уничтожен.) — Вы хотите переменить специальность, учитывая катастрофическое положение в генетике? — спросил меня Шмальгаузен. — Нет, я хочу продолжать работу по генетике популяций. — У вас есть печатные работы? — спросил он. Я подала ему оттиски. Он глянул и сказал: — Я имею честь быть знакомым с вашим отцом. Хоть наследственность теперь не в чести, гены номогенеза будут учтены при вашем зачислении. Я могу предоставить вам место докторанта. Вам предстоит экзамен по марксизму. Держитесь". У Шмальгаузена Раиса Львовна изучала мутационный процесс в диких популяциях дрозофил, сравнивала их с лабораторными. Оказалось, что дикие популяции более изменчивы, мутации возникают в них с большей частотой: для выживания в дикой природе требовался больший резерв наследственной изменчивости, чем для "тихой жизни" в лаборатории. Узницы пробирок более стандартны, их нормальные гены обладают большей способностью подавлять мутантные, чем нормальные гены диких мух. В 1946 году Шмальгаузен публикует уже представление о мобилизационном резерве наследственной изменчивости — под зашитой стабилизирующего отбора накапливаются аллели, не снижающие приспособленность, то есть нейтральные и псевдонейтральные. Ю. Филипченко
Ю. Филипченко
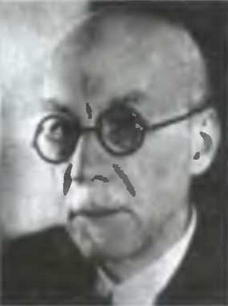 И. Шмальгаузен
И. Шмальгаузен
Не было бы счастья, да несчастье помогло
После печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ всех генетиков стали выгонять отовсюду. Отстранили и Шмальгаузена от директорства институтом, сняли с заведования кафедрой в Московском университете за поддержку генетиков. Раиса Львовна лишилась работы с мухами, "переквалифицировалась" в ботаники. Стабилизирующий отбор, естественно, действует и на растения. Обнаружив независимость размеров цветка от размеров вегетативной части растения, Раиса была поражена. "Мне казалось, что я хватаю с неба звезды, — вспоминает Раиса Львовна. — Мне казалось, вот случай, когда не отбор, а требования инженерного искусства ведут организмы по пути прогресса". На докладе энтомолога профессора Шванвича у Раисы "открылись глаза". Размер насекомых-опылителей стандартен, и если растение "хочет" быть опыленным, оно "должно соответствовать". Везде, где цветок опыляется одним видом насекомых, цветки стандартны. " А если кто попало может опылять цветки, стандарта не будет. Ему неоткуда взяться. Мак тому ярчайший пример". Так Раиса Львовна, вынужденно занявшаяся ботаникой, обнаружила и там косвенное доказательство шмальгаузеновской теории стабилизирующего отбора. Более того, упомянутый в ее статье профессор Терентьев — автор термина "корреляционные плеяды", тоже обнаружил их "не от хорошей жизни". Сосланный и лишенный лабораторной аппаратуры, он измерял лягушек. "И обнаружил, что размер некоторых частей организма не зависит от размеров других частей и от величины организма в целом, — вспоминает Раиса Львовна. — Он сгруппировал показатели размеров разных частей так, что независимые друг от друга показатели размера попали в разные группы. Так получились корреляционные плеяды, одно из проявления гетерономного роста... Ссыльный Терентьев тыкался в русские и немецкие журналы со своей статьей. Его никто не понимал и печатать его не хотели. Наконец, статья русского ученого была напечатана в английском журнале Biometrika на немецком языке ровно за четверть века до опубликования моей статьи в "Ботаническом журнале". Статья Терентьева не привлекла ничьего внимания. Я не подозревала о сотнях лягушек, вдоль и поперек, изнутри и снаружи мереных, перемеренных Терентьевым". На семинаре по применению математических методов в биологии Раиса Львовна и Павел Викторович Терентьев встретились и "воссоединились". "Я ставила перед собой задачу, — писала позже Раиса Львовна, — понять возникновение независимости в процессе эволюции. Независимость как приспособление. Абсурдное словосочетание? Нет. Независимость от одних компонентов среды обеспечивает приспособление к другим компонентам среды. В иных случаях от строгости стандарта зависит жизнь или смерть. Корреляционные плеяды Терентьева я рассматривала в свете стабилизирующего отбора Шмальгаузена. И саму эту теорию я вернула к ее истокам, к принципам гетерономного роста. Шмальгаузен сам не подчеркивает нигде этой связи своих кардинальных идей. Мое дело историка науки вскрыть ее".Не только история
Сегодня стабилизирующий отбор не сходит с повестки дня. Человек давно избавил себя от прямого взаимодействия с силами природы, создал цивилизацию, позволяющую выживать гораздо большему числу особей, чем раньше. По мнению советского генетика С.В. Давиденкова, несовершенством многих своих систем человек обязан своему слишком раннему поумнению: он сумел компенсировать различные "недоработки" естественного отбора. Плохие зубы, слабое зрение, а самое главное — несогласованность врожденных программ поведения больше не отбраковывались. Человеческий организм "был принят госкомиссией" с недоделками. Последние успехи медицины и особенно новых репродуктивных технологий беспокоят специалистов. Вредные мутации накапливаются медленно, но как быть с целостностью организма? Не получится ли так. что в один прекрасный момент человечество просто "посыпется", как старая дискета? Постепенное накопление мелких изменений, скрадываемых в индивидуальном развитии и не проявляющихся в фенотипе, может дать пороговый эффект, когда система необратимо разрушается. Одна надежда на стабилизирующий отбор. Требования к качеству продукции падают, но главное остается: отбор требует от рожденного организма "уметь" хотя бы просто жить.МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Вячеслав Глазычев
В поисках утерянного города
"Знание - сила", 1995, № 2
Если перечислять людей, которые лучше и полнее всего воплощают дух журнала и без которых этот журнал не представим, Вячеслава Глазычева просто необходимо назвать в числе первых. Марко Поло описывает строение мости, камень за камнем. — Но какой же из камней держит мост? — спрашивает Хубилай-хан. — Не на камень опирается мост" — отвечает Марко, но на дугу, образуемую камнями. — Для чего ты говоришь мне о камнях? Мне интересна одна лишь линия дуги. — Без камней нет и дуги. Итало Кальвино. Невидимые города. Без упорядоченного скопления зданий, без лабиринта, в который объединяются пространственные интервалы, разделяющие кварталы, без скопища людей, перемещения которых осмысленны, хотя и поддаются вероятностному исчислению, — нет города. Однако всякому ясно, что сами по себе эти множества еще не образуют города. Город посложнее каменной арки, и для него не нарисуешь (хотя многие пытались) графическую схему, на которой скрытая динамика сил закреплена в статической картине равновесия. Вдумываясь в судьбу города, все лучше понимаешь тех давних физиков, кто нуждался во флогистоне для объяснения процессов термодинамики или в эфире, чтобы хоть как-то объяснить взаимодействие небесных тел. Казалось бы, коль скоро город изобретен людьми, совладать с раздражающей неопределенностью легче, чем с запутанностью природы. Однако город "стал" так давно, что трудно понять, хомо хабилис ли, человек умелый, сочинил город или город породил "человека цивилизованного". В самом деле, какой-нибудь Валдемарпилс в Латвии — вне всякого сомнения, город, хотя в нем нет и полутора тысяч жителей. А вот полумиллионный Тольятти — не более чем "заготовка" города, причем испорченная еще в проекте столь основательно, что даст Бог, если к середине будущего[* То есть ХХI-го. (Прим, ред.)] столетия ее удастся как-то "довести". Дело не в размере. Петербург — весьма и весьма город, несмотря на растекшиеся его жилые районы, вроде Купчина или Веселовского поселка. Дело и не в возрасте: новехонький Шевченко, уверенно вставший на грань между Каспием и каменной пустыней Мангышлака, опознается как город сразу, а древний Суздаль — не более чем тень города, несмотря на многотрудные деяния реставраторов. Так что же, в конце концов, делает населенный пункт городом? Не в традиции российской словесности вдруг, одним скачком перескакивать от риторического вопроса к попытке ответа на него — сначала положено отойти на шаг-два и примериться. Обращение к отечественной истории помогает мало или, вернее, помогает через отрицание. Заглянем в "Лексикон Российской истории" В.Н. Татищева: "Град есть место укрепленное или без укреплений, в котором многие домы разных чинов, что военные или гражданские служители, купечество, ремесленники или чернь или подлый народ, и все обсче называются граждане, состоит под властию начальства. Но у нас токмо тот городом имянуется, который подсудной уезд имеет, а протчие или крепости, или пригороды и остроги". Простодушный в своей тавтологичности критерий, согласно которому город был то место, куда назначался градоначальник, действовал с силой естественного закона до самой отмены крепостного права, порождая поистине странные ситуации, вроде продажи выгонных земель города Вольска за долги погоревшего Вольского купца.
Обращение к мемуарной литературе, вроде воспоминаний точного и злого Ф. Ф. Вигеля, убеждает в оправданности словосочетания "критический реализм". В самом деле:"На самом темени высокой горы, на которой построена Пенза, выше главной плошали, где собор, губернаторский дом и присутственные места, идет улица, называемая Дворянскою. Ни одной лавки, ни одного купеческого дома в ней не находилось. Не весьма высокие деревянные строения, обыкновенно в девять окошек, довольно в дальнем друг от друга расстоянии, жилища аристократии, украшали ее. Здесь жили помещики точно так же, как летом в деревне, где господские хоромы их также широким и длинным двором отделялись от регулярного сада, где вход в него находился также между конюшнями, сараями и коровником и затрудняем был сором, навозом и помоями. Можно из сего посудить, как редко сады сии были посещаемы: невинных, тихих наслаждений там еще не знали, в чистом воздухе не имели потребности, восхищаться природой не умели". Петербург был другим и за это именовался "холодным", но Москва отличалась немногим (вообще, заметьте, меняется только счет окон по фасаду), о чем прекрасно сказано в "Записках революционера" П.А. Кропоткина: "В этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты торговой Москвы, все дома были очень похожи друг на друга. Большею частью они были деревянные, с ярко-зелеными железными крышами; у всех фасад с колоннами, все выкрашены по штукатурке в веселые цвета (заметьте: введение "чуждого Арбату" цвета ставится в вину авторам реконструкций улицы сегодняшними критиками! — В. Г.). Почти все дома строились в один этаж, с выходящими на улицу семью или девятью большими светлыми окнами. На улицу выходила "анфилада" парадных комнат... Все это было сделано из орехового дерева и обито шелковой материей. Всегда вся мебель была покрыта чехлами.
 Из проекта А. Игитханяна "Открытый город", 1999 г.
Из проекта А. Игитханяна "Открытый город", 1999 г.

Впоследствии даже и в Старом Конюшенном стали появляться разные вычурные "трельяжи", стала допускаться фантазия в убранстве гостиных. Но в годы нашего детства фантазии считались недозволенными, и все гостиные были на один лая..." Довольно ссылок на литературу. Сколько их ни набирай, суть останется та же: за исключением "холодного" Петербурга и еще очень немногих городов (должен подчеркнуть — это мое мнение, хотя его и разделяют многие социологи и градостроители) мы не могли унаследовать города из-за отсутствия такового, несмотря на обилие населенных пунктов. Именовавшихся городами. Никакой игры слоа здесь нет: городская культура, то есть универсальное культурное содержание, преломленное через призму именно городской среды, не успела сложиться. Ее место занимала сначала культура усадьбы, затем культура дачи, о чем лучше всего справиться у Чехова и Горького. У Андрея Белого или Леонида Андреева от города не осталось ничего, кроме тумана, у первого —c батровым оттенком, у второго со свинцовым, в котором едва были различимы желтые окна Блока. А вот чувство необходимости Города сложиться успело, чему свидетель первый истинно городской поэт страны — Маяковский. Начавшись с движения за ликвидацию безграмотности, культурная революция в нашей стране служила фундаментом универсальному процессу индустриализации, средством своим имела вполне естественно, приобщение широчайших масс к ценностям универсальной культуры. Центром этого процесса стала (Москва, и она же трактовалась как универсальная модель города. Москва — и перед войной, и после войны — оказалась в роли по сути, единственного Города, образца для посильного подражания, предмета всеобщего любования. Уже не столько проза, сколько кинофильмы и песни с тридцатых до шестидесятых годов вновь воспроизводили эту модель, закрепляя ее в сознании.

Заметим, отнюдь не реальная физическая Москва с ее гектарами убогих домишек и на окраинах, и в центре, с ее трещавшими по швам коммунальными квартирами, темноватыми переулками и бесконечными заборами, воспринималась как Город. Этой Москвы как бы и не было (у литераторов 1920-1935 годов рождения она есть; но настолько преображенная любовью к собственной юности, что это уже и не она, а миф, вроде мифа Арбата). Было: рубиновые звезды Кремля, блеск мокрого асфальта на Манежной площади, метро, потом — МГУ на тогдашней окраине, названный в песенке "величавой крепостью науки", сначала ЦПКиО имени Горького, а потом Лужники и прочее. Авторы песенок не пропустили ничего — ни троллейбусов, ни мостов над рекой, был, помнится, даже специально выделенный "московских окон негасимый свет". Все это — адекватное проявление своего рода культурного инстинкта, подсказывавшего, что урбанизация в стране еще не началась, но мощно развертывалась ее индустриализация, сопровождавшаяся строительством призаводских поселений. Эти поселения то решительно противостояли старому городу (как в Горьком), то сливались в цепочку на многие десятки километров (как в Волгограде), то возникали в чистом поле как заимка, заявка на будущий Город. Четыре десятилетия назад на этот процесс навалилась не самым счастливым образом понятая индустриализация строительства. Результат известен. К подлинной урбанизации, то есть вторичной урбанизации населенных пунктов, именуемых когда городами, когда поселками городского типа, а когда — и станциями (в иных тысяч по пятнадцать — двадцать жителей), мы только еще подступаем. Сделать город Городом оказывается вдруг задачей не только профессиональной, но и всеобщей. Становление Города можно уподобить выращиванию кристалла: в обоих случаях процесс длится долго, но может быть несколько ускорен. "Перенасыщенность раствора" у нас уже есть. Это то состояние культуры, когда она "сама" тоскует по "настоящей" городской среде, несмотря на смутность представлений о желаемом недостающем. Сложнее с прочими условиями — хотя бы потому, что состояние "заготовок города" весьма и весьма разное. В одних случаях мы уже приближаемся к стадии первичного насыщения элементарными составляющими фундамента городской среды, начиная с относительно комфортабельного жилья, по крайней мере в пределах установленных несколько "на вырост" норм, утвержденных лет двадцать назад. В других местах до этой стадии потенциального города, если так можно выразиться, еще далековато. Что же такое вторичная урбанизация, если отойти от вредной привычки указывать пальцем на отдельные предметы (клубы, спортивные центры и центры развлечений, очеловеченный "партер" внутри сегодняшней застройки и т.п.) и обратиться к целеполагаемым свойствам?

Конечно же, это повышение неоднородности городской среды: нет Города без его центра, самой своей специфичностью противостоящего всему прочему. Дело не в зданиях как таковых, а в формах активности, в "повышенности температуры" человеческой деловой и досужей деятельности. Центр — это там, где, словами Хемингуэя. чисто и светло. Где людно. Где приятно "просто быть". Центр противостоит остальному городу так, как праздник противостоит добротным, наполненным смыслом будням. Это — главное, детали здесь несущественны. Река противостоит холму, квартал — кварталу, район — району, сквер — скверу, как противостоит личность личности. Иначе нет неоднородности (это свойство почти утратил Париж после реконструктивной деятельности префекта Османа в середине XIX века; его замечательно сохранил Лондон, поглощавший самостоятельные районы, "боро", при сохранении их лица), нет существенного различия между поворотом направо и налево, движением по прямой и зигзагом. Там, где повезло, где неоднородность унаследована и еще не убита торопливостью вторжения нового, развить и усилить ее легче. Там, где ее сегодня нет, она тоже потенциально есть и может быть пророщена. из того, что топографы именуют местными предметами, из деятельности людей, если и с местными предметами не повезло. Нет города без ощущения повышенной плотности, насыщенности пространства предметами, движением, действием по сравнению с тем, что не город. Город — скульптура, внутри которой живут. Масса в нем довлеет над пустотами. Конечно, обеспечить солнечный свет и воздух при плотной застройке труднее, чем при рыхлой, но "труднее" не значит "невозможно", а "легче" не значит "лучше". Маленькие парки, на которые внезапно выходишь из массива кварталов в том же Лондоне, подобны улыбке, нечаянной радости; крупный парк становится большим, как мир, если ему противостоит мир камня. Огромный опыт всемирного города доказывает, что сад в городе и город в саду куда удобнее и выразительнее, чем утопия города-сада, столь легко оборачивающаяся городом-пустырем.

Нет города и без связности всех его элементов в единое целое, но речь не о транспорте, нс о прямых, утилитарных, жизненно необходимых и потому самоочевидных вешах. Речь о путях человека через массив города. О путях детей и путях подростков, путях влюбленных и путях глубоко задумавшихся, путях животных, без контакта с которыми человек расчеловечивается с необыкновенной быстротой. Речь о путях для взора, сопрягающего характерные ориентиры, отыскивающего характерные границы, все время убеждающего человека, что он в Городе. Связность — это когда городскую среду можно склонять: у моста, на мосту, под мостом, за мостом; на углу, за углом; на перекрестке, за перекрестком... Поистине можно составить энциклопедию свойств городской среды, и каждое из этих свойств — не проблема, а задача, потому что в общем-то хорошо известно, как ее надо решать. Известно из умных книг, которые писали и Кевин Линч, и Кристофер Александер, и Андрей Бунин, из книг, которые пишут и сегодня. Известно из опыта, воплощенного во множестве прекрасных городов мира. Сложность, однако, в том, что энциклопедия свойств еще не создает Города. Сами эти свойства —лишь следствия, лишь проявления той силы, что производит на свет Город. Приписываемый Лао-цзы, насчитывающий два с половиной тысячелетия текст "Дао дэ цзин" помогает приблизиться к ответу на вопрос, подвешенный в начале статьи: "Тридцать спиц соединяются в одной ступице (образуя колесо), но употребление колеса зависит от пустоты (между спицами). Из глины делают сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в них. Пробиваются двери и окна, чтобы сделать дом, но пользование домом зависит от пустоты в нем. Вот почему полезность (чего-либо) имеющегося зависит от пустоты". Возможно, Лао-цзы и впрямь имел в виду пустоту, но, скорее, все же форму пустоты, идею формы, чувственное выражение идеи формы, побеждающей пустоту. Идея Города как формы есть непременно чувство города Чувство делает поселение городом, чувство осмысленного гражданства у его обитателей, у выборных властей, представляющих интересы обитателей через это чувство. Поскольку же речь идет непременно об осмысленном чувстве Города, которое можно попробовать помочь его жителям развить в себе, но нельзя надеть на поселение, как хомут или хотя бы ~ крахмальный воротничок, естественно завершить статью строками такой же, как "Дао дэ цзин". давности: Время настало для дел. В мудрой жизни город нуждается. Весь он ждет коренной перестройки. Аристофан. Законодательницы.

Ольга Балла
Истолкователь пространств
Если взяться перечислять людей, которые лучше и полнее всего воплощают дух журнала "Знание — сила" и без которых этот журнал не представим, Вячеслава Глазычева просто необходимо назвать в числе первых. Его было бы необходимо назвать, даже если бы он у нас не работал (к счастью, работал: в начале семидесятых занимался графическим дизайном журнала). Более того, он заслуживал бы этого, даже если бы никогда ничего в "Знание — силе" не печатал, правда, тогда его следовало бы немедленно уговорить. Но и тут повезло: Глазычев печатался у нас с того же начала семидесятых и, на мой взгляд, оказался среди тех, благодаря кому в журнале той эпохи сложилась совершенно неповторимая "оптика" видения предметов. О каких бы предметах ни шла речь — от астрофизики и географии до археологии и лингвистики. Хотя сам Глазычев ...а кто он, собственно? Архитектор? Разве что по исходному образованию (Московский архитектурный институт) и по некоторым из официальных занятий. Искусствовед? Своя правда есть и в этом — за диссертацию о культурном потенциале города Глазычев получил степень доктора искусствоведения. Но опубликованная у нас статья о природе и художнике — столь же искусствоведение, сколь и история смыслов и их воплощения. Так, может быть, историк? Не ошибемся и тут. Вот 1980-м, в очередном сборнике "Випперовских чтений", он опубликовал статью "Античная система расселения: Переживание ойкумены". История это? Архитектура? Психология — раз уж "переживание"? В самом начале статьи говорилось: "...нас будет интересовать не столько группировка больших и малых поселений в те или иные время-пространственные фигуры, сколько осознание единства и расчлененности античного мира в указанных временных границах". Смысловая география? Биография идей? "Империя.., — писал Глазычев четверть века назад, — была наконец раздавлена собственной переусложненностью. В конце концов вернувшись к полицентризму, от которого пыталась отрешиться, она — пусть сложным путем — передала нам память переживания Ойкумены как мира людей, мира- для-людей. И эта именно память, сто раз умирая и воскресая в европейской истории, перешла к нам в наследство как основание экуменической идеологии, как идея экосистемы". Да, пожалуй, вот этим он занимается: "миром людей", "миром-для- людей". "Культурный потенциал городов" — разве не об этом? Тогда, может быть, культуролог? Непозволительно неконкретно, не говоря уже о безнадежной дискредитирован ности слова "культурология" избытком немотивированных употреблений. А у Глазычева все как раз предельно конкретно: в это конкретное целое входят и социология, и архитектура, и психология, и экология, и экономика... Дело Глазычева — формирование среды в целом: взаимовлияние жилых и нежилых пространств, принципы образования их форм, взаимодействие человека и места его обитания, не остающееся без последствий для обеих сторон. Тем, что лежит на пересечении пространства и человека, "упираясь" в конечном счете в человека. А самое-самое первое, что он у нас напечатал, — цикл статей о взаимоотношениях человека и машины (№№ 4, 6,7 за 1974 год). Я даже не задаюсь вопросом, "естественная" это наука или "гуманитарная". И то, и другое вместе. Сам себя он называет специалистом по организации и развитию городской среды. В 1991 организовал "Академию городской среды", которая разрабатывает программы развития для городов России: самых малых, малых, средних и крупных — от Мышкина до Тольятти — и для микрорайонов Москвы. Об этом он у нас тоже писал: "Не может быть не экономически мыслящей культуры" в № 2 за 1995 год, а девять лет спустя, в 2004- м (№ 8), рассказывал в интервью "Воспитание пространства". После того как в 2000-2002 годах провел серию проектных семинаров в городах Приволжского округа, издал книгу о российской глубинке, соединив в ней наблюдения над бытовыми деталями — "от цены билета на дискотеку до состояния городских кладбищ" — с размышлениями о городе как носителе культуры и о судьбе российского города в особенности. Это вообще одно из существенных лиц многоликого Глазычева: интеллектуальный странствователь и собиратель пространств. В 1998 году в "Знание — силе" у него даже рубрика такая была — "Интеллектуальные путешествия". Предмет его коллекционирования — "невозможные" города, по аналогии с "невидимыми" у Кальвино: города, которых по всем теоретическим соображениям не должно было бы быть, а они почему-то существуют. И это — города не только российские, которых, знамо дело, умом не понять, как и Россию в целом (вот Глазычев, кстати, тем в числе прочего и занимается, что постигает Россию умом). Это — и то, что, глядя отсюда, воображается воплощением рациональности: Америка, Япония. Кроме того, он — публицист и теоретик политики, увы, уже за рамками нашего журнала... Нет, для этого человека надо подыскивать индивидуальное обозначение под стать своеобразию предметов его занятий и подходов к этим предметам. Я бы предложила — антрополог пространства. Или эколог рукотворной среды. Или исследователь поэтики взаимодействия человека и среды. Истолкователь города как особого жанра человеческого существования. Собственно, типичный "знаниесильский" персонаж: обитатель пограничных культурных областей, смысловых перекрестков и переходов. "Разрашиватель" их в полноценные культурные области. Пожалуй что, даже их создатель. Я же говорю, если бы Глазычева не было в журнале, его из-под земли стоило бы достать, — придумать, в конце концов! Потому что главная тема "Знание — силы" ее лучших лет, на которой держатся, из которой следуют все прочие темы, — это чувство связи разных областей бытия друг с другом и всего бытия в целом — с человеком. "Популяризация", то есть перевод на общечеловеческий язык событий и достижений науки, примерно с середины шестидесятых воспринималась здесь как один из способов дать читателю, в какой бы области этот читатель ни оказался специалистом, эту связь увидеть. Помочь ему понять, что к сфере его заняти й любая другая может иметь непосредственное отношение, что она способна стать для нее источником смыслов. По аналогии с "воспитанием пространства" это стоило бы назвать воспитанием цельности. Что же касается смиренного автора этих строк, то и он, то есть я, имеет основания назвать Вячеслава Глазычева одним из истоков собственной личности. Начиная с читанной в пятнадцать лет статьи о "переживании ойкумены". Если бы не он, я бы, очень может быть, ничего здесь и не написала...Вячеслав Глазычев
Журнал в моей жизни

Домик "Знание — силы" в Кожевниках очень симпатичен, но дляменя журнал, вернее, его редакция ассоциируется, конечно же, с подвалом на Самотеке- Ему полагалось быть безобразным, да он таким и был, но в памяти осталось ощущение приподнятости настроения при каждом там появлении- Там была атмосфера Общей доброжелательности, в достаточной мере сдобренной иронией, чтобы не впадать уж в полную благость. Все началось с почти случайной статьи, и журнал опубликовал некое количество моих текстов, среди которых была пара таких, какие нельзя было напечатать более нигде. Тем не менее для меня журнал стал в первую очередь местом, где мне позволили за казенный счет удовлетворять свои амбиции в графическом дизайне, да еще и платили за это по тем временам вполне приличные деньги. Между редакторами и художниками отношения всегда были слегка напряженные. Нет, стилистических претензий со стороны редакторов я не помню — проблемы были неизбежны по сугубо технологическим причинам. В ту, докомпьютерную пору расчет объема текста мог быть лишь приблизительным. Не выпуская из руки логарифмическую линейку (кто помнит этот инструмент?), я старался изо всех сил, а незабвенный Эстрин перепроверял на арифмометре (кто помнит старый добрый "Феликс"?), но сократить погрешность в три-пять процентов не удавалось. Эскиз макета утверждался еще до прихода гранок (кто помнит фанки?), и, разумеется, художник номера был готов драться за его структуру до (почти) последней капли крови. Но ведь были еще и авторы, иные из которых все норовили что-то еще добавить. И еще сами редакторы, из коих почти все правили статьи до последнего момента. Утаскиваешь домой фанки, расклеиваешь по разворотам — везде "хвосты". Придешь этак к Подольному, бочком протиснешься мимо стола Левитина и бодрым голосом скажешь: "Роман, с тебя 32 строки". Тут же развернешься к визави и: "А с тебя, Карл, всего 84" — и бегом прочь, пока не побили. Некая добавочная сложность была в том, что, в отличие от художниц, которые оформляли номера попеременно со мной, я-то имел некую редакторскую квалификацию и мог доказывать, что без того или иного абзаца обойтись можно. Когда на меня уж очень рычали, приходилось сесть и самому выщипывать по словечку или по два, чтобы в сумме ужать концы абзацев. Надо отдать всем должное: в общем-то, меня все же терпели.

Так уж вышло, что вдохновленные Юрием Соболевым, мы с Витей Брелем пустились во все тяжкие, интенсивно печатая абстрактные композиции и выстраивая отечественный вариант символического поп-арта из подручных материалов. Долго не могли понять, каким образом "классовые враги" творили сложно наложенные изображения (о компьютерной верстке мы еще не слыхали), и Виктор изобрел-таки собственный трюк. Он догадался проецировать картинки на экран с двух проекторов и снимать результат своим роскошным "хассельбладом" — получалось не хуже. В самом первом своем макете мне приспичило, чтобы текст обтекал сложную кривую — видел такое в журнале "Vogue". Вот уж охота пуще неволи: пришлось нарезать строчки верстки лапшой и с помощью пинцета выклеивать их по одной — как сейчас помню, их было 82 штуки. Получилось. Была какая-то добротная статья о криогенной технике, и Виктор вморозил шариковый подшипник в брусок прозрачного льда. К наполеоновскому пожару Москвы мы придумали подпалить старый ее план — на снимке вышло отлично. Подольный печатал в нескольких номерах "Закон для дракона". Хорошая была повесть, и хотелось найти ей крепкое графическое сопровождение. Не поленился, сделал пару линогравюр и распечатал одну из них в технике акватинты, подбирая цвет для каждого оттиска — кажется, тогда Подольный окончательно со мной смирился, хотя и не без злости вывел меня в одном из своих рассказов. Больше всего нравилось думать над иллюстрациями к статьям социологов, что шли по ведомству Ирины Прусс. Как-то к очень славной статье о крестьянском мире Бориса Миронова я и вовсе довел коэффициент полезного действия до минимума. Купил мячик в "Детском мире", сплошь расписал его мужиками, бабами и детьми — без промежутков (мы увлекшшсь тогда листами Эшера), вырезал несколько северных изб на линолеуме, напечатал их на куске холстины, а уж Брель все это сфотографировал. Эта композиция годами венчала шкаф в кабинете главного редактора Филипповой и даже перебралась в Кожевники, где выполняла ту же роль уже в кабинете Гриши Зеленко. Это одна из немногих вещей, которыми горжусь. Профессионал такого объема трудозатрат на недорогую картинку себе бы не позволил, но я, к счастью, так и остался любителем с профессиональными умениями. Nec pius ultra — после этого моя работа в журнале постепенно сошла на нет: увлекся другими вещами, был крепко занят и в "Знание — силе", к сожалению, появлялся все реже. Бывал редко, но в моей жизни были два долгих "клуба", которые вклеились в биографию намертво. Первым стал журнал "ДИ", который начал публиковать юнца в далеком 63-м году, и роман с ним длился десятилетиями. Вторым стал "Знание — сила", роман с которым начался десятью годами позже и не остыл по сей день.
ДОБРЫЕ СЛОВА
В наш век, когда настроения молодежи резко качнулись в развлекательную сторону, — что, в общем-то, понятно после долгих десятилетий запретов на необычное, неординарное, — издание научно-популярных журналов приобретает очень серьезное значение. Человек может плясать и петь" но должен при этом уметь думать. И любое издание, приглашающее думать, побуждающее к мысли, в наш век должно быть оценено высоко. Наука интернациональна. В широком смысле она не может быть русской, немецкой или американской. И хорошо, что есть журналы, которые дают возможность быть в курсе жизни науки, ее развития, знать о ее достижениях, проблемах. "Знание — сила" — именно такой журнал. Я помню ваш журнал с детских времен. Каждый новый номер всегда ждали, читали с охотой. Хорошо, что журнал пережил тяжелые времена, что он продолжает выходить, что он сохранил высокий уровень публикаций. Чем больше будет таких просветительских изданий, тем лучше. Я чувствую приближение перемен, предстоящий уход от развлекательности к серьезным увлечениям, к интересу к науке, глубоким знаниям. Так всегда бывает в жизни: отлив — прилив, отлив — прилив. Журнал "Знание — сила" работает на эти перемены. И готов к ним. Вы удержались на служении. На высоком уровне публикаций. Вот и держитесь впредь на том же достойном уровне. [A.Н. Яковлев] академик РАН президент фонда "Демократия"В нежном, хотя уже слегка сознательном возрасте я был соблазнен лозунгом, заключающемся в названии любимого журнала: "Знание — сила". Соблазн подкреплялся не только сочетанием фундаментальности тем с доступностью изложения. Молодое воображение поражало искусство работавших с журналом замечательных художников, которое смогло развернуться на большом формате листов журнала. Могу сказать наверняка: мой выбор пойти в науку был во многом определен и журналом-юбиляром. Поэтому к моим поздравлениям я хочу присовокупить пожелание журналу: оставаться на прежнем уровне высокого и продуктивного соблазна. Нет прекрасней приключений, чем приключения духа! И только настоящая наука открывает этот изумительный мир приключений! В этом суть соблазна. И это должен проповедовать журнал "Знание — сила". Георгий Сатаров, президент фонда ИНДЕМ
Поздравляю любимый журнал "Знание — сила" со славным юбилеем, восьмидесятилетием! Полюбил я вас, когда был молодой и набирался знаний. Догадываюсь, что последние годы не были легкими, но уверен, что впереди светлое будущее, большие тиражи. Потому что ныне XXI век, век экономики, знаний. А знание — сила! Евгений Ясин, научный руководитель Государственного университета "Высшая школа экономики"
Знание — это, конечно, сила, но плохое и неадекватное знание — это саморазрушительная сила. Именно таковы, к сожалению, наши знания или то, что выдается за знание о современной России. Отечественная обществоведческая экспертиза оказалась не способна воспринимать и анализировать происходящее в стране в последние 15-20 лет. Вся фактическая основа (система сбора статистики, социологические выборки и содержание опросов, поддерживаемая грантами тематика исследований и п.т.) отражает или замеряет еще старое общество (средняя зарплата, бюджетная обеспеченность и прочие не имеющие отношения к реальности показатели). Новые процессы, часть которых вообще никак не фиксируется, остаются за пределами просвещенных дебатов и журналистики (скрытые и дополнительные доходы граждан, всеобщая автомобилизация, рекордный для страны уровень потребления товаров и услуг, грандиозное домостроительство и т.п.). Из-за слабого знания страна может разрушить себя в один из самых благополучных периодов своей истории. Чтобы изменить ситуацию, нужно начинать с получения адекватного знания, и здесь журнал "Знание — сила" может выступить пионером утверждения более адекватного, а значит, и более позитивного образа России. С этим нужно торопиться. Глупость саморазрушения вот-вот вылезет для всех наружу или же может окончиться серьезной передрягой к удовлетворению российских и зарубежных отрицателей России. В.А. Тишков, член-корреспондент РАН, директор Института этнологии и антропологии РАН, член Общественной палаты Российской Федерации
Очень личное.
От нашего автора и большого друга Леонида Хотина, некогда соотечественника, теперь — гражданина США, социолога, продолжившего свои исследования и там, писавшего нам о них, много раз пытавшегося нам помочь в трудное для журнала время. "Ириша, ну что тебе написать про твой журнал: что для меня реальная, будничная перестройка началась с беседы в редакции Ларочки Пияшевой, Бори Пинскера с... вот память... будущим министром с двойной фамилией[* Имеется в виду автор и друг журнала Вл. Данилов-Данильян.], а мне казалось, что все немножечко правы, но что все это о какой-то другой стране, в которой я никогда не жил. Или как как-то я в теплой редакторской компании пил чай с тортом, принесенным кем-то из дома, и думал о том, как это прекрасно, но что скоро ничего этого не будет, ибо эта атмосфера ну никак с наступлением рыночных отношений не стыкуется. И вообще, думал я после 20 лет жизни в Америке, понимают ли они, как это все серьезно, по- взрослому. А как мы как-то с тобой на каком-то переходе в метро до хрипоты спорили: я доказывал тебе, что если у вас не будет судов реальных, по ТВ, судебная система не сложится и будет плохо — воры, взяточники и бандиты будет процветать и никакая свободная пресса и демократия вас не спасут. Сегодня без правосудия нет демократии, нет элементарного порядка, а правосудия нет без ТВ, так как то, чего нет на ТВ, в жизни страны просто нет. Это еще Макклюен объяснил популярно. Эхо Москвы? Сегодня это замечательная кухня для интеллигентов. Это все еще школа. Вот в эту бы сторону журнал развернуть... Пока, целую.ДВА МНЕНИЯ О БУДУЩЕМ НАУКИ
 Юло Соостер
Юло Соостер
В 1985 (или 1986) году очень рано утром я приехала в Минск, а поздно вечером Вячеслав Семенович Степин посадил меня на московский поезд. Весь день работали. Молодой профессор философии тогда еще не знал, что скоро будет одним из самых молодых директоров московского академического Института естествознания и техники, потом присоединит к этому посту и должность директора Института философии АН СССР, главного философского института страны. Результатом той моей поездки, о которой я вспоминала часто и с удовольствием, стала беседа, опубликованная тогда же в нашем журнале. И сегодня, работая над нынешним интервью, взятом у Вячеслава Семеновича Степина в его кабинете директора Института философии РАН, я слышу в стенограмме отзвуки идей, которые прозвучали еще тогда, на первой нашей встрече. И сам Вячеслав Семенович сегодня очень напоминает мне того молодого профессора: никакой сановитости за прошедшие годы он не приобрел. Тема монолога академика Степина между тем чрезвычайно серьезная: сдвиги, которые происходят сегодня в научной картине мира. Наш журнал не раз фиксировал эти сдвиги: мы много писали о синергетике, опубликовали литературный портрет Ильи Пригожина, на протяжении многих лет снова и снова возвращались к теме эволюции. Теперь, с помощью Вячеслава Семеновича, можем представить общий набросок новой научной картины мира. Степин называет последний этап развития теории "постнеклассическим". Он посвятил этому этапу главу своей последней книги "Теоретическое знание" переведенной на многие языки.
Вячеслав Степин
Новая научная картина мира... Теперь одна на всех?

Долгое время о единой научной картине мира только мечтали; теперь этот идеал — целостную картину, объединяющую представления о неживой природе, органическом мире и социальной жизни на единых общенаучных принципах — возможно осуществить. Основания многих научных дисциплин предстоит пересмотреть, переосмыслить. Это—составная часть большой культурной трансформации, происходящей в нашу эпоху. Общенаучная картина мира сегодня строится на основе универсального эволюционизма, объединяющего идеи системного и эволюционного подходов. Фундаментальные структуры мироздания традиционно исследовала физика, и поэтому она всегда претендовала на то, чтобы формировать базис общенаучной картины мира. Но большую часть своей истории физика не включала в число своих фундаментальных принципов развития. А биология, занимающаяся как раз развитием, сейчас только создает основы своей теории. Ее преставления связаны с живой природой, которая традиционно не полагалась фундаментом мироздания. Несовместимость парадигм классической физики и биологии обнаружилась еще в XIX веке как противоречие между эволюционной теорией Дарвина и вторым началом термодинамики. Если биологическая теория говорила о созидании в процессе эволюции все более сложных и упорядоченных живых систем, то термодинамика — о разрушении, о непрерывном росте энтропии. Возможность решить это противоречие появилась только в последней трети прошлого века. Универсальный (глобальный) эволюционный принцип, позволивший найти путь к такому решению, часто понимают как экстраполяцию идей биологической эволюции в астрономию и геологию, на все сферы действительности, на неживую, живую и социальную материи. Но эволюционизм и в самой биологии существенно изменился по сравнению с XIX веком, обогатившись системным подходом. Это позволило рассматривать объекты не просто как системы, а как открытые самоорганизующиеся системы. Академик Никита Моисеев писал, что действие всех природных и социальных законов можно представить как постоянный отбор, когда из множества возможностей выбираются лишь некоторые классы и состояния. В этом смысле все динамические системы обладают способностью "выбирать", хотя конкретные результаты "выбора", как правило, нельзя предсказать заранее. Н. Моисеев описал два типа механизмов такого "выбора": адаптационные, под действием которых система не приобретает принципиально новых свойств, и бифуркационные, связанные с радикальной ее перестройкой. Он сформулировал принцип экономии энтропии: в направленном самоорганизующемся процессе "преимущество" получают сложные системы, а не простые, поскольку именно они позволяют утилизовать внешнюю энергию в наибольших масштабах, наиболее эффективно. В утверждении универсального эволюционизма, как принципа построения современной общенаучной картины мира, главную роль сыграли три концепции: теория нестационарной Вселенной, синергетика и современное представление о биосфере и ноосфере. Теория расширяющейся Вселенной, достаточно хорошо описывая события, происходившие через секунду после начала расширения, испытывала значительные трудности при попытке описать наиболее загадочные события от первовзрыва до мировой секунды после него. Ответы удалось получить в рамках теории раздувающейся Вселенной. Она возникла на стыке космологии и физики элементарных частиц. Тут ключевой элемент — так называемая инфляционная фаза, стадия ускоренного расширения. Она продолжалась 1032 секунды, и за это время диаметр Вселенной увеличился в 1050 раз. После колоссального расширения установилась фаза с нарушенной симметрией; это изменило состояние вакуума и породило разные типы элементарных частиц. Идея исходной симметрии объединяла в ней основные типы взаимодействия: сильные, электромагнитные, слабые и гравитационные. Предполагается, что спонтанное нарушение симметрии "расщепило" исходное состояние и породило четыре основных взаимодействия природы. Тогда типы взаимодействия выступают уже не как раз и навсегда данные, как это характерно для классической физики, а как возникающие в процессе эволюции. Теория раздувающейся Вселенной радикально изменила наше представление о мире: в частности, как пишет А.Д. Линде, изменился "взгляд на Вселенную как на нечто однородное и изотропное и сформировалось новое видение Вселенной как состоящей из многих локально однородных и изотропных мини-вселенных, в которых и свойства элементарных частиц, и величина энергии вакуума, и размерность пространства-времен и могут быть различными".

Не менее важную роль в формировании новой научной картины мира играет теория самоорганизации (синергетика). Она изучает любые самоорганизующиеся системы, состоящие из многих подсистем (электроны, атомы, молекулы, клетки, нейроны, органы, сложные многоклеточные организмы, человек, сообщества людей). Особенно ее интересует согласованное состояние процессов самоорганизации в сложных системах различной природы. Самоорганизующейся можно считать систему термодинамически открытую, описываемую нелинейными динамическими уравнениями, в которой отклонение от равновесия превышает критические значения и процессы в которой происходят кооперативно. Довольно долго способными к самоорганизации считали только живые системы, а объекты неживой природы, как полагали, если и эволюционируют, то лишь в сторону хаоса и беспорядка. Оставалось непонятным, как из подобного рода систем могли возникнуть объекты живой природы, способные к самоорганизации, и как взаимодействует живая и неживая материя. Доклассическая физика имела дело с закрытыми системами и исключала из рассмотрения "фактор развития". Время для нее было несущественно; мало того, оно мыслилось обратимым, поскольку состояния объектов в прошлом, настоящем и будущем были для нее практически неразличимы. Но подавляющее большинство природных объектов - открытые системы, которые обмениваются энергией, веществом и информацией. Традиционная парадигма не справлялась с нарастающим количеством аномалий и противоречий. Принципиально новый подход предложила школа И. Пригожи на: ее исследован ия продемонстрировали, что, удаляясь от равновесия, термодинамические системы приобретают новые свойства и начинают подчиняться особым законам. Был описан новый тип динамического состояния материи —диссипативные структуры, СПОсобные к самоорганизации, носящие необратимый характер. Необратимость — это как раз то, что характерно для современных неравновесных состояний. Они "несут в себе стрелу времени" (И. Пригожин) и являются источником порядка, порождая высокие уровни организации. В диссипативных структурах порядок возникает через флуктуацию — случайные отклонения величин от их среднего значения. Иногда эти флуктуации могут усиливаться, и тогда существующая организация не выдерживает и разрушается. В такие переломные моменты (точки бифуркации) оказывается принципиально невозможно предсказать, в каком направлении пойдет дальнейшее развитие, станет ли система хаотической или перейдет на более высокий уровень упорядоченности. Оказывается, чем сложнее система, тем большей чувствительностью она обладает по отношению к флуктуациям, а это значит, что даже незначительные отклонения, усиливаясь, могут изменить структуру. Так что наш мир предстает лишенным гарантий стабильности. Современные концепции самоорганизации позволяют разрешить противоречие между теорией биологической эволюции и термодинамикой. Теперь эти теории не исключают, а предполагают друг друга, если классическую термодинамику рассматривать как своего рода частный случай более общей теории — термодинамики неравновесных процессов. Впервые возникает научно обоснованная возможность преодолеть традиционный разрыв между представлениями о живой и неживой природе. Жизнь больше не выглядит как островок сопротивления второму началу термодинамики. Она возникает как следствие общих законов физики с присущей ей специфической кинетикой химических реакций, протекающих в условиях, далеких от равновесия. Не случайно исследователи, оценивая роль пригожинскои концепции, говорили, что, переоткрывая время, она открывает новый диалог человека и природы. В свете этих идей и открытий новую актуальность обрела концепция биосферы и ноосферы В. Вернадского. В ней жизнь предстает как целостный эволюционный процесс (физический, геохимический, биологический), заключенный как особая составляющая в космическую эволюцию. Осознание этой целостности во многом определяет стратегию дальнейшего развития человечества. Проблемы коэволюции человека и биосферы постепенно становятся доминирующими не только в современной науке и философии, но и в стратегии практической деятельности человека. Специальные научные картины мира со второй половины XX века значительно снижают уровень своей автономности и превращаются в аспекты и фрагменты целостной общенаучной картины мира. Они соединяются в блоки этой картины, характеризующие неживую природу, органический мир и социальную жизнь и реализуют (каждая в своей области) идеи универсального эволюционизма... На первый взгляд, как бы повторяется ситуация, характерная для ранних этапов развития новоевропейской науки, когда механическая картина мира, функционируя как общенаучная, обеспечивала синтез достижений науки XVII — XVIII столетий. Но сходство лишь внешнее. Современная научная картина мира основана не на стремлении к унификации всех областей знания, их редукции к принципам одной какой-либо науки, а на единстве и многообразии разных наук. Известно, что специальные картины мира, как и самостоятельные научные дисциплины, существовали нс всегда. Их нс было в период становления естествознания. Возникнув в эпоху дифференциации науки, они затем постепенно начинают утрачивать самостоятельность, превращаясь в аспекты или фрагменты современной общенаучной картины мира.
Георгий Щедровицкий
"Наука умерла!"

Так полемически сформулировал тему доклада в редакции журнала "Знание — сила" Георгий Петрович Щедровицкий, известный методолог, глава особой методологической школы. На самом деле Георгий Петрович и не думал "закапывать" науку как таковую; как вы можете убедиться, он говорил о другом; о новом типе знания, которое будет адекватно новым социокультурным проблемам. В те времена журнал не рискнул опубликовать его доклад. Мы делаем это теперь, когда нет уже ни самого Георгия Петровича, ни многих из его слушателей. Остались проблемы и остались идеи, как можно подойти к их решению. Подавляющее большинство исследователей во всех областях науки предпочитает работать только в рамках своих научных предметов и на представителей других дисциплин смотрит как на "чужаков", которых надо опасаться и держать на приличном расстоянии, чтобы предохранить свои научные предметы от "загрязнения" и вульгаризации. И во многом в наш век массовой коммуникации эти опасения и заботы оправданы и разумны. Но, с другой стороны, мир, в котором мы живем и действуем, един, он не разделен на автономные географические, геологические, физические и социокультурные миры, и те проблемы, которые стоят сейчас перед учеными-предметникам и, как правило, являются не только и не столько предметными, сколько общими для многих наук, а часто — для всех, и естественных, и общественных. Й в большинстве случаев эти проблемы невозможно решить усилиями представителей одной какой-либо науки. Главное, что реально нас разделяет сейчас, это уже не различия в научно-предметных представлениях, а методологические различия в подходах, которые мы принимаем, организуя свою работу, различия в способах онтологического видения и представления мира, различия в средствах и методах нашей мыслительной работы, оформляемые часто как различия в "логиках" нашего мышления. Два специалиста, исповедующие, скажем, системный подход, легче сговорятся между собой, даже если один из них — геолог, а другой — социолог, нежели в том случае, когда оба они — геологи, но один работает в системных представлениях, а другой — в вещных. Это существеннейшая характеристика современной социокультурной ситуации.

Всякий исследователь, принимающий натуралистический подход, независимо оттого, в какой науке он работает, считает, что ему уже дан объект его рассмотрения, что он сам как исследователь противостоит этому объекту и применяет к нему определенный набор исследовательских процедур и операций, которые и дают ему, исследователю, знания об объекте. Эти знания представляют своего рода трафареты, которые мы накладываем на объект и таким образом получаем его изображение. Исследователь-натуралист никогда не задает вопросов, откуда взялся "объект" и как он в принципе получается, ибо для него природа с самого начала состоит из объектов, а точнее, как писал К. Маркс, из объектов созерцания, которые и становятся затем объектами специального научного исследования. Натуралистический подход, на мой взгляд столь же законен и логически основателен, как и все другие подходы; более того, он прекрасно проработан за последние четыреста лет, и именно ему наука обязана своими основными успехами. Но он отнюдь не единственный, существуют и другие, по идее не менее значимые подходы. Я реализую другой — деятельностный, или, точнее, системомыследеятельностный (СМД) подход, который исходит не из оппозиции "субъект — объект" (или "исследователь — исследуемый объект"), а из самих систем деятельности и мышления, из тех средств и методов, той техники и технологии, тех процедур и операций и. наконец, тех онтологических схем и представлений, которые составляют структуру мыследеятельности. Сознание натуралиста фиксирует только объект исследования, сосредоточено только на нем, только его замечает и видит — и в этом, по-видимому, величайшая простота и сила натуралистического подхода, его бесспорное практическое преимущество. Оно видит вместо сложнейших структур мыследеятельности только два морфологических фокуса ее — объект и субъект, их оно различает и разделяет, между ними проводит границу, стягивает все "мыследеятельное" к ним одним, а затем полагает между ними отношение, или связь особого рода — познавательно-исследовательскую. Подобное представление сложилось в результате философского осмысления научно-исследовательской работы в XVII — XVIII веках — рефлексии в большей мере прожективной и спекулятивной, нежели ретроспективной и исследовательской. Оно затем было заимствовано широким кругом естествоиспытателей и закреплено традицией. Так "объект" оказался "вынутым" из систем мыследеятельности и знаний и был противопоставлен "субъекту" в качестве самостоятельной реальной сущности, существующей в мире природы. И хотя такое представление было совершенно очевидным переупрощением реального положения дел, оно позволило сознанию натуралиста сосредоточиться на "объекте" и начать анализировать его с помоoью специальных процедур. Но после того как такая форма понимания и знаний была задана, мы уже в любых условиях, априорно, как это показывал И. Кант, начинали видеть то, что знали. Мы начинали видеть объект со всеми теми характеристиками, которые мы приписали материалу природы в нашей мыследеятельности, и все эти характеристики мы приписывали отнюдь не мыследеятельности, а именно объекту природы как таковому. Образно говоря, реально мы как бы "наклеивали" наши знания на материал природы и таким образом порождали объекты рассмотрения. Пока это не сделано, объектов просто нет. А если нет объектов, то не может быть и натуралистического подхода в изучении их. Натуралистический подход в исследовании возможна лишь при условии, что мы уже знаем, хотя бы в общих чертах, как устроен объект анализа, где проходят его границы и какими методами его можно исследовать. Естественные науки, разворачивавшиеся на базе натуралистического подхода, стали возможны лишь после того, как Фр. Бэкон, Г. Галилей, Р. Декарт и другие, опираясь на огромную методологическую и философскую работу своих предшественников — математиков, логиков и метафизиков, — построили общие представления о природе и возможных способах существования объектов природы. И после того как их последователи в XVII — XIX веках создали еще целый ряд более конкретных представлений о разных типах объектов природы, соответствующих разным естественно-научным категориям, — субстанции, процессы, взаимодействия, вещи, поля, множества частиц и т.п. С начала XVII века, вот уже около четырехсот лет, мы продолжали эксплуатировать эти базовые представления и строили на них, одно за другим, разные научные предметы. Если брать науку саму по себе, изолированно от развития инженерии, техники и производства, то эту работу можно продолжать бесконечно, создавая все новые и новые натуралистически организованные научные предметы. Но за это время кардинально изменился характер самой общественной практики, и все это перестало соответствовать тем проблемам и задачам, которые практика порождает и творит. Она сложилась и оформилась как многосторонняя и комплексная, порождающая такое содержание, которое никак уже не может быть выражено в представлениях о традиционных натуральных объектах. И мы, следовательно, попадаем в социокультурную ситуацию, напоминающую ту, в которой начинали свою работу философы, методологи, математики и физики XVII века: мы должны создать принципиально новые онтологические представления о мире деятельности и мышления и таким образом заложить основания для развития системы мыследеятельностных наук. Это связано с целым рядом изменений в структуре и формах организации нашего мышления, которые подготавливались исторически и происходили в особенно явной и заметной форме в последние три столетия. Наряду со схемами и моделями объектов появились и постепенно распространялись схемы мышления, деятельности и мыслсдсятсльности как таковых. К середине XX века оформилась установка на создание наук о мышлении и деятельности. Потенциально она несет в себе новую научно-техническую революцию. В последние 100 лет становились все более значимыми, а после первой мировой войны стали господствующими организация и управление, особенно в областях, где развертывалась полипрофессиональная, полипредметная работа, которая нуждалась в комплексной и системной организации. Соответственно, центр переносился со схем объектов мыследействия на схемы и модели самих мышлений, деятельности как таковых. Оформилась особая методологическая сфера, которая складывается как бы над наукой, захватывает и подчиняет ее себе и становится новой исторической формой "всеобщего" мышления, замыкающего на время рамки нашего мира. Но в течение трех последних столетий методологическая работа развивалась преимущественно на материале науки. Связь между ними была столь тесной и оказала такое влияние на формы методологического самосознания, что чуть ли не повсеместно методологию рассматривают как надстройку над наукой, обязанную последней как происхождением, так и своим су шествованием. Тогда у нее нет и быть не может самостоятельных форм организации и ее специфических средств: методология рассматривалась по образу и подобию науки — чаще всего в виде метатеории. Однако само представление об автономном существовании науки как особой сферы познания возникло и получило распространение не так давно, в конце XVIII — начале XIX века, и приблизительно соответствует лишь тому, что реально сложилось и существовало только во второй половине XIX и первой половине XX веков. Поэтому, если мы хотим рассмотреть взаимоотношения методологии и науки в более широком историческом контексте, скажем, от античности до наших дней, и получить более глубокие и более адекватные представления об этом отношении, то должны начинать анализ не с обособленной и изолированной науки, а с нерасчлененной соцелостности всех форм человеческого мыследействия — мифологических, конструктивно-технических, собственно научных, инженерных, проектных и так далее. Соцелостность всех форм и типов мыследействия реально существовала, по-видимому, во все периоды развития человеческого общества и существует сейчас, сколь бы разнообразными не были входящие в нее формы мышления и деятельности и как бы нс обособлялись они друг от друга организационно. В каждую историческую эпоху какая-то форма мыследеятельности выдвигалась на передний план и брала на себя представление и организацию всей сферы. В предантичный период это была мифология, в античный — философия, в средние века — теология, в XVII — XVIII — снова философия, в XIX и XX веках — наука. Причем во всех переломных точках, характеризующих основные этапы становления науки — в античности, в позднем Средневековье и в XVII — XVIII века, — методология складывалась раньше, а наука появлялась и оформлялась внутри нее, по сути дела, как специфическая организация некоторых частей методологии. Элементарный анализ работ Платона, Аристотеля, Евклида, Птолемея, Орема, Фр. Бэкона, Галилея, Декарта и других выдающихся мыслителей показывает, что методологическое мышление выступало при этом не только в качестве объемлющей системы, но также и в качестве средства порождения специфической организованности научного мышления — так называемых научных предметов. В сочинениях Галилея и Декарта это выявляется с такой же отчетливостью, как и в сочинениях Птолемея и Аристотеля. Организовавшись, научное мышление начинало развиваться по своим внутренним, имманентным законам, а методологическое, породившее науку, наоборот, начинало распадаться и как бы отходило на задний план. Параллельно появлялась "вторичная методология" — методология научного исследования, которая организует этот тип мышления в относительно замкнутое и автономное целое. Так складываются различные сферы профессиональной мыследеятельности. Возникшие совершенно естественно и необходимо в качестве служб, обеспечивающих развитие профессиональных форм мышления, все эти "вторичные" методологии начинают разрушать и дезорганизовывать целостность сферы мыследеятельности: каждый тип мышления благодаря своей профессиональной методологии обособляется от других типов мышления и "окукливается". Разделяются и окукливаются и разные формы методологического мышления, превращаясь в так называемые "частные методологии". Таким образом, и на уровне методологического мышления, по идее призванного интегрировать сферу мыследеятельности, начинают воспроизводиться те разобщенность и обособленность, которые характерны для современных наук и профессиональных типов мышления. Альтернатива, на мой взгляд, в развитии универсального методологического мышления, которое включило бы образцы всех форм, способов и стилей мышления — методические, конструктивно-технические, научные, проектные, организационно-управленческие, исторические и так далее, — могла бы свободно использовать знания всех типов и видов. Базироваться такая универсальная методология будет в первую очередь на специальном комплексе методологических дисциплин — теории мыследеятельности, теории мышления, теории деятельности, семиотике, теории знаний, теории коммуникации и взаимопонимания. Если сегодня представления об объекте изучения кажутся нам нескладными и внутренне противоречивыми. если они нс раскрывают новых перспектив перед нашей практикой, то надо, говорим мы, перестать "пялиться" на объект и в нем искать причины и источники этого беспорядка, а обратиться к своей собственной мыследеятельности, к ее средствам, методам и формам организации, и произвести перестройку в них. Наши представления об объекте, да и сам объект как особая организованность, задаются и определяются не только и даже не столько материалом природы и мира, сколько средствами и методами нашего мышления и нашей деятельности. И именно в этом переводе нашего внимания и наших интересов с объекта как такового на средства и методы нашей собственной мыследеятельности, творящей объекты и представления о них, и состоит суть деятельностного подхода. Если натуралистический подход ориентирует нас в первую очередь на материал природы, в нем непосредственно видит разрешение затруднений и парадоксов современной науки, то деятельностный подход, напротив, ориентирует нас в первую очередь на средства, методы и структуры нашей собственной мыследеятельности, в их перестройке и развитии видит он путь дальнейшего совершенствования самой науки.
ДОБРЫЕ СЛОВА
...Дорожки там действительно неведомые. Тем и интересны прежде всего люди, в большинстве своем все же любознательные. И я, как такой любознательный человек, решила полистать насколько журналов "Знание — сила". Начала листать... И стала читать. Оторваться не могла. Было так интересно! И про современную Африку, и про лабиринты, и про первых людей... Все — лаконично, четко. Понятно даже то, чего раньше уложить в свою гуманитарную головушку никак не могла! Вывод простой: знание — действительно сила. Вспомнила юные годы, захотелось снова учиться, становиться все умнее и сильнее. Пределов-то нет. А удовольствия сколько! А еще я теперь буду подписываться на журнал "Знание — сила". Может, и вправду поумнею и буду сильнее... Римма Казакова, поэт, первый секретарь Союза писателейДорогие друзья, спасибо за то, что вы есть. Что есть ваш ресурс в сети. Я живу в Нью-Йорке. По ссылке нашел ваш журнал. Открыл сайт, пошел по карте и охнул. Невероятно, но там есть все, что я любил, — Раиса Берг, Анатолий Варшавский, Роман Подольный, Евгений Терещенко. Я вынужденно сижу дома, поскольку работал в Манхеттене. Наша контора сильно пострадала. Погибли коллеги. Я был здорово подавлен. И тогда нашелся Ваш журнал. Я сидел, читал любимые статьи и понимал, что мир еще вертится. Впервые я прочел "Знание — сила" где-то в пятом классе. Помню, это был выпуск с научной фантастикой, и навсегда полюбил этот жанр. Я постоянно читал журнал, — тогда подписка была дефицитом, сторожил около почтового ящика — могли своровать. Получал журнал, лихорадочно искал любимых авторов. Глотал, потом медленно и неторопливо прочитывал весь журнал от корки до корки. Эго были 1967-1968 годы. Потом папа отказался подписывать журнал, и я собирал свои трамвайные деньги и потом выпросил журнал у знакомой почтмейстерши. Большой удачей я почитал то, что от одной уезжавшей в эмиграцию я получил в подарок подшивку журналов с 1961, по-моему, года. Я нес их домой, тщательно завернув в целлофан. В переполненном львовском трамвае я не удержался, развернул и стал рассматривать яркие иллюстрации не известного мне тогда Эрнеста Неизвестного. В журнале я прочел статьи, определившие мое будущее профессионально и философски. Потом я уехал из СССР. Я лечился после ранения на Ливанской войне и нашел в госпитале несколько выпусков "Знание — сила". Я зачитал их до дыр. После армии я поехал в Бразилию. По дороге в Нью-Йорк я украл из русской библиотеки несколько выпусков "Знание — сила", и они были со мной все время моего головокружительного полуторагодового кругосветного путешествия. Когда в 1988 году открылся железный занавес и моя знакомая поехала "открывать" Союз, я попросил привести мне подшивку "3-С". Я помню чувство, как я листал непривычно маленькие книжки журнала и читал перестроечные тексты, которые невероятно было видеть на русском языке, да еще изданные в Москве. Спасибо за то, что вы есть. Михаэль Дорфмаи
ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ
Песочные часы для вавилонских строителей
Если бы не беда, мы с Никитой Ильичом Сосфеновым, скорее всего, никогда бы не встретились. Он пришел на панихиду по Григорию Андреевичу, нашему главному редактору, которого, кажется, даже ни разу не видел. Пришел просто как человек, который уже много лет читает и любит "Знание — силу". И сказал какие-то очень точные, очень уместные слова о журнале, которые тогда не было никакой возможности записать. А потом по нашей просьбе рассказал о себе. Прелесть вашего журнала в том, что он, с одной стороны, вполне интеллектуален, с другой — достаточно доступен. Он связывает между собой разные, сузившиеся, ставшие непонятными друг для друга области науки. Я его читаю уже лет 25-30, не меньше. Он был мне интересен всегда и по сей день. У меня с ним много общего. Я работаю в Институте кристаллографии, но я не классический кристаллограф. Я веду рентгеноструктурный эксперимент на кристаллах в лаборатории структуры белка. Мы исследуем строение молекул белков, то есть, по существу, занимаемся молекулярной биологией. Молекулярная биология, изучающая строение живых молекул, вынуждена обращаться к кристаллографии, потому что единственный способ, которым можно узнать строение белковой молекулы, — это рентгеноструктурный анализ. Поэтому мы работаем в контакте с институтами сугубо биохимического толка: институтом молекулярной биологии, институтом биохимии, институтом биоорганической химии, с соответствующими кафедрами на биологическом факультете МГУ. Все это — круг учреждений, которые занимаются молекулярной биологией. Всем им нужен рентгеноструктурныйэксперимент. Его-то и проводим мы. Моя специальность — на стыке разных биологических дисциплин, она как бы связывает их. Строение науки вообще можно уподобить песочным часам: сверху — нечто 01ромное, которое переходит в тоненькое горлышко, а потом снова расширяется. Наверху— проблематика, внизу — наша интерпретация знаний. Но изучение природы вещей всякий раз должно пройти сквозь узенькое горлышко эксперимента. В нашем случае это — кристаллография белковых молекул. Журнал "Знание — сила" занимается тем же самым: связывает воедино самые разрозненные вещи. Он тоже — в горловине часов. И это безумно интересно. Я занимаюсь получением дифракционной картины от кристалла. Конечно, можно было бы замкнуться на своей узкой специальности и считать, что этого достаточно. Но в какой-то момент я понял, что для того чтобы успешно делать свое узкое дело, важно иметь некоторую широту понятий и представлений о жизни вообще. И вот эту широту представлений я пытаюсь составить самыми разными способами. В том числе и читая "Знание — силу". Мне, который совершенно далек по своей профессии от философии, от космогонии, очень интересно читать в "Знание — силе" статьи, посвященные этим как будто совершенно "не моим" наукам. И написано это так, что я это понимаю. У меня вообще были разные периоды в жизни: в какой-то момент я подружился с альпинистами и ходил в горы, потом лазил со спелеологами по пещерам, потом три года ездил с археологами в экспедиции. Это было очень интересно и до сих пор помогает мне в жизни. Моя основная специальность — инженер. Я 1932 года рождения, ходил в школу во время войны. После войны было голодно, и я, как только было можно, перешел в школу рабочей молодежи и устроился работать в институт, который сейчас называется институтом электроэнергетики. Там я подружился с физиком Левой Фейгиным — его туда распределили как выпускника физфака. Я получил в заочном энергетическом институте специальность инженера-электрика, ушел служить в армию. Тем временем в первом крупном еврейском погроме Леву выперли из института электроэнергетики. Вернувшись из армии, я снова начал общаться с Левой. Оказалось, что он стал заниматься рентгеном. Тут я узнал, что рентген существует не только в медицинском кабинете, но еще и в науке, и с Левиной помощью в 1964 году перебрался в кристаллографию. С тех пор я перестал быть инженером. Защитил диссертацию по физико-математическим наукам и стал рентгенщиком. В институте электроэнергетики мне приходилось заворачивать гайки, спаивать проволочки, ковать что-то железное... Когда я пришел сюда, в физический институт, в лабораторию, которая занимается связью с биологией, оказалось, что я уникум, потому что благодаря своему прошлому умею ковать железо и заворачивать гайки. А здесь этого не умеют. Поэтому я сразу стал очень нужным человеком. Я до сих пор объединяю эти два начала: с одной стороны, интерес к науке, к физике и молекулярной биологии, с другой — практические навыки, которые получил когда-то. Пожалуй. я в этом смысле — не совсем типичное явление. Кроме того, у меня был довольно большой период, когда я был связан еще и со школой: в школе, где учился мой младший сын, я преподавал естествознание. Когда я туда пришел, у них были учителя русского языка, физкультуры, фольклора, пения, арифметики... — но никто не учил естествознанию как таковому: не показывал детям природу как целое. В природе масса всяких интересных вещей, но нужен объединяющий взгляд, прежде чем начнется изучение частных дисциплин. Вот я несколько лет и занимался этим с ребятами. Мне вообще жаль, что не существует журнала. даже, пожалуй, нескольких журналов, — для l-2-го классов, для 3-4- го, 5—6-го... с идеологией "Знание — силы", но держащих уровень, соответствующий ребятне. Я не стану вам советовать завести в журнале страничку для маленьких детей — здесь есть тонкости, должен быть человек, который мог бы этим эффективно заниматься. Но чего-то такого очень не хватает. Пожалуй, я вообще ничего не стал бы менять в журнале. Я бы хотел, чтобы он остался таким, какой есть. По-моему, вообще очень важно, чтобы во всем, что мы делаем, ничего не "выпирало", чтобы выдерживался некий общий уровень. В "Знание — силе" такой уровень сейчас выдерживается. Это я отношу к числу достоинств журнала. И главное — умение давать общий язык представителям самых разных специальностей, помогать им видеть единство в том, чем все они занимаются. Вот в Вавилоне когда-то строили башню и не смогли построить, потому что люди, строившие ее, перестали понимать друг друга. А был бы у них журнал "Знание — сила", будьте уверены: Вавилонская башня была бы построена. У каждого журнала с ярко выраженной физиогномией есть свои типы не только авторов, но, что менее очевидно, и читателей. Находит ли их журнал? Создает ли? Скорее всего, и то, и другое. Во всяком случае, мне показалось, что Никита Ильич, человек с очень индивидуальной интеллектуальной и профессиональной биографией, — типичный "знание-сильскит читатель. Как на заказ. Причем сложившийся в этом качестве явно задолго до того, как взял в руки первый номер "Знание — силы". А еще говорят, читатель — это миф! Записала Ольга БаллаИрина Прусс
Про редакцию
Журнал делают журналисты, даже когда он авторский. Автора еще надо найти — не того, который жаждет печататься, а того, кому есть, что сказать. Ему надо помочь додумать свою светлую мысль до кониа и выразить ее не на научном канне л ярите, а на общекультурном языке, что часто порождает новые смыслы, неожиданные для самого автора. Не всегда же так везет, что автором твоим окажется Эйдельман. Надо убедить главного редактора, что дискуссия об эволюции, например, даст возможность высказаться лучшим умам советской биологии и философии, что она будет глубока и драматична. Нашему биологу Татьяне Чеховской и Григорию Зеленко это удалось, и дискуссию об эволюции можно читать с захватывающим интересом до сих пор. Правда, чтобы так случилось, надо было иметь такого главного редактора, как Нина Сергеевна Филиппова. Знаменитая серия статей по плитотектонике была неудобна для некоторых значительных людей в академической иерархии. Александр Гангнус, один из блестящих представителей той самой команды, которая и создавала наш журнал, начал планомерную атаку на догматы геологии с позиций современных теорий мировой науки; позже эту миссию взяла на себя Галина Шевелева. Мы продемонстрируем вам, как разворачивалась эта славная история, и дадим возможность высказаться новым оппонентам ныне господствующей теории. Тот блистательный художественный контекст, в котором подобные акции возможны и даже как бы предполагаются, создали журналисты, писавшие о науке так, как мало кто мог написать. Так писаа о науке Карл Левитин в своей "Геометрической рапсодии". Кстати, он же первым рассказал историю о том, как учат слепоглухонемых детей. Научное содержание статьи с принципиально новыми выводами Александра Мещерякова и Александра Лурии естественно переплеталось с измерением человеческим, представленным с редкостным тактом и сдержанностью. Человеческое измерение советская официальная печать осваивала с трудом. слишком долго человек оставался для нее только трудовым ресурсом, и сам советский человек привык относиться к себе точно так же. Для многих оказались волнующим откровением статьи по психологии, организованные и написанные еще одной представительницей той же команды отиов-матерей-основателей — Галиной Башкировой. Ее усилиями появилась знаменитая серия Нины Молевой о России XVII века: не классовая борьба, а девица у окна со свекольным румянцем, расставлены кресла, — быт, повседневность еще не вошли в моду, но уже поселились в журнале. Откровением каждый раз становились и репортажи Юрия Лексина из какой-нибудь биологической лаборатории или с берегов усыхающего Аральского моря — таким пронзительным был его рассказ, например, о лабораторной мыши. Даже "Мелочи" (мелкая информация) становились изящны, осмыслены, обращенными к человеку под пером Наталии Федотовой. Со временем то же человеческое измерение приобретало в журнале все большую основательность и серьезную научную оснащенность. Владимир Левин породил на страницах журнала "Институт Человека" прежде, чем он образовался на самом деле, — тот самый случай, когда мы были рады, что у нас украли идею. Гости нашего виртуального института систематически собирались, выслушивали серьезные доклады, обсуждали их, а разница между этими заседаниями и традиционными научными состояла в явном интересе часто маргинальных научных тем для общества и в обязательности свежих, неожиданных идей. Левин же придумал и создал особый "журнал в журнале", "Лицей", адресованный самым "продвинутым" учителям и родителям — с лекциями и задачками виднейших ученых и философов, с размышлениями о школе и образовании лучших учителей, с психологическим анализом школьных коллизий. Советская цензура категорически не одобряла публикацию научной фантастики: будущее было внятно изложено в идеологических прописях и обсуждению не подлежало. Роман Подольный, сам писатель-фантаст, с добродушным, но непреодолимым упорством "пробивал" всякое свежее слою в советской фантастике — чем это было чревато для журнала, можно понять по материалам в конце номера. Роман вдобавок учредил в журнале несколько серий, много его украсивших: "Таинственные века", "Один день года" — они, как и многие другие статьи и серии, как организованная позже Галиной Бельской серия "Убийства в доме Романовых", "Россия на качелях реформ", "Женские истории в истории", населяли прошлое живыми людьми, которые страдали, предавали и преданно друг друга любили. Каждый редактор ведет несколько наук — но Григорий Зеленко обладал эрудицией уникальной. Он занимался биологией, профессионально рассуждал о филологии и лингвистике, был знатоком отечественной истории и особенно увлекался историей Великой Отечественной войны. В годы его работы главным редактором каждый из нас убедился в его умении работать практически с любым материалом, извлекая из него принципиальные идеи, неожиданные повороты мысли. "Изобретут новую гайку — это нам не интересно, — учил новичков асе "железной" тематики научно-технического прогресса Борис Зубков. — Новый винт — тоже не для нас. А вот гайковинт какой-нибудь — в этом что-то есть". В этом — дух журнала, как и в названии передачи, организованной журналом совместно с радио "Эхо Москвы": "Не так..." Как и в детективно закрученных острых сюжетах Евгения Темчина все о том же научно-техническом прогрессе... Отряд "высоколобых" пополнила позже Инга Розовская, приручившая философскую мысль в журнале; теперь этим же занялась Ольга Балла. Новые молодые сотрудники редакции не работали с теми, кто придумал, выстроил журнал. Они принесли новые замыслы, новый язык, привели новых авторов. Но к нам они пришли не случайно — это осознанный выбор не места работы, а места жизни: такая у нас несколько старомодная традиция. Это новое поколение сотрудников редакции само выросло на журнале "Знание — сила", они читали его с детства. Теперь они его делают. Они пишут о том, что осталось от праздника, когда из него удалились прежние смыслы; о том, что находит и что теряет человек, передоверяя решение своих проблем психотерапевту; о том, измеряет ли тест 1Q на самом деле ум ( или глупость) - или что-то другое; о том еще, как новая царица наук — генетика все меньше напоминает науку и все больше — технологию. Еще о том, как язык и общепринятые обряды руководят поведением людей, придавая им национальную форму. И еще о том, почему у нас так много ученых и так мало своих принципиально новых технологий. О многом другом. В этом номере они идут по следам акций журнала, ставших вехами в его истории. И обнаруживается, что тема когда-то была выбрана правильно, и точно сформулирован вопрос, на который сегодня все еще ищут - и находят неожиданные ответы... Живой организм, журнал должен и будет меняться. И оставаться самим собой.МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Они движутся!
К середине XX века в геологии сложилась парадоксальная ситуация: огромный фактический материал, собранный не одним поколением ученые не находил объяснения господствовавшей в то время геосинклинальной теории. Пристальное внимание многих ученых уже было обращено на другую теорию — теорию дрейфа континентов, выдвинутую А. Вегенером еще в 1912 году. Но долгое время она оставалась лишь одной из гипотез — маленьким эпизодом в развитии геологической мысли. Официальная наука отказывалась признать ее и отчаянно цеплялась за идеи фиксизма (в противоположность "мобилизму" А. Вегенера). Это сейчас понятие "движение плит" стало обыденным, а тогда, в 60-е годы XX века, велись отчаянные споры. Особенно остро это вопрос стоял в нашей стране, где фиксизм занимал прочные позиции. У нас почти вся геология базировалась на изучении стабильных континентальных областей, где практически все можно было объяснить с точки зрения геосинклинальной гипотезы и вертикальных движений, и другой теории просто не требовалось. И вот в конце 60-х годов к дискуссии подключился наш журнал. Это было весьма неординарно. Обычно достоянием широкой публики становятся идеи и теории, уже принятые официальной наукой. А тут на страницы научно-популярного журнала хлынул поток статей, в которых приводились аргументы в пользу спорной теории. Но журнал отважился на этот шаг, поскольку ее отстаивали серьезные, заслуживающие полного доверия ученые, которые в то же время были и друзьями "Знание — сила". Следует отметить тех, кто отвечал за раздел наук о Земле в нашем журнале. Имея геологическое или географическое образование, они вполне могли оценить достоинства новой гипотезы и решиться на публикацию подобных материалов. В первую очередь это Александр Гангнус, позднее — Галина Шевелева, именно благодаря их усилиям долгое время в журнале развивалась эта тема. За период 1967-2000 годов было опубликовано около сорока статей на эту тему, авторами которых по большей части были выдающиеся ученые: Л. П. Зоненшайн, Г. Н. Кропоткин, В. Е. Хайн, А. Яншин, Ю. Пущаровский, 0. Г. Сорохтин, А. Городницкий.Кадриль континентов
Плитотектоника на страницах журнала "Знание — сила"
В 60-70-е годы прошлого века П. Кропоткин. "Куда течет земная твердь". 1967 "Мы живем на медленно, но неуклонно меняющейся планете. Продолжается разбегание берегов Индийского, Северного Ледовитого и Атлантического океанов, начавшееся сто пятьдесят миллионов лет назад. Неумолимо наступают раздвигаемые континенты на самый древний из существующих — Тихий океан. Не ожидает ли Великий океан судьба Тетиса? И не столкнутся ли через десятки миллионов лет его берега?"
Поддержка мобилюма приходит от геофизиков. В. Хайн "Эволюция взглядов...". 1978 "Если, например, мы попытаемся совместить положение палеомагнитных полюсов конца палеозоя — начала мезозоя для разных континентов с современными географическими полюсами, то мы тем самым сдвинем и континенты, придя к реконструкции Пангеи, которую предложил в свое время Вегенер. ...К середине 60-х годов удалось уточнить картину распределения зон сейсмической активности на поверхности Земли, причем оказалось, что сейсмоактивные зоны достаточно узки и совпадают с молодыми складчатыми системами окраин материков и островных дуг, а в океанах — со срединными хребтами. Обширные промежуточные области практически асейсмичны. Именно это дало основание считать, что литосфера разделена на ограниченное число плит (первоначально считали 6-8), разделенных тектонически активными шовными зонами. Отсюда появился и сам термин — "тектоника плит". И вот теория дрейфа континентов — нет, пока гипотеза — предъявлена во всей полноте. Согласно ей, океаны образуются в процессе раздвига (спрединга) континентальной коры под действием восходящих и расходящихся в стороны конвекционных течений. А в местах контакта океанических плит с континентальными образуются зоны субдукции (погружение океанической плиты под континентальную).
Л. Зоненшайн "На дне Красного моря". 1980 "Океаны зарождаются в срединноокеанических хребтах. ...Выяснилось, что и сейчас есть на земной поверхности участки, где происходит раскол континентов. Это те места, где мировая система срединноокеанических хребтов выходит из океана на сушу. Наиболее яркий из таких участков — район Красного моря. Здесь срединный хребет Индийского океана переходит сначала в структуру Аденского залива, потом продолжается по суше через провинцию Афар, в Эфиопии, и переходит, с одной стороны, в Красное море, а с другой — в рифты Восточной Африки. Возникло предположение, что рифты Восточной Африки и Красного моря представляют собой последовательные стадии раскола континента. По своей форме Красноморский рифт почти ничем не отличается от срединно-океанических рифтов. Красное море еще очень молодо, но если процесс разлвижения Аравийской и Африканской плит на его дне пойдет и дальше со скоростью полтора сантиметра в год (как это происходит сейчас), то через 10-20 миллионов лет здесь будет бассейн с океанической корой шириной 300-500 километров и срединно-океаническим хребтом на дне. По сути дела, мы присутствуем при рождении нового океана". Движение континентов многое (но, как позже выяснилось, далеко не все) объясняло. Но чем объяснялось оно само?
Л. Зоненшайн "И на земном ядре есть пятна". 1990 "Это первое обстоятельство, порождавшее скептицизм. Считалось: главные геологические события, преобразования лика Земли, происходят вдоль границ литосферных плит. Но ведь целый ряд событий, явлений, в том числе и очень важных, например внутриплитный вулканизм, наблюдается и за пределами границ литосферных плит. Еще в начале семидесятых годов геологи предположили, что где-то в мантии Земли су шествуют гипотетические горячие точки. Было высказано предположение, что они неподвижны относительно мантии, по поверхности которой "скользят" плиты. Значит, плита, проходя над такими горячими точками мантии, как бы прожигается ими снизу, и след движения над такой горячей точкой мы наблюдаем в виде появления на поверхности серии вулканов. И действительно, многие современные горячие точки, Гавайи, например, сопровождаются хвостами из цепочек вулканических гор, хребтов тянущихся на две-три тысячи километров. По аналогии с "горячими точками" можно было бы ввести понятие "горячих полей". Оказывается, что с "горячими полями" связаны самые крупные нарушения в форме геоида Земли. Выяснено, что есть два крупных поднятия, где геоид на 50-70 метров поднимается, а есть места, где на такое же расстояние геоид опущен. 80-е годы XX века стали временем проникновения взгляда исследователей в глубь Земли, до самого ее ядра. Было сделано очень важное открытие. Оказалось, что мы можем закартировать положение астеносферы. И обнаружилось, что это отнюдь не ровная поверхность. Разница в положении "зеркала" астеносферы может составлять до пяти километров. И разница эта обусловлена тем, над каким полем находится астеносфера — горячим или холодным. Если совместить карту распределения горячих точек и горячих полей на поверхности Земли с данными сейсмической томографии, то обнаружится, что не меньше чем 85 процентов всех горячих точек и все контуры горячих полей совпадают с горячими областями в нижней мантии". Следующий важный шаг в решении загадки, что же заставляет плиты двигаться, сделали японские геофизики в начале 90-х годов.
Н. Максимов "Ледоколы земной геологии". 1997 "Мантия — слой между твердой поверхностью планеты и ее ядром, занимающий больше восьмидесяти процентов объема Земли, предстала в виде сложной и целостной системы горячих (восходящих) и холодных (нисходящих) потоков вещества. Поражают размеры этих структур — они свидетельствуют о том, что обмен вещества между верхней и нижней мантией происходит очень активно и на протяжении очень длительного времени. Проделав сложнейшую работу, японцы дали фактический материал большой важности. Но так и не нашли достойного ответа на вопрос: как огромные вертикальные перемещения вещества согласуются с горизонтальными движениями твердых плит? А если подойти совсем с другой стороны?
Н. Максимов "Шаг вперед, два шага вниз". 1999 "Российские ученые В. Трубицын и В. Рыков не стали строить гипотезы, позволяющие примирить новые факты с уже имеющимися. Они начали с нуля и создали стройную и красивую математическую модель, описывающую конвекцию в мантии Земли с учетом влияния на нее океанической литосферы и дрейфующих континентов. Наглядный результат их сложной и долгой работы прост — это компьютерная программа, выдающая последовательность разнообразных цветных двухмерных картинок, на которых происходит перемещение нескольких модельных континентов и вещества мантии под ними. Известно, что с момента рождения на Земле континентов примерно через каждые восемьсот миллионов лет на нашей планете возникали единые суперконтиненты: Моногея — 2,6-2,4 миллиарда лет назад; Мегагея — 1,8: Мезогея — 1; Пангея — 200 миллионов лет назад. Раньше было ясно, что конвекционные потоки в мантии перемещают континентальные плиты по земному шару, но механизм, который заставляет их собираться с такой периодичностью, оставался загадкой, и считалось, что это результат очень большого числа взаимодействующих хаотических процессов. Российские ученые выяснили, что это "нечто" есть сами континенты. Сами континенты управляют сложной динамикой в недрах Земли, играя "на клавишах" восходящих и нисходящих потоков вещества в мантии. Вновь возникающий мощный нисходящий поток, как воронка, затягивает вещество в глубь Земли и одновременно сбивает в кучу континенты. Но стоит заткнуть эту воронку твердой пробкой из континентов, как примерно через двести миллионов лет мантия под ними нагреется и, вместо нисходящего холодного потока, здесь возникает поток восходящий и горячий. Он, в свою очередь, разбивает единый суперконтинент и разносит образовавшиеся его части в разные стороны, пока вновь, через сотни миллионов лет, на другом месте не начнет действовать воронка нисходящего потока. ...До сегодняшнего дня геохимики утверждают, что, судя по анализу пород на поверхности Земли, существуют два резервуара поступления вещества из мантии. Однако, по данным сейсмологии, получается, что зоны столкновения литосферных плит уходят глубоко до ядра и ни о каких двух резервуарах речи идти не может. Эти глубинные разломы, подобно ножу, разбивающему яйцо, нарушают двухуровневые ячейки конвекции в мантии. Как согласовать такие разные позиции? В. Трубицын утверждает, что двухслойной конвекция была на начальных стадиях формирования Земли, а потом стала общемантийной. По его расчетам, оказалось, что в горячей мантии возникает многоэтажная конвекция, а с понижением температуры мантия становилась более вязкой и в настоящий момент может перемешиваться в основном только как целое. Современного нагрева уже недостаточно для полного поддержания двухъячеистой конвекции. А на полученных учеными картах видно, что в мантии Земли сейчас в основном существует одноячеистая конвекция, перемешивающая вещество до самого ядра. Но и геохимики тоже правы! Сведения о двух резервуарах запечатлены в породах, которые образовались не сегодня, а значит, несут информацию о двухъячеистой конвекции, существовавшей в мантии в прошлые несколько миллиардов лет!" Очевидно, еще рано ставить точку в истории плитотектоники. Остается множество вопросов — как частных, касающихся геодинамической ситуации в отдельных районах, так и глобальных: как и когда начался процесс дифференциации вещества Земли? Как сформировалось ядро Земли? Как возникли первые протоконтиненты? Все это — предмет дальнейших научных исследований. и, смеем надеяться, темы наших будущих публикаций.
СКЕПТИК
Александр МакаровичИз Океана на сушу и вновь в Океан

Теория тектоники плит вобрала в себя практически все известные в момент ее возникновения в геологии факты и смогла дать им логическое и изящное объяснение. Но за почти полвека с тех пор накопились новые факты, новые вопросы, которые уже нельзя объяснить и на которые нельзя ответить с позиций плитотектоники — во всяком случае, в нынешнем ее варианте. Это традиционный путь любых теорий: они всегда расширяют границы неизвестного и, как правило, в конце концов терпят поражение под напором новых необъяснимых фактов и новых гипотез. Мы не собираемся "отменять" или "дискредитировать" ныне царствующую теорию — мы только, следуя собственной традиции, предоставляем слово и ее оппонентам. На сей раз это заведующий лабораторией геоморфологии и тектоники дна океанов Геологического института РАН, доктор геолого-минералогических наук Александр Олегович Мазарович. Много лет он сам считался последователем плитотектоники, но в последние годы. многое пересмотрев, занялся изучением дна Океана. В свое время тектоника литосферных плит была гигантским прорывом в понимании того, как происходит формирование земной поверхности. Стало очевидным, что на Земле существуют не только вертикальные, но и горизонтальные перемещения литосферы. Они ощущаются на объектах разного масштаба — как планетарного (дрейф континентов), так и регионального (широкое развитие надвигов и тектонических покровов с амплитудами до 250 километров). Изначально эта теория была выдвинута геофизиками и математиками. Они выстроили строгую математическую и логическую модель, красоту которой, к сожалению, природа не вполне оценила. Мы строим свои модели для себя, и это совершенно не означает, что природа живет именно по ним. Сначала "тектонисты" выделили примерно шесть литосферных плит: потом их стало двенадцать. Потом их начали дробить на еще более мелкие, и, например, была выделена Карибская плита. Такое их размножение было связано с особенностью, которую приписали им создатели: "Мы должны сделать допущение, которое может придать предложенной модели математическую строгость, а именно... что каждый блок коры обладает абсолютной жесткостью..." Но математическая строгость полученной модели не могла отменить геологические данные, по которым любые блоки, как бы они не назывались, плиты или еще как-то, подвержены в той или иной степени различным деформациям и внедрению масс магматических пород. Об их "абсолютной жесткости", следовательно, говорить нельзя. Сегодня совершенно ясно, что от представления земной коры как системы крупных жестких блоков, не подверженных каким-либо деформациям, придется отказаться. Не зря в последние годы появилась теория "террейнов". Террейны — блоки земной коры, ограниченные разломами и очень сильно отличающиеся друг от друга, в том числе и по составу пород, возрасту формирования и рассеивания металлов. Эти блоки блуждают, плавают вместе с плитой, и последовательно "пришвартовываются" к континенту, наращивая его. Сам принцип плитотектоники остается неизменным: океаническая кора "пододвигается" под континентальную, но вместе с этим к плитам примыкают некие экзотические блоки. Например, в Тихоокеанском регионе России на протяжении последних 130 миллионов лет северо- восточная окраина Азии наращивалась постепенно, отдельными порциями. Некоторые из океанических блоков проделали за это время путь в десять тысяч километров; движение шло из южного полушария в северное. Это уже шаг от тектоники плит к некоему "тектоническому кафелю" — признание, что существует не просто гигантская абсолютно жесткая плита, а гетерогенная по своим механическим свойствам оболочка, состоящая из отдельных блоков, спаянных вместе. Впервые гипотезу выдвинули исследователи западной Канады, не сумев иначе объяснить компактное расположение столь разнообразных блоков. Сейчас на этой идее построены международные тектонические карты для севера Тихоокеанского кольца и восточной Сибири, Монголии и Северного Китая, в составлении которых принимали участие сотрудники и нашего Геологического института. Строго говоря, принципы выделения особых зон с различными свойствами были разработаны еще отечественными геологами лет сорок назад. Однако тогда не могло идти речи о масштабных горизонтальных движениях. Основные понятия современной геологии и геодинамики (субдукиия, спрединг, трансформный разлом и др.) сформировались в результате изучения океана. Да и создание самой теории "тектоники литосферных плит" напрямую связано с изучением процессов, происходящих на океаническом дне. Современные данные часто противоречат схемам, которые были созданы ранее. Например, трансформный разлом, представляющий собой область сдвиговых перемещений (когда один участок земной коры перемещается относительно другого по горизонтали), по которой один структурный элемент резко преобразуется в другой: например, срединно-океанический хребет в глубоководный желоб. Объяснить его, оставаясь в рамках нынешней теории движения плит, трудновато. Теория говорит о "горячих точках" как относительно стационарной и долгоживущей тепловой аномалии в мантии. Классический пример следа горячей точки — цепь вулканов, которая протягивается в Тихом океане от поднятия Обручева (южнее Камчатского полуострова) с наложенными подводными горами, слагает Императорский хребет и трассируется до архипелага Гавайских островов с действующими вулканами. Но оригинальная идея горячих точек стала применяться к любым вулканическим сооружениям в Мировом океане, что, по-моему, далеко не всегда резонно: например, распределение разновозрастных вулканических образований на Канарских островах совершенно не соответствует моделям тектоники плит. Наконец, мы практически ничего не знаем про те части океанов, которые лежат вне пределов срединно-океанических хребтов. Исторически так сложилось, что в океанах изучаются две области — срединно-океанические хребты и районы перехода от континентов к океану, а то, что лежит между ними, по большей части остается terra incognita. Особого внимания заслуживают деформации коры Мирового океана как раз за пределами осей спрединга и зон субдукции — внутриплитные деформации. Они были впервые установлены в Центральной котловине Индийского океана, затем и в Атлантическом океане (котловины Зеленого Мыса и Ангольская, а также в приэкваториальных районах), и во многих других местах. Анализ структур свидетельствует о том, что природа их возникновения различна: чаще всего это внедрение пород акустического фундамента (это из абсолютно жесткой-то плиты!) или сжатие отдельных частей океанической коры. Происхождение внутриплитных деформаций еще изучать и изучать... Кроме пояса повышенной сейсмической активности в зоне срединноокеанических хребтов, коллизионных поясов (например, район между Индостаном и Алтае-Сая некой областью) и зон субдукции, хорошо описанных плитотектоникой, есть еще и внутриплитная сейсмичность. Этому явлению плитотектоника не дает объяснения. Однако установлено, что, в Центральной Атлантике существуют разломы северо-западного простирания, которые активно воздействуют на процессы образования рельефа как в пределах центральной и южной Атлантики хребта, так и в абиссальных котловинах, где они контролируют расположение эпицентров землетрясений. Но эти структуры не вписываются в модель. Следует помнить и об определенной зависимости теории от чисто технических возможностей исследований. Сначала глубину океанов мы измеряли веревкой, потом стали применять трос, затем появились эхолоты. Результаты тех промеров и легли в основу плитотектоники. Но сейчас появилась принципиально новая аппаратура: многолучевые эхолоты — приборы, которые позволяют картировать дно океана с высокой точностью в полосе порядка 20 километров. Все тектонические построения велись до их появления, и к чему приведет обобщение новых данных, полученных с их помощью, никто знать не может А космические методы — спутниковая альтиметрия (измерение высоты поверхности воды)? Это позволило создать зримые образы дна всего Мирового океана, причем, что самое главное, на основании единого методического подхода. Все, что было получено ранее разными способами, имеющими свои собственные погрешности, при наложении создает не совсем объективную картину. В последние годы благодаря спутниковой съемке были получены изображения дна Мирового океана для всего земного шара. Так что вполне возможно, что мы на пороге новых открытий. И новых теорий. Нам необходимо очень хорошо изучить (и постоянно изучать!) Мировой океан, то, что происходит в его глубинах, под его дном. Насколько мало мы знаем о тектонических процессах, можно говорить, вспомнив то, что произошло год назад на северо- востоке Индийского океана — страшная катастрофа и колоссальные человеческие жертвы после цунами. До сих пор четких объяснений того, что тогда произошло, нет. Мы можем только делать предположения. К сожалению, ученые Института Океанологии, нашли и на территории России район, в пределах которого земные недра молчат слишком долго — это северные Курильские острова. Если такое вдруг произойдет, то удар пойдет по сахалинским нефтепромыслам, по западным низменным частям Камчатки и по всему Тихоокеанскому региону. Что же будет с тектоникой литосферных плит? Или иными словами — в каком направлении будет развиваться теоретическая геология? Очень осторожно можно предположить — сохранится идея о существовании глобальных зон растяжения и сжатия. Плиты потеряют свою абсолютную жесткость. Это может повлечь серьезные изменения в палеотектонических реконструкциях. Возможно, попытаются установить вклад космического фактора. Будет серьезно изучаться изменение геометрии тела планеты: не расширение-сжатие, а деформации сфероида в зависимости от внешнего по отношению к планете воздействия. Иными словами, еще предстоит установить, как велик вклад ускорения или замедления вращения на форму Земли и ее тектонические процессы. Подготовлено к публикации И. Алексеевой
МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Виктор Дольник
Естественная история власти
"Знание — сила", 1994, № 10

Сопоставляя врожденные программы поведения, проявляющиеся у человека, с поведением стадных приматов, мы можем в общих чертах реконструировать построение стада у предков человека. Несомненно, что в основе своей оно имело мужскую иерархию. Иерархическая пирамида самцов формировалась в первую очередь по возрасту. Внутри каждой возрастной группы самцы боролись за свой иерархический ранг как в одиночку, так и объединяясь в неустойчивые союзы. Если союз получался достаточно прочным, он пытался свергнуть самцов более высокого уровня в пирамиде. При удаче союз пробивался на вершину, и возникала геронтократия. Если на вершину прорывался один выдающийся по агрессивности самец, образовывалась автократия. Автократа окружали "шестерки" — особи с невысокими личными возможностями, но услужливые, коварные и жестокие. Иерархи все время подавляли субдоминантов. Те немедленно переадресовывали агрессию подчиненным, они в свою очередь — тем, кто ниже... И так до основания пирамиды. Стало, особенно его подавленная часть, поддерживало автократа и геронтов, когда те наказывали кого-нибудь, особенно субдоминантов. Самки принимали участие в коллективных осуждениях и расправах. Автократ и геронты в случае необходимости натравливали тех, кто находился на дне пирамиды, на опасных для власти сам нов. В стаде действовали принципы, описываемые словами: "где суд, там и расправа" и "иерарх всегда прав".
Глубокоуважаемая редакция "Знание — сила"! Поздравляю с наступающим юбилеем любимого журнала. Ваш журнал был единственным, где решались печатать статьи по этологии, в том числе и мои. Мои статьи в журнале были продуманными и поэтому верно отражали развитие свободной от идеологии науки. Проверку временем прошло все, что я написал тогда. Как ни странно, я не ошибался даже тогда, когда мнение мое расходилось с мнением редакции (например, когда я считал неандертальцев другим видом, а редакция — прямым предком сапиенса). Большинство опубликованных в "Знание — сила" статей позднее образовало книгу "Непослушное дитя биосферы". Впервые книга вышла в 1995 году, а в 2004 — вышло четвертое издание. Не было бы вас, не было бы и книги. В.Р. Дольник, доктор биологических наук профессор, академик РАЕН
Детеныши видели в иерархах своих отцов, а те занимались их обучением. Иерархов любили самки, дети и самцы низких рангов. Только субдоминанты питали к ним подавленную агрессивность. Если вам показалось, что это было общество несчастных, вы заблуждаетесь: довольных — большинство. Обычные иерархические системы у позвоночных животных не могут быть слишком обширными по составу и охватывать большую территорию. Они построены на том, что ранг каждого известен каждому, то есть все должны знать друг друга и узнавать "в лицо". Однако если есть инстинктивная программа всем поддерживать действия доминанта, то ему уже не обязательно знать всех. Достаточно, чтобы все знали его и его "шестерок". А еще лучше, чтобы и, не зная, узнавали бы. Для этого достаточно, чтобы его ранг был на нем обозначен, написан на лбу, так сказать. А это достигается у человека использованием символов власти. Беря в руки, надевая на голову или плечи символы, можно управлять каким угодно количеством людей, создавать массовые, охватывающие обширные территории иерархические структуры, вплоть до государства. Не будь в нас программы подчинения символам, чего ради толпа слушалась бы нескольких распорядителей, надевших себе на руку повязку, или внимала речам тех, кто взобрался на возвышение? И чтобы организовать и повести куда-то толпу, нужен символ — флаг, знамя. Мораль учит: "не сотвори себе кумира", то есть она не рекомендует ослеплять себя символами. Разум тоже не рекомендует нам слепо подчиняться символам, и глядя со стороны на шествия с флагами сторонников чего-то, что нам чуждо или безразлично, мы остаемся спокойными. Но если в опасности что-то дорогое нам, мы бросаемся защищать его символ, забыв все предостережения рассудка. Люди в самом прямом смысле готовы идти за символом в огонь и в воду, погибать, не рассуждая и не задумываясь. Лишь бы угроза исходила от других людей. Под знаменами идут на врага, свергают власть, но никто не ходит под знаменами бороться с наводнением, засухой, пожаром или саранчой. Иерархические стычки между людьми происходят много чаще, чем мы думаем. Дело в том, что естественный отбор создал много программ, смягчающих столкновения. Вот один довольно забавный пример. Демонстрация оскала — широчайше распространенная у позвоночных инстинктивная программа. Ее цель — предупредить при встрече с кем-либо о вооруженности и готовности за себя постоять. Приматы пользуются ею очень широко при контактах. Человек тоже скалит зубы при сильном страхе или гневе. Оказаться адресатом такой демонстрации неприятно. Но у программы показа зубов есть еще два куда более мягких варианта. Первый — заискивающая улыбка. Так улыбается человек, вступая в контакт с тем, кого он побаивается. Второй — это широкая улыбка. Так улыбается другому спокойный, уверенный в себе человек. В сущности он тоже показывает вам, что вооружен и готов за себя постоять и в вашем снисхождении не нуждается. Но эта форма демонстрации настолько мягкая, что не только не вызывает у вас страха, а, напротив, действует приветливо и умиротворяюще. Давно замечено: когда путешественник из страны с тоталитарным режимом посещает страну, где люди чувствуют себя свободно, его поначалу удивляет, почему это они все время улыбаются друг другу и ему. Путешественник, привыкший к отсутствию улыбок или к заискивающей улыбке, обычной при тоталитарном режиме, в первые дни думает, что от него чего-то хотят. Вы замечали, наверное, не раз, как склонный к авторитарности начальник, видя в зале совещания улыбающихся друг другу подчиненных, приходит в волнение. Ларчик открывается просто: во-первых, начальник привык, что ему при встрече сотрудники улыбаются по-иному. Во-вторых, когда начальник подсознательно ощущает, что среди подчиненных есть люди, чувствующие себя свободно, он настораживается: "Не боятся? Значит, не уважают?". Это традиционная формула деспотов. Слова же "бояться" и "уважать" он путает потому, что в нем срабатывает врожденная программа, как контролировать уровень агрессивности у подчиненных особей. Эта программа имеет два варианта — мягкий и жесткий. В конфликтной ситуации подчиненные должны испытывать к доминанту страх, а он к ним — смесь страха и гнева. Подобное состояние тяжело для обеих сторон и не должно быть длительным. В обычной ситуации достаточно, чтобы подчиненные испытывали очень легкий страх. Доминант воспринимает этот нормальный уровень страха как сигнал положительный. Он перестает бояться и отдыхает. Теперь он может проявить к подчиненным самые мягкие формы демонстрации превосходства — похлопать по спине (мягкая форма наказания), перестать хмурить брови, чем-то поощрить. Выросшие в жесткой иерархической структуре генералы даже в официальной обстановке заявляют, что "без атомного оружия нас перестанут уважать". Для них "бояться" и "уважать" — одно и то же, просто слово "уважать" приятнее и "уважаемому", и "уважающим". У подчиненной же особи по отношению к доминанту есть программа, обеспечивающая четыре варианта ощущений. Самый резкий из них — безысходная ненависть. Следующий вариант — чистый страх. С такимиощущениями жить очень тяжело. Многое меняется при третьем варианте: особь принимает поведение доминанта как должное и быстро, без всплеска эмоций, выдает точно отмеренную дозу умиротворяющего поведения. А четвертый вариант вообще поразительный. Из-за неосознаваемого страха перед "старшим по званию" особь по своей инициативе проявляет к нему все возможные формы умиротворения и подчинения. А добровольное выражение такого поведения — это не что иное, как любовь. Любовь к доминанту может быть невероятно сильной и ослепляющей, то есть скрывающей его недостатки и преувеличивающей его достоинства. Вспомните, как любит вас ваша собака. У каждого из нас эмоциональный отклик на превосходящих людей принимает один из этих вариантов. Весь набор чувств может вызвать один и тот же человек (это, конечно, очень тяжелый случай). Если же вы ненавидите всех, кто чем-то выше вас — старшеклассников, учителей, артистов, ученых, писателей, отца родного, — в вашей инстинктивной программе что-то сместилось. Бывает и обратное: человек перед всеми, кто доминирует над ним или мог бы доминировать — продавцами. кассирами, официантами, людьми в форме, — ведет себя заискивающе, а всех начальников без разбору любит. Второму человеку жить все же легче, чем первому.

Думаю, что вы, читатель, теперь сами можете разгадать страшную по последствиям загадку, "почему тиранов любят". Тирания создает атмосферу страха. Человеку тяжело жить в постоянном страхе перед доминантом. И от того, что его не видишь, не знаешь, чем он сейчас занят ("а вдруг мной?..."), страх только увеличивается. Настоящие тираны это интуитивно понимают и заполняют свои владения преувеличенными изображениями своей персоны: "видишь, я — всюду, стою и смотрю на тебя". Чем может помочь инстинктивная программа человеку в этом безвыходном положении? Только одним: переключиться на вариант любви. Сразу жить становится легче, жить становится веселее. Теперь уж чем сильнее любовь, тем глуше страх. Конечно, среди "любящих" тирана много таких, кто просто притворяется. Но речь о других, о феномене искренней любви, и такой сильной, что когда тиран велит казнить человека (ни за что, просто подвернулся), тот умирает с криком: "Да здравствует тиран!" Я не шутил, когда написал, что стадо предков человека не было обществом несчастных: иерархические программы устроены так, что жить в нем было можно, а "всем довольные" встречались не только среди иерархов. К тому же жизнь смягчалась не имеющими отношения к иерархии альтруистическими программами. Сколько ни желают тиранам жить вечно, они все же смертны. Когда тиран умирает, общество расслаивается. Те, чью психику Он не смог деформировать, воздают ему последние почести ровно настолько, насколько он их заслужил, с их точки зрения. Те, кто его очень любил, пребывают в безмерном горе. Те, кому он лично насолил, просто радуются. И те, и другие, и третьи как вели себя, так и ведут. Но многие резко меняют поведение и спешат, как говорил и древние, "пнуть мертвого льва", точнее было бы сказать "леопарда". Люди относятся к такой перемене по-разному. Одним такое поведение кажется безобразным, а другие его одобряют. Говорят, что этим они "выдавливают из себя по капле раба". Но это чеховское выражение здесь неуместно. Раба надо было выдавливать, пока тиран был жив. Если человек этим регулярно не занимался, после смерти тирана рабское из себя уже не выдавить. Просто из раба молчаливого и покорного можно превратиться в раба разнузданного и крикливого. Без этологии "суету мышеи вокруг мертвого кота" понять трудно. Дело в том, что в малоагрессивной по природе особи любого вида животных при длительном ее подавлении агрессивность никому не переадресуется. Ее адресат ясен — угнетатель, но особь не решается хоть как-то проявить ее в этом направлении. Когда тот погибает, исчезает не только страх, но и снимается запрет причинять боль живому. И накопившаяся агрессивность изливается по правильному адресу, хоть и запоздало. Заметьте, что люди, пинающие "мертвого льва", обычно довольно хорошие люди. "Дно" в этом не участвует. И как раз наоборот, именно "дно" и очень плохие люди травят, мучают и казнят низложенного правителя. В том, что тирания преобразует страх перед ней в любовь, первыми разобрались древние греки. И поняли, что самому полису (древнему городу-государству) почти невозможно вырваться из ловушки тирании. Греки нашли простой способ лечить от нее. Как заведется в каком-нибудь городе тиран, так остальные города собираются вместе, берут штурмом цитадель тирании и избавляют ее жителей. Эта технология "смерть тиранам" оказалась действенной. У нас еще не кончились повсеместное свержение памятников тиранам и их сатрапам и горячая дискуссия об этичности подобного поведения. В ходе нее высказано много умных мыслей, но все они выглядят отвлеченными построениями, ибо люди не знают и не понимают подсознательной основы своего поведения, его этологической базы. Мы уже выяснили, что тираны ставят повсюду свои преувеличенные изображения, чтобы вы жили в тревожном страхе. Эти памятники направлены против вас, против вашего психологического здоровья и психологического комфорта. Они совсем не безвредны для вас, пока вы их боитесь. У массы людей годами подавленная агрессивность к тоталитарному режиму переадресована этим истуканам. Все они испытывают нечто подобное тому, что испытал Евгений в "Медном всаднике". И простейшее, чисто животное исцеляющее от страха действие — разрушить истукана, унизить его, заставить лежать у ног. Свергая огромные статуи своих палачей, народ пусть не цивилизованным, но зато самым биологичным способом освобождает себя от страха и агрессивности. Чувство облегчения так сильно, что повсюду, повергнув кумира, толпа принималась петь и плясать (а не все крушить). Урок чистой этологии. И не надо говорить, что народ разрушает произведения искусства, памятники своей истории. Тираны меньше всего заботились о том, чтобы их изображения были художественны. Они хотели, чтобы истуканы были "величественны", искусство сознательно приносилось в жертву психотехнике. Убрать их—такая же примитивная врожденная потребность, как вытереть плевок с лица. Вот когда народ исцелится от страха и любви к тиранам по-настоящему и совсем другими, много более сложными действиями, тогда он сможет признать этих истуканов памятниками своей истории. Но все же позорной истории. Ее каменными плевками в лицо.
МИР СЕГОДНЯ ГЛАЗАМИ ЭТОЛОГА
Виктория Скабеева
От Фрейда к Даррелу

В конце 70-х годов в нашем журнале была напечатана серия статей В.Р. Дольника — зоолога, орнитолога, специалиста по биоэнергетике позвоночных. Но статьи эти рассказывали не о птицах — о людях, о нас самих. Дольник подошел к анализу поведения человека с профессиональной точки зрения, только профессия его не имела ничего общего с науками о человеке — психологией, педагогикой, антропологией. Часто говорят: "Со стороны виднее". Именно это и произошло, Дольник увидел нас со стороны. Со стороны ученого, изучающего живую природу. В любой биологической научной статье есть раздел: "Материалы и методы". Материалом для обобщений и наблюдений Дольника стал человек, метод был использован сравнительный. Сравнительный метод в этологии позволяет достичь многого: часто бывает так, что у близких видов программы поведения похожи, но у одного вида они могут быть представлены слабее, или фрагментарно, тогда как у другого — образовывать целую законченную картину. Увидев такое поведенческое сходство между видами, мы получаем дополнительную информацию как об их родстве, так и о происхождении каких-либо поведенческих актов. Все хорошо. Пока речь идет, к примеру, об осах, никто не возражает. Дискуссия имеет чисто академический характер, вопросы филогении ос служат предметом пристального интереса все-таки специалистов по осам, сколько бы осы ни кусали всех остальных. Другое дело — человек. Смириться с его происхождением от обезьяноподобных предков как было нелегко в конце XIX века, так до сих пор и не стало проще для среднего человека. Великие умы — дело другое, Томас Гекели еще в 1873 году выиграл у архиепископа Кентерберийского диспут на эту тему. Нынче актуальность этого вопроса понизилась. Современные техники разотождествления со своим эго знакомы нынче многим жителям больших городов, если не посещающим психологические треннинги, то хотя бы проводящим в метро каждый день по часу и больше. При такой жизни вопросы родства значат гораздо меньше, чем раньше, тем более такого дальнего, как обезьяна. Социальной рекламы "позвони предкам" на улицах все же пока нет. Образовался, в общем-то, вакуум. Представители наук о человеке хоть и вынуждены были в школе изучить вопрос происхождения человека, близко к сердцу его не приняли. Попробуйте найти в работе психолога, культуролога, не говоря уже педагога, ссылку на черты поведения, роднящие человека и обезьян. Найдете — сразу пишите в редакцию, а лучше звоните — обговорим размер денежного приза, автор этой статьи публично обязуется выплатить. Я даже не пишу про первые 5 человек — и на одного не надеюсь. (На всякий случай: предложение действительно в течение месяца со дня выхода номера.) Представители гуманитарного знания действуют в библейской парадигме создания человека Богом, автору не известно только, осознанно или нет. В самом деле, библейская история рисует человека поначалу милашкой, наделенной одной полезной программой — послушанием Господу. Потом, как мы знаем, обнаружилась еще одна — любопытство, причем только у одного пола. Вторая эта программа после изгнания из Рая составила первородный грех. Все. Никакой связи с безгрешными изначально зверями у человека нет. Вся его история начинается с его творения, а земные деяния — с изгнания. Изнутри этой парадигмы абсолютно логично сравнивать развитые народы с примитивными племенами, а этих последних — друг с другом. Исследовать мифы, производить анализ текстов — получаемые знания корректны и применимы внутри парадигмы. Проблемы начинаются при попытке перевести добытые сведения в практическую плоскость — выяснить, например, истоки человеческой морали. Довольно быстро установив, что мораль в каждом обществе своя, исследователь ни к чему не придет — почему все же общие черты есть и именно такие. Иммануила Канта совсем не зря удивлял моральный закон в нем — идеалисту, мерящему все по себе, должно быть интересно происхождение линейки. Неудивительно отсутствие интереса к вопросам происхождения человека у гуманитариев. Анализ текста, в конце концов, не требует ничего, кроме анализатора и текста. Одна из работ Дольника называется : "Прогулки по запретным садам гуманитариев". Надо сказать, исконные обитатели садов вторжения не заметили — подобно уэлсовским элоям, вели утонченный образ жизни, и нашествие морлоков не нашло отражения в их трудах. Заметили книгу Дольника "Непослушное дитя биосферы" совсем другие люди — молодежь и техническая интеллигенция. Всякому программисту ясно, что на машине должен стоять софт. Ну, если мы хотим, чтобы она работала. И вот нам говорят, что человек произошел от обезьяны. Отлично. Был же у обезьяны софт — работала же она как-то. Можно прийти в зоопарк — и посейчас работает. Значит, был. Договорились. Человек произошел от обезьяны. А софт ему, значит, Бог новый написал — не поленился? Просто ваше новый — гмм... Скорее похоже на новую версию старой системы, да еще и бета-версию всучили — то там сбоит, то здесь глючит, одних патчей сколько — Библия до сих пор, говорят, лежит в американских отелях на прикроватном столике. Если все-таки не Бог — новый софт, значит природа что-нибудь в заначке имела. Ну не мог же человек, свежепроизошедший от обезьяны, никаких врожденных программ не иметь. Он бы умер, чем закрыл бы и нынешнюю дискуссию в зародыше. Раз он жил, и мы предполагаем его происхождение от предков, сходных с обезьянами, видимо, и программы у него от них. Или получается, что человек произошел от обезьяны, а поведение его от кого? От Билла Гейтса, что ли? Я лучше от обезьяны... И вот такая простая идея первый раз появилась в статье Дольника на страницах нашего журнала. Ничего удивительного, кстати, в этом нет. Виктор Рафаэльевич — специалист как раз по врожденным программам. Врожденные программы есть у всех животных. Дольник изучал птиц на Куршской косе. Большой коллектив ученых исследовал жизненные циклы воробьиных птиц, особенно миграционное поведение. Выяснилось много разных вешей. Оказалось, например, что миграция — это не одна программа, заставляющая птицу подняться в воздух и лететь куда надо. Миграционное поведение — это целый комплекс врожденных программ, и начинает он свою работу с достижения птицей особого — миграционного — состояния. В этом состоянии у ПТИЦЫ меняется даже обмен веществ, от углеводного обмена птица переходит к жировому. Дневные птицы переходят на ночной ритм активности. Меняются социальные взаимодействия. И все эти изменения вызываются врожденными программами.

Происходит каскадное включение программ. Новое состояние обмена веществ требует выхода, даже если внешние условия изменились. На птицах, находящихся в миграционном состоянии, проводили опыты — помещали их в клетку и измеряли энергозатраты. Птицы в клетке затрачивали ровно столько же энергии, сколько их сородичи на свободе — просто лететь они не могли и беспорядочно прыгали по клетке. Кстати, человек — не исключение. Зайди, читатель, в школу на перемену — там детеныши приматов тратят за 15 минут всю ту энергию, которая у них отведена на час. На середину коридора лучше не выходить — ведь 45 минут детеныши сидели и энергию почти не тратили... Раз человек является биологическим видом, у него должны быть и врожденные программы. Механизмы, лежащие в основе работы врожденных программ — универсальны, действуют как в птицах, так и в млекопитающих. Так или примерно так рассуждал и Виктор Рафаэльевич с коллегами. Рассуждали они не на страницах научной печати, а за столом — в большом Рыцарском зале биостанции. Из остатков алюминия, идущего на кольца для птиц, был сооружен рыцарь в доспехах. Зал оформлен самими сотрудниками в средневековом стиле — получилось неформальное общее пространство. Именно здесь и звучали крамольные, неклассические соображения о наличии у человека врожденных профамм. Первоначально это были досужие разговоры — досужие разговоры профессионалов. Так бы они и остались "трепом для своих", не появись на станции сотрудники журнала "Знание — сила" Татьяна Чеховская и Всеволод Ревич. Именно они уговорили Дольника записать свои соображения как серию журнальных статей. Без преувеличения можно сказать, что статьи, а впоследствии выросшая из них книга "Непослушное дитя биосферы", произвели эффект разорвавшейся бомбы. Дедушка Фрейд объяснил людям про либидо и Эдипов комплекс — вскрыл сексуальную подоплеку многих форм человеческого поведения. Дольник пошел гораздо дальше — показал людям их врожденные программы, общие с животными предками. В частности, он первый вслух определил в широкой печати экологическую нишу человека и его предков — собиратель. "Мы все собираем, отдаваясь инстинкту, голосу предков человека, ибо гоминиды начали свой путь на земле, имея единственную экологическую нишу — нишу собирателя. И сейчас еще в дебрях Амазонки, в пустынях Австралии и Южной Африки, на островах Океании существуют племена собирателей. Но дело даже не в этом: любой биолог, которому обрисуют существо, подобное нашему предку, еще не владеющему орудиями, подтвердит, что оно предназначено для ниши собирателя". Дольник аргументировал свою точку зрения: "Многим видам животных, например травоядным, пища дается даром, она вокруг. Первобытный человек не умел быстро бегать, не был наделен ни острыми когтями, ни мощными зубами, ни желудком, способным переваривать траву, листья и ветки. Пищевые ресурсы человека всегда были ограничены, голод — постоянный его спутник. Чтобы прокормиться охотой, он был еще очень слаб. Это потом он сам изобретет орудия нападения, которых лишила его природа. Небольшие стада — два-три десятка — ранних гоминид, полулюдей, еще даже и неумелых, бродили по саванне, вблизи водоемов и рек. Дохлая рыба, объедки со стола хищников, моллюски, почки, побеги, ягоды, орехи, черви, насекомые, пресмыкающиеся, изредка попавшиеся или убитые палкой зверьки, птицы, яйца — вот меню собирателя. Немногое из этого странного набора используется в современной кухне. Но наша склонность лакомиться продуктами с острыми запахами — с тех времен".

Происходить от собирателя совсем не позорно, считает Дольник. Ведь собиратель поневоле умнеет, иначе ничего не найдет. "Наши предки были беднее других животных с готовыми программами именно потому, что рождались они с необходимостью учиться действовать в нестандартных ситуациях. По этой причине и стал быстро развиваться мозг антропоидов. Но отдельными блоками программами-инстинктами они не были обделены. Множество инстинктов, которые унаследовал человек, не только не успели разрушиться, более того, они не исчезнут никогда. Потому что они нужны, потому что они по-прежнему служат, составляя фундамент рассудочной деятельности. Она развивалась не на пустом месте, а от врожденных программ. И инстинкт собирателя, содержащий в себе стремление искать, различать, классифицировать, учиться, награждающий нас за правильное применение программы радостью удовлетворения, этот инстинкт проявляется не только в атавизмах — сборе даров природы. Он, например, — и в азарте коллекционера марок и этикеток".

К нынешнему времени понимание неумолимости инстинкта собирательства докатилось даже до женских журналов. Недавно автор читал статью в журнале "Космополитен", призывающую девушек терпимо относиться к собирательству как хобби бойфренда. Главный резон у автора был совершенно справедливый: бойфренда не переделаешь. При виде недостающего элемента коллекции — скажем, редкой пивной банки — мужчина теряет рассудок и тащит приобретение в дом. С точки зрения его герлфренд, в доме и так есть пустые пивные банки — штук так 2000. Мужчина рассуждает совсем не так, а вернее, никак. Им владеет врожденная программа. Бедной девушке предлагалось два выхода: или постараться выделить для коллекции отдельное помещение, не допустив ее расползания по всему дому, или бросить бойфренда вместе с его коллекцией. Другой может оказаться более вменяемым. Также очень верная мысль. У одних особей врожденные программы поведения реализуются с большей четкостью и неумолимостью, у других с меньшей. Есть генетическая составляющая и в собирательском повелении. Другое дело, что, как пишет тот же самый Дольник, самка часто предпочитает самца, наиболее точно воспроизводящего видовую программу поведения. "...Самны кузнечиков поют, чтобы привлечь самок, а те идут на их песню и (при возможности выбора) предпочитают поющего громче, чаще и точнее воспроизводящего видовую песню и что точно так же привлекают пением самок соловьи, а самки тоже предпочитают громче, чаще и точнее поюшего". Предпочитает как более здорового. Так что еще неизвестно, у кого здесь проблемы с головой. Методы сравнительной этологии, однако, не дадут девушке пропасть совсем. Надо просто вспомнить, что кроме инстинкта собирательства, у человека есть еще половое поведение! И если девушка молодому человеку интересна, он мог бы и обратить на нее большее внимание, чем на свои пивные банки. Процитируем статью Дольника "О брачных отношениях" ("3-С" №7 за 1989 год). "Выбор потенциального партнера закрепляется в мозгу образованием доминанты, обрашенной только на эту особь. Доминанта преувеличивает в субъективном восприятии привлекательные качества избранника и умаляет его недостатки. Она необходима, чтобы превратить выбранную особь из одной, из нескольких возможных в единственно возможную. Без "ослепляющего" действия доминанты животное колебалось бы в выборе, ибо оно далеко не всегда может встретить партнера, отвечающего идеалу. Человек называет эту доминанту влюбленностью, и ее ослепляющее действие хорошо известно, особенно когда мы наблюдаем его не на себе". Так что за любителя банок держаться всеми руками не стоит. Он, конечно, не клинический псих. У него просто доминанта не образовалась, и банки ему дороже избранницы. Другая актуальная тема женских журналов — девушки, вступающие в отношения с женатым мужчиной. Психологи утверждают, что девушки просто сами не могут оценить мужчину, поэтому выбирают того, которого уже выбрала другая. Дольник же говорит нам, что и в таком поведении есть смысл. "Известен и такой вариант: некоторые самки выбирают занятого самца, хотя рядом есть и холостые, и устраиваются на краю его участка, самец их оплодотворяет, но о потомстве не заботится, все делает одна самка. Кольцевание зябликов на Куршской косе показало, что самцы с двумя самками — элитные как по своим качествам, так и по качествам своих участков. Следовательно, и у моногамных видов самки могут вести отбор генов самцов по элитным признакам". Неизвестно, читали ли авторы статей в женских журналах книгу "Непослушное дитя биосферы", журнал "Знание — сила" или черпают идеи прямо из ноосферы. Это дела не меняет — в любом случае положил их туда именно он, Дольник. Точно мы можем быть уверены в том, что его книгу читают школьники. В Московском университете студенты, поступающие на кафедру зоологии позвоночных, на вопрос, что вы читали о поведении животных, отвечают: Дольника. И такая же картина в Петербургском университете, и по всей стране. Если в 60-х годах читали Акимушкина, Спангенберга, в 80-х — Даррелла, Лоренца, то сейчас — Дольника. И Фарли Моуэта. У нас появился свой, отечественный автор, да еще и пишущий про нас — людей. Это, пожалуй, главный итог прошедших лет.
МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Борис Берман
Сотворение человека
"Знание — сила", 1991, № 6
Летом 1992 года на стол главного редактора Григория Андреевича Зеленко лети магнитофонные кассеты. Это были записи бесед о Торе, сделанные в 86-88 годах. Их вел тогда уже известный в московских интеллектуальных кругах очень молодой филолог Борис Берман. Разговор о Торе он совмещал с изучением сакральных смыслов иврита, языка Торы — выявить их было для него особенно важно. И делал он это ярко, талантливо, совершенно неординарно. Прослушав кассеты, сомнений не оставалось — печатать. Но Бориса уже не было — в феврале того же года он погиб в автомобильной катастрофе... Журнальный вариант сделал его отец, Игорь Мардов, — известный философ, исследователь религиозных воззрений Толстого. Так родилась большая серия "Библейские смыслы", ставшая заметным событием в истории журнала. Напоминаем о ней небольшим отрывком.
Восьмое Речение Бога
"И сформировал (вайийцер) Господь Бог человека из праха земного, и вдохнул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою" (Б., 2:7). Слово "йецер", сформировал, означает действие на уровне Иецира, то есть формирование, создание проекта или матрицы. Это слово связано со словом "иашар", нравственное наставление, и со словом "иашар", прямой (прямой путь). Действие йецер — такое формирование, которое в своих контурах направлено к определенной цели. Но посмотрите внимательно на это слово. Уникальный случай: оно в этом стихе написано с двумя буквами йод: йийецер! Во всех других местах — и где говорится о создании животных, и даже в следующем восьмом стихе, где еще раз упоминается создание человека, — везде это слово пишется с одним йод. В отличие от животного, человек сформирован двумя началами, он двуедин изначально. В нем есть начало формирования, йецер, идущее, как у животного, снизу, от Земли, и есть начало формирования, йецер, идущее сверху; от Неба. Это-то и зафиксировано в начертании слова "йийецер". Каковы же эти два начала? Одно — из праха земного (афар мин ha адама). Афар — тонкий покров Земли, ее летучая часть, ее "прах". Первый йецер человека — от Земли, из адама. Про другое начало формирования человека сказано так: и вдохнул в его лицо дыхание жизни (еайипах бе-апав нишмат хаим). Второе, идущее сверху формирующее начало человека, — это то дыхание жизни, которое Гашем Элоким вдохнул в лицо его. Дыхание Бога в человеке и есть для него дыхание Жизни. В человеке различимы два начала, две души. Одна — животная душа, нефеш, выводимая Землею. И другая — дыхание Бога, нешама. Нешама — "Божественная доля свыше" (Иов, 31:2) в человеке. Иеишма изошла от Бога и стала в человеке высшей душой, связывающей человека с Богом. Высшую душу человека нельзя не различить; она видна в человеческих глазах, в его лице, которое и выделяется тем, что в нем (в отличие от животного обличья) светится одухотворенность, вдуновение Божие, делающего человека человеком. Есть два слова для обозначения "лица". Язык различает лицо, обращенное к Миру — паним, и лицо, вбирающее в себя Мир — апаим; о нем-то и говорится здесь fame). Нешама вдунута в человека, обращенного в глубь себя и вбирающего в себя Мир. ...и стал человек (eaiihu ha адам) душою живою (ле нефеш хая) (Б., 2:7). И у животного есть нефеш хая, живая душа, но человек, в отличие от животного, становится душевно живым только после того, как в его обращенное вглубь лицо вдунута нешама. Живая душа человека — от дыхания Бога. Без нешама человек перестает быть человеком, но не превращается в животное. Животное следует своему закону. Человек же без нешама — существо противозаконное и непутевое; это уже не человек — мертвый душою и воплощающий зло. Так что жизненность человека — не от Земли, из которой он взят, а от дыхания Бога. Нефеш присуще сознание оторванности "я" от "не-я", от всего, что не есть "я". Такого сознания оторванности в нешама как центре "я" нет. Нешама причастна Богу, сознает свою нераздельность с духовным миром и сама обитает в мире Творения, Замысла Бога, на уровне Бриа. Нешама несет в себе Замысел Бога на человека. Нельзя сказать, что два формирующих начала, два йецера, легко уживаются в человеке. Каждое из этих начал желает благо себе и выставляет ударение на себе. Их противостояние, бывает, раздирает человека и всегда создает в нем ту напряженность душевной жизни, ту внутреннюю борьбу с собой, в которой горит его дух, находящийся на службе Господа. Это есть рабочее напряжение, в котором растет и созревает плод, — то, ради чего и сотворен человек. Вся мудрость человеческой жизни заключена в решении вопроса взаимоотношений его нефеш и его нешама. Оба йецера, оба формирующих начала нужны духовно растущему человеку. Нужна и их борьба. Аскетические усилия, направленные на угасание нефеш, выводят из этой борьбы и не заслуга человека. Не подавлять плотско-душевное животное начало в себе, а в наибольшей степени взращивать свое Божественное начало, которое работает и все больше выявляет себя на преодолении противодействия животного начала. Послушайте, как звучит на иврите знаменитое восьмое Речение Бога: Вайомер Элоким (И сказал Бог): наасе адам (сделаем человека) бецальмэну ки-дмутэйну (в образе Нашем как подобие Наше) (Б., 1:26) Ни одно из творений не вводится так торжественно, ни одному из них не предшествует "декларация о намерении" Бога. Словно все Творение приглашается Им участвовать и видеть то, что произойдет. Чуткое ухо мудрецов улавливает: Всевышний советуется с Творением, так как человеку предназначено руководить сотворенным. Человек есть порождение Неба и Земли вместе, и эти глобальные линии Творения встречаются и взаимодействуют в нем. Работа каждого Дня Творения, все десять Речений Бога, десять потоков Творения сочленены в человеке в единое целое. Элоким делится со всем Творением своим намерением сделать человека в образе "Нашем" — Бога и Творения. Слою "целем", которое переводится словом "образ", связано и со словом "цель" (тень, проекция, отпечаток, отображение), и со словом "цемель" (символ), и со словом "сижа" (платье, одежда), которая внешне представляет человека. "Сделаем в образе Нашем" — сделаем нашим отображением, знаком, воплощением, выражением, представителем. Тень в Природе обычно есть двумерное отображение трехмерного; так же и человек есть отпечаток Творения в иных измерениях. Но ведь и Мир, его контуры — одежда Бога, Его отпечаток. И Мир. созданный Творцом, выражает Его в образе. Чем же человек отличается от Мира и всего Творения? Бог в Мире проявляется как его Начало, как Источник его сил и сущностей. Но не как Хозяин, не Сам по Себе. Бог обращается к Своему макрообразу, в который Он уже оделся, и приглашает этот большой образ вместе с Ним сделать микрообраз, на который могут быть сфокусированы все потоки Творения и Он Сам. Есть тело Мира и есть у Мира душа. В макротеле Мира отпечатывается мировая душа. Также и человеческое тело — это целем, образ для человеческой души. Тело наше, начиная с лица, есть отображение на материальном уровне нашей души. С другой стороны, тело человека отображает духовную структуру мироздания. В этом — честь и достоинство человеческого тела, его значение, необходимость его сохранения в чистоте и здоровье. Неуничтожение и неразрушение тела — важнейшая задача нравственной жизни человека. Широко распространено мнение, по которому образ Бога в человеке — это его разум. Действительно, человека не может не изумлять, что его разум соответствует Миру: наше познание и слово, как в паз, входят в то, что существует в Мире. Разум человека схож с Разумом Творца. Но далеко не в той мере, в которой оправдано говорить о нем как об образе Самого Бога. Да и как раз в этом пункте человек вовсе не уникальное явление существующего. На других уровнях Бытия обитают надчеловеческие духовные сущности наделенные разумом. Образ Бога в человеке есть то, что на всех уровнях Творения не существовало до человека. Это — человеческая свобода. Нет свободы в Шести Днях Творения! И подобен человек той Божественной сущности, которая свободно управляет мирами, подобен Тому, Чье Имя подчеркивает свободное становление, свободное осуществление. Гошем упрашшет по Своей свободной Воле. Предлагая "сделать человека", Бог обращается и к Себе, к Началу свободной Воли в Себе Самом и вкладывает ее в человека. Конечно, свобода человека не тождественна свободе Господа Бога. Поэтому-то человек — не подобие Его, а как подобие, некоторое ограниченное уподобление, большая или меньшая степень которого характеризует высоту и духовное достоинство души человека. Свобода духа в человеке возможна только при условии дмут, подобия. Подобным Богу человек делается. Но не может человек уподобиться Сущности Его, и потому уподобляется Его качествам, мидот, проявлениям. Созданный "как подобие" Бога человек обязан в своем жизнепрохождении все больше и больше сам уподобляться Богу, Его действиям, о которых нам рассказывается в разных местах Библии. Мы можем — нам дана такая возможность — познать Его действия и в своей жизни руководствоваться ими в деле уподобления Ему. Когда человек производит в себе работу уподобления Богу, когда он делает свободный выбор Добра, тогда в нем есть целем Элоким, образ Бога. Такою, видимо, обшее значение выражения бе-цальмэну ки-дмутэйиу. Надо понимать, что предложение Бога создать человека относится не только к таинственному моменту восьмого Речения, оно распространяется и на нас с вами. Человека делают и Бог, и человек вместе, и делают в свободе. "Сделаем человека" (наасе адам) есть обращение не только к Самому Себе, не только к Миру, но и ко всем тем, кто как подобие Бога свободно делает выбор Добра — ко всем творящим добро душам, к цадиким. Быть ки-дмутэйну% становиться подобием Бога — значит все больше и больше делаться партнером Его. Публикация И. МардоваНОВЫЙ ГУТЕНБЕРГ
Ольга Гертман
Сакральная грамматика Бориса Бермана
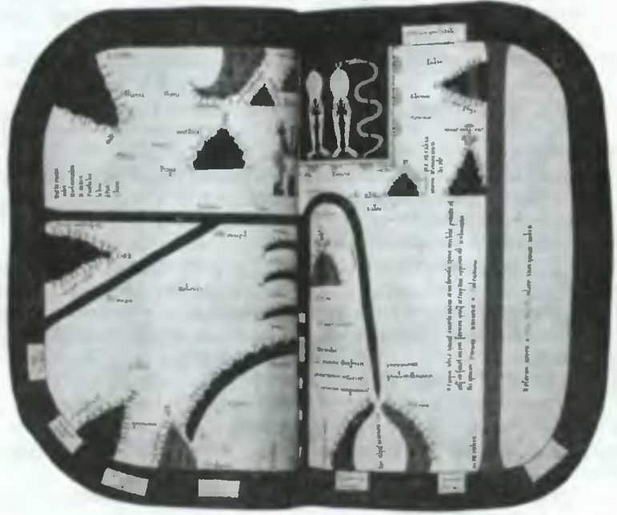
Жанр этого текста — очень экзотический, если не сказать — уникальный. Такое традиционно-иудейское действие, как толкование Торы, едва ли не впервые оказалось обращено не только к иудеям — может быть, и не в первую очередь к ним, — но к самой широкой аудитории, к представителям любых мыслимых конфессий, включая атеистов. Борис Берман (1957-1992), преподаватель Еврейского университета Бар-Илан (Израиль), директор и научный руководитель "русских программ" в Педагогическом институте им. Я. Герцога, в Иерусалимском институте Д. Хартмана, читал курс лекций о библейских смыслах в Москве и в Израиле в 1986- 1988 годах. В 1994-1995 годах, уже после гибели Бориса, наш журнал впервые опубликовал часть этих лекций — о главах от сотворения мира до Вавилонского столпотворения. Бермана можно было бы назвать и посредником между еврейской и русской культурой. Между этими культурными мирами издавна существует странное, хотя вполне объяснимое отношение "односторонней прозрачности". Если русская культура неплохо известна за своими пределами, то культуру еврейскую, довольно замкнутую в себе, обращенную едва ли не исключительно к своим, мало кто из "чужих" представляет себе как следует. Берман делает весьма радикальную попытку вывести ее из многовекового "эзотсризма" и заговорить о ее сокровенных смыслах — нет, не с "чужими", а со всеми, нс деля никого на чужих и своих. С людьми вообще. Знакомят ли "Библейские смыслы" Бермана с традиционными еврейскими представлениями? Есть масса оснований сказать, что да. Все его толкование Библии строится, как въедливый анализ древнееврейских слов, их структуры, семантики, этимологии; как уточнение того, что неизбежно теряется в переводах. Формально — сплошная филология с экскурсами в иудейскую традицию, с цитатами из еврейских мудрецов, из мидрашей — разъяснений стихов Торы. И все-таки "сакральная филология" Бермана — не культуртрегерство и не иудейское миссионерство (не говоря уже о том, что иудаизм — религия в принципе не миссионерская). Не покидая почвы еврейской культуры, напротив, глубоко, на уровне корней слов, в эту почву внедряясь, он работает с общечеловеческими смыслами. Пересказывая смыслы Торы на русском языке, Берман выявляет их универсальность. Библейский текст Берман воспринимает предельно буквально: устройство его в точности совпадает с устройством мира, предшествует ему и определяет его. Все в этом тексте вплоть до буквенного состава отдельных слов, до их звукового облика, до их грамматических форм и порядка в предложении — свидетельство "глубинных тенденций в Творении", которые надо лишь "уловить". И что же мы обнаруживаем в самой глубине ветхозаветных звуков, истолкованных Берманом? А обнаруживаем мы нечто удивительно знакомое. Человек, показывает Берман, задан библейским текстом как существо по определению становящееся, а не созданное, и готовое раз и навсегда. Его задача — во-первых, "работа роста", постоянное сознательное самосозидание: он должен "продуктивно работать" свою душу (сам райский сад — не что иное, как "рабочее место" для человека, "лаборатория", где проходят проверку схемы бытия, утвержденные Богом при Творении). Во- вторых, — самопознание как обязательное условие еще одной коренной его задачи: познания. Наконец, человек... свободен. Его сущность — свободный выбор себя и своих путей в мироздании, своих отношений с Добром и Злом. Тут, пожалуй, и сам Жан- Поль Сартр не нашел бы, что возразить... Ведь это же коренные черты новоевропейского проекта человека! Это же классическая фигура западного гуманизма! Не вкладывает ли современный интерпретатор в Тору заведомо более поздние смыслы, прошедшие интенсивную христианскую и даже постхристианскую обработку? Вряд ли обошлось совсем без этого. И вряд ли может быть иначе, когда к толкованию изначальных для нашей культуры текстов обращается человек, сформированный культурой, которая уже не сможет забыть столетий христианского и десятилетий постхристианского опыта, и сколь безупречно он ни знал бы язык первоисточника, все равно с высокой вероятностью он увидит в этом первоисточнике то, что так или иначе соответствует его мировосприятию, пенностям, ожиданиям и потребностям. Более того, так и должно быть. Задача Бермана — вовсе не историческая реконструкция, но скорее прочтение библейских первосмыслов изнутри нашей сегодняшней экзистенциальной ситуации. Первосмыслы вообше, по определению, в каждой ситуации актуализуются заново, они только в этом режиме и существуют: каждому говорят то, что ему должно услышать. Так что если перед нами и "миссионерство", то, несмотря на свою еврейскую, иудейскую оболочку — нет, даже благодаря ей, — сугубо общечеловеческое.
МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Услышать прошлое
"Знание — сила", 1985, № 7,8
Есть области науки очень трудно поддающиеся популяризации. К ним, безусловно, можно отнести сравнительно-историческую лингвистику. Между тем, это та отрасль знаний, в которой наша страна лидирует. Блестящие лингвисты старшего поколения — Вяч, Вс. Иванов, И. М. Дьяконов, А.В. Дыбо — и теперь уже среднего — С. Старостин, А. Милитарев, И. Пейрос, 0. Столбова и многие другие — составляют гордость мировой науки. И потому о том, чем занимаются эти небожители, рассказать очень хотелось. Наш журнал первым взялся за зто непростое дело и добился успеха. В редакцию пришло письмо из Международной ассоциации лингвистов, в котором выражалась благодарность за публикации бесед Галины Бельской с Александром Милитаревым. Спустя двадцать лет предлагаем в сокращенном виде эти статьи. У археологии и истории есть помощница и конкурентка — сравнительно-историческая лингвистика. Ее адепты далеко проникают за невидимую стену "бесписьменности", кажущуюся такой прочной. Они пробуют, например. восстановить язык, от которого пошли языки индоевропейские (от английского, французского, немецкого, русского до хинди) и алтайские, и дравидийские (в Индии), и уральские, и картвельские (на Кавказе), и семито-хамитские в Африке и Передней Азии (их называют еще афразийскими), и некоторые другие. В них ученые обнаружили признаки сходства, доказали, что оно объясняется древним родством, то есть происхождением от одного языка, на котором говорил пятнадцать, двадцать, а может быть, и больше тысяч лет назад неведомый ныне народ. Все это — языки Старого Света, и за их огромной семьей — суперсемьей — закрепилось имя ностратической (в переводе с латыни — "нашей"). Об этом беседа нашего корреспондента Галины Бельской с Александром Милитаревым, ответственным секретарем оргкомитета конференции "Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока". Но сам круг проблем, которыми занималась конференция, еще шире. Коротко его можно очертить двумя вопросами: откуда пошли языки, на которых говорят сегодня, и где и какие народы говорили нс языках — предках современных и древних языков? А. Милитарев: В течение многих лет группа лингвистов занималась делом, которое неизбежно должно было вывести нас за рамки собственно лингвистики. Мы работали над восстановлением ряда праязыков и прежде всего их лексики, словарного состава. Когда, сравнивая родственные языки (не важно, живые современные или языки древних письменностей), восстанавливают лексикон праязыка — их общего языка-предка, то имеют дело со словами двух типов. К первому причисляются названия основных вещей, явлений и понятий, относящихся к физиологии человека, существенным для него объектам окружающей природной среды, основным качествам, свойствам, действиям и этих объектов, и самого человека. Это так называемая базисная лексика. Именно та базисная лексика, которая имеет общее происхождение в родственных языках, дает основание — наряду с общностью грамматической структуры — для установления как самого факта родства, так и степени такого родства. Второй тип — слова, связанные с той стороной деятельности человека, которая выделяет его из мира природы, то есть с человеческой культурой. Это культурная лексика, всегда привязанная ко времени и пространству — к конкретной человеческой истории. Когда лингвист получил достаточно полную картину культурной лексики восстанавливаемого праязыка, начинается самая, на мой взгляд, интересная работа, то, ради чего в конечном счете он бился, распутывая хитро сплетенный клубок звуковых переходов, морфологических соответствий и смысловых ассоииаций. Здесь он выходит за рамки своего достаточно узкопрофессионального дела и вступает в широкую область человеческой истории. И вот тут возникает труднопреодолимый соблазн поставить реконструированный праязык во вполне конкретное время и место. Но для этого необходимо знание истории, глубокое и серьезное. Лингвист должен искать партнера. Такого же профессионала, но в другой науке, пробивающего тот же тоннель с другого конца. Можно, по-видимому, сказать, что сегодня сравнительно-историческое языкознание — самая точная из гуманитарных наук. Основные ее принципы, сформулированные в конце прошлого века западноевропейской школой младограмматиков, были выработаны на материале индоевропейского языкознания, остающегося и по сей день эталоном для компаративистов. И разговор у нас идет не о лингвистике в целом, а только о сравнительно- историческом языкознании и даже еще уже — о работе по реконструкции праязыков крупных языковых семей, восходящих к достаточно глубокой "дописьменной" древности.
Главный постулат сравнительно- исторического языкознания — развитие родственных языков из общего языка-предка. Теоретически генеалогическую линию языков мира можно вести ретроспективно, от современности к древности, до, я бы сказал, точки "протолингвогенеза", то есть до времени разделения на диалекты самого древнего единого праязыка человечества, который можно восстановить с помощью сравнительно-исторического метода или нескольких таких праязыков, для установления родства междукоторыми у науки не будет достаточных позитивных данных. Что же касается вопроса о том, сводимы ли в принципе все известные науке языки к одному или нескольким или даже многим (наименее вероятная возможность, на мой взгляд) праязыкам — иными словами, вопроса моногенеза и полигенеза, — то здесь ситуация в лингвистике подобна ситуации в палеоантропологии, перед которой также стоит проблема происхождения разных человеческих рас и самого вида Horno sapiens из одного центра (моногенез) или из нескольких независимых друг от друга центров (полигенез). Теперь о самой носгратике. В рамках ностратической теории постулируется дальнее родство большинства крупных языковых семей Старого Света семито-хамитской, она же афразийская, картвельской (грузинский и родственные языки), индоевропейской, уральской и дравидийской (в Южной и Центральной Индии); сейчас обсуждается возможность включения в ностратическую "суперсемью" еще нескольких небольших языковых семей. Идея родства восточно- (нахско- дагестанских) и западнокавказских (абхазо-адыгских) языков была заложена еще в начале века выдающимся русским лингвистом Н.С. Трубецким, но именно С. Николаев и С. Старостин впервые сделали последовательную реконструкцию праязыков для восточно- и западнокавказской семей, сопоставив эти две реконструкции. Они увидели, что перед нами две ветви одной и той же семьи — северо- кавказской. Эта работа легла в основу дальнейших поисков. Так, частное исследование И. М. Дьяконова и С. Старостина подтвердило давнюю идею Дьяконова о родстве между хуррито- урартскими и нахско-дагестанскими языками; Вяч. Вс. Иванов привел важные аргументы в пользу принадлежности хаттского к абхазо-адыгским языкам. Кроме того, в действие вступило, как это часто бывало в истории науки, стечение счастливых случайностей. Сергей Старостин, учась в знаменитом ОСИПЛе — отделении структурной и прикладной лингвистики при филфаке, был участником университетских лингвистических экспедиций на Северный Кавказ, составлявшихся А. Е. Кибриком, и занимался фонетикой дагестанских языков. Специализировался же он в университете по лингвистической филологии. Занятия ею побудили молодого исследователя выучить и китайский и познакомиться с родственными ему языками сино- тибетской семьи. Работая над северокавказской реконструкцией, Старостин в то же время защитил кандидатскую диссертацию по восстановлению фонетики древнекитайского языка с помощью системы рифм древнекитайской поэзии. И сверх того, Старостин вместе с Ильей Пейросом, тоже воспитанником ностратического семинара и выпускником ОСИПЛа, готовил сравнительно-исторический словарь сино-тибетских языков... И тут началось наваждение. Северокавказские слова, реконструированные в совместной с Николаевым работе, оказались подозрительно похожими на реконструированные вместе с Пейросом слова сино-тибетские. Сначала это воспринималось как казус. Знаете, когда занимаешься многими и разными делами, они причудливо связываются в сознании. Старостин, человек скептического склада ума, поначалу над этим сходством посмеивался. Когда похожих слов стало больше, все были сильно озадачены. Может быть, праязыки "обменивались" словами во время контактов между древними народами? Но откуда взяться контактам, если одна семья на Кавказе, а другая — в Китае, Индокитае, Тибете и Гималаях?.. Число лексических схождений нарастало лавинообразно. И безжалостная логика научного исследования поставила перед автором почти фантастический вопрос: нет ли здесь родства? Старостин ответил на него утвердительно: да, есть.

Северокавказские и сино-тибетские языки, по-видимому, оказались двумя ветвями одной древней суперсемьи, которую Старостин назвал сино-кавказской. Несколько позже он привел аргументы в пользу того, что у этой суперсемьи есть еще одна, третья ветвь, предоставленная енисейскими языками. Итак, возникает новая обширная семья языков. И с этого момента поиск дальнего языкового родства неизбежно начинает вращаться в первую очередь вокруг двух центров — ностратического и сино-кавказского. И ют еще одна гипотеза. Соавтор С. Старостина по северокавказской реконструкции Сергей Николаев, занимаясь языками индейцев Америки, приходит к выводу, что одна из языковых семей североамериканских индейцев — языки на-дене в Калифорнии — составляет четвертую ветвь сино-кавказской суперсемьи. А ведь удивительная вешь! Если эти языки — северокавказские, китайско-тибетские, енисейские, на-деле — родственники, хоть дальние, значит, когда-то был один язык, от которого все они произошли. И был народ, который на этом языке говорил, как мы с вами говорим по-русски. Нормальный человеческий язык. Естественный вопрос: где и когда? Это уже область значительно более зыбкая, чем лингвистическая реконструкция. С. Старостин применил глоттохронологию для датировки распада северокавказского и сино-тибетского праязыков, а также их общего предка — сино-кавказского. Получается, что прасеверокавказский язык распадается приблизительно в V тысячелетии до новой эры, тогда же, когда и праси но-тибетский. Дата разделения сино- кавказского — примерно IX — VIII тысячелетия до новой эры. А по реконструированной культурной лексике мы можем приблизительно соотносить праязык с определенным историческим периодом. По п расе верокавказской лексике вырисовывается картина материальной культуры, соответствующей эпохе энеолита — началу эпохи металла. Восстанавливается большое число культурных терминов, связанных с развитым земледелием, скотоводством, керамикой. Появляются названия для металла и термины, связанные с ранней металлургией. Судя по многочисленным культурным терминам, которыми прасеверокавказцы обменивались с другими народами, предположительно размещавшимися в VI — V тысячелетиях до новой эры в Передней Азии, сами они жили где-то в этом же районе. Нам нетрудно вообразить, как именно предки носителей современных северокавказских языков могли попасть в районы Абхазии или Дагестана откуда-нибудь из Верхней Месопотамии или с Армянского нагорья. Но как представить себе распространение сино-кавказских языков из необходимо постулируемого единого центра в столь далекие друг от друга районы земного шара, как Кавказ, Китаи, Сибирь и даже, по-видимому, Калифорния? Естественно, мы ждем от историков некоей единой современной теории этногенеза, учитывающей все многообразие и всю сложность проблематики. Однако едва ли было бы разумно сидеть сложа руки и ждать, пока появится такая принимаемая всеми теория. Корреспондент: Конференция на специальных пленарных заседаниях занималась обсуждением того, где и когда возникли две языковые семьи, входящие в ностратическую, — индоевропейская и афразийская. Каковы главные итоги этого обсуждения? А Милитарев: На одном из заседаний разбиралась новейшая и наиболее аргументированная из гипотез о прародине индоевропейцев, ее выдвинули академик Т.В. Гамкрелилзе и доктор филологических наук Вяч. Вс. Иванов. Согласно этой гипотезе, прародина индоевропейцев (точнее, место распада праиндоевропейского языка) находилась в Передней Азии. Как всякая серьезная новая идея, она затрагивает множество проблем — от частных и конкретных до методических и теоретических. Обосновывая свои предположения, авторы выделяют общую культурную лексику праиндоевропейского и некоторых других древних языков, свидетельствующую об их контактах на территории Западной Азии. Корреспондент: Как ни трудно оторваться от индоевропейской прародины, куда уходит и наша древняя европейская культура, все-таки давайте перейдем к следующей дисциплине конференции — о прародине афразийцев. А. Милитарев: Ну, во-первых, далеко мы не оторвемся. По предложенной к обсуждению гипотезе прародину афразийцев следует искать в том же районе Западной Азии. Во-вторых, праевропенекая и собственно европейская культурные традиции в разные эпохи питались от источника "афразийскоязычных" культур — Египет, Вавилон, финикийцев, средневековых арабов. Корреспондент: Простите, но ведь представление о прародине афразийцев в Передней Азии не ново. А. Милитарев: Да, конечно. Эта идея стара как мир. Первый письменный документ, по которому Передняя Азия является родиной семитских и хамитских (египтяне), а также и индоевропейских языков (в старинном значении — племен, народов), — Библия. Ранняя европейская наука тоже так считала. Правда, мне не известны какие-либо научно аргументированные подтверждения этой позиции. Однако в последние годы, с бурным развитием афразийского языкознания, перед исследователями встает роковой вопрос. Из шести ветвей афразийской семьи (семитские, египетский, ливийско-гуанчские, чадские, кушитские, или "западнокушитские") лишь одна — семитская — исторически засвидетельствована в Передней Азии (сравнительно позднее проникновение отдельных языков в Африку картины не меняет). А все остальные — в Африке. А генетическое единство языков означает, повторяю, что у них был общий предок, реально существовавший в определенное время и в определенном месте. Таким местом — афразийской прародиной — приходится считать либо Переднюю Азию, либо Африку. Не то чтобы "не дано", но любые другие географические претенденты на роль афразийской прародины представляются малореальными. Реконструированные термины указывают на то, что праафразийцам уже было знакомо земледелие и, возможно, скотоводство. Вместе с тем, по моим глоттохронологическим подсчетам, распад общеафразийского праязыка следует датировать более ранним временем (XI-X тысячелетия до новой эры). И по той же логике, по которой И.М. Дьяконов помешал праафразийцев в Африку (точнее, в Восточную Сахару), я полагаю, что их надо искать в том единственном районе, где в эту эпоху уже начинает развиваться неолитический земледельческо-скотоводческий комплекс, — в Передней Азии.
НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Где корни этой пышной кроны?

Когда готовился этот номер, пришла страшная весть — умер Сергей Анатольевич Старостин, лингвист гениальный, лингвист номер один, как называли его коллеги. Совсем недавно он вместе с Александром Милитаревым был в редакции.., Сегодня мы вспоминаем беседу с ними, расспрашиваем Милитарева. Из огромного списка вопросов, которыми озабочена наука лингвистика, читателей в основном интересуют два: когда возникли языки и где прародина того праязыка, из которого впоследствии образовались все нынешние языки мира. Если, конечно, все они "вышли" из одного праязыка и прародина была одна. Это тоже — вопрос, но он волнует специалистов. Совсем недавно про время лингвисты говорили: 40 — 50 тысяч лет. В последнем разговоре выяснилось, что они углубились еще на четыре тысячи лет в древность. Старостин говорил: "Мы стараемся работать по плану, а план заключается в постепенной ступенчатой реконструкции, все более и более глубокой". Лингвистические реконструкции — дело бесконечно сложное, и об этом будет еще речь. Сейчас же скажем о предполагаемой прародине. Поскольку считается, что Хомо сапиенс происходит из Африки, корни мирового языкового дерева логично искать именно там, поэтому тамошние языки представляют особый интерес, но... они очень плохо изучены. "По существующим представлениям, африканские языки распределены по четырем макросемьям. И со всеми ситуация очень сложная. В Северной Африке сделан большой кусок афразийской семьи, которой занимаются Александр Милитарев и Ольга Столбова. Есть на крайнем юге койсанская семья, с которой ситуация улучшается, потому что мой старший сын взялся за эту большую базу, — говорил Сергей Старостин. — Затем есть нило-сахарские, с которыми совсем дела плохи, потому что непонятно, что это за семья. У койсанских языков характерное — это кликсы, койсаны все время щелкают. У языков нигер-конго характерное — это именные классы. А все языки, которые не имеют именных классов и кликсов, относятся к нило-сахарским, естественно, в первую очередь по географическим критериям, что крайне ненадежно". Вообще все, что за пределами Евразии, — катастрофично прежде всего в смысле исчезновения языков, которые вымирают десятками, и в смысле изученности даже тех, которые не вымирают. Есть, например, языки, на которых говорят 150 тысяч человек, но они абсолютно не описаны, нет ни одной грамматики и ни одного словаря. Есть и такие языки, на которых говорят 10-12 человек, и они вымирают на глазах. А при этом нигер-конго — самая большая языковая семья в мире, там примерно полторы тысячи языков, но с точки зрения изученности и исторической реконструкции практически ничего не сделано. Есть банту — самая большая подгруппа по количеству людей и языков, там 668 языков. Вот здесь как раз есть и словарь, и реконструкции. Есть и реконструкция манде, но больше нет ничего. "За год, что мы не встречались, — говорил Сергей Старостин в последний раз будучи в редакции, — из качественных вещей произошло вот что: появилась австрическая реконструкция. Это важный шаг, это — макрокомпаративистика. Мы наконец сделали, хотя бы в первом приближении, протоавстрическую реконструкцию на основании сравнения протоавстронезийского языка и протоавстроазиатского. Это четвертая макросемья в Евразии — сейчас намечаются ностратические, афразийские, семито-хамитские, сино-кавказские и австрические. И в общем можно сказать, что по всем четырем макросемьям есть некоторый вариант праязыковой реконструкции, а значит, подготовлена почва, чтобы их сравнивать между собой и идти глубже. Это была последняя существенная прореха в Евразии — австрическая". Еще из наиболее интересного. Георгий Евгеньевич Березкин из Петербурга, археолог по образованию, выдвинул гипотезу, что есть определенная корреляция между мифологией и генетикой. Суть ее в том, что в Америке выделяются три мифологических узла — североамериканский, мезоамериканский и южноамериканский. И они обнаруживают разные связи за пределами Америки. В частности, южноамериканский узел по мифологическому параметру связан с Новой Гвинеей и папуасами. Североамериканский указывает на связи с Центральной Азией. С точки зрения лингвистики и логики, понятно, как расселялось население. Однако это еще не окончательный вывод — в базе данных до сих пор нет Африки, неполный материал по Азии и Европе. В беседе с лингвистами возник вопрос о перемычке между языками Евразии и собственно африканскими языками. Однако здесь ясного мало. Сергей Старостин говорил: "На этот счет мы как раз зондируем ситуацию в Африке. И каждый раз оказываемся в положении, в котором уже были. Точно так первоначально было с ностратикой: нужно было понять, что такое собственно ностратическая семья и нельзя ли в нее включить вообще все языки. Оказалось, что нельзя, что есть еще отдельные три семьи примерно такого же ранга, как ностратическая. Сейчас идет работа по сравнению этих четырех макросемей, и я уверен, что можно будет установить и регулярные фонетические соответствия, и лексические, но тем не менее уверенности в том, что есть какая-то макроевразийская семья, у меня нет. Это задачи будущего". А вот по языкам Америки ничего, кроме классификации Гринберга, объединяющего почти все в единую америндскую макросемью, нет. Правда, кроме гипотезы и классификации Дмитрия Лещинера, основанной на очень предварительном сравнении 35-словных списков этих языков. У него получается, что в Америке есть по крайней мерс восемь макросемей — четыре в Южной и четыре в Северной. Вполне возможно, что они все сводятся между собой на глубине 14- 15 тысяч лет, тогда Гринберг прав, но, может быть, и нет. Это тоже — работа будущих исследователей. Вообще Сергей Старостин говорил много о будущем, о том, что предстоит сделать, и это так грандиозно. Сергей, задумавшись, воскликнул: "Хватит ли нам на это жизни?" Сейчас читать это особенно невыносимо.
МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Виктор Сарианиди

Археология — одна из любимых тем наших читателей, об этом они пишут, о многом спрашивают, подсказывают сюжеты. Возможно, поэтому в журнале все** гда много самой разнообразной археологии, начиная с палеолита и кончая Средневековьем. Может быть, это так притягательно, потому что сказка, небылица оказывается реальностью? И даже более того — реальность превосходит сказку: кто на самом деле может поверить, что тысячи лет назад люди строили города и храмы, корабли и пирамиды, плакали, молились, любили и, в сущности, мало чем отличались от современных людей? В археологии нет мелочей. Иногда одна стеклянная бусина способна осчастливить археолога. Что же говорить, если он, раскапывая долго и усердно, поймет вдруг, что раскапывает неизвестную страну? V не просто одну из многих, а крупнейшую и значительнейшую для своего времени? Именно в таком положении оказался Виктор Сарианиди, доктор наук, ученый с мировым именем, раскапывая страну Маргуш. Когда-то давно, в 1967 году, он принес в журнал статью о первых своих раскопках на юге Туркменистана, мы даем ее в сокращенном виде. Сегодня он рассказывает об открытии, которое называет открытием века.
Виктор Сарианиди
Кара-Кумы. Древняя цивилизация
"Знание — сила", 1967, № 11
Примерно 5-6 тысяч лет назад на юге Туркменистана появились первые поселки людей, научившихся уже выращивать на своих полях пшеницу и ячмень. Прошли века, и на месте былых деревушек появились прекрасные города. Дворцы, храмы, бесчисленные дома... Алтын-тепе, Улуг-тепе — так называют теперь туркмены места, где стояли первые среднеазиатские города, древние столицы тогдашнего мира. Алтын — золотой, Улуг — великий: вот какое впечатление тысячелетия спустя произвели засыпанные песком руины на первых туркменских пастухов, передвигавшихся с отарами баранов от одного поселения к другому. Такое же ошеломляющее впечатление производят руины и сейчас.


Уже первые раскопки показали, какого высокого уровня культуры достигли люди, жившие здесь за пять тысяч лет до нас. Как полагается, высокому уровню соответствовали и контрасты. Фамильные склепы зажиточных семей с богатыми погребальными приношениями — и нищие могилы бедняков. Глиняные модели четырехколесных повозок с впряженными в них фигурками верблюдов копировали настоящие деревянные, на которых предприимчивые торговцы отправлялись в дальние страны в погоне за большими барышами. Недаром же на Алтын-тепе был найден клад вещей из далекой Индии. А еще здесь находят печати медные и серебряные. Особенно эффектны массивные печати в виде рогатого бычка, орла с распростертыми крыльями, каких-то хищных животных, возможно, барсов. Порой даже самим археологам не верится, что безвестные мастера, жившие пять тысяч лет назад в городах Южного Туркменистана, с таким совершенством владели столь тонкой техникой. Что представляют собой эти печати: простые брелки-побрякушки или настоящие печати — символы личной собственности и власти? Скорее всего последнее. Владетельный правитель города, местный вельможа, богатый купец уже должны были иметь личную печать для утверждения своей собственности, своего права, своей власти. Итак, города, дворцы, печати... Казалось бы, налицо все признаки древней цивилизации. Кроме одного, очень важного — была ли здесь письменность? При раскопках городов археологам нередко попадались глиняные фигурки женщин. Но какие! Загадочный взгляд огромных гипнотизирующих глаз. Пышные бюсты, узкие, "в рюмочку", талии, широкие бедра. На головах нередко короны, от которых на грудь спускаются тяжелые извивающиеся по-змеиному косы. Вероятнее всего, эти женские фигурки — воплощения женского божества, без которых, пожалуй, не обходилось ни одно общество на Древнем Востоке. И нет ничего удивительного в их целомудренной наготе, символизировавшей прежде всего идею женского начала, идею материнства. Женским статуэткам придавалось особое, магическое значение. Они олицетворяли собой само плодородие земли. Поэтому на многих из них нацарапаны ветви растений или колосья.

Но есть и такие статуэтки, у которых на разведенных руках начертаны еще какие-то загадочные знаки. До самого последнего времени эти скромные, порой малозаметные рисунки считали то следами украшений, то отображением татуировки, то просто декоративными деталями. Но в 1966 году среди кирпичей древнего фундамента оказалась замурована обычная женская статуэтка, да к тому же не лучшего качества. Однако в одном она выгодно отличалась от своих глиняных подруг. Хотя ее лицевая, парадная сторона ничем не украшена, на оборотной оказались попарно начертаны восьмилучевые звезды. И именно то обстоятельство, что звезды оказались на тыльной, не связанной со зрительным восприятием стороне, натолкнуло на мысль о их особом значении. Стало ясно, что рисунки, принимавшиеся раньше "по традиции" за простые украшения статуэток, на самом деле были символами, знаками, имевшими определенное значение. Но какое? Оказалось, что на многих других глиняных божках тоже есть символы, начертанные тонким металлическим скальпелем по еще сырой глине. И лишь потом эти глиняные дамы были обожжены в керамических печах. Десятки разных по начертанию символов удалось объединить в шесть больших групп. В первую отнесены знаки в виде "треугольников с ресничками", иногда с навершием в виде креста. Вторую группу составляют знаки восьмилучевой звезлы и крестов; последние нередко имеют на концах короткие поперечные черточки. Символы третьей группы — это вертикальные черточки, от которых отходят либо параллельные, либо, наоборот, расходящиеся в стороны линии с поперечными черточками на концах. В четвертую группу вошли зигзаги. Пятая группа — это символы растительности в виде ветвей или колосьев. И, наконец, к шестой группе отнесли вертикальные черточки числом от семи до одиннадцати. Казалось бы, стоит ли придавать столько значения каким-то значкам, часто очень простым, начертанным скульпторами древности на своих хрупких изделиях? Стоит, если вспомнить, что такие простые знаки-рисунки входят и в древнейшую письменность на земле. А как оказалось, некоторые знаки на южнотуркменистанских статуэтках по внешнему виду близко напоминают соответствующие знаки бесспорной письменности: шумерской и эламской.[* Элам - государство, существовавшее в первом — четвертом тысячелетиях до новой эры на северном побережье Персидского залива.] Но и эта древнейшая письменность возникла ведь из расписных орнаментов на местной более древней посуде. Может быть, и наши знаки на статуэтках имеют чисто местные прототипы, и тогда незачем искать аналогий в шумерской и эламской письменности? Что же, такие местные прототипы есть. Но соответствия касаются в основном простых рисунков — крестов, зигзагов, растительных узоров. И на этом фоне особенно ярко выступают те аналогии интересующим нас знакам, которые обнаруживаются в письменности Древнего Востока. У шумеров в конце IV — начале III тысячелетий до новой эры был широко распространен знак восьмилучевой звезды, который в клинописной системе имеет значение "небо", "бог". Знаки, сходные с ветвями и колосьями нашей пятой группы, имеют в шумерской клинописи значение "зерно", а зигзаги четвертой группы — значение "вода-канал". Еще более важны знаки, общие для южнотуркменистанских статуэток и раннеэламской письменности. Это тем интересней, что с глубокой древности область Элама обнаруживает культурную близость с районами Южного Туркменистана. В древней письменности Элама находят аналогии и "треугольник с ресничками", и знак восьмилучевой звезды, и знаки четвертой-пятой групп, и, что особенно важно, такие сложные по начертанию знаки третьей группы. К тому же эти последние на южнотуркменистанских статуэтках имеют на концах поперечные черточки, которые нигде больше не известны, как на раннеэламских табличках. Возможно, своя письменность здесь уже и была, но это лишь чисто теоретические предположения. Пока не найдены печати с надписями или клинописные таблички наподобие шумерских, следует весьма осторожно подходить к открытиям на юге Туркменистана. Правда, кроме статуэток, был найден еще обломок терракотовой плитки, на котором сохранились остатки четко начертанных пяти "треугольников с ресничками", да еще разделенных знаком зигзага. Однако это ведь только один обломок...
ОТКРЫТИЕ!
Виктор СарианидиСтрана Маргуш - среди мировых цивилизаций...

Древнюю карту мира придется пересматривать. Появился совершенно новый центр цивилизации, о чем еще недавно никто из специалистов не догадывался. Открытия такого масштаба случаются крайне редко, может быть, раз в сто лет. ...Прошло больше трех десятков лет интенсивных исследований, и теперь уже можно с уверенностью сказать, что Месопотамия и Египет, Индия и Китай были не единственными центрами цивилизации. Четыре тысячи лет назад в далеком Туркменистане, в безжизненных ныне песках Каракумов, располагался еще один, пятый центр цивилизации древнего мира. В соседнем с ней древнем Иране центр этот называли "Страной Маргуш", и слава об этой стране далеко распространялась за ее пределы. Древние греческие авторы, которым трудно было произносить "Маргуш", переиначили ее в "Маргиану", а еще позднее средневековые историки стали называть ее "Мерв". Сегодня это область "Мары". Итак, древняя "страна Маргуш". Что она собой представляла? Располагаясь между древней Индией, с одной стороны, и Ираном с Месопотамией — с другой, она занимала срединное место между этими двумя мировыми центрами. Через Маргуш проходили древние торговые пути от великой реки Инд с ее знаменитой Хараппской цивилизацией и до Междуречья Тифа и Евфрата с не менее знаменитой шумерской. Доказательством тому служат многие археологические находки здесь, в Маргуше, привезенные с берегов Инда, Тигра и Евфрата. Уникальные находки — цилиндрические печати с шумерской надписью, с надписью на древнеиндийском языке — подтверждают существование прямых контактов между всеми передовыми центрами. Люди, несмотря на огромные расстояния, преодолевая горные кряжи и знойные пустыни, обменивались не только своими товарами, но и новыми идеями, закладывая основы будущего прогресса человечества.

Подобно другим мировым центрам древнего мира, страна Маргуш имела дворцы и хижины, храмы и некрополи. Понятно, что социальная организация общества была сложной. Но какой именно? Что за люди в ней жили? Каким богам поклонялись? Что умели делать, на каком языке говорили? Масса вопросов возникала у археологов по мере того, как раскапывалась все большая площадь, и становилось ясно, что имеем мы дело со страной, которую не знаем. Шло время, за те тридцать с лишним лет, что ведутся работы, надо сказать, самые масштабные из известных мне на сегодняшний день, стало многое понятно. И на некоторые вопросы уже можно ответить. В этом отношении огромный интерес представляет столичный город Гонур страны Маргуш и его дворцово-культовый ансамбль. О нем хочу рассказать подробнее. В центре города был возведен мощный, укрепленный боевыми башнями кремль. Внутри кремля, в центре — монументальный дворец, резиденция царя. В этой же царской резиденции был устроен фамильный мавзолей, где находили свой последний приют умершие члены царской фамилии. Два обширных двора, по всей видимости, некогда обсаженные деревьями и цветами, служили местом прогулок и отдыха царской фамилии. Здесь же, в кремле, располагалось и административное здание, где, судя по всему, работали чиновники, занимавшиеся подсчетом проделанных общественных работ, приемом привезенных продуктов для царского стопа и многим другим. Обширные складские помещения с десятками больших тарных сосудов и специальными зернохранилищами дополняют общее описание этого дворца, единственного и уникального для всей Центральной Азии. Но дворец составлял лишь часть, правда центральную, сложного дворцово-культового ансамбля. Ансамбль этот удивительный, другого такого не было в древнем мире. Со всех его четырех сторон располагались храмы. В их числе Храм Огня, Храм Жертвоприношений, Храм Общественных Трапез и связанные с ним Царское Святилище и Храм Воды. Все культовые сооружения обнесены с внешней стороны оборонительной стеной с башнями, образующими своеобразное оборонительное каре. Прежде всего следует сказать, что все храмы, окружающие с четырех сторон кремль Гонура, имеют прямые проходы, соединяющие их с дворцом таким образом, что царь из дворцовой резиденции свободно мог пройти к каждому из них. В таком случае это мог быть царь-жрец или главный жрец, выполнявший жреческие функции. Царское Святилище — это отдельный комплекс взаимосвязанных между собой общими проходами помещений. В центре — так называемый "киоск", сооружение без стен, которое со всех четырех сторон окружено своеобразными коридорами. В помещениях — десять культовых (а не бытовых) печей, в них, очевидно, сжигали свежие ароматические травы в виде благовоний. Такие сооружения в виде "киоска" на Ближнем Востоке неизвестны. По данным индийских археологов, нечто похожее есть в Мохенджо Даро, где его определяют как Храм Огня. К этому следует добавить, что все находки в Царском Святилище сделаны преимущественно из слоновой кости, которая могла попасть в страну только из долины Инда. За западным внешним фасадом кремля внутри каре находится Храм Жертвоприношений, центральную часть которого занимает огромное, бесспорно, общественное здание, условно названное "Дом Песнопений".


А в южной части напротив располагаются два огромных круглой формы кирпичных "алтаря" с проходами и ступеньками, ведущими внутрь. В обоих алтарях сохранились два культовых очага. А вокруг — множество культовых печей для приготовления жертвенного мяса. Точно такая же планировка и на южной части каре, только вместо культовых печей там были переносные жаровни. Наконец, на восточном фасаде Храм Жертвоприношений продолжается, и здесь тоже располагалось много культовых печей для приготовления жертвенного мяса. Рядом с этим храмом на востоке был выстроен небольшой Храм Огня с алтарями огня, устроенными в виде пяти прямоугольных камер, выложенных изнутри сырцовыми кирпичами, на них — следы сильно бушевавшего огня. Интересно, что в одно и то же время у одного и того же народа бытовало два типа алтарей — в круглых, по всей видимости, происходили жертвоприношения огню, в то время как в прямоугольных горел "вечный огонь" в честь Бога огня. В северной части комплекса была устроена обширная открытая площадь, окруженная со всех сторон многочисленными культовыми печами, в которых готовилось жертвенное мясо. Здесь был "Храм Общественных Трапез". О существовании "общественных, или коллективных трапез", в которых принимало участие все население, имеются свидетельства в древних текстах, в частности, "Авесты", но здесь именно при археологических раскопках на Гонур-депе впервые мы нашли реальные доказательства тексту. Жертвенное мясо приготовлялось в культовых печах, они в Гонуре встречаются в огромном количестве. Разумеется, что такие "общественные трапезы" с культовыми трапезами, где поедались специальные части животных, представляли собой акт величайшего очищения, наподобие современного "худай нули", до сих пор очень широко распространенного у современных туркмен! Но еще более грандиозный храм располагался в южной части этого необыкновенного дворцово-культового ансамбля. Это был Храм Воды, где совершались ежедневные богослужения. Древние архитекторы заключили весь этот грандиозный дворцово-храмовый комплекс внутрь гигантской обводной стены. Стремление создать и оградить особый ансамбль, изолированный от светской, греховной жизни, означает, конечно, что уже существовала философия Добра и Зла, а это —свидетельство высокого развития интеллектуальной жизни древних маргушцев. И будет к месту остановиться на вопросе о языковой принадлежности живших здесь людей. Имеется достаточно оснований считать, что они принадлежали к индоевропейским народам, а точнее, к арийцам, в среде которых родилась первая и древнейшая мировая религия — зороастризм. Вот уже свыше двухсот лет многие ученые мира пытаются выяснить, где и когда зародилась и существовала зороастрийская религия, но — сколько было авторов этих гипотез, столько и возможных вариантов родины зороастризма. Примерно пол века назад большинство ученых помещали родину зороастризма в Западный Иран. Однако в последние десятилетия все больше специалистов склоняются к тому, что ее родина — в Центральной Азии, преимущественно в Маргиане и Бактрии. В этой связи следует отметить, что крупномасштабные раскопки в Маргиане последних десятилетий предоставили большое количество фактов в пользу последней теории. Сегодня есть все данные считать, что жившие в древней дельте Мургаба племена в HI-II тысячелетиях до новой эры и были теми арийцами, в среде которых зародилась будущая зороастрийская религия. Именно в Маргиане (или соседней Бактрии) мог родиться новоявленный пророк Заратуштра, который реформировал (или иначе переработал) основные постулаты языческого протозороастризма и заменил многобожие на единобожие. В священной для каждого зороастрийца книге "Авеста" говорится, что зороастрийцы были в одинаковой мере как огнепоклонниками, так и водопоклонниками, и что только этим двум культам зороастрийцы приносят ежедневные жертвоприношения. Доказательством бытования именно этих двух культов у гонурцев служит весь дворцово-культовый ансамбль с его Храмом Огня и Храмом Воды и много других вещественных доказательств, полученных в ходе археологических раскопок в Маргиане. Последнюю и окончательную точку в эту затянувшуюся дискуссию поставили раскопки царского некрополя, но об этом — в ближайшем номере.
ДОБРЫЕ СЛОВА
В "Знание — сила" меня, молодого биолога, тяготевшего к журналистике, привел в середине 60-х мой друг — профессиональный журналист Марк Хромченко. В эти же годы в журнале работала легендарная биофаковская "наша Лялька" — Лилиана Сергеевна Розанова. Она была душой биофака пятидесятых — начала шестидесятых, была, как тогда говорили, "зубром культурных дел". Любовь к ней была всеобщей, а авторитет — непререкаем. Защитив кандидатскую, она, дочь замечательного детского писателя Сергея Розанова (Приключения Травки), ушла в журналистику, а именно в "Знание — сила". Л это к тому вспоминаю, что в редакции тогда собрались интереснейшие люди — "шестидесятники" в самом высоком, лучшем смысле этого слова. Леля — журналистка и писательница — была одной из них. А я был горд и счастлив тем, что могу запросто приходить в редакцию, чувствовать себя приобщенным к особой, острой атмосфере "свободной — как мы бы сейчас сказали — журналистики". Эту "свободную журналистику" несла на своих плечах главный редактор Нина Сергеевна Филиппова. Одним из ее героических дел стала моя статья 1968, кажется, года — "Невидимый колледж в разгаре спора". Уж я не помню точно, кто именно — Леля Розанова или Марк Хромченко, который работал тогда в журнале "Здоровье", но дружил со "Знание — сила" — велели мне написать статью про новых, 1967-го года нобелевских лауреатах. Лауреаты эти — их было трое — получили премию за выдающийся вклад в физиологию зрения. А именно зрением я начал заниматься в аспирантуре, так и продолжаю заниматься до сих пор. Поэтому кому, как не мне, пристало писать про них и про то, что они сделали. И я такого понаписал в то совсем непростое время, что бедную Нину Сергеевну, которая это все напечатала, вызывали "на ковер" в Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС. Но она выстояла, и, как мне потом передавали, ничуть не жалела, что статью мою напечатала. Крамола же состояла в том, что и эти лауреаты, два американца и швед, и множество других ученых, кого я в жизни никогда в глаза не видел, но кто работает над проблемой, над которой и я тут бьюсь в Москве, мне ближе и понятнее, чем сосед дядя Вася на нашей лестничной площадке. Эти ученые, как я пытался объяснить, и составляют "невидимый колледж", то есть неформальное сообщество людей, занимающихся одним и тем же делом, а потому думающих друг о друге, внимательнейшим образом читающих статьи друг друга, спорящих и часто весьма ревностно относящихся друг к другу. В результате получалась антипатриотичная статья: как это советскому человеку иностранцы ближе, чем другой советский человек. Никаких неприятностей у меня из-за этой статьи не было, но героической Нине Сергеевне досталось. Зато "Знание — сила" — это была сила (!!!), которую рождала атмосфера шестидесятых вообще и неординарная редакция во главе с главным редактором, в частности. М.А. Островский, академик РАНПримите искренние поздравления от вашего ровесника. Тридцать лет я регулярно выписывал ваш журнал, читал его от корки до корки и аккуратно переплетал. Тридцать ежегодников и сейчас стоят в моем книжном шкафу, и я время от времени с удовольствием просматриваю их. Удач вам, дорогие ровесники. Ваш Борис Васильев, писатель
ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
Галина Бельская
Наша маленькая странность
 Э. Гороховский
Э. Гороховский
Летучка подходила к концу, когда Нина Сергеевна сказала: "А теперь — приятное. До нас дошло письмо из Франции, из Парижа (все: "О-о-о!"). Через Общество, конечно (Всесоюзное общество "Знание"). Пишет издатель, я вам прочитаю". И вот Нина читает письмо, из которого ясно, что издатель этот когда- то где-то наткнулся на наш журнал, как-то его прочел и восхитился. Задумался, загорелся и стал по мере сил следить за ним — читать, переводить (а это семидесятые годы!) и, наконец, решился написать. И вот пишет, что, по его мнению (а он в этом деле дока, сам издает тридцать журналов), "Знание — сила" — один из лучших из всех известных ему такого рода журналов. Поэтому он просит поблагодарить всех, кто его делает, за их замечательную работу и особенно художников, которые — выше всех похвал. А в конце письма решается обратиться к главному редактору, мсье Филиппов, то есть к нашей Нине Сергеевне Филипповой (он и помыслить, как видно, не мог, что главный — женщина), с просьбой присылать ему на стадии гранок наш журнал, а он с благодарностью будет каждый месяц посылать нам изданные им свои тридцать штук журналов. — Ну это, конечно, нереально, как вы понимаете, — сказала Нина, — так что об этом забудем, а вообще — приятно. Вот и все. И мы разошлись. Пасмурный зимний день сразу посветлел, и все мы посветлели, потому что сами-то мы, естественно, знали, что наш журнал — самый-самый, но когда об этом знает еще кто-то, а тем более во Франции, — это совсем другое дело, то есть наполняет радостью и уверенностью. Весь день улыбались, вспоминая изысканные обороты его речи, которые даже перевод не мог исказить. Ну, а к вечеру забыли о письме и о французе, потому что в подвале нашем в очередной раз прорвало канализацию и стало не до Франции с ее Шанелью и Диором. Так в хлопотах о житье-бытье и творческом процессе прошла зима. Настала весна, запахи стали разнообразнее — потянуло свежестью, землей, тополем и какой-то травой и кустарником, которые высалил Брель прямо перед подвальными окошками. О французе не вспоминали, а он, бедняга, все время вспоминал. Не такой он был человек, чтобы сразу забыть то, что так мило стало его сердцу, тем более не получив ответа на свои многочисленные письма и теряясь в догадках, почему же ему не отвечают, когда он так настойчиво этого добивается. И вот решив, что во всем виновата почта, а туг он бессилен, француз этот покупает билет на самолет и прилетает налегке в Шереметьево, тем более что уже лето, погода прекрасная, а характер и опыт француза подсказывают ему, что он поступает очень решительно и правильно. А из Шереметьева на такси прямиком направляется в общество "Знание", адрес которого он берег всю дорогу, а для пущей верности — выучил наизусть. Теперь уже трудно представить себе, какой переполох случился в здании Политехнического музея в связи с появлением там этого иностранца. Обществу и так журнал был, как бельмо в глазу: вечно будь на страже, вечно не тех и не то печатают, не тех авторов, не те статьи, а уж об иллюстрациях и сказать-то нечего — полный бред и абстракционизм, не говоря уже о слонах на обложке ко дню рождения вождя мирового пролетариата. Все годы Общество бьется с этой одной паршивой овцой в стаде и, надо сказать, безуспешно, а тут — на тебе, опять "Знание — сила" и уже с иностранцем! Иностранец в семидесятые годы — дело нешуточное, ладно его письма и то — неприятность, но их можно и выбросить, а его самого куда девать? И судя по всему, француз упрям, напорист, богат и известен, никакие разговоры — общие, идеологические — его не берут, рвется, как пойманный зверь, к мсье Филиппов, в редакцию, прямо ужас! Даже как-то жалко становится этих убогих людей, ну бьются они, бьются, как мелкая кусачая мошкара, и что? Журнал выходит, и француз — вот он здесь, явился не запылился, улыбается, вежливый и как кремень: желаю, говорит, в редакцию вашего прекрасного журнала к мсье Филиппов. И вот в редакции, в кабинете главного редактора, раздается звонок большого начальника из Общества. Начальник взбешен, голос его так и хлещет: доигрались, дескать, допрыгались со своими слонами и кибернетикой, уже к вам иностранцы едут! Как прикажете это понимать — тайно сговорились? И главное — что теперь делать, вот в чем вопрос. Скажем от себя — всегдашний, российский. Ну Нина-то наша — не на ту напал! Не зря она войнупрошла комиссаром женской конной (была, оказывается, такая дивизия)! И генетика у нее — что надо, деды и прадеды ее не такое видели и выстояли, "Королева" — ее негласное имя. Она уж не смолчала, все, что надо, сказала спокойным звонким голосом, а сама пошла красными пятнами и велела крепкого чаю. Собрала свою команду и просила Женю Цветкова, высокого стройного красавца, нашего физика с безупречным французским и естественным грассированием, взять Юру, шофера с машиной, и ехать за французом в Общество. А дальше... Вот тут-то и была вся загвоздка. Дело в том, что хоть и сладили как-то с канализацией, некоторая неисправность ее давала себя почувствовать. Это — первое. Дальше. Сильно смущала собака. Беспородная, брошенная кем-то дворовая сука всего неделю как благополучно разрешилась в стенах редакции, в связи с чем правый угол главной редакционной комнаты был отгорожен, и там на довольно несвежем одеяле возлежала счастливая и гордая мать со своим многочисленным приплодом. Каждый, кто заходил сюда, автор или посторонний, несколько замирал, то есть некоторая оторопь все-таки нападала на человека при виде этой ощенившейся собаки в редакции Всесоюзного органа печати, и в зависимости от характера он либо небрежно делал вид, что ничего такого особенного он не видел, а пришел, собственно, по делу, либо тут же забывал, зачем пришел, припадал к загородке и буквально таял от трогательного зрелища. Но и это еще не все. Как-то очень неожиданно смотрелся электрический самовар на полу, в котором варилась уха, сильный рыбный запах, приправленный перцем и лавровым листом, не оставлял никаких сомнений на этот счет, а молодой человек, чистивший рядом с самоваром свежую, еще трепещущую рыбу и насвистывающий незатейливый веселый мотивчик, приводил к мысли, что приготовление ухи в самоваре из рыбы, только что наловленной шофером Юрой, — дело обычное, будничное и даже вполне естественное для редакции. И что самое смешное, так, безусловно, и было. Собака вызывала сострадание, ее кормили, ласкали и старались пристроить щенков, а уха — вообще прекрасная вещь, поесть ушицы среди трудового дня — что же может быть лучше, тем более что никаких кафе-закусочных рядом нет, а знаниесильская команда в шесть никогда не уходит, а сидит до ночи в свое удовольствие с авторами, которые друзья — с Натаном Эйдельманом, Володей Кобриным, Сережей Мейеном, разве всех перечтешь! — как раз и идут сюда после работы или за шахматами, или скрэйблом, а иногда кое-кто здесь и заночует, благо из кресел вполне получается хороший мягкий диван. Наша Нина все это знала. Именно она растила и пестовала своих птенцов (независимо от возраста) так, чтобы им жилось привольно (не скажу — свободно), бесконечно оберегая от окриков, одергиваний и взысканий всякого рода начальства, принимая все на себя и восставая, рискуя подчас не только партбилетом, но собственной свободой. Но можно ли объяснить некоторую нашу странность французу? И даже не потому, что он считал нормой советскую жизнь (которую, кстати, вряд ли представлял), наша же редакционная под эту норму явно не подходила, а потому, что цивилизованная Франция не только далеко ушла от цехового средневековья, но и забыла о нем. И наш совершенно спасительный для нас образ жизни вряд ли мог быть понят сегодняшним французом. Мы вдруг страшно застеснялись своей собаки, самовара с ухой, тесноты, дружеских посиделок и даже нашей веселости, которая, быть может, покажется легкомыслием, словом, застеснялись несовместимости своей с журналом. Она вдруг стала казаться настолько ощутимой, что, вероятно, именно она и заставила отказаться от встречи с французом. Однако вслух никто ничего не сказал, а Женя, на чье усмотрение, по словам Нины, и должно было произойти все дальнейшее, сел в машину и помчался с ветерком встречаться с французским издателем. Они безумолку говорили, ели, пили, ездили по городу — Женя старался изо всех сил показать красавицу-столицу, но француз был непреклонен, он и в хмеле своем твердил о мсье Филиппов и редакции, и Цветков к ночи сдался. Он подкатил к жилому девятиэтажному дому на Втором Волконском, чей тесный подвал мы занимали, и сказал: "Вот, вот тебе редакция, видишь?" "Да?! — сказал француз. — Это такой небольшой дом вы занимаете? Как же вы размещаетесь?" Тут Цветков не выдержал и заплакал.
Кожевническая. 19
Когда художника загоняют в угол — он начинает рисовать науку. Разговор этот состоялся во многом не благодаря, а вопреки. Вопреки намерению опросить и расспросить хотя бы немногих из тех художников, которые принимали участие в оформлении нашего журнала в 60-х годах. Занимаясь поисками этих уже знаменитых людей, мы терпели фиаско — слишком много времени прошло, и многое переменилось. Одни далече, другие слишком заняты... Однако вскоре выяснилось, что есть человек, сам непосредственно не принимавший участие в оформлении журнала в те годы, но хорошо и близко знающий этих людей. Это — известный художник Борис Жутовский. Дух тех времен вспоминал и давал свидетельские показания в мастерской Жутовского также главный редактор журнала Григорий Зеленко. Ну а постоянные ностальгические слова двух патриархов: "Ну, в наши-то времена было...", "Вам- то легко сейчас..." — выслушивал Никита Максимов.Рисовать науку
Разговор в редакции был посвящен оформлению журнала Б. Жутовский
Б. Жутовский
Н. Максимов: Позвольте на правах самого молодого участника нашей беседы начать разговор и наивно поинтересоваться: список художников, работавших в середине 60-х годов в журнале, выглядит очень солидно. С чего бы это вдруг не в самом "престижном" журнале собралась такая компания? Б. Жутовский: Прямой ответ на ваш вопрос должен быть, наверное, размыслительным, а не категоричным. Вся литература, а тем более вся публицистика, была тогда под колпаком у партии, и главный редактор любого издания был просто ходок, борец и интриган. Один из главных людей, которых я запомнил в этом качестве, была Гришина предшественница (Нина Сергеевна Филиппова. — Н.М.), которая была умна, хитра и достойна. И ей цены не было, как она изворачивалась для того, чтобы журнал существовал. В те времена выпуск издания был сплошной идеологией и доглядом. А что было наиболее далеко от власти, противной и омерзительной? Научно-популярная литература... Следовательно, туда кинулись неглупые люди из разных профессий, они стали расширять эту нишу. Это было еще ко всему прочему интересно, и за это платили хоть какие-то деньги, на которые можно было хоть как-то жить. Было ощущение, что ты причастен к чему-то достаточно серьезному, достаточно содержательному: не надо иллюстрировать "Сказание о земле сибирской" или "Кавалера Золотой звезды". Оформление научно-популярного издания — конкретная проблема, с одной стороны, интересная, с другой — позволительная, с третьей, содержательна по сути своей, а не лжива. Н. Максимов: Но почему именно в середине 60-х годов произошел такой решительный перелом в оформлении журнала? Б. Жутовский: Я думаю, что этот "паровоз" разогнался еще в 50-е годы, в пору "оттепели". Потом был немножко зажат, а со снятием Никиты Хрущева отдушины опять слегка открылись. Я это помню по себе — с одной стороны, я бяка с 62 года, с другой стороны, императора снесли, и неизвестно, как ко мне относиться. А потом, когда пришел этот бровастый, они начали свою колоду тасовать, и какое-то время, года два-три им было не до догляда. Ведь мало того, что Никиту сместили, должен был смениться весь аппарат и все доглядчики. Они думают, как им уцелеть, и цепляются за свое место. А нам того и надо было — только дай чуть-чуть, мы уже и морду высунем. Я думаю, что этот взлет объяснялся социальной вялостью окружающего пространства. И еще очень важная причина: в таком журнале, как "Знание — сила", под каждой статьей лежала конкретная, точная, во всяком случае, научная гипотеза. Или научное открытие, или научное направление. У вас всегда был фундамент. Это не изобразительное искусство — я так хочу, не музыка, по которой можно пройтись сапогом. Вот формула! И никуда от нее не денешься.
 В, Бахчанян
В, Бахчанян
Г. Зеленко: Забавно, кстати, что ни в эти времена — 64-66 годы, ни потом у нас ни разу не было замечаний Главлита (советская цензура. — Н.М.) по изобразительному ряду. Ни разу.. Б. Жутовский: Ну да! Юра Соболев пришел главным художником именно потому, что на не очень умного и бешено азартного человека Борю Алимова начали катить баллон по изобразительному ряду. Г. Зеленко: Да, но не Главлит. а отдел пропаганды ЦК КПСС — он потребовал, чтобы с этим было покончено! И Нина как бы покончила и туг же призвала Юру Соболева, которого в этот момент выставили из главных художников общества "Знание", а он был на сто голов умнее Алимова. Да и у него была уже солидная репутация... Н. Максимов: В нашем весьма приблизительном, но весьма полном списке художников тех лет двадцать пять человек. Все они были разными, что же их объединяло? Б. Жутовский: Ну, во-первых, это были все люди с профессиональным отношением к работе, исповедующие внутренние профессиональные принципы сюрреализма. По той простой причине, что сюрреализм предполагает сочетание не сочетаемого. Это одно из течений, которое было предельно предметно, поэтому дерево, растущее из головы, — в сюрреализме вполне приемлемый ход. Но для этого надо было быть грамотным, знать все-таки, что такое сюрреализм и, конечно, разбираться в науке и играть в эту игру. Во-вторых, объединяла их редакция. Работы ведь не было... Когда нас выругал Никита Сергеевич Хрущев в Манеже, то два года я рисовал под чужим именем, да и то благодаря тому, что главный художник издательства, в котором я работал, сказал: давай работай, а деньги на других выписывать будем. Такой был догляд. Г. Зеленко: Что их объединяло? Некая интеллектуальность? Б. Жутовсккий: Безусловно! Г. Зеленко: Отстраненность от официальных форм искусства? Б. Жутовский: Это априори. Г. Зеленко: Они были совершенно разные — например. Юло Соостер с его предпочтением некоего взгляда со стороны или Зуйков с его вниманием к деталям. В самом способе мышления, а не только в изобразительной манере они были разные. Но не важно, какой набор художников был в каждом номере — некий общий взгляд на жизнь все равно сохранялся.
 Ю. Соболев
Ю. Соболев
 Э. Неизвестный
Э. Неизвестный
Б. Жутовский: Чем в те десятилетия была для нас наука? Помимо душевной отдушины, это было что-то объективно существующее, возвышенное и минимально относящиеся к власти. Минимально!!! Это была объективная форма познания реально существующего. Причем с каждым годом происходили какие-то новые открытия, познание двигалось дальше, а оно бесконечно. И это каждый раз будировало тебя, возбуждало и интриговало. Давало как бы причастность к чему-то очень настоящему. Это же была реальность. Литература была враньем. Помимо ее содержания, она была враньем по дозволенности пластических вариантов. Ты же не мог нарисовать грязного председателя колхоза, каким он был в действительности? Г. Зеленко: В начале и середине 60- х годов наука все больше претендовала на то, чтобы диктовать интеллектуальную моду (скрывая, между прочим, что многие ее области работали по прямому заказу ВПК). Мне кажется, многие мыслящие художники почувствовали, что изобразительное искусство способно соответствовать интеллектуальной сложности проблем, о которых говорила наука. Способно своими средствами постигать мир. Та среда, в которой мы жили, была полна прямых и косвенных откликов на растущую роль науки — и на ее растущие претензии, в том числе откликов и вполне иронических. Помню, в разделе "Академия веселых наук" мы напечатали несколько пародийных стихов от имени знаменитого в ту пору "Евг. Сазонова", где, например, рифмовались "катаклизма" и "коты и клизмы", было много других находок. Среди других был и такой стих: "Я спросила у товарки: знаешь, что такое кварки? А товарка вдруг спросила: нетто знание — это сила?" Наука — не прямо, не в лоб, наука с юмором, даже шуточки по поводу науки — все это было доступно изобразительному ряду легче, чем литературному. Б. Жутовский: Конечно! Г. Зеленко: Скажем, "Ноги" Юло Соостера к статье "Может ли время идти вспять?" — это ведь не попытка проникнуть в физику явления, это попытка дать зримый образ, метафора... Н. Максимов: У меня возникают проблемы, когда для научно-популярного текста надо найти аналогию научному явлению в обыденной жизни и сделать это точно. Но ведь с похожими трудностями встречается и художник при оформлении статьи. Насколько он позволяет "разыграться" своему воображению?
 О. Целков
О. Целков
Б. Литовский: Это зависит от прожитой жизни. От одержимости, которая была по юности. Плюс знание, которым вы обладаете, в конкретной дисциплине. Н. Максимов: Хорошо, если статья по поводу слонопотамов. а вы не знаете и ни разу в жизни ни видели этого существа. Вы можете сделать иллюстрацию к этой статье? Б. Литовский: Безусловно! Н. Максимов: — Выдумав его для себя? Б. Жутовский: Безусловно! Г. Зеленко: То, что мы называем иллюстрацией, — никакая не иллюстрация. Как нарисовать кварк? Или волны эволюции? Иллюстрации к статьям в те годы были — свободные ассоциации художника на тему, заданную автором статьи. Даже не на саму тему — на какие-то ее обертоны. "Усилитель интеллекта" Эрнста Неизвестного, "Мир зрения" Бориса Лаврова, "Яйио пра-мира" Юло Соостера — это все ассоциации: культурные, художественные, дизайнерские. Н. Максимов: А насколько интересно для художника строить такие ассоциации по заказу на тему, ему заданную? Не принижает ли это "большого" художника? Б. Литовский: Дружочек, все-таки иллюстрирование — это отдельная грандиозная профессия. Это профессия, в которой при нашей советской власти художники добились очень серьезного качества, потому что это опять была отдушина. Картину ты не повесишь. Тебе через шесть кордонов надо пройти, чтобы какую-нибудь картину повесить. Я помню, как в 64 году была выставка в Манеже... А была целая система иерархии — и для того, чтобы у тебя купили картину, надо было пройти несколько серьезных этапов. Один из последних состоял в том, что она должна быть повешена на выставке. Только с выставки ее у тебя купят. Поэтому пробиться на выставку было отдельной работой. Помню, какой-то человек нарисовал картину "Хрущев и космонавты". А тут октябрь 64 года, и Хрущева турнули. И этот художник говорит: я вас умоляю, не снимайте — я за ночь переделаю. И за ночь переделал Хрущева на глобус. Нет, конечно, не унизительно было оформлять статьи — это было прибежище и прибежище очень серьезное. Там работали очень серьезные художники. Там начинали работать все — и Эрнст Неизвестный, и многие другие... Н. Максимов: А был ли гамбургский счет среди тех людей, которые принимали тогда участие в оформлении журнала? Б. )Кутовский: Свой, конечно. Но ведь вы понимаете, что брать за критерий иерархии? Знание, известность в мире, уровень мастерства, количество работ? Сегодня критерием является продаваемость и богатство, позавчера были другие...
 Ю. Соостер
Ю. Соостер
Помните, как у Чехова: на свете есть большие собаки и маленькие собаки, маленькие собаки не должны смущаться существованием больших собак, они должны лаять тем голосом, какой им Господь Бог дал. Если вам удается "долаяться" до своего потолка и вы понимаете, что вы дошли до своего предела, — вот и красота... И это главное счастье, а иерархия — это та случайность, которая диктуется социумом и социальными обстоятельствами. Поэтому Кабаков, который сейчас один из суперзнаменитых в мире художников из России, просто очень точно и умно выбрал время, когда сыграть эту игру. Он сейчас занимает чуть ли не первое место по количеству выставок. И занят он только одним — самим собой и деланием самого себя. Если бы он еще не придумывал себе биографию... Или Эрнст теперь говорит: когда я трепал за грудь Никиту Сергеевича Хрущева... Представляете, сколько бы после этого бы секунд он прожил? В отличие от Кабакова, тот же Эрнст Неизвестный, уехавший раньше, не попал в "волну". Прошла мода на диссидента, которого когда-то ругал Хрущев. Удача короче жизни. Конечно, я глубоко и всерьез отношусь к таким глобальным проектам Эрнста, как четыре памятника жертвам сталинского террора. Но пока он сделал один... Г. Зеленко: Иерархии тогда не было и не могло быть. Скажем, большинство считали себя художниками номер один и, думаю, до сих пор считает. Но в принципе каждый понимал, что Эрнст умеет делать это и это. И Эрнст способен на какие-то ходы и неожиданности. Тот же Кабаков способен на другие ходы. Николай Попов, решительно отличаясь по стилистике произведений и образу мыслей, тем не менее способен делать то, что не способен сделать ни один из них. Так же можно сказать и про любого. Юло Соостер тяготел к размышлениям о мире в очень крупных масштабах. Очень по-серьезному. Он рисовал яйцо — одно, другое, третье; для него эти яйца — попытка умозрительного построения основ мира, размышления над тем, что такое мир. Б. Жутовский: Соостер был художником интеллектуального строения. Он не мог бы отправиться и рисовать этюды с натуры. Если бы он и пошел рисовать, он бы из этого пейзажа сделал пейзаж мироздания, это была бы первая весна человечества. Первая весна Земли. Или последняя... Просто весна не представляла для него интереса. Он был самым старшим из нас. Разные были тогда люди... Вот Юло прошел лагерь, ссылку и сохранил непосредственный опыт человека, не включенного в советскую систему. Человек из Европы попал в эту кашу, выжил и всю жизнь сторонился официоза. А рядом был Ромадин, сын высокопоставленного живописца, лауреата Ленинских, Сталинских премий, процветавший под крылом папочки, но процветавший достойно. Г. Зеленко: А рядом жил Лавров с его удивительными картинками к Лему.. Главный идеолог тех времен Юра Соболев проработал в журнале до 1981 года, после чего до самой своей смерти вел экспериментальную театральную труппу в Царском селе и попутно рисовал. Б. Жутовский: Юра Соболев занялся любимым делом. Один из главных его талантов — привлекать, воспитывать и выпускать в свет людей. На самом деле, он сейчас наконец-то добрался до того, зачем он, может быть, и родился. Он не художник, не рукодел — ему это делать скучно. Ему придумать, произнести уже достаточно. Сергей Алимов жив-здоров, стал академиком. Вполне жизнерадостен. Брусиловский — на Западе. Бахчанян неожиданно трансформировался из художника в писателя, пишет умные книги. Очаровательные. Начинал он очень смешно в городе Харькове. Была группа молодых ребят, которые, собираясь вместе, придумывали тексты и рисунки, посылали их в "Крокодил" и в разные другие места. В том числе были Бахчанян, Брусиловским и Эдик Лимонов, три приятеля. Они уехали на Запад один за другим. Н. Максимов: Нарушу сладостные воспоминания бойцов о прошлых сражениях... А возможно ли сейчас собрать уже не тех же художников, на это, понятно, нет денег, а найти, воспитать новых? Б. Жутовский: Мне кажется, что социум и обстоятельства привлекали художников к редакции, а не наоборот. Идея и ниша приводили людей в редакцию, и таким образом собиралась команда. Наоборот сделать это очень трудно. Можно за уши притягивать эти обстоятельства, фальсифицируя прошлые успехи и одержимость, но уже на другой основе. Теперь это можно решить только деньгами, которых нет. Г. Зеленко: Найти деньги для оплаты одной работы Эрнста Неизвестного можно, но ведь она одна сама по себе ничего не решает. В те времена мы печатали в номере 10-15 художников. Значит, нужно их собрать и вырастить, потому что людей, которые бы работали в этом направлении, сейчас нет. На это нет ни сил, ни времени, ни денег... Остается только ждать... Беседа, конечно, на этом не закончилась. Мы еще долго ходили по мастерской Бориса Жутовского, который нам показывал и показывал свои работы, архивы, дневники, письма множества замечательных людей. В центре Москвы под рекламными щитами и неоновыми вывесками резко ударила в глаза отчужденность той, прежней жизни, о которой размышлял Жутовский, и сегодняшней. Не в почете сегодня и физики, и лирики. И наука, и научная журналистика перестали быть отдушиной, давать надежду. Тем поучительней теперь кажутся те времена.
TERRA ФАНТАЗИЯ
Ольга ГертманМетафизика инакомыслия
Менее всего фантастика в "Знание - силе" была развлекательным приложением ко всему остальному. Она входила в часть программы журнала, причем с самого начала, а печатать ее в журнале начали сразу после войны, во времена, как нельзя более далекие от всякого интеллигентского своеволия. Назначением фантастики уже тогда было указывать разуму и науке (об инстанции, более авторитетной, чем они, и тогда, и много позже и речи быть не могло) на их собственные, еще не освоенные возможности. Она дразнила разум обещаниями, причем средствами и языком самой науки: ведь она была Не какой-нибудь, а именно научной. Она уже тогда была областью расширения научных смыслов, дополнительного испытания их на "соединимость" с общечеловеческими. Намекала на неоднозначность, парадоксальность, неожиданность рационально постигаемого мира. В позднесоветскую эпоху фантастика стала вторым полюсом журнала. Первый занимали идеологически выдержанные, обязательные вводные статьи про пятилетки, съезды и успехи социалистической экономики, обеспечивавшие согласие с идеологическим контекстом. Все, относящееся к однозначности мира и способов его понимания и освоения, концентрировалось вокруг первого полюса, все, отсылающее к его неоднозначности, тяготело ко второму. В поле напряжения между этими полюсами держался весь журнальный универсум: отталкиваясь от первого, притягиваясь ко второму, но определяясь обоими. По моему читательскому чувству, в журнале тех лет, даже в серьезных статьях о науке, вообще было что-то "фантастичное". Фантастика была существенной частью его неповторимых интонаций и даже его социальной позиции. Научная фантастика в "Знание — силе" 60 - 80-х годов была областью особенно интенсивной выработки своеобразной интеллектуальной этики. Собственно, такой областью был журнал в целом, но в фантастике, кажется, это было особенно явно. В ней рациональный, скептичный разум "Знание — силы" "классической" эпохи учился выглядывать за собственные пределы, понимать, что он сам к себе не сводится. Осваивал довольно новое для себя чувство возможности того, что эти границы у него вообще есть. Смысл научных статей в журнале, о чем бы ни шла в них речь, был неизменно тот, что мир хотя и проблематичен, но, по существу, постижим, причем именно рационально. Смыслом фантастики стало указание на то, что он — тайна и превосходит и наше понимание, и наши ожидания. Братья Стругацкие, Кир Булычев, ранний Виктор Пелевин (которого мы вообще напечатали первыми) и многие другие менее именитые их коллеги не просто работали над расширением позднесоветского универсума — они создавали новое чувство мира вообще. Фантастика брала на себя функцию метафизики в то время, когда эта последняя не находила себе места даже в "Знание — силе", не говоря уже о прочих изданиях. Недаром фантастика в "Знание — силе" так нервировала власти. Фантастика делала журнал молодым: в мире, намекает она, много неожиданного, но это ТВОЕ неожиданное, ты можешь это пережить и способен это понять. Молодость — напряжение ожидания и неотделимого от него безудержного домысливания. Вот и фантастика тоже. Поэтому она так хорошо в молодости и читается: литература роста. Молодость — инакомыслие по определению. Она так и задумана. В молодости, как и в фантастике, вообще есть нечто угрожающее косному миру взрослых. Разумеется, он лишь кажется себе законченным. Но как он за это чувство цепляется! Отделись в журнале наука от фантастики — обе обеднели бы, обе утратили бы свои глубокие измерения, которые им давало само присутствие под одной обложкой и "прочитываемость" одним взглядом. Надо сказать, что так оно и случилось. Но случилось, может быть, потому, что наука и фантастика, разум и заглядывание за его границы действительно перестали чувствовать себя чем-то единым. Как хочется думать, что это — не навсегда...Григорий Зеленко
"Кому нужны Ваши Стругацкие?"

— Немедленно прекратите печатать Стругацких! Немедленно! Со следующего номера! — сказало высокое начальствующее лицо, и другие начальники. присутствовавшие в его кабинете в обществе "Знание", дружно закивали головами. (Журнал был тогда изданием Общества.) — Но это еще не все. В следующем же номере вы должны перепечатать очень глубокую аналитическую статью из последнего номера журнала "Молодая гвардия", где полному разгрому подвергнуто все творчество Стругацких, в том числе и эта повесть (как они могут громить неопубликованную повесть, подумалось мне. — Г.З.), а также вы должны подготовить 2-3 письма читателей с гневным осуждением этой повести (речь шла о последнем совместном произведении Стругацких "Волны гасят ветер". — Г.З.). А еще вы должны в том же номере опубликовать редакционную статью с признанием своих ошибок и объяснением, почему вы порываете со Стругацкими... Вы готовы принять решение немедленно? Здесь, у меня, чтобы я мог тут же доложить наверх? Ох. Положение мое было незавидным, вокруг меня сидели четыре моих начальника из Общества. Но я сильно разозлился: давно уже не было таких хамских, бесцеремонных "наездов" на журнал. К тому же у меня был один козырь, слабый, но был. Однако начал я не с него. — Со следующим номером ничего не выйдет. Почему? Потому что он давно подписан в печать, сделаны формы, и я не исключаю, что печать уже началась. Главный начальник тут же снял трубку, доложил, узнал, что наверху все это известно и приказал перенести акцию на один номер вперед. Тут мне пришлось выложить свой козырь. — Такое решение я принять не могу. Повесть Стругацких принимал главный редактор (тогда им была Нина Сергеевна Филиппова) и отменять ее решение я не вправе. А она сейчас — в отпуске. Не буду описывать реакцию присутствующих. Мнения были разные, но сходились в одном: надо снимать. То был конец июля 1985 года. Прошел месяц после назначения Александра Николаевича Яковлева секретарем ЦК КПСС. И мне было ясно, что интрига затеяна его недругами против него и против Горбачева, который вернул его из далекой Канады в верхушку партии. В моем сознании смысл этой затеи отлился в четкий, бронзовеющий девиз: "Вот вы, интеллигенция, обрадовались приходу Горбачева и Яковлева — так посмотрите, с чего они начали? С разгрома ваших любимых Стругацких и журнала "Знание — сила".
 Э. Булатов
Э. Булатов
Кроме того, интрига совершалась с нарушением неписаных правил этикета: все-таки журналом в первую очередь руководил сектор журналов отдела пропаганды ЦК. Я тут же позвонил заведующему этим сектором А. А. Козловскому, который, не скрою, был удивлен действиями руководства "Знания". И немедля через Н.Б. Биккенина, благородного человека и соратника Александра Николаевича, довел до сведения Яковлева сообщение о развертываемой вокруг него интриги. Через три дня я по обоим каналам получил известие о том, что дело прекращено, и журнал может без проблем печатать повесть Стругацких. Но это были уже либеральные времена. Много труднее пришлось Н. С. Филипповой в 1966 году. Тогда в журнале произошла крупная неприятность, и к нам зачастили комиссии. И все они начинали с проверки гонорарных ведомостей (много ли псевдонимов, много ли евреев?), и ни одна не сочла нужным переговорить с главным редактором — просто присылали вторые или третьи экземпляры результатов своих обследований. Тогда разъяренная Нина Сергеевна пошла к высокому начальству — Яковлеву, фактическому руководителю отдела пропаганды, и, увидев у него на столе первые экземпляры этих же отчетов, спросила (а храбрости ей, фронтовичке, участнице обороны Ленинграда, было не занимать): — Объясните мне, пожалуйста, что происходит? Если было указание ЦК не печатать евреев, то почему я, как главный редактор, с ним не ознакомлена? Если же такого указания не было, то почему комиссии интересуются только одним вопросом: сколько среди наших авторов евреев? Яковлев улыбнулся, засунул все три "наши" папки в шкаф и сказал: "Все. Никаких комиссий не было". В истории жизни Александра Николаевича — это мимолетные и давно сбытые случаи. В истории журнала — значащие метки.
Всеволод Ревич
Дела давно минувших дней
Когда я прочел докладную записку отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС от 5 марта 1966 года, хранившуюся в папках с грифом "Секретно", у меня возникло смутное ошущение, что я это где-то уже читал. Но как же я мог читать то, что четверть века пролежало в сейфе? Пришлось вспомнить, — где. Как раз в ту пору в прессе была развернута мощная кампания против "философской фантастики". (Под этим эвфемизмом, где главная нагрузка ложится на иронические кавычки, подразумевалось исключительно творчество Стругацких.) Писатель Немцов и обществовед Францев в "Известиях", Сапарин в "Коммунисте", Котляр в "Октябре", несколько позже Свинников и Краснобрыжий в "Журналисте", не помню уж кто в "Молодой гвардии" — тот же стиль, та же аргументация, одни и те же примеры... Каким образом возник параллелизм писательских раздумий и докладных записок отдела пропаганды, можно только догадываться. Хотя догадаться нетрудно. О Стругацких вообще и о тех трех повестях, которые "анализируются" в докладной, написано много. Парадокс заключается в том, что именно в этих повестях никаких посягательств на коммунистические идеалы Стругацкие не предпринимали, с каких бы ортодоксальных позиций к ним ни подойти. И не потому, что они боялись или приспосабливались. В официальных лозунгах КПСС было немало общечеловеческого. Что дурного, например, в лозунге интернационализма? Другое дело, что к декларируемым лозунгам руководители компартии никогда всерьез не относились. "Попытка к бегству" — повесть антифашистская, и никакого другого тайного, подтекста в ней нет. А потому лягать ее удавалось, только исказив авторскую идею. Что и было сделано. Главный герой повести, советский офицер, как раз и совершивший попытку к бегству в будущее из гитлеровского концлагеря, пришел к убеждению, как утверждает в докладной, "что коммунизм не в состоянии бороться с космическим фашизмом" и "возвращается (надо полагать, с отчаянья. — В.Р.) снова в XX век, где и погибает от рук гитлеровцев". Ничего подобного. Даже отдаленно. Он возвращается к месту последнего боя, потому что, побывав в будущем, убеждается: борьбу с фашистской заразой нельзя откладывать на потом, иначе она может опасно распространиться. Гораздо более резко проблема вмешательства в чужую жизнь, в чужую страну, в чужую цивилизацию была поставлена в одном из лучших произведений Стругацких и, может быть, всей мировой фантастики нашего столетия — романе "Трудно быть богом". Авторы записок деланно возмущаются: да как же так — представители высокоразвитого коммунистического человечества, маскирующиеся под местных жителей на планете, где правит бал средневековое варварство, стиснув зубы, наблюдают пытки, казни и тому подобные ужасы — и не вмешиваются. В докладной им прямо так и предложено: "Земное оружие могло бы предотвратить страдания несчастных жителей Арканара". Поверим на время в искренность этого возмущения и предложим возмущенным, доведя свою мысль до конца, конкретно представить себе ход и результат вмешательства земных "богов". Высаживаем, значит, карательный десант, "огнем и мечом" проходимся по городам и весям Арканара, палачей, аристократов, солдат подручных — к стенке, к стенке, к стенке! Э. Гороховский
Э. Гороховский
Записка Комитета по печати при СМ СССР об издании научно-фантастической литературы
18 марта 1966 г. ...Марксистская наука дает определенный ответ на вопрос о будущем. Однако некоторые писатели-фантасты полагают, что будущее не обязательно связывать с законами научного коммунизма, что фантастика "поднимается" над научной социологией и может развиваться по своим законам. Другие писатели-фантасты рисуют в своих произведениях какое-то уродливое общество будущего, в котором как будто есть и элементы коммунизма, но вместе с тем сохраняются хищнические черты, присущие буржуазному строю. Такая путаница дезориентирует молодого читателя, мешает правильному формированию марксистского мировоззрения. Братья Стругацкие, которые занимают видное положение среди писателей- фантастов, несколько опьяненные, как нам кажется, фимиамом неумеренных похвал, выпустили в 1965 году в издательстве "Детская литература" новую книгу "Понедельник начинается в субботу" (тираж 100 тыс. экз.). В этой вычурно написанной книге, перенасыщенной всевозможными невероятными ситуациями, сумбурное нагромождение надуманных эпизодов и событий. Возможно, авторы книги ставили своей целью написать сатирический гротеск, направленный против мещанства, обывателей, дельцов от науки, но получилось это неубедительно, многословно и путано. Председатель Комитета по печати при Совете Министров СССР Н. Михайлов ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д. 155. Л. 145 - 148. Подлинник.Все мыслимые варианты вмешательства разобраны в самом романе и Стругацкие дали единственно правильный ответ — спасать разум планеты, ученых, книгочеев, рукописи, поддерживать ростки просвещения и образования. Ну, постреляем мы угнетателей. А потом — что? Мы еще недостаточно насмотрелись на "кухарок", поставленных управлять государствами? Нам еще недостаточно опыта экспериментов над собственным народом? Тогда вспомним Камбоджу, Афганистан, Эфиопию, Мозамбик, Северную Корею... Разве не эту модель — нищета, отсталость, моральный и физический террор — мы пытались распространить на весь земной шар? Правда, все эти примеры приобрели убедительность уже после появления романа, но это и доказывает прозорливость Стругацких... Скучно, да и наверно сейчас уже, действительно, ни к чему приводить аргументы в защиту третьей, тоже оболганной повести — "Хищные вещи века". Критика велась прицельно и беспощадно. Каковы были истинные намерения у ее организаторов. Ну, инициаторы кампаний, коллеги Стругацких по фантастическому цеху, писали доносы, побуждаемые обыкновенной завистью, по опыту зная, что в нашей стране это наиболее действенный способ устранения конкурентов. Партийные структуры руководствовались иными соображениями. Творческая интеллигенция, всегда вызывавшая головную боль у идеологических отделов, делилась четко — "наши" и "ненаши". На "ненаших" опереться было невозможно, они ежеминутно могли подвести, ляпнуть что- нибудь неподобающее. Ясно, что нечего было и предлагать им подписать очередной пасквиль против Сахарова или Солженицына — не подпишут, да еще и оскорбить могут. Поэтому эта категория подлежала травле и запретам, что бы она ни писала в своих сочинениях, хотя бы и вдохновенные поэмы о светлом будущем. Я думаю, даже знаю, что иные из "докладных записок", к счастью, составлялись достаточно формально, как обязательный отклик на сигналы "писательской общественности", и благополучно укладывались под сукно. Наверное, не меньше было и "указов прямого действия", за их появлением следовали выговоры, снятия и исключения... Но и те, и другие служили, с позволения сказать, правовой базой для идеологических воздействий. Помню, Аркадий Стругацкий рассказывал, как. устав жить в обстановке открытого и скрытого недоброжелательства, он, может быть, с изрядной долей наивности напросился на разговор к секретарю ЦК П. Демичеву, был вежливо принят и внимательно выслушан. "Аркадий Натанович, — было сказано ему, — ищите врагов пониже, в Центральном Комитете их нет". Об искренности этих слов теперь можно судить воочию. Да и тогда... не помню уж точно, в каком году, где-то в 70-х, в Японии состоялся Всемирный конгресс фантастов, куда Стругацкие получили персональное приглашение. Аркадий Натанович в совершенстве знал японский — он был офицером-переводчиком, участником войны на Дальнем Востоке. Но поехал на конгресс стопроцентно "наш" человек, не написавший в фантастике ни строчки. Где тогда решались вопросы такой государственной "важности"? Документы в преамбулах заявляют, что будут толковать о положении во всей советской фантастике. И сами тут же сводят разговор к "Хишным вещам века". Стругацкие были главным раздражителем — красной тряпкой, потому что они — самые талантливые, с безошибочным чутьем, с, так сказать, абсолютным слухом, а система выбирала для расправы самое лучшее, самое заметное. Линия эта проводилась очень последовательно. В записке среди наиболее неприемлемых для советского народа названы три самых крупных фантаста мира — Азимов, Брэдбери и Лем. Не буду приводить примеры из смежных областей, науки, скажем. Не буду вспоминать, от какого огромного духовного богатства мы были напрочь отсечены. Шло планомерное, целеустремленное изничтожение культуры. Культура и тоталитарная идеология оказывались вещами несовместными.

Еще несколько слов о смысле обнародования этих документов сегодня. О шестидесятниках ведется много разговоров, часто высокомерно-брезгливых. И того-то они не поняли, и того-то недоучли... Ах, как легко сейчас рассуждать об этом бойким вертихвосточкам и нагловатым, не совсем уж юным акселератам. Да, писателям, и редакторам, и даже иным работникам идеологических отделов приходилось быть осмотрительными, произносить ритуальные речи на партсобраниях, порою жертвовать второстепенным, чтобы сохранить главное — очаги культуры, очаги разума, чтобы спасти людей. Если угодно, совсем как посланники Земли на Арканаре. За эти компромиссы платили дорого, иногда жизнью. Тех же Стругацких очень настоятельно выставляли за бугор, многих их отъезд крайне устраивал. Жили бы они там покомфортабельнее, чем здесь, стоит только взглянуть на казенные малогабаритные квартирки, в которых и до сих пор обитают писатели с мировым именем или их семьи. Я ничего не имею против уехавших, каждый волен жить там, где ему лучше. Пусть живут. Пусть приезжают в гости. Но я отрицаю их право учить нас, как надо жить. (Я не имею в виду тех, кого выселили из страны насильно.) Напротив, я думаю, что те, кто остался, как Стругацкие, как Юрий Трифонов, кто сохранил, несмотря на все чинимые препятствия, своих издателей, своих читателей, принес народу, стране гораздо больше пользы, больше способствовал разрушению той системы, под обломками которой мы и поныне задыхаемся. И было очень странно уже в наше время увидеть в журналах статьи, разделывающие Стругацких под орех за их некий конформизм. Я, например, уверен, что появление этих статей ускорило смерть Аркадия Стругацкого.
Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
Жук в муравейнике
 Иллюстрации Е. Шеффер
Иллюстрации Е. Шеффер
4 июня 78 года.
Айзек Бромберг, Битва железных старцев
— Давайте попробуем поговорить спокойно, — предложил Экселенц. — Попробуем, попробуем! — бодро отозвался Бромберг. — А что это за молодой человек подпирает стену у дверей? Вы обзавелись телохранителем? Экселенц ответил не сразу. Может быть, он намеревался отослать меня. "Максим, ты свободен", — и я бы, конечно, ушел. Но это бы меня оскорбило, и Экселенц, разумеется, это понимал. Вполне допускаю, впрочем, что у него были и еще какие-то соображения. Во всяком случае, он слегка повел рукой в мою сторону и сказал: — Это Максим Каммерер, сотрудник КОМ КОНа. Максим, это доктор Айзек Бромберг, историк науки. Я поклонился, а Бромберг немедленно заявил: — Я так и знал. Разумеется, вы побоялись, что не справитесь со мной один на один, Сикорски... Садитесь, садитесь, молодой человек, устраивайтесь поудобнее. Насколько я знаю вашего руководителя, разговор у нас получится длинный... — Сядь, Мак, — сказал Экселенц. Я сел в знакомое кресло для посетителей. — Так я жду ваших объяснений, Сикорски, — произнес Бромберг. — Что означает эта засада? — Я вижу, вы сильно напугались. — Какой вздор! — мгновенно воспламенился Бромберг. — Чушь какая! Слава богу, я не из пугливых! И уж если кто меня сумеет испугать, Сикорски... — Но вы так ужасно завопили и повалили так много мебели... — Ну, знаете ли, если бы у вас над ухом в абсолютно пустом здании, ночью... — Абсолютно незачем ходить в абсолютно пустые здания по ночам... — Во-первых, это абсолютно не ваше дело, Сикорски, куда и когда я хожу! А во-вторых, когда еще вы мне прикажете ходить? Днем меня не пускают. Днем здесь устраивают какие-то подозрительные ремонты, какие-то нелепые перемены экспозиции... Слушайте, Сикорски, сознайтесь: ведь это ваша затея — закрыть доступ в Музей! Мне нужно срочно освежить в памяти кое-какие данные. Я являюсь сюда. Меня не пускают. Меня! Члена ученого совета этого Музея! Я звоню директору: в чем дело? Директор, милейший Грант Хочикян, мой в каком-то смысле ученик... Бедняга мнется, бедняга красен от стыда за себя и передо мной... Но он ничего не может сделать, он обещал! Его попросили весьма уважаемые люди, и он обещал! Любопытно узнать, кто его попросил? Может быть, некий Рудольф Сикорски? Нет! О, нет! Никто здесь даже не слышал имени Рудольфа Сикорски! Но меня не проведешь! Я-то сразу понял, чьи уши торчат из- за кулис. И я бы все-таки хотел узнать, Сикорски, почему вы вот уже битый час молчите и не отвечаете намой вопрос? Зачем вам все это понадобилось, спрашиваю я! Закрытие Музея! Позорная попытка изъять из Музея принадлежащие ему экспонаты! Ночные засады! И кто, черт подери, выключил здесь электричество! Я не знаю, что бы я стал делать, если бы у меня в глайдере не оказалось фонарика! Я шишку набил себе вот здесь, черт бы вас побрал! И я там что-то повалил! От души надеюсь -- хочу надеяться! — что это был всего лишь макет... И молите бога, Сикорски, чтобы это был только макет, потому что если это оригинал, вы у меня сами будете его собирать! До последнего веддинга! А если этого последнего веддинга не окажется, вы у меня, как миленький, отправитесь на Тагору... Голос его сорвался, и он мучительно заперхал, стуча себя обоими кулаками по груди. — Я получу когда-нибудь ответы на свои вопросы? — яростно просипел он сквозь перханье. Я сидел, как в театре, и все это производило на меня впечатление скорее комическое, но тут я глянул на Экселениа и обомлел. Экселенц, Странник, Рудольф Сикорски, эта ледяная глыба, этот покрытый изморозью гранитный монумент Хладнокровию и Выдержке, этот безотказный механизм для выкачивания информации — он до макушки налился темной кровью, он тяжело дышал, он судорожно сжимал и разжимал костлявые веснушчатые кулаки, а знаменитые уши его пылали и жутковато подергивались... И что тут началось! Я уверен, что никогда раньше стены этой скромной мастерской не слышали таких взрывов сиплого рева вперемежку со скрипучими воплями. Таких эпитетов. Такой вакханалии эмоций. Таких абсурдных доводов и еще более абсурдных контрдоводов. Да что там стены! В конце концов это были всего лишь стены тихого академического учреждения, далекого от житейских страстей. Но я, человек уже не первой молодости, всякого, казалось бы, повидавший, даже я никогда и нигде не слыхивал ничего подобного, во всяком случае от Экселенца. То и дело поле сражения совершенно заволакивалось дымом, в котором не различить было уже предмета спора, и только подобно раскаленным ядрам проносились навстречу друг другу разнообразные "безответственные болтуны", "феодальные рыцари плаща и кинжала", "провокаторы-общественники", "плешивые агенты тайной службы", "склеротические демагоги" и "тайные тюремщики идей". Ну, а менее экзотические "старые ослы", "ядовитые сморчки" и "маразматики" всех видов сыпались градом наподобие шрапнели... Однако порой дым рассеивался, и тогда моему изумленному и завороженному взору открывались воистину поразительные ретроспективы. Я понимал тогда, что сражение, случайным свидетелем которого я оказался, было лишь одной из бесчисленных, невидимых миру схваток беззвучной войны, начавшейся еще в те времена, когда родители мои только оканчивали школу. Довольно быстро я вспомнил, кто такой этот Айзек Бромберг. Разумеется, я слышал о нем и раньше, может быть, еще когда сопливым мальчишкой работал в Группе Свободного Поиска. Одну из его книг — "Как это было на самом деле" — я, безусловно, читал: это была история "Массачусетского кошмара". Книга эта, помнится, мне не понравилась — слишком сильно было в ней памфлетное начало, слишком усердствовал автор, сдирая романтические покровы с этой действительно страшной истории, и слишком много места уделил он подробностям дискуссии о политических принципах подхода к опасным экспериментам, дискуссии, которой в те времена я нисколько не интересовался. В определенных кругах, впрочем, имя Бромберга было известно и пользовалось достаточным уважением. Его можно было бы назвать "крайним левым" известного движения дзиюистов, основанного еще Ламондуа и провозглашавшего право науки на развитие без ограничений. Экстремисты этого движения исповедуют принципы, которые на первый взгляд представляются совершенно естественными, а на практике сплошь да рядом оказываются неисполнимыми при каждом заданном уровне развития человеческой цивилизации (помню огромный шок, который я испытал, ознакомившись с историей цивилизации Тагоры, где эти принципы соблюдались неукоснительно с незапамятных времен их Первой Промышленной Революции). Каждое научное открытие, которое может быть реализовано, обязательно будет реализовано. С этим принципом трудно спорить, хотя и здесь возникает целый ряд оговорок. А вот как поступать с открытием, когда оно уже реализовано? Ответ: держать его последствия под контролем. Очень мило. А если мы не предвидим всех последствий? А если мы переоцениваем одни последствия и недооцениваем другие? Если, наконец, совершенно ясно, что мы просто не в состоянии держать под контролем даже самые очевидные и неприятные последствия? Если для этого требуются совершенно невообразимые энергетические ресурсы и моральное напряжение (как это, кстати, и случилось с Массачусетской машиной, когда на глазах у ошеломленных исследователей зародилась и стала набирать силу новая нечеловеческая цивилизация Земли)? Прекратить исследование! — приказывает обычно в таких случаях Мировой Совет. Нив коем случае! — провозглашают в ответ экстремисты. — Усилить контроль? Да. Бросить необходимые мощности? Да. Рискнуть? Да! В конце концов, "кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет" (из выступления патриарха экстремистов Дж. Гр. Пренсона). Но никаких запретов! Морально-этические запреты в науке страшнее любых этических потрясений, которые возникали или могут возникнуть в результате самых рискованных поворотов научного прогресса. Точка зрения, безусловно, импонирующая своей динамикой, находящая безотказных апологетов среди научной молодежи, но чертовски опасная, когда подобные принципы исповедует крупный и талантливый специалист, сосредоточивший под своим влиянием динамичный талантливый коллектив и значительные энергетические мощности. Именно такие экстремисты-практики и были основными клиентами нашего КОМКОНа-2. Старикан же Бромберг был экстремистом-теоретиком, и именно по этой причине, вероятно, он ни разу не попал в поле моего зрения. Зато у Экселенца, как я теперь видел, он всю жизнь просидел в почках, печени и в желчном пузыре. По роду своей деятельности мы в КОМКОНе-2 никогда никому и ничего не запрещаем. Для этого мы просто недостаточно разбираемся в современной науке. Запрещает Мировой Совет. А наша задача сводится к тому, чтобы реализовать эти запрещения и преграждать путь утечке информации, ибо именно утечка информации в таких случаях сплошь и рядом приводит к самым жутким последствиям. Очевидно, Бромберг либо не хотел, либо не мог понять этого. Борьба за уничтожение всех и всяческих барьеров на пути распространения научной информации сделалась буквально его идеей-фикс. Он обладал фантастическим темпераментом и неиссякаемой энергией. Связи его в научном мире были неисчислимы, и стоило ему прослышать, что где-то результаты многообещающих исследований сданы на консервацию, как он приходил в зоологическое неистовство и рвался разоблачать, обличать и срываггь покровы. Ничего решительно невозможно было с ним сделать. Он не признавал компромиссов, поэтому договориться с ним было невозможно, он не признавал поражений, поэтому его невозможно было победить. Он был неуправляем, как космический катаклизм. Но, по-видимому, даже самая высокая и абстрактная идея нуждается в достаточно конкретной точке приложения. И такой точкой, конкретным олицетворением сил мрака и зла, против которых он сражался, стал для него КОМКОН-2 вообще и наш Экселенц в особенности. "КОМКОН-2! — ядовито шипел он, подскакивая к Экселенцу и тут же отскакивая назад. — О, ваше иезуитство!.. Взять всем известную аббревиатуру — Комиссия по Контактам с иными цивилизациями! Благородно, повышенно! Прославленно! И спрятать за нею вашу зловонную контору! Комиссия по Контролю, видите ли! Команда Консерваторов, а не Комиссия по Контролю! Компания Конспираторов!.." Экселенцу он за эти полвека надоел безмерно. Причем, насколько я понял, именно надоел — как надоедает кусачая муха или назойливый комар. Разумеется, он был не в состоянии нанести нашему делу сколько-нибудь существенный вред. Это было просто не в его силах. Но зато в его силах было непрерывно гундеть и бубнить, галдеть и трещать, отрывать от дела, не давать покоя, запускать ядовитые шпильки, требовать неукоснительного выполнения всех формальностей, возбуждать общественное мнение против засилия формалитета, одним словом — утомлять до изнеможения. Я не удивился бы, если бы оказалось, что двадцать лет назад Экселенц нырнул в кровавую кашу на Саракше главным образом для того, чтобы хоть немножко отдохнуть от Бромберга. Мне было особенно обидно за Экселенца еще и потому, что Экселенц, человек не только принципиальный, но и в высшей степени справедливый, полностью, видимо, отдавал себе отчет в том, что деятельность Бромберга, если отвлечься от формы ее, несет и некую положительную социальную функцию: это был тоже вид социального контроля — контроль над контролем. Но уж что касается ядовитого старикана Бромберга, то он был, по-видимому, начисто лишен самого элементарного чувства справедливости и всю нашу работу отметал с порога, считал безусловно вредной и пламенно, искренне ненавидел. При этом формы, в которые выливалась эта ненависть, были настолько одиозны, сами манеры этого настырного старика были до такой степени невыносимы, что Экселенц, при всем своем хладнокровии и нечеловеческой выдержке, совершенно терял лицо и превращался в склочного, глупого и злобного крикуна, по-видимому, каждый раз, когда сталкивался вот так, лицом к лицу, с Бромбергом. "Вы — невежественный мозгляк! — сорванным голосом хрипел он. — Вы паразитируете на промахах гигантов! Сами вы не способны изобрести соуса к макаронам, а беретесь судить о будущем науки! Вы же только дискредитируете дело, которое хватаетесь защищать, вы — смакователь дешевых анекдотов!.." Видимо, старики давненько не сталкивались нос к носу и сейчас с особенным остервенением изливали друг на друга накопившиеся запасы яда и желчи. Зрелище это было во многих отношениях поучительное, хотя оно и находилось в вопиющем противоречии с широко известными тезисами о том, что человек по природе добр и что он же звучит гордо. Больше всего они походили не на человеков, а на двух старых облезлых бойцовых петухов. Впервые я понял, что Экселенц уже глубокий старик. Однако при всей своей неэстетичности этот спектакль обрушил на меня целую лавину поистине бесценной информации. Многих намеков я просто не понял — речь, видимо, шла о делах давно уже закрытых и забытых. Некоторые упоминавшиеся истории были мне хорошо знакомы. Но кое- что я и услышал, и понял впервые. Я знал, например, что такое операция "Зеркало". Оказывается, так были названы глобальные, строго засекреченные маневры по отражению возможной агрессии извне (предположительно — вторжения Странников), проведенные четыре десятка лет назад. Об этой операции знали буквально единицы, и миллионы людей, принимавших в ней участие, даже не подозревали об этом. Несмотря на все меры предосторожности, как это почти всегда бывает в делах глобального масштаба, несколько человек погибло. Одним из руководителей операции и ответственным за сохранение секретности был Экселенц. Я узнал, как возникло дело "Урод". Как известно, Ионафан Перейра по собственной инициативе прекратил свою работу в области теоретической евгеники. Консервируя всю эту область, Мировой Совет следовал, по сути, именно его рекомендациям. Оказывается, это наш дорогой Бромберг разнюхал, а затем пламенно разболтал детали теории Перейры, в результате чего пятерка дьявольски талантливых сорвиголов из Швей перовской лаборатории в Бамако затеяла и едва не довела до конца свой эксперимент с новым вариантом хомо супер. История с андроидами в обших чертах была мне известна и раньше главным образом потому, что ее всегда приводят в качестве классического примера неразрешимой этической проблемы. Однако любопытно было узнать, что доктор Бромберг отнюдь не считает вопрос с андроидами закрытым. Проблема "субъект или объект?" в данном случае для него не существует вовсе. На тайну личности ученых, занимавшихся андроидами, ему наплевать, а право андроидов на тайну личности он полагает нонсенсом и катахрезой. Все подробности этой истории должны быть распубликованы в назидание потомству, а работы с андроидами должны продолжаться... И так далее. Среди историй, о которых я никогда ничего не слышал раньше, мое внимание привлекла одна. Речь шла о каком-то предмете, который они называли то саркофагом, то инкубатором. С этим саркофагом-инкубатором они в своем споре каким-то неуловимым образом связывали "детонаторы", — по-видимому, те самые, за которыми явился Бромберг и которые лежали сейчас на столе передо мною, накрытые цветастой шалью. О детонаторах, впрочем, упоминалось вскользь, хотя и неоднократно, а главным образом склока клубилась вокруг "дымовой завесы отвратительной секретности", поставленной Экселенцем вокруг саркофага-инкубатора. Именно в результате этой секретности доктор имярек, получивший уникальные результаты по антропометрии и физиологии кроманьонцев, вынужден был держать эти свои результаты под спудом, тормозя таким образом развитие палеоантропологии. А другой доктор имярек, разгадавший принцип работы саркофага-инкубатора, оказался в двусмысленном и стыдном положении человека, которому научная общественность приписывает открытие этого принципа, в результате чего он вообще оставил научное поприще и малюет теперь посредственные пейзажи... Я насторожился. Детонаторы были связаны с таинственным саркофагом. За детонаторами явился сюда Бромберг. Детонаторы Экселенц выставил как приманку для Льва Абалкина. Я стал слушать с удвоенным вниманием, надеясь, что в пылу свары старики выболтают что-нибудь еще и я наконец узнаю нечто существенное о Льве Абалкине. Но я услышал это существенное только тогда, когда они угомонились.
 Я получу когда-нибудь ответы на свои вопросы ?
Я получу когда-нибудь ответы на свои вопросы ?
Читайте "Знание-сила"!
Последние комментарии
1 час 46 минут назад
2 часов 4 секунд назад
2 часов 33 минут назад
3 часов 5 минут назад
18 часов 35 минут назад
18 часов 45 минут назад