Трубецкой
Евгений Николаевич
УМОЗРЕНИЕ В КРАСКАХ
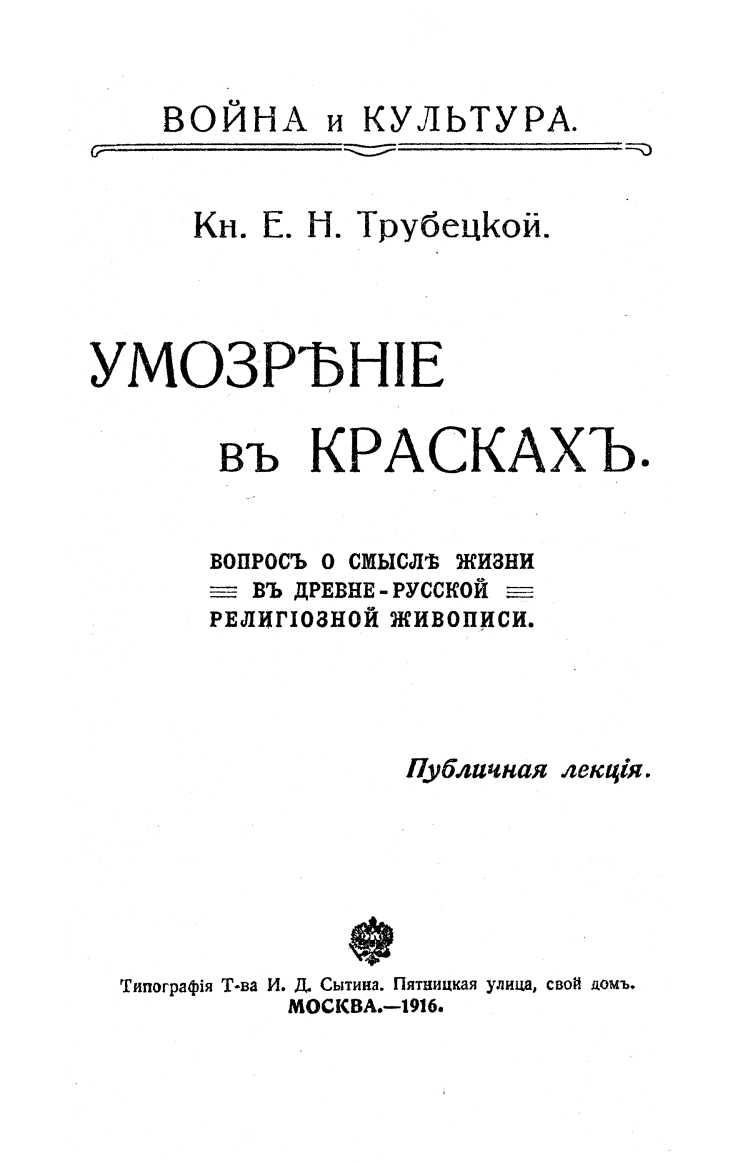
Евгений Николаевич Трубецкой
УМОЗРЕНИЕ В КРАСКАХ
Репринтное издание
Подготовлено при участии
Центра научно-инженерных проблем
Ответственный за выпуск А. Н. Сытин
©Оформление. Центр научно-инженерных проблем (Москва), 1990
I
Вопросъ о смыслѣ жизни, быть-можеіъ, никогда не ставился болѣе рѣзко, чѣмъ въ настоящіе дни обнаженія мірового зла и безсмыслицы.
Помнится, года четыре тому назадъ я посѣтилъ въ Берлинѣ синематографъ, гдѣ демонстрировалось дно акваріума, показывались сцены изъ жизни хищнаго водяного жука. Передъ нами проходили картины взаимнаго пожиранія существъ — яркія иллюстраціи той всеобщей безпощадной борьбы за существованіе которая наполняетъ жизнь природы. И побѣдителемъ въ борьбѣ съ рыбами, моллюсками, саламандрами неизмѣнно оказывался водяной жукъ, благодаря техническому совершенству двухъ орудій истребленія: могущественной челюсти, которой онъ сокрушалъ противника, и ядовитымъ веществамъ, которыми онъ отравлялъ его.
Такова была въ теченіе серіи вѣковъ жизнь природы, такова она есть и таковою будетъ въ теченіе неопредѣленнаго будущаго Если насъ возмущаетъ это зрѣлище, если при видѣ описанныхъ здѣсь сценъ въ акваріумѣ въ насъ зарождается чувство нравственной тошноты, это доказываетъ, что въ человѣкѣ есть зачатки другого міра, другого плана бытія. Вѣдь самое наше человѣческое возмущеніе не было бы возможно, если бы этетъ типъ животной жизни представлялся намъ единственной въ мірѣ возможностью и если бы мы не чувствовали въ себѣ призванія — осуществить другое.
Этой безсознательной, слѣпой и хаотичной жизни внѣшней природы противополагается въ человѣкѣ иное, высшее велѣніе, обращенное къ его сознанію и волѣ. Но, несмотря на это, призваніе пока остается только призваніемъ: мало того, сознаніе и воля человѣка на нашихъ глазахъ низводятся на степень орудій тѣхъ темныхъ, низшихъ животныхъ влеченій, противъ которыхъ они призваны бороться. Отсюда — то ужасающее зрѣлище, которое мы наблюдаемъ.
Чувство нравственной тошноты и отвращенія достигаетъ въ насъ высшаго предѣла, когда мы видимъ, что, вопреки призванью, жизнь человѣчества въ его цѣломъ поразительно напоминаетъ то, что можно видѣть на днѣ акваріума. Въ мирное время это роковое сходство скрыто, замазано культурой; напротивъ, въ дни вооруженной борьбы народовъ оно выступаетъ съ цинической откровенностью; мало того, оно не затемняется, а, наоборотъ, подчеркивается культурой: ибо въ дни войны самая культура становится орудіемъ злой, хищной жизни, утилизируется по преимуществу для той же роли, какъ челюсть въ жизни водяного жука. И принципы, фактически управляющіе жизнью человѣчества поразительно уподобляются тѣмъ законамъ, которые властвуютъ въ мірѣ животномъ: такія правила, какъ «горе побѣжденнымъ» и «у кого сильнѣе челюсть, тотъ и правъ», которыя въ наши дни провозглашаются какъ руководящія начала жизни народовъ, суть не болѣе и не менѣе, какъ возведенные въ принципы біологическіе законы.
И въ этомъ превращеніи законовъ природы въ принципы, — въ этомъ возведеніи біологической необходимости въ этическое начало — сказывается существенное различіе между міромъ животнымъ и человѣческимъ, — различіе не въ пользу человѣка.
Въ мірѣ животномъ техника орудій истребленія выражаетъ собою простое отсутствіе духовной жизни: эти орудія достаются животному какъ даръ природы, помимо его сознанія и воли. Наоборотъ, въ мірѣ человѣческомъ они — всецѣло изобрѣтенія человѣческаго ума. На нашихъ глазахъ цѣлые народы всѣ свои помыслы сосредоточиваютъ преимущественно на этой одной цѣли — созданія большой челюсти для сокрушенія и пожиранія другихъ народовъ. Порабощеніе человѣческаго духа низшимъ матеріальнымъ влеченіямъ нивъ чемъ не сказывается-такъ сильно, какъ въ господствѣ этой одной цѣли надъ жизнью человѣчества, — господствѣ, которое неизбѣжно принимаетъ характеръ принудительный. Когда появляется на міровой аренѣ какой-нибудь одинъ народъ-хищникъ, который отдаетъ всѣ свои силы техникѣ истребленія, всѣ остальные въ цѣляхъ самообороны вынуждены ему подражать, потому что отстать въ вооруженіи — значитъ рисковать быть съѣденными. Всѣ должны заботиться о томъ, чтобы имѣть челюсть, не меньшую, чѣмъ у противника. Въ большей или меньшей степени всѣ должны усвоить себѣ образъ звѣриный.
Именно въ этомъ паденіи человѣка заключается тотъ главный и основной ужасъ войны, передъ которымъ блѣднѣютъ всѣ остальные. Даже потоки крови, наводняющіе вселенную, представляютъ собою зло меньшее по сравненію съ этимъ искаженіемъ человѣческаго облика!
Всѣмъ этимъ съ необычайной силой, ставится вопросъ, который всегда былъ основнымъ для человѣка, — вопросъ о смыслѣ жизни. Сущность его — всегда одна и та же: онъ не можетъ измѣняться въ зависимости отъ тѣхъ или другихъ преходящихъ условій времени. Но онъ тѣмъ опредѣленнѣе ставится и тѣмъ яснѣе сознается человѣкомъ, чѣмъ ярче выступаютъ въ жизни тѣ злыя силы, которыя стремятся утвердить въ мірѣ кровавый хаосъ и безсмыслицу.
Въ теченіе безпредѣльной серіи вѣковъ въ мірѣ царствовалъ адъ — въ формѣ роковой необходимости смерти и убійства. Что же сдѣлалъ въ мірѣ человѣкъ, этотъ носитель надежды всей твари, свидѣтель иного высшаго замысла? Вмѣсто того, чтобы бороться противъ этой «державы смерти», онъ изрекъ ей свое «аминь». И вотъ, адъ царствуетъ въ мірѣ съ одобренія и согласія человѣка, — единственнаго существа, призваннаго противъ него бороться: онъ вооруженъ всѣми средствами человѣческой техники. Народы живьемъ глотаютъ другъ друга: народъ, вооруженный для всеобщаго истребленія, — вотъ тотъ идеалъ, который періодически торжествуетъ въ исторіи. И всякій разъ его торжество возвѣщается однимъ и тѣмъ же гимномъ въ честь побѣдителя, — «кто подобенъ звѣрю сему!»
Если въ самомъ дѣлѣ вся жизнь природы и вся исторія человѣчества завершаются этимъ апоѳеозомъ злого начала, то гдѣ же тотъ смыслъ жизни, ради котораго мы живемъ и ради котораго стоитъ жить? Я воздержусь отъ собственнаго отвѣта на этотъ водросъ. Я предпочитаю напомнить то его рѣшеніе, которое было высказано отдаленными нашими предками. То были не философы, а духовидцы. И мысли свои они выражали не въ словахъ, а въ краскахъ. И тѣмъ не менѣе ихъ живопись представляетъ собою прямой отвѣтъ на нашъ вопросъ. Ибо въ ихъ дни онъ ставился не менѣе рѣзко, чѣмъ теперь. Тотъ ужасъ войны, который мы теперь воспринимаемъ такъ остро, для нихъ былъ зломъ хроническимъ. Объ «образѣ звѣриномъ» въ ихъ времена напоминали безчисленныя орды, терзавшія Русь, Звѣриное царство и тогда приступало къ народамъ все съ тѣмъ же вѣковѣчнымъ искушеніемъ: «все сіе дамъ тебѣ, егда поклонишисямнѣ».
Все древне-русское религіозное искусство зародилось и выросло въ борьбѣ съ этимъ искушеніемъ. Въ отвѣтъ на него древне-русскіе иконописцы съ поразительной ясностью и силой воплотили въ образахъ и краскахъ то, что наполняло ихъ душу — видѣніе иной жизненной правды и иного смысла міра. Пытаясь выразить въ словахъ сущность ихъ отвѣта, я, конечно, сознаю, что никакія слова не въ состояніи передать красоты и мощи этого несравненнаго языка религіозныхъ символовъ.
II
Сущность той жизненной правды, которая противополагается древне-русскимъ религіознымъ искусствомъ образу звѣриному, находитъ себѣ исчерпывающее выраженіе не въ томъ или иномъ иконописномъ изображеніи, а въ древне-русскомъ храмѣ въ его цѣломъ. Здѣсь именно храмъ понимается какъ то начало, которое должно господствовать въ мірѣ. Сама вселенная должна стать храмомъ Божіимъ. Въ храмъ должны войти все человѣчество, ангелы и вся низшая тварь. И именно въ этой идеѣ мірообъемлющаго храма заключается та религіозная надежда на грядущее умиротвореніе всей твари, которая противополагается факту всеобщей войны и всеобщей кровавой смуты. Намъ предстоитъ прослѣдить здѣсь развитіе этой темы въ древне-русскомъ религіозномъ искусствѣ.
Здѣсь мірообъемлющій храмъ выражаетъ собою не дѣйствительность, а идеалъ, не осуществленную еще надежду всей твари. Въ мірѣ, въ которомъ мы живемъ, низшая тварь и большая часть человѣчества пребываетъ пока внѣ храма. И постольку храмъ олицетворяетъ собою иную дѣйствительность, то небесное будущее, которое манитъ къ себѣ, но котораго въ настоящее время человѣчество еще не достигло. Мысль эта съ неподражаемымъ совершенствомъ выражается архитектурою нашихъ древнихъ храмовъ, въ особенности новгородскихъ.
Недавно въ ясный зимній день мнѣ пришлось побывать въ окрестностяхъ Новгорода. Со всѣхъ сторонъ я видѣлъ безконечную снѣжную пустыню— наиболѣе яркое изо всѣхъ возможныхъ изображеній здѣшней нищеты и скудости. А надъ нею, какъ отдаленные образы потусторонняго богатства, жаромъ горѣли на темно-синемъ фонѣ золотыя главы бѣлокаменныхъ храмовъ. Я никогда не видѣлъ болѣе наглядной иллюстраціи той религіозной идеи, которая олицетворяется русской формою купола-луковицы. Ея значеніе выясняется изъ сопоставленія.
Византійскій куполъ надъ храмомъ изображаетъ собою сводъ небесный, покрывшій землю. Напротивъ, готическій шпицъ выражаетъ собою неудержимое стремленіе ввысь, подъемлющее отъ земли къ небу каменныя громады. И, наконецъ, наша отечественная «луковица» воплощаетъ въ себѣ идею глубокаго молитвеннаго горѣнія къ небесамъ, черезъ которое нашъ земной міръ становится причастнымъ потустороннему богатству. Это завершеніе русскаго храма — какъ бы огненный языкъ, увѣнчанный крестомъ и къ кресту заостряющійся. При взглядѣ на нашъ московскій Иванъ-Великій кажется, что мы имѣемъ передъ собою какъ бы гигантскую свѣчу, горящую къ небу надъ Москвою; а многоглавые кремлевскіе соборы и многоглавыя церкви суть какъ бы огромные многосвѣщники. И не однѣ только золотыя главы выражаютъ собою эту идею молитвеннаго подъема. Когда смотришь издали при яркомъ солнечномъ освѣщеніи на старинный русскій монастырь, или городъ, со множествомъ возвышающихся надъ нимъ храмовъ, кажется, что онъ весь горитъ многоцвѣтными огнями. А когда эти огни мерцаютъ издали среди необозримыхъ снѣжныхъ полей, они манятъ къ себѣ какъ дальнее потустороннее видѣнье града Божьяго. Всякія попытки объяснить луковичную форму напшхъ церковныхъ куполовъ какими-либо утилитарными цѣлями (напримѣръ, необходимостью заострять вершину храма, чтобы на ней не залеживался снѣгъ и не задерживалась влага) не объясняютъ въ ней самаго главнаго, — религіозно-эстетическаго значенія луковицы въ нашей церковной архитектурѣ. Вѣдь существуетъ множество другихъ способовъ достигнуть того же практическаго результата, въ томъ числѣ завершеніе храма остріемъ, въ готическомъ стилѣ. Почему же изо всѣхъ этихъ возможныхъ способовъ въ древне-русской религіозной архитектурѣ было избрано именно завершеніе въ видѣ луковицы? Это объясняется, конечно, тѣмъ, что оно производило нѣкоторое эстетическое впечатлѣніе, соотвѣтствовавъ шее опредѣленному религіозному настроенію. Сущность этого религіозно эстетическаго переживанія прекрасно передается народнымъ выраженіемъ — «жаромъ горятъ» — въ примѣненіи къ церковнымъ главамъ. Объясненіе же луковицы «восточнымъ вліяніемъ», какова бы ни была степень его правдоподобности, очевидно, не исключаетъ того, которое здѣсь дано, такъ какъ тотъ же религіозно-эстетическій мотивъ могъ повліять и на архитектуру восточную.
Въ связи со сказаннымъ здѣсь о луковичныхъ вершинахъ русскихъ храмовъ необходимо указать, что во внутренней и въ наружной архитектурѣ древне-русскихъ церквей эти вершины выражаютъ различныя стороны одной и той же религіозной идеи; и въ этомъ объединеніи различныхъ моментовъ религіозной жизни заключается весьма интересная черта нашей церковной архитектуры. Внутри древнерусскаго храма луковичныя главы сохраняютъ традиціонное значеніе всякаго купола, т. е. изображаютъ собой неподвижный сводъ небесный; какъ же съ этимъ совмѣщается тотъ видъ движущагося кверху пламени, который они имѣютъ снаружи?
Нетрудно убѣдиться, что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ противорѣчіе только кажущееся. Внутренняя архитектура церкви выражаетъ собою идеалъ мірообъемлющаго храма, въ которомъ обитаетъ Самъ Богъ и за предѣлами котораго ничего нѣтъ; естественно, что тугъ куполъ долженъ выражать собою крайній и высшій предѣлъ вселенной, ту небесную сферу, ее завершающую, гдѣ царствуетъ Самъ Богъ Саваоѳъ, Иное дѣло — снаружи: тамъ надъ храмомъ есть ріной, подлинный небесный сводъ, который напоминаетъ, что высшее еще не достигнуто земнымъ храмомъ; для достиженія его нуженъ новый подъемъ, новое горѣнье, и вотъ почему снаружи тотъ же куполъ принимаетъ подвижную форму заостряющагося кверху пламени.
Нужно ли доказывать, что между наружнымъ и внутреннимъ тутъ существуетъ полное соотвѣтствіе: именно черезъ это видимое снаружи горѣнье небо сходитъ на землю, проводится внутрь храма и становится здѣсь тѣмъ его завершеніемъ, гдѣ все земное покрывается рукою Всевышняго, благословляющей изъ темно-синяго свода. И эта рука, побѣждающая мірскую рознь, все приводящая къ единству соборнаго цѣлаго, держитъ въ себѣ судьбы людскія.
Мысль эта нашла себѣ замѣчательное образное выраженіе въ древнемъ новгородскомъ храмѣ св. Софіи (XI вѣкъ). Тамъ не удались многократныя попытки живописцевъ изобразить благословляющую десницу Спаса въ главномъ куполѣ: вопреки ихъ стараніямъ получилась рука, зажатая въ кулакъ; по преданію, работы въ концѣ — концовъ были остановлены голосомъ съ неба, который запретилъ исправлять изображеніе и возвѣстилъ, что въ рукѣ Спасителя зажатъ самъ градъ Великій Новгородъ: когда разожмется рука, — надлежитъ погибнуть граду тому.
Замѣчательный варіантъ той же темы можно видѣть въ Успенскомъ соборѣ во Владимірѣ на Клязьмѣ: тамъ на древней фрескѣ, писанной знаменитымъ Рублевымъ, есть изображеніе — «праведницы въ руцѣ Божіей» — множество святыхъ въ вѣнцахъ, зажатыхъ въ могучей рукѣ на вершинѣ небеснаго свода; и къ этой рукѣ со всѣхъ концовъ стремятся сонмы праведниковъ, созываемые трубою ангеловъ, трубящихъ кверху и книзу.
Такъ утверждается во храмѣ то внутреннее соборное объединеніе, которое должно побѣдить хаотическое раздѣленіе и вражду міра и человѣчества. Соборъ всей твари какъ грядущій миръ вселенной, объемлющій и ангеловъ и человѣковъ и всякое дыханіе земное, — такова основная храмовая идея нашего древняго религіознаго искусства, господствовавшая и въ древней нашей архитектурѣ и въ живописи. Она была вполнѣ сознательно и замѣчательно глубоко выражена самимъ святымъ Сергіемъ Радонежскимъ. — По выраженію его жизнеописателя, преподобный Сергій, основавъ свою монашескую общину, «поставилъ храмъ Троицы, какъ зерцало для собранныхъ имъ въ единожитіе, дабы взираніемъ на Святую Троицу побѣждался страхъ передъ ненавистною раздѣльностью міра». Св. Сергій здѣсь вдохновлялся молитвой Христа и Его учениковъ «да будутъ едино яко же и мы». Его идеаломъ было преображеніе вселенной по образу и подобію Св. Троицы, т.-е. внутреннее объединеніе всѣхъ существъ въ Богѣ. Тѣмъ же идеаломъ вдохновлялось все древне-русское благочестіе; имъ же жила и наша иконопись. Преодолѣніе ненавистнаго раздѣленія міра, преображеніе вселенной во храмъ, въ которомъ вся тварь объединяется такъ, какъ объединены во единомъ Божескомъ Существѣ три лица Св. Троицы, — такова та основная тема, которой въ древне-русской религіозной живописи все подчиняется. Чтобы понять своеобразный языкъ ея символическихъ изображеній, необходимо сказать нѣсколько словъ о томъ главномъ препятствіи, которое доселѣ затрудняло для насъ его пониманіе.
Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что эта иконопись выражаетъ собою глубочайшее, что есть въ древне-русской культурѣ; болѣе того, мы имѣемъ вь ней одно изъ величайшихъ, міровыхъ сокровищъ религіознаго искусства. И, однако, до самаго послѣдняго времени икона была совершенно непонятною русскому образованному человѣку. Онъ равнодушно проходилъ мимо нея, не удостоивая ее даже мимолетнаго вниманія. Онъ просто-напросто не отличалъ иконы отъ густо покрывавшей ее копоти старины. Только въ самые послѣдніе годы у насъ открылись глаза на необычайную красоту и яркость красокъ, скрывавшихся подъ этой копотью. Только теперь, благодаря изумительнымъ успѣхамъ современной техники очистки, мы увидѣли эти краски отдаленныхъ вѣковъ, и миѳъ о «темной иконѣ» разлетѣлся окончательно. Оказывается, что лики святыхъ въ нашихъ древнихъ храмахъ потемнѣли единственно потому, что они стали намъ чуждыми; копоть на нихъ наростала частью вслѣдствіе нашего невниманія и равнодушія къ сохраненію святыни, частью вслѣдствіе нашего неумѣнія хранить эти памятники старины.
Съ этимъ нашимъ незнаніемъ красокъ древней иконописи до сихъ поръ связывалось и полнѣйшее непониманіе ея духа. Ея господствующая тенденція односторонне характеризовалась неопредѣленнымъ выраженіемъ «аскетизмъ» и въ качествѣ «аскетической» отбрасывалась, какъ отжившая ветошь. А рядомъ съ этимъ оставалось непонятымъ самое существенное и важное, что есть въ русской иконѣ— та несравненная радость, которую она возвѣщаетъ міру. Теперь, когда икона оказалась однимъ изъ самыхъ красочныхъ созданій живописи всѣхъ вѣковъ, намъ часто приходится слышать объ изумительной ея жизнерадостности; съ другой стороны, вслѣдствіе невозможности отвергать присущаго ей аскетизма, мы стоимъ передъ одной изъ самыхъ интересныхъ загадокъ, какія когда-либо ставились передъ художественною критикою. Какъ совмѣстить этотъ аскетизмъ съ этими необычайно живыми красками? Въ чемъ заключается тайна этого сочетанія высшей скорби и высшей радости? Понять эту тайну и значитъ — отвѣтить на основной вопросъ настоящаго доклада, — какое пониманіе смысла жизни воплотилось въ нашей древней иконописи.
Безо всякаго сомнѣнія, мы имѣемъ здѣсь двѣ тѣсно между собою связанныя стороны одной и той же религіозной идеи: вѣдь нѣтъ Пасхи безъ Страстной седьмицы и къ радости всеобщаго воскресенія нельзя пройти мимо животворящаго креста Господня. Поэтому въ нашей иконописи мотивы радостные и скорбные, аскетическіе, совершенно одинаково необходимы. Я остановлюсь сначала на послѣднихъ, такъ какъ въ наше время именно аскетизмъ русской иконы всего больше затрудняетъ ея пониманіе.
Когда въ XVII вѣкѣ, въ связи съ другими церковными новшествами, въ русскіе храмы вторглась реалистическая живопись, слѣдовавшая западнымъ образцамъ, поборникъ древняго благочестія, извѣстный протопопъ Аввакумъ въ замѣчательномъ посданіи противополагалъ этимъ образцамъ именно аскетическій духъ древней иконописи. «По попущенію Божію умножилось въ русской землѣ иконнаго письма неподобнаго. Изографы пишутъ, а власти соблаговоляютъ имъ, и всѣ грядутъ въ пропасть погибели, другъ за друга уцѣпившеся. Пишутъ Спасовъ образъ Эммануила — лицо одутловато, уста червонныя, власы кудрявые, руки и мышцы толстыя; тако же и у ногъ бедра толстыя, и весь яко Нѣмчинѣ учиненъ, лишь сабли при бедрѣ не написано. А все то Никонъ врагъ умыслилъ, будто живыхъ писати»… «Старые добрые изографы писали на такъ подобіе святыхъ: лицо и руки и всѣ чувства отон-чали, измождали отъ поста и труда и всякія скорби. А вы нынѣ подобіе ихъ измѣнили, пишете таковыхъ же, каковы сами».
Эти слова протопопа Аввакума даютъ классически точное выраженіе одной изъ важнѣйшихъ тенденцій древне-русской иконописи; хотя слѣдуетъ все время помнить, что этотъ ея скорбно аскетическій аспектъ имѣетъ лишь подчиненное и притомъ подготовительное значеніе. Важнѣйшее въ ней, конечно, — радость окончательной побѣды Богочеловѣка надъ звѣроче-ловѣкомъ, введеніе во храмъ всего человѣчества и всей твари; но къ этой радости человѣкъ долженъ быть подготовленъ подвигомъ: онъ не можетъ войти въ составъ Божьяго храма такимъ, каковъ онъ есть, потому что для необрѣзаннаго сердца и для разжирѣвшей, самодовлѣющей плоти въ этомъ храмѣ нѣтъ мѣста: и вотъ почему иконы нельзя писать съ живыхъ людей.
Икона — не портретъ, а прообразъ грядущаго храмового человѣчества. И, такъ какъ этого человѣчества мы пока не видимъ въ нынѣшнихъ грѣшныхъ людяхъ, а только угадываемъ, — икона можетъ служить лишь символическимъ его изображеніемъ. Что означаетъ въ этомъ изображеніи истонченная тѣлесность? Это — рѣзко выраженное отрицаніе того самаго біологизма, который возводитъ насыщеніе плоти въ высшую и безусловную заповѣдь. Вѣдь именно этой заповѣдью оправдывается не только грубо-утилитарное и жестокое, отношеніе человѣка къ низшей твари, но и право каждаго даннаго народа на кровавую расправу съ другими народами, препятствующими его насыщенію. Изможденные лики святыхъ на иконахъ противополагаютъ этому кровавому царству самодовлѣющей и сытой плоти не только «истонченныя чувства», но прежде всего — новую норму жизненныхъ отношеній. Это — то царство, котораго плоть и кровь не наслѣдуютъ.
Воздержаніе отъ ѣды и въ особенности отъ мяса тутъ достигаетъ двоякой цѣли: во-первыхъ, это смиреніе плоти служитъ непремѣннымъ условіемъ одухотворенія человѣческаго облила; во-вторыхъ, оно тѣмъ самымъ подготовляетъ грядущій миръ человѣка съ человѣкомъ и человѣка съ низшею тварью. Въ древне-русскихъ иконахъ замѣчательно выражена какъ та, такъ и другая мысль. Мы пока сосредоточимъ наше вниманіе на первой изъ нихъ. Поверхностному наблюдателю эти аскетическіе лики могутъ показаться безжизненными, окончательно изсохшими. На самомъ дѣлѣ, именно благодаря воспрещенію «червонныхъ устъ» и «одутловатыхъ щекъ» въ нихъ съ несравненной силой просвѣчиваетъ выраженіе духовной жизни, и это — несмотря на необычайную строгость традиціонныхъ, условныхъ формъ, ограничивающихъ свободу иконописца. Казалось бы, въ этой живописи не какіе-либо несущественные штрихи, а именно существенныя черты предусмотрѣны и освящены канонами: и положеніе туловища святого и взаимоотношеніе его крестъ-накрестъ сложенныхъ рукъ и сложеніе его благословляющихъ пальцевъ; движеніе стѣснено до крайности, исключено все то, что могло бы сдѣлать Спасителя и святыхъ похожими «на таковыхъ же, каковы мы сами». Даже тамъ, гдѣ движете допущено, оно введено въ какія-то неподвижныя рамки, которыми оно словно сковано. Но даже тамъ, гдѣ оно совсѣмъ отсутствуетъ, во власти иконописца все-таки остается взглядъ святого, выраженіе его глазъ, т.-е. то самое, что составляетъ высшее средоточіе духовной жизни человѣческаго лица. И именно здѣсь сказывается во всей своей поразительной силѣ то- высшее творчество религіознаго искусства, которое низводитъ огонь съ неба и освѣщаетъ имъ изнутри весь человѣческій обликъ, какимѣ бы неподвижнымъ онъ ни казался. Я не знаю, напримѣръ, болѣе сильнаго- выраженія святой скорби о всей твари поднебесной, объ ея грѣхахъ и страданіяхъ, чѣмъ то, которое дано въ шитомъ шелками образѣ Никиты великомученика, хранящемся въ музеѣ архивной комиссіи во Владимірѣ на Клязьмѣ: по преданію, образъ вышитъ женой Іоанна Грознаго Анастасіей, — родомъ Романовой. Другіе несравненные образцы скорбныхъ ликовъ имѣются въ коллекціи И. С. Остроухова въ. Москвѣ: это — ооразъ праведнаго Симеона Богопріимца и Положеніе во гробъ, гдѣ изображеніе скорби Богоматери по силѣ можетъ сравниться развѣ съ произведеніями Джіотто, вообще съ высшими образцами флорентійскаго искусства. А рядомъ съ этимъ въ древне-русской иконописи мы встрѣчаемся съ неподражаемой передачей такихъ душевныхъ настроеній, какъ пламенная надежда, или успокоеніе въ Богѣ.
Въ теченіе многихъ лѣтъ я находился подъ сильнымъ впечатлѣніемъ знаменитой фрески Васнецова, «Радость праведныхъ о Господѣ» въ кіевскомъ соборѣ св. Владиміра (этюды къ этой фрескѣ имѣются, какъ извѣстно, въ Третьяковской галлереѣ въ Москвѣ). Признаюсь, что это впечатлѣніе нѣсколько ослабѣло, когда я познакомился съ разработкой той же темы въ Рублевской фрескѣ Успенскаго собора во Владимірѣ на Клязьмѣ. И преимущество этой древней фрески передъ твореніемъ Васнецова весьма характерно для древней иконописи. У Васнецова полетъ праведныхъ въ рай имѣетъ черезчуръ естественный характеръ физическаго движенія: праведники устремляются въ рай не только мыслями, но и всѣмъ туловищемъ: это, а также болѣзненно-истерическое выраженіе нѣкоторыхъ лицъ, сообщаетъ всему изображенію тотъ слишкомъ реалистическій для храма характеръ, который ослабляетъ впечатлѣніе.
Совсѣмъ другое мы видимъ въ древней Рублевской фрескѣ въ Успенскомъ соборѣ во Владимірѣ. Тамъ необычайно сосредоточенная сила надежды передается исключительно движеніемъ глазъ, устремленныхъ впередъ. Крестообразно — сложенныя руки праведныхъ совершенно неподвижны, такъ же какъ и ноги и туловище. Ихъ шествіе въ рай выражается исключительно ихъ глазами, въ которыхъ не чувствуется истерическаго восторга, а есть глубокое внутреннее горѣнье и спокойная увѣренность въ достиженіи цѣли; но именно этой-то кажущейся физической неподвижностью и передается необычайное напряжете и мощь неуклонно совершающагося духовнаго подъема: чѣмъ неподвижнѣе тѣло, тѣмъ сильнѣе и яснѣе воспринимается тутъ движеніе духа, ибо міръ тѣлесный становится его прозрачной оболочкой. И именно въ томъ, что духовная жизнь передается одними глазами совершенно неподвижнаго облика, — символически выражается необычайная сила и власть духа надъ тѣломъ. Получается впечатлѣніе, точно вся тѣлесная жизнь замерла въ ожиданіи высшаго откровенія, къ которому она прислушивается. И иначе его услышать нельзя: нужно, чтобы сначала прозвучалъ призывъ «да молчитъ всякая плоть человѣческая». И только, когда этотъ призывъ доходитъ до нашего слуха, — человѣческій обликъ одухотворяется: у него отверзаются очи. Они не только открыты для другого міра, но отверзаютъ его другимъ: именно это сочетаніе совершенной неподвижности тѣла и духовнаго смысла очей, часто повторяющееся въ высшихъ созданіяхъ нашей иконописи, производитъ потрясающее впечатлѣніе.
Ошибочно было бы думать, однако, что неподвижность въ древнихъ иконахъ составляетъ свойство всего человѣческаго: въ нашей иконописи она усвоена не человѣческому облику вообще, а только опредѣленнымъ его состояніямъ: онъ неподвиженъ, когда онъ преисполняется сверхчеловѣческимъ, Божественнымъ содержаніемъ, когда онъ такъ или иначе вводится въ неподвижный покой Божественной жизни. Наоборотъ, человѣкъ въ состояніи безблагодатномъ, или же доблагодатномъ, человѣкъ, еще не «успокоившійся» въ Богѣ или просто не достигшій цѣли своего жизненнаго пути, часто изображаетея въ иконахъ чрезвычайно подвижнымъ. Особенно типичны въ этомъ отношеніи многія древнія новгородскія изображенія Преображенія Господня. Тамъ неподвижны Спаситель, Моисей и Илія: наоборотъ, поверженные ницъ апостолы, предоставленные собственному чисто человѣческому аффекту ужаса передъ небеснымъ громомъ, поражаютъ смѣлостью своихъ тѣлодвиженій; на многихъ иконахъ они изображаются лежащими буквально внизъ головой. На замѣчательной иконѣ «Видѣніе Іоанна Лѣствичника», хранящейся въ Петроградѣ, въ музеѣ Александра ІП, можно наблюдать движеніе, выраженное еще болѣе рѣзко: это — стремительное паденіе вверхъ ногами грѣшниковъ, сорвавшихся съ лѣствицы, ведущей въ рай. Неподвижность въ иконахъ усвоена лишь тѣмъ изображеніямъ, гдѣ не только плоть, но и самое естество человѣческое приведено къ молчанію, гдѣ оно живетъ уже не собственною, а надчеловѣческою жизнью.
Само собою разумѣется, что это состояніе выражаетъ собою не прекращеніе жизни, а какъ разъ наоборотъ, высшее ея напряженіе и силу. Только сознанію безрелигіозному или поверхностному древне-русская икона можетъ показаться безжизненною. Извѣстная холодность и какая-то отвлеченность есть, пожалуй, въ иконѣ древне-греческой. Но какъ разъ въ этомъ отношеніи русская иконопись представляетъ полную противоположность греческой. Въ замѣчательномъ собраніи иконъ въ петроградскомъ музеѣ Александра III особенно удобно дѣлать это сопоставленіе, потому что тамъ, рядомъ съ четырьмя русскими, есть одна греческая зала. Тамъ въ особенности поражаешься тѣмъ, насколько русская иконопись согрѣта чуждой грекамъ теплотою чувства. То же можно испытать при осмотрѣ московской коллекціи И. С. Остроухова, гдѣ также рядомъ съ русскими образцами есть греческіе или древнѣйшіе русскіе, еще сохраняющіе греческій типъ. При этомъ сопоставленіи насъ поражаетъ, что именно въ русской иконописи, въ отличіе отъ греческой, жизнь человѣческаго лица не убивается, а получаетъ высшее одухотвореніе и смыслъ; напримѣръ, что можетъ быть неподвижнѣе лика «нерукотвореннаго Спаса» или «Ильи пророка» въ коллекціи И. С. Остроухова! А между тѣмъ, для внимательнаго взгляда становится яснымъ, что въ нихъ просвѣчиваетъ одухотворенный народно — русскій обликъ. Не только общечеловѣческое, но и національное такимъ образомъ вводится въ недвижный покой Творца и сохраняется въ проставленномъ «видѣ на этой предѣльной высотѣ религіознаго творчества.
III
Говоря объ аскетизмѣ русской иконы, невозможно умолчать и о другой ея чертѣ, органически связанной съ аскетизмомъ. Икона въ ея идеѣ составляетъ неразрывное цѣлое съ храмомъ, а потому подчинена его архитектурному замыслу. Отсюда — изумительная архитектурпостъ нашей религіозной живописи: подчиненіе архитектурной формѣ чувствуется не только въ храмовомъ цѣломъ, но и въ каждомъ отдѣльномъ иконописномъ изображеніи: каждая икона имѣетъ свою особую, внутреннюю архитектуру, которую можно наблюдать и внѣ непосредственной связи ея съ церковнымъ зданіемъ въ тѣсномъ смыслѣ слова. Этотъ архитектурный замыселъ чувствуется и въ отдѣльныхъ ликахъ и въ особенности — въ ихъ группахъ — въ иконахъ, изображающихъ собраніе многихъ святыхъ. Архитектурному впечатлѣнію нашихъ иконъ способствуетъ та неподвижность божественнаго покоя, въ который введены отдѣльные лики: именно благодаря ей въ нашей храмовой живописи осуществляется мысль, выраженная въ первомъ посланіи св. Петра. Неподвижные или застывшіе въ позѣ поклоненія пророки, апостолы и святые, собравшіеся вокругъ Христа, «камня живого, человѣками отверженнаго, но Богомъ избраннаго», въ этомъ предстоящи какъ бы сами превращаются въ «камни живые, устрояющіе изъ себя домъ духовный» (I Петра, П, 4–5).
Эта черта больше, чѣмъ какая-либо другая, углубляетъ пропасть между древней иконописью и живописью реалистическою. Мы видимъ передъ собою, въ соотвѣтствіи съ архитектурными линіями храма, человѣческія фигуры, иногда черезчуръ прямолинейныя, иногда, напротивъ, — неестественно изогнутыя соотвѣтственно линіямъ свода; подчиняясь стремленію вверхъ высокаго и узкаго иконостаса, эти образы иногда чрезмѣрно удлиняются; голова получается непропорціонально маленькая по сравненію съ туловищемъ; послѣднее становится неестественно узкимъ въ плечахъ, чѣмъ подчеркивается аскетическая истонченность всего облика. Глазу, воспитанному на реалистической живописи, всегда кажется, что эти стройные ряды прямолинейныхъ фигуръ собираются вокругъ главнаго образа черезчуръ тѣсно.
Быть-можетъ, еще труднѣе неопытному глазу привыкнуть къ необычайной симметричности этихъ живописныхъ линій. Не только въ храмахъ, — въ отдѣльныхъ иконахъ, гдѣ группируются многіе святые, — есть нѣкоторый архитектурный центръ, который совпадаетъ съ центромъ идейнымъ. И вокругъ этого центра непремѣнно въ одинаковомъ количествѣ и часто въ одинаковыхъ позахъ стоятъ съ обѣихъ сторонъ святые. Въ роли архитектурнаго центра, вокругъ котораго собирается этотъ многоликій соборъ, является то Спаситель, то Богоматерь, то Софія — Премудрость Божія. Иногда, симметріи ради, самый центральный образъ раздвояется. Такъ, на древнихъ изображеніяхъ Евхаристіи Христосъ изображается вдвойнѣ, съ одной стороны дающимъ апостоламъ хлѣбъ, а съ другой стороны святую чашу. И къ Нему съ обѣихъ сторонъ движутся симметричными рядами однообразно изогнутые и наклоненные къ нему апостолы. Есть иконописныя изображенія, самое названіе коихъ указываетъ на архитектурный замыселъ: такова, напримѣръ, «Богородица Нерушимая Стѣна» въ кіевскомъ Софійскомъ соборѣ: поднятыми кверху руками она какъ бы держитъ на себѣ сводъ главнаго алтаря. Особенно сильно сказывается господство архитектурнаго стиля въ тѣхъ иконахъ, которыя сами представляютъ собою какъ бы маленькіе иконостасы. Таковы, напримѣръ, иконы «Софіи Премудрости Божіей», «Покрова Св. Богородицы», «О Тебѣ радуется, обрадованная, всякая тварь» и многія другія. Здѣсь мы неизмѣнно видимъ симметричныя группы вокругъ одной главной фигуры. Въ иконахъ «Софіи» мы видимъ симметрію въ фигурахъ Богоматери и Іоанна Предтечи, съ двухъ сторонъ склоняющихся передъ сидящей на престолѣ «Софіей», а также въ совершенно одинаковыхъ съ обѣихъ сторонъ движеніяхъ и фигурахъ ангельскихъ крыльевъ. А въ богородичныхъ иконахъ, только что названныхъ, архитектурная идея, помимо симметрическаго расположенія фигуръ вокругъ Богоматери, выдается изображеніемъ собора сзади нея. Симметрія тутъ выражаетъ собою не болѣе и не менѣе какъ утвержденіе соборнаго единства въ человѣкахъ и ангелахъ: ихъ индивидуальная жизнь подчиняется общему соборному плану.
Этимъ объясняется, впрочемъ, не одна симметричность иконы. Подчиненіе живописи архитектурѣ вообще обусловливается здѣсь не какими-либо посторонними и случайными соображеніями архитектурнаго удобства. Архитектурность иконы выражаетъ одну изъ центральныхъ и существенныхъ ея мыслей. Въ ней мы имѣемъ живопись по существу соборную; въ томъ господствѣ архитектурныхъ линій надъ человѣческимъ обликомъ, которое въ ней замѣчается, выражается подчиненіе человѣка идеѣ собора, преобладаніе вселенскаго надъ индивидуальнымъ. Здѣсь человѣкъ перестаетъ бытъ самодовлѣющей личностью и подчиняется общей архитектурѣ цѣлаго.
Въ иконописи Мы находимъ изображеніе грядущаго храмового или соборнаго человѣчества. Такое изображеніе должно быть поневолѣ символическимъ, а не реальнымъ, по той простой причинѣ, что въ дѣйствительности соборность еще не осуществлена: мы видимъ только несовершенные ея зачатки на землѣ. Въ дѣйствительности въ человѣчествѣ царствуетъ раздоръ и хаосъ: оно не является единымъ храмомъ Божіимъ; чтобы ввести его во храмъ и осуществить въ немъ подлинную соборность, нуженъ «постъ и трудъ и тѣснота и всякія скорби».
Отъ этой скорби иконы мы теперь перейдемъ къ ея радости: послѣдняя можетъ быть понята только въ связи съ первою.
IV
Шопенгауеру принадлежитъ замѣчательно вѣрное изреченіе, что къ великимъ произведеніямъ живописи нужно относиться какъ къ Высочайшимъ особамъ. Было бы дерзостью, если бы мы сами первые съ ними заговорили; вмѣсто того нужно почтительно стоять передъ ними и ждать, пока они удостоятъ насъ съ нами заговорить. По отношенію къ иконѣ это изреченіе сугубо вѣрно именно потому, что икона — больше, чѣмъ искусство. Ждать, чтобы она съ нами сама заговорила, приходится долго въ особенности въ виду того огромнаго разстоянія, которое насъ отъ нея отдѣляетъ.
Чувство разстоянія, это — то первое впечатлѣніе, которое мы испытываемъ, когда мы осматриваемъ древніе храмы. Въ этихъ строгихъ ликахъ есть что-то, что влечетъ къ себѣ и въ то же время отталкиваетъ. Ихъ сложенные въ благословеніе персты зовутъ насъ и въ то же время преграждаютъ намъ путь: чтобы послѣдовать ихъ призыву, нужно отказаться отъ цѣлой большой линіи жизни, отъ той самой, которая фактически господствуетъ въ мірѣ.
Въ чемъ же — эта отталкивающая сила иконы и что собственно она отталкиваетъ? Я въ особенности осязательно это понялъ, когда, послѣ осмотра иконъ въ музеѣ Александра III въ Петроградѣ, я случайно слиткомъ скоро попалъ въ Императорскій Эрмитажъ. Чувство острой тошноты, которое я испыталъ при видѣ Рубенсовскихъ вакханалій, тотчасъ объяснило мнѣ то самое свойство иконъ, о которомъ я думалъ: вакханалія и есть крайнее олицетвореніе той жизни, которая отталкивается иконой. Разжирѣвшая трясущаяся плоть, которая услаждается собою, жретъ и непремѣнно убиваетъ, чтобы пожирать, — это то самое, чему прежде всего преграждаютъ путь благословляющіе персты. Но этого мало: они требуютъ отъ наеъ, чтобы мы оставили за порогомъ и всякую пошлость житейскую, потому что «житейскія попеченія», которыя требуется отложить, также утверждаютъ господство сытой плоти. Пока мы не освободимся отъ ея чаръ, икона не заговоритъ съ нами. А когда она заговоритъ, она возвѣститъ намъ высшую радость — сверхбіологическій смыслъ жизни и конецъ звѣриному царству.
Радость эта выражается нашимъ религіознымъ искусствомъ не въ словахъ, а въ неподражаемыхъ красочныхъ видѣніяхъ. Изъ нихъ наиболѣе яркое и радостное — то самое, въ которомъ раскрывается во всей своей полнотѣ новое жизнепониманіе, идущее на смѣну звѣропоклонству — видѣніе мірообъемлющаго храма. Здѣсь самая скорбь претворяется въ радость. Какъ уже было сказано раньше, въ иконописи человѣческій образъ какъ бы приноситъ себя въ жертву архитектурнымъ линіямъ. И вотъ мы видимъ, какъ храмовая архитектура, которая уноситъ человѣка подъ небеса, оправдываетъ эту жертву. Да будетъ мнѣ позволено пояснить эту мысль нѣсколькими примѣрами.
Быть-можетъ, во всей нашей иконописи нѣтъ болѣе яркаго олицетворенія аскетической идеи, нежели ликъ Іоанна Крестителя. А между тѣмъ именно съ именемъ этого святого связанъ одинъ изъ самыхъ жизнерадостныхъ памятниковъ нашей религіозной архитектуры — храмъ св. Іоанна Предтечи въ Ярославлѣ. И именно здѣсь всего легче прослѣдить, какъ скорбь и радость соединяются въ одно храмовое и органическое цѣлое.
Соединеніе этихъ двухъ мотивовъ выражается въ самомъ иконописномъ изображеніи святого, о чемъ мнѣ пришлось уже вскользь говорить въ другомъ мѣстѣ. Съ одной стороны, какъ Предтеча Христовъ, онъ олицетворяетъ собою идею отреченія отъ міра: онъ готовитъ людей къ воспріятію новаго смысла жизни проповѣдью покаянья, поста и всяческаго воздержанія; эта мысль передается въ его изображеніи его изможденнымъ ликомъ съ неестественно истонченными руками и ногами. Съ другой стороны, именно въ этомъ изнуреніи плоти онъ находитъ въ себѣ силу для радостнаго духовнаго подъема: въ иконѣ это выражается его могучими, прекрасными крыльями. И именно этотъ подъемъ къ высшей радости изображается всей архитектурой храма, его пестрыми изразцами, красочными узорами его причудливыхъ орнаментовъ съ фантастическими прекрасными цвѣтами. Цвѣты эти обвиваютъ наружныя колонны зданія и уносятся кверху къ его горящимъ золотымъ чешуйчатымъ луковицамъ. То же сочетаніе аскетизма и невѣроятной, нездѣшней радуги красокъ мы находимъ и въ московскомъ храмѣ Василія Блаженнаго. Это — въ сущности та же мысль о блаженствѣ, которое вырастаетъ изъ страданій, о новой храмовой архитектурѣ вселенной, которая, возносясь надъ скорбью людской, все уноситъ кверху, вьется къ куполамъ, а по пути расцвѣтаетъ райскою растительностью.
Эта архитектура есть вмѣстѣ съ тѣмъ и проповѣдь: она возвѣщаетъ собою тотъ новый жизненный стиль, который долженъ прійти на смѣну стилю звѣриному: она представляетъ собою положительную идейную противоположность тому біологизму, который утверждаетъ свое безграничное господство надъ низшей природой и надъ человѣкомъ. Она выражаетъ собою тотъ новый міровой порядокъ и ладъ, гдѣ прекращается кровавая борьба за существованіе и вся тварь съ человѣчествомъ во главѣ собирается во храмъ.
Мысль эта развивается во множествѣ архитектурныхъ и иконописныхъ изображеній, которыя не оставляютъ сомнѣнія въ томъ, что древне-русскій храмъ въ идеѣ являетъ собою не только соборъ святыхъ и ангеловъ, но соборъ всей твари. Особенно замѣчателенъ въ этомъ отношеніи древній Дмитріевскій соборъ во Владимірѣ на Клязьмѣ (XII в.). Тамъ наружныя стѣны покрыты лѣпными изображеніями звѣрей и птицъ среди роскошной растительности. Это — не реальныя изображенія твари, какъ она существуетъ въ нашей земной дѣйствительности, а прекрасные идеализированные образы. Тотъ фактъ, что въ центрѣ всѣхъ этихъ образовъ цомѣщена фигура царя Соломона, сидящаго на престолѣ, даетъ намъ совершенно ясное откровеніе ихъ духовнаго смысла. Царь Соломонъ здѣсь царствуетъ какъ глашатай Божественной Премудрости, сотворившей міръ; и именно въ этомъ качествѣ онъ собираетъ вокругъ своего престола всю тварь поднебесную. Это — не та тварь, которую мы видимъ теперь на землѣ, а тварь, какою ее замыслилъ Богъ въ Своей Премудрости, прославленная и собранная во храмъ, — въ живое и вмѣстѣ съ тѣмъ архитектурное цѣлое.
Въ параллель къ этому памятнику церковной архитектуры можно привести цѣлый рядъ иконописныхъ изображеній на темы «Всякое дыханіе да хвалитъ Господа», «Хвалите имя Господне» и «О Тебѣ радуется, обрадованная, всякая тварь». Тамъ точно такъ же можно видѣть всю тварь поднебесную, объединенную въ прославленіи бѣгающихъ звѣрей, поющихъ птицъ и даже рыбъ, плавающихъ въ водѣ
[1]. И во всѣхъ этихъ иконахъ тотъ архитектурный замыселъ, которому подчиняется вся тварь, неизмѣнно изображается въ видѣ храма — собора: къ нему стремятся ангелы, въ немъ собираются святые, вокругъ него вьется райская растительность, а у его подножія или вокругъ него толпятся животныя. Насколько тѣсно этотъ радостный мотивъ нашей иконописи связанъ съ ея аскетическимъ мотивомъ, это ясно для всякаго, кто хоть сколько-нибудь знакомъ съ нашими и греческими «житіями святыхъ». И тутъ и тамъ мы одинаково часто встрѣчаемъ образъ святого, вокругъ котораго собираются звѣри лѣсные и довѣрчиво лижутъ ему руки. По объясненію св. Исаака Сирина здѣсь возстановляется то первоначальное райское отношеніе, которое существовало когда-то между человѣкомъ и тварью. Звѣри идутъ къ святому, потому что они чуютъ въ немъ «ту воню», которая исходила отъ Адама за грѣхопаденія. А со стороны человѣка переворотъ въ отношеніи къ низшей твари еще полнѣе и глубже. На смѣну тому узко-утилитарному воззрѣнію, которое цѣнитъ животное лишь въ качествѣ пищи или орудія человѣческаго хозяйства, здѣсь идетъ то новое міроощущеніе, для котораго животныя суть меньшіе братья человѣка. Тутъ аскетическое воздержаніе отъ мясной пищи и любящее, глубоко-жалостливое отношеніе ко всей твари представляютъ различныя стороны одной и той же жизненной правды, — той самой, которая противополагается узко-біологическому жизнепониманію. Сущность этого новаго міроощущенія какъ нельзя лучше передается словами св. Исаака Сирина. По его объясненію, признакъ сердца милующаго есть «возгорѣніе сердца у человѣка о
всемъ твореніи, о человѣкахъ, о птицахъ, о животныхъ, о демонахъ и о всякой твари. При воспоминаніи о нихъ и при воззрѣніи на нихъ очи у человѣка источаютъ слезы. Отъ великой и сильной жалости, объемлющей сердце, и отъ великаго страданія сжимается сердце его, и не можетъ оно вынести или слышать, или видѣть какого-либо вреда или малой печали, претерпѣваемыхъ тварью. А посему и о безсловесныхъ и о врагахъ истины и о дѣлающихъ ему вредъ ежечасно со слезами приноситъ молитву, чтобы сохранились они и были помилованы; а также о естествѣ пресмыкающихся молится съ великою жалостью, какая безъ мѣры возбуждается въ сердцѣ его до уподобленія въ семъ Богу
[2].
Въ этихъ словахъ мы имѣемъ конкретное изображеніе того нораго плана бытія, гдѣ законъ взаимнаго пожиранія существъ побѣждается въ самомъ своемъ — корнѣ, въ человѣческомъ сердцѣ, черезъ любовь и жалость. Зачинаясь въ человѣкѣ, новый порядокъ отношеній распространяется и на низшую тварь. Совершается цѣлый космическій переворотъ: любовь и жалость открываютъ въ человѣкѣ начало новой твари. И эта «новая тварь» находитъ себѣ изображеніе въ иконописи: молитвами святыхъ храмъ Божій отверзается для низшей твари, давая въ себѣ мѣсто ея одухотворенному образу. Изъ иконописныхъ попытокъ — передать это видѣнье одухотворенной твари — упомяну въ особенности о замѣчательной иконѣ пророка Даніила среди львовъ, хранящейся въ петроградскомъ музеѣ императора Александра III. Непривычному взгляду могутъ показаться наивными эти черезчуръ нереальные львы, съ трогательнымъ благоговѣніемъ смотрящіе на пророка. Но въ искусствѣ именно наивное нерѣдко граничитъ съ геніальнымъ. На самомъ дѣлѣ, несходство тутъ вполнѣ умѣстно и допущено, вѣроятно, не безъ умысла. Вѣдь предметомъ изображенія здѣсь и на самомъ дѣлѣ служитъ не та тварь, которую мы знаемъ; упомянутые львы, несомнѣнно, предображаютъ новую тварь, восчувствовавшую надъ собой высшій, сверхбіологическій законъ: задача иконописца тутъ — изобразить новый, невѣдомый намъ строй жизни. Изобразить его онъ можетъ, конечно, только символическимъ письмомъ, которое ни въ какомъ, случаѣ не должно быть Копіей съ нашей дѣйствительности.
Основной паѳосъ этого символическаго письма особенно ярко раскрывается въ тѣхъ иконахъ, гдѣ мы имѣемъ прямое противоположеніе двухъ міровъ— древняго космоса, плѣненнаго грѣхомъ, и міробъемлю-іцаго храма, гдѣ этотъ плѣнъ окончательно упраздняется. Я говорю о часто встрѣчающихся въ древней новгородской живописи изображеніяхъ «царя космоса», которыя имѣются между прочимъ въ петроградскомъ музеѣ императора Александра III и въ старообрядческомъ храмѣ Успенія Св. Богородицы въ Москвѣ. Икона эта раздѣляется на двѣ части: внизу въ подземельѣ, подъ сводомъ томится плѣнникъ — «царь космосъ» въ коронѣ; а въ верхнемъ этажѣ иконы изображена Пятидесятница: огненные языки нисходятъ на апостоловъ, сидящихъ на престолахъ во храмѣ. Изъ самаго противоположенія Пятидесятницы космосу царю видно, что храмъ, гдѣ возсѣдаютъ апостолы, понимается какъ новый міръ и новое царство: это — тотъ космическій идеалъ, который долженъ вывести изъ плѣна дѣйствительный космосъ; чтобы дать въ себѣ мѣсто этому царственному узнику, котораго надлежитъ освободить, храмъ долженъ совпасть съ вселенной: онъ долженъ включить въ себя не только новое небо, но и новую землю. И огненные языки надъ апостолами ясно показываютъ, какъ понимается та сила, которая должна произвести этотъ космическій переворотъ.
Здѣсь мы подошли къ центральной идеѣ всей русской иконописи. Мы видѣли, что въ этой иконописи всякая тварь въ своей отдѣльности, — человѣкъ, ангелъ, міръ животный и міръ растительный подчиняется общему архитектурному замыслу: мы имѣемъ здѣсь тварь соборную или храмовую. Но во храмѣ объединяютъ не стѣны и не архитектурныя линіи: храмъ не есть внѣшнее единство общаго порядка, а живое цѣлое, собранное воедино Духомъ любви. Единство всей этой храмовой архитектурѣ дается новымъ жизненнымъ центромъ, вокругъ котораго собирается вся тварь. Тварь становится здѣсь сама храмомъ Божіимъ, потому что она собирается вокругъ Христа и Богородицы, становясь тѣмъ самымъ жилищемъ Св. Духа. Образъ Христа и есть то самое, что сообщаетъ всей этой живописи и архитектурѣ ея жизненный смыслъ, потому что соборъ всей твари собирается во имя Христа и представляетъ собою именно внутренно объединенное царство Христово въ противоположность раздѣлившемуся и распавшемуся изнутри царству «царя космоса». Царство это собрано въ одно живымъ общеніемъ тѣла и крови. И вотъ почему олицетвореніе этого общенія — изображеніе евхарастш — такъ часто занимаетъ центральное мѣсто въ алтаряхъ древнихъ храмовъ.
Но если во Христѣ — Богочеловѣкѣ наша иконопись чтитъ и изображаетъ тотъ новый жизненный смыслъ, который долженъ наполнить все, то во образѣ Богоматери — Царицы Небесной, скорой помощницы и заступницы, она олицетворяетъ то любящее материнское сердце, которое чрезъ внутреннее горѣніе въ Богѣ становится въ актѣ богорожденія сердцемъ вселенной. — Именно въ тѣхъ иконахъ, гдѣ вокругъ Богоматери собирается весь міръ, религіозное вдохновеніе и художественное творчество древне-русской иконописи достигаетъ высшаго предѣла. Въ особенности замѣчательна въ древней новгородской живописи разработка двухъ мотивовъ. — «О тебѣ радуется обрадованная всякая тварь» и «Покровъ Божіей матери».
Какъ видно изъ самаго названія перваго мотива— образъ Богоматери утверждается здѣсь въ его космическомъ значеніи, какъ «радость всей твари». Во всю ширину иконы на второмъ планѣ красуется соборъ съ горящими луковицами или съ темно-синими звѣздными куполами. Купола эти упираются въ сводъ небесный: словно за ними въ этой синевѣ нѣтъ ничего, кромѣ Престола Всевышняго. А на первомъ планѣ на престолѣ царитъ радость всей твари— Божія Матерь съ предвѣчнымъ Младенцемъ. Радость твари небесной изображается ангельскимъ соборомъ, который образуетъ собою какъ бы многоцвѣтную гирлянду надъ головою Пречистой. А снизу стремятся къ ней со всѣхъ сторонъ человѣческія фигуры— святые, пророки, апостолы и дѣвы. — представительницы цѣломудрія. Вокругъ храма вьется райская растительность. Въ нѣкоторыхъ иконахъ соучаствуютъ въ общей радости и животныя. Однимъ словомъ, именно тутъ идея мірообъемлющаго храма раскрывается во всей полнотѣ своего жизненнаго смысла; мы видимъ передъ собою не холодныя и безразличныя стѣны, не внѣшнюю архитектурную форму, которая все въ себѣ объемлетъ, а храмъ одухотворенный, собранный любовью. Въ этомъ заключается подлинный и полный отвѣтъ нашей иконописи на вѣковѣчное искушеніе звѣринаго царства. — Міръ не есть хаосъ, — и міровой порядокъ не есть нескончаемая кровавая смута. Есть любящее сердце матери, которое должно собрать вокругъ себя вселенную.
Иконы «Покрова» Пресвятой Богородицы представляютъ собою развитіе той же самой темы. И тутъ мы видимъ Богоматерь въ центрѣ, которая царитъ на облакахъ на фонѣ храма. Облака эти на нѣкоторыхъ иконахъ заканчиваются орлинымъ клювомъ> что указываетъ на то, что они представляются одухотворенными; точно такъ же къ Богоматери съ разныхъ сторонъ стремятся ангелы, разстилающіе покровъ надъ Нею и надъ соборомъ святыхъ, собраннымъ вокругъ Нея и у Ея ногъ. Только покровъ, осѣняющій все и всѣхъ и потому какъ бы мірообъем-люіцій, придаетъ этой иконѣ особый смысловой оттѣнокъ. Въ музеѣ императора Александра III въ Петроградѣ имѣется икона Покрова новгородскаго письма XV вѣка, гдѣ какъ разъ разработка этой темы достигаетъ высшаго предѣла художественнаго совершенства. Тамъ мы имѣемъ нѣчто большее, чѣмъ человѣчество, собранное подъ покровомъ Богоматери: происходитъ какое-то духовное сліяніе между покровомъ и собранными подъ нимъ святыми: точно весь этотъ соборъ святыхъ въ многоцвѣтныхъ одеждахъ образуетъ собою одухотворенный покровъ Богоматери, освѣщенный многочисленными изнутри горящими глазами, которые свѣтятся словно огневыя точки. Именно въ такихъ богородичныхъ иконахъ обнаруживается радостный смыслъ ихъ живописной архитектуры и симметріи. Тутъ мы имѣемъ не только симметрію въ расположеніи отдѣльныхъ фигуръ, но и симметрію въ духовномъ ихъ двиоюеніи, которое просвѣчиваетъ сквозь кажущуюся ихъ неподвижность. Къ Богоматери, какъ недвижному центру вселенной направляются съ обѣихъ сторонъ симметрическіе взмахи ангельскихъ крыльевъ. Къ Ней же симметрически устремлено со всѣхъ концовъ движеніе человѣческихъ очей, при чемъ именно благодаря неподвижности фигуръ это скрещиванье взоровъ въ одной точкѣ производитъ впечатлѣніе неудержимаго, всеобщаго поворота къ грядущему оолнцу вселенной. Это уже — не аскетическое подчиненіе симметріи архитектурныхъ линій, а центростремительное движеніе къ общей радости. Это — симметрія одухотворенной радуги вокругъ Царицы Небесной. Словно исходящій отъ Нея свѣтъ, проходя черезъ ангельскую и человѣческую среду, является здѣсь во множествѣ многоцвѣтныхъ преломленій.
Въ томъ же значеніи архитектурнаго центра и центральнаго свѣтила является на множествѣ древ-иіъ ико нъ, новгородскихъ, московскихъ и ярославскихъ — Софія — Премудрость Божія. Здѣсь вокругъ Софіи, царящей на престолѣ, собираются и силы небесныя — ангелы, образующіе словно вѣнецъ надъ ней, и человѣчество, олицетворяемое Богоматерью и Іоанномъ Предтечей. Въ настоящемъ докладѣ я не стану распространяться о религіозно-философской идеѣ этихъ иконъ, о которой я уже говорилъ въ другомъ мѣстѣ; здѣсь будетъ достаточно сказать, что по своему духовному смыслу онѣ очень близки къ иконамъ богородичнымъ. Но въ смыслѣ чисто иконописномъ, художественномъ, иконы богородичныя, только что упомянутыя, гораздо полнѣе, красочнѣе и совершеннѣе. Оно и понятно: икона св. Софіи Премудрости Божіей выражаетъ собою еще не раскрытую тайну замысла Божія о твари. А Богоматерь, собравшая міръ вокругъ предвѣчнаго Младенца, олицетворяетъ Собою осуществленіе и раскрытіе того же самаго замысла. Именно эту соборную, собранную воедино вселенную замыслилъ Богъ въ Своей Премудрости: именно ее Онъ хотѣлъ; и именно ею должно быть побѣждено хаотическое царство смерти.
V
Въ заключеніе позвольте вернуться къ тому, съ чего мы начали. — Въ началѣ этой бесѣды я сказалъ, что вопросъ о смыслѣ жизни, будучи по существу однимъ и тѣмъ же во всѣ вѣка, съ особою рѣзкостью ставится именно въ тѣ дни, когда обнажается до дна безсмысленная суета и нестерпимая мука нашей жизни.
Вся русская иконопись представляетъ собой откликъ на эту безпредѣльную скорбь существованія— ту самую, которая выразилась въ евангельскихъ словахъ: «душа моя скорбитъ смертельно». Только теперь, въ дни міровой войны, мы почувствовали весь ужасъ этой скорби; но по этому самому именно теперь болѣе, чѣмъ когда-либо, мы въ состояніи понять захватывающую жизненную драму иконы. Только теперь намъ начинаетъ открываться и ея радость, потому что теперь, послѣ всего того, что мы перетерпѣли, — мы жить не можемъ безъ этой радости. Мы почувствовали, наконецъ, какъ она глубоко выстрадана, сколько видѣла икона многовѣковыхъ терзаній души народной, сколько слезъ передъ нею пролито и какъ властно звучитъ ея отвѣтъ на эти слезы.
Въ началѣ этой осени у насъ творилось что-то въ родѣ свѣтопреставленія. Вражеское нашествіе надвигалось съ быстротой грозовой тучи и милліоны голодныхъ бѣженцевъ, переселявшихся на востокъ, заставляли вспоминать евангельскія изреченія о послѣднихъ дняхъ. «Горе же беременнымъ и питающимъ сосцами въ тѣ дни; молитесь, чтобы не случилось бѣгство ваше зимою… ибо тогда будетъ великая скорбь, какой не было отъ начала міра и не будетъ» (Матѳ. XXIV, 19–21). Тогда, какъ и теперь, въ дни зимней нашей скорби, мы испытываемъ что-то близкое къ тому, что переживала древняя Русь въ дни татарскаго нашествія. И что же мы видимъ въ результатѣ! Нѣмая въ теченіе многихъ вѣковъ икона заговорила съ нами снова тѣмъ самымъ языкомъ, какимъ она говорила съ отдаленными нашими предками.
Въ концѣ августа у насъ совершались всенародныя моленія о побѣдоносномъ окончаніи войны. Подъ вліяніемъ тревоги, охватившей нашу деревню, притокъ молящихся былъ исключительно великъ и настроеніе ихъ было необычайно приподнято. Въ Калужской губерніи, гдѣ я въ то время находился, ходили среди крестьянъ слухи, будто самъ Тихонъ преподобный — наиболѣе чтимый мѣстный святой, ушелъ изъ своей раки и бѣженцемъ странствуетъ по русской землѣ. И вотъ я помню, какъ въ то время на моихъ глазахъ цѣлая церковь, переполненная молящимися, хоромъ пѣла богородичный молебенъ. При словахъ «не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды» многіе плакали. Вся толпа разомъ рушилась къ ногамъ Богоматери. Мцѣ никогда не приходилось ощущать въ многолюдныхъ молитвенныхъ собраніяхъ той напряженной силы чувства, которая вкладывалась тогда въ эти слова. Всѣ эти крестьяне, которые видѣли бѣженцевъ и сами помышляли о возможности нищеты, голодной смерти и объ ужасѣ зимняго бѣгства, несомнѣнно, такъ и чувствовали, что безъ заступленія Владычицы не миновать имъ гибели.
Это и есть то настроеніе, которымъ создавался древне-русскій храмъ. Имъ жила и ему отвѣчала икона. Ея символическій языкъ непонятенъ сытой плоти, недоступенъ сердцу, полному мечтой о матеріальномъ благополучіи. Но онъ становится жизнью, когда рушится эта мечта, и у людей разверзается бездна подъ ногами. Тогда намъ нужно чувствовать незыблемую точку опоры надъ бездной: намъ необходимо ощущать это недвижное спокойствіе святыни надъ нашими страданіемъ и скорбью; а радостное видѣнье собора всей твари надъ кровавымъ хаосомъ нашего существованія становится нашимъ хлѣбомъ насущнымъ. Намъ нужно достовѣрно знать, что звѣрь не есть все во всемъ въ мірѣ, что надъ его царствомъ есть иной законъ жизни, который восторжествуетъ.
Вотъ почему въ эти скорбные дни оживаютъ тѣ древнія краски, въ которыхъ когда-то наши предки воплотили вѣчное содержаніе. Мы снова чувствуемъ въ себѣ ту силу, которая въ старину выпирала изъ земли златоверхніе храмы и зажигала огненные языки надъ плѣннымъ космосомъ. Дѣйственность этой силы въ древней Руси объясняется именно тѣмъ, что у насъ въ старину «дни тяжкихъ испытаній» были, общимъ правиломъ, а дни благополучія — сравнительно рѣдкимъ исключеніемъ. Тогда опасность «раствориться въ хаосѣ», т. е., попросту говоря, быть съѣденнымъ живьемъ сосѣдями, была для русскаго народа повседневной и ежечасной.
И вотъ теперь, послѣ многихъ вѣковъ, хаосъ опять стучится въ наши двери. Опасность для Россіи и для всего міра — тѣмъ больше, что современный хаосъ осложненъ и даже какъ бы освященъ культурой. Дикія орды, терзавшія древнюю Русь, — печенѣги, половцы и татары — не думали о «культурѣ», а потому руководствовались не принципами, а инстинктами, Они убивали, грабили и истребляли другіе народы, чтобы добыть себѣ пищу совершенно такъ же, какъ коршунъ истребляетъ свою добычу: они осуществляли біологическій законъ наивно, непосредственно, даже не подозрѣвая, что надъ этимъ закономъ звѣриной жизни есть какая-либо другая, высшая норма. Совершенно иное мы видимъ теперь въ станѣ нашихъ враговъ. Здѣсь біологизмъ сознательно возводится въ принципъ, утверждается какъ то, что должно господствовать въ мірѣ. Всякое ограниченіе права кровавой расправы съ другими народами во имя какого-либо высшаго начала сознательно отметается какъ сентиментальность и ложь. Это — уже нѣчто большее, чѣмъ жизнь по образу звѣриному: здѣсь мы имѣемъ прямое поклоненіе этому образу, принципіальное подавленіе въ себѣ человѣколюбія и жалости ради него. Торжество такого образа мыслей въ мірѣ сулитъ человѣчеству нѣчто гораздо худшее, чѣмъ татарщина. — Это — неслыханное отъ начала міра порабощеніе духа — озвѣрѣніе, возведенное въ принципъ и въ систему, отреченіе отъ всего того человѣчнаго, что доселѣ было и есть въ человѣческой культурѣ. Окончательное торжество этого начала можетъ повести къ поголовному истребленію цѣлыхъ народовъ, потому что другимъ народамъ понадобятся ихъ земли.
Этимъ измѣряется значеніе той великой борьбы, которую мы ведемъ. Рѣчь идетъ не только о сохраненіи нашей цѣлости и независимости, а о спасеніи всего человѣческаго, что есть въ человѣкѣ, о сохраненіи самаго смысла человѣческой жизни противъ надвигающагося хаоса и безсмыслицы. Та духовная борьба, которую намъ придется еще выдержать, неизмѣримо важнѣе и труднѣе той вооруженной борьбы, которая теперь заставляетъ насъ истекать кровью. Человѣкъ не можетъ оставаться только человѣкомъ: онъ долженъ или подняться надъ собой или упасть въ бездну, вырости или въ Бога или въ звѣря. Въ настоящій историческій моментъ человѣчество стоитъ на перепутьѣ. Оно должно окончательно опредѣлиться въ ту или другую сторону. Что же побѣдитъ въ немъ, — культурный зологизмъ или то «сердце милующее», которое горитъ любовью ко всей твари? Чѣмъ надлежитъ быть вселенной, — звѣринцемъ или храмомъ?
Самая постановка этого вопроса преисполняетъ сердце глубокой вѣрой въ Россію, потому что мы знаемъ, въ которомъ изъ этихъ двухъ началъ она почувствовала свое національное призваніе, которое изъ этихъ двухъ жизнепониманій выразилось въ лучшихъ созданіяхъ ея народнаго генія. Русская религіозная архитектура и русская иконопись, безъ сомнѣнія, принадлежатъ къ числу этихъ лучшихъ созданій. Здѣсь наша народная душа явила самое прекрасное и самое интимное, что въ ней есть — ту прозрачную глубину религіознаго вдохновенія, которая впослѣдствіи явилась міру и въ классическихъ произведеніяхъ русской литературы. Достоевскій сказалъ, что «красота спасетъ міръ». Развивая ту же мысль, Соловьевъ возвѣстилъ идеалъ «теургическаго искусства». Когда слова эти были сказаны, Россія еще не знала, какими художественными сокровищами она обладаетъ. Теургическое искусство у насъ уже было. Наши иконописцы видѣли эту красоту, которою спасется, міръ, и увѣковѣчили ее въ краскахъ. И самая мысль о цѣлящей силѣ красоты давно уже живетъ въ идеѣ явленной и чудотворной иконы! Среди той многотрудной борьбы, которую мы ведемъ, среди безконечной скорби, которую мы испытываемъ, да послужитъ намъ эта сила источникомъ утѣшенія и бодрости. Будемъ же утверждать и любить эту красоту! Въ ней воплотился тотъ смыслъ жизни, который не погибнетъ. Не погибнетъ и тотъ народъ, который съ этимъ смысломъ свяжетъ свои судьбы. Онъ нуженъ вселенной для того, чтобы сломить господство звѣря и освободить человѣчество отъ тяжкаго плѣна.
Этимъ разрѣшается одно кажущееся противорѣчіе. Иконописный идеалъ есть всеобщій миръ всей твари: дозволительно ли съ этимъ идеаломъ связывать нашу человѣческую мечту о побѣдѣ одного народа надъ другимъ? На этотъ вопросъ въ русской исторіи неоднократно давался ясный и недвусмысленный отвѣтъ. Въ древней Руси не было болѣе пламеннаго поборника идеи вселенскаго мира, чѣмъ св. Сергій, для котораго храмъ Св. Троицы, имъ сооруженный, выражалъ собою мысль о преодолѣніи ненавистнаго раздѣленія міра; и, однако, тотъ же св. Сергій благословилъ Дмитрія Донского на брань, а вокругъ его обители собралась и выросла могучая русская государственность! Икона возвѣщаетъ конецъ войны! И, однако, съ незапамятныхъ временъ у насъ иконы предносились передъ войсками и воодушевляли на побѣду.
Чтобы понять, какъ разрѣшается это кажущееся противорѣчіе, достаточно задаться однимъ простымъ жизненнымъ вопросомъ. Могъ ли св. Сергій допустить мысль объ оскверненіи церквей татарами? Можемъ ли и мы теперь допустить превращеніе новгородскихъ храмовъ или кіевскихъ святынь въ нѣмецкія конюшни? Еще менѣе возможно, разумѣется, примириться съ мыслью о поголовномъ истребленіи цѣлыхъ народовъ или о поголовномъ изнасилованіи всѣхъ женщинъ въ той или другой странѣ. Религіозный идеалъ иконы не былъ бы правдою, если бы онъ освящалъ неправду непротивленства; къ счастью, однако, эта неправда не имѣетъ ничего съ нимъ общаго и даже прямо противорѣчитъ его духу. Когда св. Сергій утверждаетъ мысль о грядущемъ соборѣ всей твари надъ міромъ и тутъ же благословляетъ на брань въ мірѣ, между этими двумя актами нѣтъ противорѣчія, потому что миръ преображенной твари въ вѣчномъ покоѣ Творца и наша здѣшняя брань противъ темныхъ силъ, задерживающихъ осуществленіе этого мира — совершаются въ различныхъ планахъ бытія. Эта святая брань не только не нарушаетъ тотъ вѣчный миръ, — она готовитъ его наступленіе.
Въ Апокалипсисѣ есть говорящій образъ: тамъ говорится о сатанѣ, до времени посаженномъ на цѣпь, чтобы онъ не соблазнялъ народы. Именно въ этомъ образѣ мы найдемъ отвѣтъ на наши сомнѣнія. Если грядущая вселенная должна быть храмомъ, изъ этого не слѣдуетъ, конечно, чтобы у преддверія этого храма бѣсъ могъ утвердить свое царство! Если царство сатаны въ нашей здѣшней дѣйствительности не можетъ быть совершенно уничтожено, то оно должно быть, по крайней мѣрѣ, ограничено, сковано цѣпями; пока оно не побѣждено окончательно изнутри Духомъ Божіимъ, оно должно быть сдержано внѣшней силой. Иначе оно смететъ съ лица земли всякіе храмы и постарается истребить въ человѣкѣ самое подобіе человѣка. Отсутствіе сопротивленія будетъ источникомъ великаго соблазна для народовъ!
Чтобы они не вообразили, что царство звѣриное есть все во всемъ, надо положить конецъ этой нечестивой и безобразной его похвальбѣ. Пусть видятъ народы, что міръ управляется не однимъ животнымъ эгоизмомъ и не одной техникой. Пусть явится въ человѣческихъ дѣлахъ и въ особенности въ дѣлахъ Россіи и высшая духовная сила, которая борется за смыслъ міра. Будемъ помнить, за что мы боремся, и пусть эта мысль удесятеритъ наши силы. И да будетъ наша выстраданная побѣда предвѣстницей той величайшей радости, которая покрываетъ всю безпредѣльную скорбь и муку нашего существованія!
Примечания
1
Напр., рѣзная икона «Всякое дыханіе» въ коллекціи И. С. Остроумова, «Хвалите» въ музеѣ Александра III въ Петроградѣ. Ср. Описаніе иконъ «О Тебѣ радуется», въ Сійскомъ иконописномъ подлинникѣ», вып. IV, 1898 г. (Памятники древней письменности, стр. 170, 180).
(обратно)
2
Иже во святыхъ отца нашего Саввы Исаака Сиріянина, — слова Подвижническія. Москва, 1858, стр. 299.
(обратно)
Оглавление
I
II
III
IV
V
*** Примечания *** 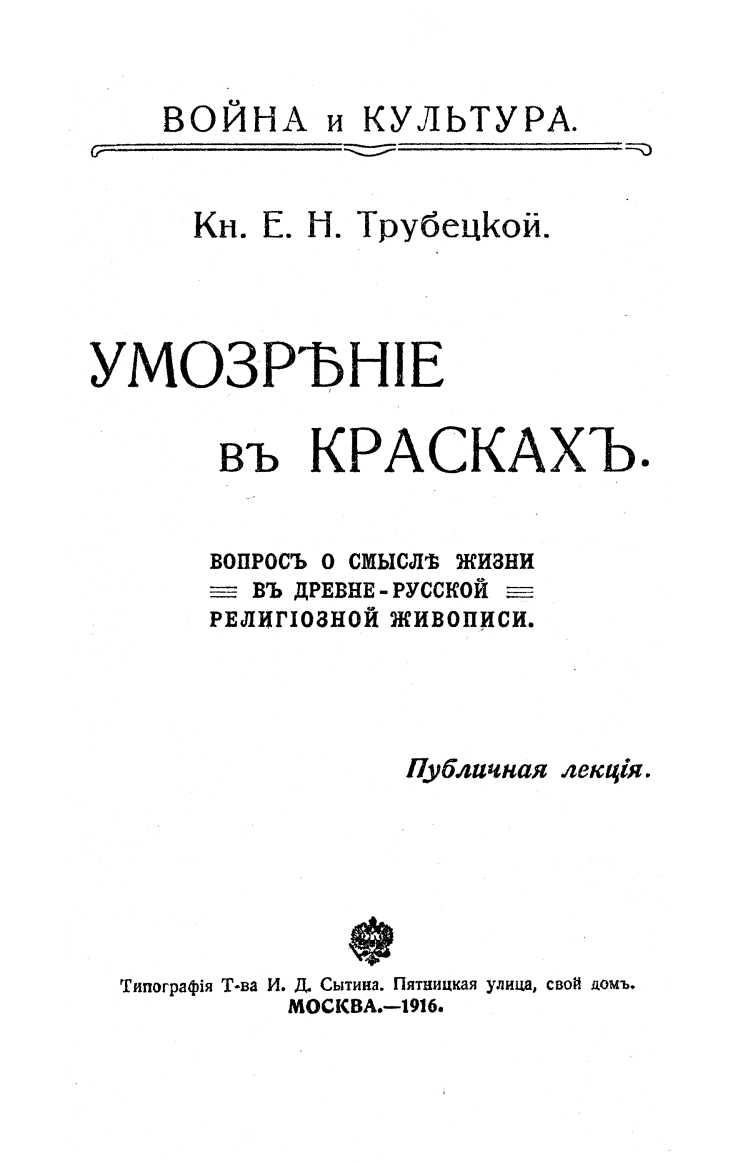 Евгений Николаевич Трубецкой
УМОЗРЕНИЕ В КРАСКАХ
Евгений Николаевич Трубецкой
УМОЗРЕНИЕ В КРАСКАХ
Последние комментарии
17 часов 4 минут назад
1 день 9 часов назад
1 день 18 часов назад
1 день 18 часов назад
4 дней 26 минут назад
4 дней 4 часов назад