Силуэты русских художников [Сергей Константинович Маковский] (fb2) читать онлайн
- Силуэты русских художников 6.35 Мб, 469с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Сергей Константинович Маковский
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Сергей Маковский

* * *

* * *
 С. Судейкин:
«Эскиз декорации к опере Ж. Оффенбаха „Сказки Гофмана“», 1915.
С. Судейкин:
«Эскиз декорации к опере Ж. Оффенбаха „Сказки Гофмана“», 1915.
— Репродукции с картин:
М. Добужинский:
«Эскиз декорации к постановке пасторали Адама де ла Аля „Игра о Робене и Марион“», 1907.

СИЛУЭТЫ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ[1]

Вместо введения
Издатель. Поверьте издательскому чутью. Теперь на очереди искусство. Политические гадания и распри эмигрантских кругов, говоря по совести, успели наскучить Западу. Но Россия остается в центре внимания. Ведь помимо нашего горе-беженства, партий, съездов, резолюций и антибольшевистских передовиц существует же русская культура, и не показатель ли ее русское искусство! Вот ответ на волнующий всех вопрос о будущем России… Знаете, написали бы вы книгу — ну, хотя бы о русской живописи? Критик. Для иностранцев? Издатель. Не только. Подавляющее большинство зарубежных соотечественников тоже недостаточно — ох, как недостаточно! — ценит своих художников. О молодом поколении и говорить нечего. С семнадцати лет на войне, потом революция, добровольчество, скитание по заграницам. Где уж тут художественное образование. А жажда есть. Может ли молодежь, восприимчивая ко всему «прекрасному и вечному», не жаждать того прекрасного и вечного, что создано нашими мастерами, — скажем, за последнюю четверть века? Критик. Понимаю, вы хотите от меня «новейшую» историю русской живописи — для непосвященных европейцев и непросвещенных беженцев? Издатель. Не смейтесь. Это серьезно. Критик. Еще бы! Написать историю: без книг, без музеев, без фотографий, без общения со своим художественным «дома», после четырех-то лет изгнанничества… Протестую. Невыполнимо. Издатель. Да я вовсе не об «истории». Напишите очерки, скажите о самом главном, дайте силуэты выдающихся художников, что ли, — такие силуэты, которыми в целом были бы намечены общие направляющие линии в современном художестве русском… Тем более что именно теперь, после всего-то пережитого, разумеется по-иному должны представляться и эти линии. Не так ли? Критик. Пожалуй. Что нынче, при свете всероссийского пожара, не кажется иным? Издатель. Вот видите. Значит, найдется что написать? Критик. Найдется, но с оговоркой и даже с двумя оговорками. Издатель. Какими, позвольте спросить? Критик. Следующими: во-первых, и я, как беженец, могу говорить о родном искусстве только по воспоминанию, по старым впечатлениям, а следственно — отнюдь не обещая нового слова о том или другом художнике. Чтобы попытаться сказать это слово, надо бы проникнуться наново очарованием самих картин… не из «прекрасного далека». Во-вторых: направляющие линии наметить нетрудно, однако… не указывая перспектив в будущее. Издатель. С первым согласен, но почему — «не указывая перспектив»? Критик. Да потому, что художественные перспективы, конечно уж, зависят от общих национальных горизонтов. А кто сейчас в состоянии рассмотреть их, не согрешив самым беззастенчивым фантазерством? Искусство — ветвистое древо, у которого отсыхает то один, то другой сук, сменяясь молодыми побегами. Определить, каким из них цвести, значило бы провидеть образ того русского завтрашнего дня, который пока что и не брезжит. Издатель. Допустим. Оставьте пророчества. Просто расскажите о том, что вспомнится, и о новом, теперешнем, ощущении своих художественных воспоминаний. Это уж будет ценно… Из ощущения-то вашего, хоть и без «перспектив», читатель сам, поверьте, сделает выводы и, мне думается, небезотрадные выводы. Воспоминания у вас, сознайтесь, ведь неплохие? Есть что вспомнить? Критик. Убедили. Да, есть что вспомнить. В чем другом, а в искусстве русская культура за эти двадцать пять лет просияла сказочно. И Запад, подлинно, нуждается в словах и сведениях о нашем искусстве, а свои, зарубежные русские, и подавно. Конечно, мне придется вспомнить и свет и тени… Впрочем, напишу, как напишется. Издатель. Вот и отлично. Итак, не мудрствуя лукаво, беритесь за перо. И да помогут вам музы! Критик. На сей раз судьба моей книги в руках Мнемозины, — помните? — той музы, чей образ воспел Поль Клодель[2]. В переводе Максимилиана Волошина, кажется, так: Мнемозина! Старшая, та, которая не говорит! Она — внутреннее время. Она — бьющий ключом клад. Она совпадает. Она владеет, она помнит, и все сестры внимательны к движениям ее век… Но беда в том, что она, божественная Память, как все музы, капризница. Поручитесь ли вы, что читатель не казнит меня за ее измены? Издатель. Ну, это ваше дело. Какой же вы критик, если не научились прятать того, чего не умеете вспомнить? Критик. Alea jacta[3]. Так и назовем: «Силуэты русских художников».I На смену передвижникам
Успех русской живописи в 70–80-е годы. — Эстетика передвижников. — Методы академического реализма.
— Значение фотографии. — Сравнение с Западом. — «Пожар» в конце XIX века. — Выход в свет «Мира искусства».
— Новое художественное исповедание. — Неудача мирискусников и ее причины.
Восторженным признанием современников пользовалась наша живопись в 70–80-е годы, в расцвет передвижничества. Не сравнить с предыдущими и с последующими десятилетиями. Ни раньше, ни позже не поддерживалось единодушнее определенное направление и не возвеличивались пламеннее отдельные славы. Между публикой и художниками было полное согласие. Передвижничество народилось одновременно с появлением на культурном поприще интеллигента-разночинца, перед которым путь был расчищен реформами Александра II. Это искусство ответило чаяниям народнической мысли, оно сблизило в глазах целого поколения политическую этику с эстетикой. «Направление» соответствовало и гражданским идеалам, и художественным запросам еще недавно до странности безразличного к отечественной живописи русского общества. Каждая «передвижная» являлась событием. Задолго до открытия шли слухи и толки, мастерские знаменитостей осаждались любопытными, покупатель волновался и норовил приобрести картину еще в проекте, на мольберте. О будущих «гвоздях» выставки слагались легенды, а когда она открывалась, петербургский и московский зритель валил толпой (не редкостью было восемь-десять тысяч посетителей, по тому времени цифра огромная). Затем начинались победы в провинции, где еще простодушнее принималось на веру «святое искусство» товарищества. Критики, в сущности, не было вовсе. Ведь нельзя же считать критикой кустарные поучения Стасова, судившего о живописи «по Чернышевскому» и отождествлявшего русский стиль с Ропетовскими «петушками». Громоподобный бас этого баяна интеллигентской идейности долго заглушал голоса более чутких ценителей, пытавшихся отгородить искусство от литературной проповеди. Но Стасов действительно умел «поощрить талант», заразить общественное мнение восторгом своим; его роль в том исключительном подъеме внимания к живописи, о котором идет речь, не из последних. Умел он, конечно, и браниться по-стасовски, не жалея красных слов. Стасова боялись и предпочитали ему «угодить», тем самым угождая современному вкусу. И казалось — не было на свете ничего значительнее и превосходнее вот этой, столь национальной, живописи; она приравнивалась без колебания к литературным подвигам Некрасова, Достоевского, Толстого, Тургенева. Правда, были и тогда неудачники, которым никак не удавалось попасть в точку. Между ними, например, Н. Н. Ге, вдохновенный художник, хоть и неумелый мастер, оцененный по достоинству лишь очень недавно, притом за «удачи», менее всего им сознававшиеся. Зато сколько дутых репутаций (как мы поняли позже) среди любимцев минуты, сколько скромных талантов, вознесенных превыше облака ходячего, сколько пошлостей, прославленных отзывчивой на «внутреннее содержание» и на броскую выдумку обывательской критикой и «честномыслящими» публицистами… А. Куинджи.
Днепр утром. 1881.
А. Куинджи.
Днепр утром. 1881.
И. Е. Репин как-то в лекции, посвященной А. И. Куинджи, рассказал о поистине потрясающем успехе пейзажей Куинджи, которые появлялись то на передвижных, то для вящего впечатления на отдельных выставках «при вечернем освещении» (керосиновые лампы с рефлекторами, электричества еще не было). Эти неожиданно яркие, но, говоря по правде, сомнительные в художественном отношении красочные необычайности (теперь трудно судить, так они пожухли) кружили головы новизной солнечных и лунных эффектов. Бенгальские огни Куинджи ударяли по сердцам, трогали не меньше, чем в свое время заплаканные глаза «Неутешной вдовы» Крамского и перовские утопленницы. Почитатели не давали покоя автору «Березовой рощи» и «Лунной ночи на Днепре». Всякий раз начиналось какое-то паломничество. На лестнице перед его квартирой становились в очередь: лишь бы побеседовать минутку с «самим Архипом Ивановичем». Оставалось наглухо запереть двери, чтобы работать. Это уж не успех, а прямо стихийное поклонение! Популярность, вплоть до комических черточек, баловала не одного Куинджи. Звезда того же Репина сияла ослепительно. После «Бурлаков» (которых, кстати сказать, так умно и сдержанно похвалил Достоевский) каждое его произведение вызывало осанны, в нем искали и находили то, что считалось признаком высокого творчества: «идею». При этом реализм, сам по себе действительно беспощадный и подчас ярко психологический у Репина, сходил за тенденцию, а тенденция за реализм. Вот это обстоятельство — смешение «гражданственности» и реализма — и обусловило художественный стиль целого поколения жанристов куда менее одаренных, чем Репин (большой, очень большой живописец, несмотря на прирожденный недостаток вкуса, вульгарный пошиб композиции и назойливый анекдотизм). Весь дух школы Крамского, непререкаемого вождя передвижников, хоть и весьма среднего и сухого мастера, дух этой заскорузлой за редкими исключениями живописи, окрашенной изобличительным драматизмом или юмором, — результат в конце концов указанной оценки реализма интеллигенцией. Неприглядная правда жизни, жизни маленьких людей, особенно крестьян (и утеснителей их, помещиков и властей, для контраста), в образах, как бы списанных с действительности, — противополагалась искусству, брезгующему «мужиком», витающему в эмпиреях барского равнодушия к униженным и оскорбленным. Но не забудем, что не только «направленство» решало репутацию художника в эти блаженной памяти времена Стасова, щеголявшего своей радикальной косовороткой. Нет, восхвалялось, хоть, может быть, и не совсем тою же публикой, всякое сюжетное эпигонство. Процветали и авторы, чуждые гражданских мотивов, эстеты по-своему (зачастую наперекор стасовским громам), привозившие из Италии и Парижа полотна с нерусским историческим и бытовым сюжетом. Эти полотна, мы знаем, производили иногда не менее сильное впечатление на Петербург и провинцию, чем доморощенные жанры с тенденцией. Допустим, что чистокровные пейзажисты, например Куинджи, Шишкин, Киселев и др., покоряли современников тем, что изображали нашу, русскую, природу, выдвигая красоты деревни, на которой как бы отпечатлелись века народные, — после долгих лет казенщины и пренебрежения своими смиренными далями в угоду пышной иностранщине. Но чем объяснить потрясающий успех, скажем, Семирадского? Я был еще ребенком в ту пору, однако помню, как прогремела его «Фрина»[4] (написана в 1873 году), заняв почетное место в залах Эрмитажа. Общий голос был, что лучше этакой картины ничего и представить нельзя. Упорные идеологи передвижничества хоть и протестовали, но отдавали должное «гениальному рисунку», «поразительному колориту», «несравненной маэстрии» в этой слащавой панораме, ловко скомпонованной, слов нет, но не вдохновенной ни на грош, пустой, как раскрашенная фотография… Было, несомненно, что-то сближавшее эти столь различные, как будто, исповедания живописи, — художников, казалось бы, глубоко чуждых друг другу: реалистов-народников, с одной стороны, и с другой — эпигонов романтического пейзажа, Айвазовского, например, и протокольно-этнографического Верещагина, и последышей брюлловского академизма, вроде Семирадского, и Константина Маковского, от передвижнических жанров («Похороны», «Масляница») перешедшего к боярским «живым картинам», очень светским портретам и салонной мифологии по модным образцам Парижа. Всем им на родине сопутствовала богиня славы, иные преуспевали и за границей. Всех их соединяло общее в конце концов искусствопонимание, невзирая на кажущуюся непримиримость точек зрения. Это общее и создавало то согласие спроса и предложения на художественном рынке, которое теперь, на отдалении тридцати с лишним лет, представляется столь внушительным расцветом российского искусстволюбия. Публика восхищалась художниками, потому что вполне понимала их. Художники понимали свои задачи, так же как публика. Передвижники, исповедовавшие направленство, были вдвойне понятны: и со стороны чисто изобразительной, и с литературной. Академистов, этнографов, романтиков, салонных мастеров тоже понимали, хоть они и не сеяли «разумного и доброго», а довольствовались одним «вечным». Уровень эстетического мировоззрения был одинаков. Целью живописи всеми равно признавалась «натуральность» изображения. Даже самые ненатуральные, деревянно-жесткие или холодно-приторные авторы были уверены в этом. Портреты должны «вылезать из рам», пейзажи — производить такое впечатление, словно вот открылась в окошке «настоящая» природа; бытовая или историческая композиция создавалась с расчетом убедить, что именно так, «как нарисовано», все в жизни и происходит. Айвазовский (маринист весьма одаренный, но нарядно-пустой) умилял больше всего тем, что вода его морей до обмана глаз похожа на воду; «новобранцы» Савицкого и вытянувшийся во фрунт жандарм, в картине «На войну», были точь-в-точь такими, какими все их могли видеть; «сосны» Шишкина — ни дать ни взять точная копия сосен; южное солнце «Фрины» слепило глаза, а украинская луна Куинджи вызывала «до смешного» иллюзию лунной ночи, особенно на выставке «при вечернем освещении». Ни художнику, ни зрителю не приходило в голову, — такова идиллия дней, — что сходство с «объективной» природой не может быть мерилом искусства уж только потому, что объективность природы есть марево рассудка; что художник столько же творит природу, сколько природа создает художника; что видеть, «как все», в огромном большинстве случаев значит не видеть вовсе; что призвание живописца — открывать то, чего другие не видят; что у живописи — свои, глубокие задачи, лишь смутно угадываемые нами в волшебстве линейного и красочного узора, в откровениях формы и вдохновившей ее мечты, во всем, что мы называем языком мастера, и во всем неизреченном, что уводит в тайники его духа. Кто понимал тогда, что в искусстве красота яви — если не только субъективна, то всегда условна и зависит от культурной зоркости творца и от внушений эпохи? Неудивительно, что ничтожными оказались усилия даже крупнейших, Божией милостью, талантов этого времени, эстетически не зоркого и духовно не культурного. Направленство тут такое же следствие некультурности, как и выбор изобразительных средств. Элементарно отношение к краске, убого воображение, близорука оценка искусства дней минувших. О прошлом русской живописи словно никто и не помнил. Несравненная иконопись новгородская и московская, древние фрески наших церквей служили только предметом археологического крохоборства. Полному забвению было предано творчество великих мастеров XVIII века и начала XIX: их пришлось наново открыть уже в 90-е и 900-е годы. Если добрая традиция не оборвалась окончательно, то благодаря лишь нескольким одиноким путникам по неторным тропам, обходившим большую дорогу моды, и бессознательному чутью самых даровитых, невольно нападавших на потерянные следы. Отношение к западному искусству было так же слепо. Иных «стариков» еще почитали, особенно Рембрандта, Рубенса, Веласкеса, хоть и не понимали главной сути в них: творческой новизны языка и неподражаемого размаха личности. Но среди ближайших предшественников и современников кумирами становились неизменно не те и не за то.
 И. Репин.
Не ждали. 1884–1888.
И. Репин.
Не ждали. 1884–1888.
Когда еще прошумел в Париже «отец натурализма» титан Курбе и пропели трогательную песнь свою о сельской природе барбизонцы[5]: Коро, Добиньи, Труайон, Руссо, Дюпре, Диаз! Правда, не очень-то считались с ними официальные Салоны[6], как вскоре и с родоначальниками импрессионизма — Мане, Ренуаром, Писсарро, Дега, Моне и др. (тоже 70–80-е годы), однако рассмотреть «Барбизон», вдохновиться им можно было, и не покидая Петербург — в Кушелевской галерее… Никто не смотрел и не вдохновлялся. Зато прельщали Ахенбах и Калам. Зато маленькие немцы во главе с Кнаусом влияли сугубо. Не Лейбль, не гениальный Менцель, а Кнаус… Но самым общепризнанным идеалом мастера был, кажется, Фортуни. Сколько раз я слышал от Репина, что по совершенству рисунка с Фортуни никак не сравнится… Рембрандт. А Репин в свое время отлично копировал Рембрандта, — не ему бы упрекать великого голландца за «неправильно» нарисованный следок у трупа в картине «Урок анатомии» (Гаагский музей), на что он отважился, полемизируя с «Миром искусства». Репинское словечко — «плохо нарисованный Рембрандтом следок» вскрывает искусствовоззрение всей эпохи. Рисовать хорошо означало соблюдать академический канон. По этой теории, укоренившейся с тех пор, как существуют академии, законы перевода на плоскость трехмерной формы даны незыблемо, раз навсегда. Художник вправе менять комбинации форм, но контурная передача ракурсов, пропорций, рельефа, особенно — строения тела человеческого, подчинена нерушимым правилам. Это сама истина: природа такая, а не другая, рисунок такой, а не другой… Реализм XIX столетия, мы знаем, во всей Европе возник как реакция против академий (и у нас передвижники начали исходом из кокориновского здания), но реакция коснулась сюжета и композиции по преимуществу: истина канонизованного рисунка не была поколеблена. Истина эта от поколения к поколению успела пустить такие глубокие корни в сознании не одних художников, но и судей их, любителей, которым подпевала ее величество Толпа, — что всякое намеренное отступление смельчака от этой истины встречалось неподдельным негодованием даже наиболее равнодушных к судьбам искусства, как нарушение принципа, освященного всеобщей солидарностью. Погрешности от неумения прощались, бунт — ни за что! Во времена эпигонского, подражательного академизма (хотя бы и под знаменем борьбы за «свободу искусства») особенно ревниво оберегалась канонизованная правильность. Академическим реалистам — а к таковым можно отнести чуть ли не всех видных представителей разбираемой эпохи — блюстительницей канона казалась сама «объективная природа». И они проверяли себя, совершенствуясь в «естественности», очень просто… при помощи фотографий. Привычка искать в природе только то, что видят все, и выражать найденное тоже так, как все видят, лишила даже самых талантливых героев этого времени художнического героизма, без которого ничего долговечного не создашь. Вульгарность зрения, или, выражаясь философским термином: зрительной апперцепции, — иначе не назовешь первородного греха этой живописи, «фотографической» в идеале и потому беспомощной. Покорные догмату натуральности, жрецы ее считали правдой пустую видимость, не понимая уроков подлинно живописного реализма, т. е. правдолюбия, утверждающего не академические зады, а всегда новую и всегда личную выразительность формы. Самый способ писать картины вполне отвечал тогдашней эстетике. Подготовительный этюд с натуры и натурщик являлись ее альфой и омегой. Ничто так не преследовалось, как «отсебятина»: без объективной самопроверки нельзя было ступить шагу. Пейзажный этюд переносился на холст в увеличенном масштабе, а фигуры, помимо общих указаний этюда, писались непременно с моделей, а то и с манекенов, которых облачали в приличествующие случаю костюмы и ставили в позу. Тщательность в этом отношении доходила до мелочей. Но главное-то и ускользало чаще всего: художественная убедительность образа. Натурщик на картине оставался позирующим натурщиком, т. е. тем, чего ни и жизни, ни в воображении не бывает. На холст переносились более или менее живо модели в позах, более или менее «естественно» наряженные, на фоне переписанного без первоначальной непосредственности этюда. Вот почему так предательски отдают маскарадом эти столь документальные жанры. Эскизы почти всегда гораздо выразительнее и картиннее самих картин. Их спасает незаконченность. Видение художника, закрепленное красочным намеком и общим ладом композиции, не стерто рассудочной мертвописью. Вот почему, при сравнении с холстами старых мастеров, сюжетные холсты даже такого таланта, как Репин, неприятно действуют назойливостью движений, ракурсов, «типичных» фигур и выразительных ужимок. Мы отдаем должное таланту, сделавшему все, что от него зависело, чтобы преобразить загримированную модель, заострить притворный, окаменелый жест, вдохнуть неподдельное чувство в лицо, увековечить миг жизни, схваченный на лету зоркой памятью, но, как бы ни подчинялись мы внушению художника, не уйти от досадного сознания, что он связан, что изобразительные средства его ограничены ложными навыками, что он пренебрегает чем-то самым важным, бесплодно растрачивая силы на очень дешевую «правду». Репинский Иван Грозный, судорожно припавший к раненному насмерть сыну, — ярко написанная натура, не больше, так же и его Николай Чудотворец, театрально удерживающий руку палача, и театрально гневная царевна Софья, и смеющиеся натурщики с длинными усами и бритыми черепами, изображающие его «Запорожцев». Видение исторической были всего меньше поддается такому методу воплощения. Но так же и современный быт, перенесенный в картину этим приемом, обретает оттенок донельзя тусклой вульгарности. Художественно не впечатляют передвижнические «живьем» схваченные типы мужиков и чиновников, разыгрывающих бытовые сцены по указке живописца-режиссера. Уж во сто крат убедительнее, долговечнее, хотя бы мечтательные «пейзане» Венецианова. Разве вопрос тут в верности объективному факту? Искусство преображает факты, углубляет и возносит действительность, ту действительность, что существует для всех; потому что живет искусство вне человеческого времени и внутренняя правда его какой-то другой природы, чем наша преходящая явь. Художники во все века работали с натуры. Художественный реализм понятие очень древнее. Парразий и Зевскис прославились реализмом. За тысячелетия до христианской эры чистейшими реалистами умели быть и египтяне. Почти не было эпохи, где бы рядом с искусством стилизующим и фантастическим не пробивалось творчество, черпающее силы в смиренном или дерзком наблюдении природы, — традиция, бесконечно долгая, восходящая к доисторическим временам, к идолам дикарей и к охотничьим рисункам каменного века. Но никогда реализм не падал в эти низины тривиальности, не был так беден пророческим смыслом красоты. Мастера итальянского и французского Возрождения, голландцы, и большие и маленькие, тоже писали натурщиков и уж конечно не были менее наблюдательны и менее опытны технически, чем преемники их в конце девятнадцатого столетия, но, наблюдая натуру и стараясь передать ее возможно правдивее, они знали, что мир чудесен, полон неисчерпаемой, вездесущей красоты и что наследником этого богатства и творцом одновременно является человек в Боге и Бог в человеке. Они умели подражать природе, не отдаваясь в рабство факту, они угадывали в беспорядке линий и красок ритм и гармонию, в безличном хаосе повседневности прозревали строй личности. Они не боялись ни отступлений от рассудочных норм, ни явных несообразностей, когда сердце подсказывало, что так красивее, волшебнее, благодатнее и потому — вернее.
 Н. Ге.
«Что есть истина». Христос и Пилат. 1890.
Н. Ге.
«Что есть истина». Христос и Пилат. 1890.
Вот этой благодати недостает русской живописи в разбираемую эпоху. Ее жрецы никуда не прозревали, ничего не угадывали. В природе видели одну натуру без чудес и без божества. Теоретический нигилизм, который был в моде тогда, куда менее страшен, чем этот нигилизм глаз. Приблизительно в то же время вся Европа переживала гнет плоской психологии, заблудившись в пустынях «точного знания» и безбожья. Мертвящий ветер из этих низин безводных иссушил русские нови. Молодое наше художество заразилось культом материи. Живописцы потеряли способность видеть чудеса, прозревать за предметами души предметов. Любуясь природой, они цеплялись за голое явление, не проникая в художественную сущность, задевая эту сущность только случайно, счастливым ненароком. Предаваясь психологизму, трагическому или комическому, в изображении человека, они считали цель достигнутой, если выходило «похоже», и не подозревали того, что правда искусства и с повод для сравнения с реальностью, a res réalissima[7]. Портреты их поражали сходством, и толпа рукоплескала, узнавая свое впечатление в созданиях искусства: внешний облик такого-то знакомца, имярек. Но почти в той же мере, что и в сюжетных композициях, и на портретах человек оставался натурщиком… «Вот-вот заговорит», — восхищался обыватель: портретист заносил на холст и вставлял в раму то самое, что он, обыватель, наблюдал в жизни. И не без чувства самодовольства обыватель называл портрет гениальным… Впрочем, в области портрета достижения все же бывали гораздо значительнее. Внимание художника меньше рассеивалось сторонними соображениями. Сюжет заключался в самой модели; не надо было ее натаскивать на драматическую роль (хорошенькую горничную Машу — на роль Офелии и черноволосого дворника Степана — на Бориса Годунова). Модель, хотя бы урывками, жила своей подлинной жизнью перед портретистом особенно если он не слишком требовал неподвижной позы. Тайна лица человеческого, единственного, неповторимого подобия Божьего, что так волнует нас в иных портретах древних мастеров (да и в их сюжетных картинах как часто все действующие лица — чудесные портреты!), эта великая тайна личности нет-нет а проглянет сквозь маску «схваченного живьем» современника; нет-нет а свободнее проявится темперамент мастера в выборе тона, блеснет правда не копииста, а творца. Замечательные во многих отношениях портреты дали и Репин, и братья Маковские, и даже Крамской и Перов. Утешают удачи, столь же несомненные, в целом ряде эскизов и этюдов, удачи, за которые многое прощаешь написанным с них законченным произведениям. Суриковский эскиз к «Боярыне Морозовой», из собрании И. С. Остроухова, гораздо убедительнее и живописнее самой знаменитой картины, — несмотря на бесспорную мощь автора, наиболее вдохновенного из плеяды восьмидесятников, — картины, все же отдающей паноптикумом восковых фигур: в грубо театральной колоритности ее с резкими тенями и разливами черноты исчез первоначальный красочный замысел, а вместе с ним и жуть видения-были. Впрочем, Суриков уже принадлежит отчасти к последующему поколению и о нем речь впереди. Непокорная гениальность помешала также Ге сделаться типичным семидесятником, но подготовительные картоны и у Ге, фанатичного и порывистого натуралиста-визионера[8], впечатляют гораздо сильнее, чем его композиции на евангельские темы в натуральную величину. Недосказанностью своей намного красноречивее и некоторые эскизы Репина, — особенно вспоминается мне набросок, кажется акварелью, к «Убиению царевича Грозным», из коллекции Ханенко. Художник долго обдумывал композицию своего кровавого сюжета и остановился наконец на неудачнейшем варианте. Законченная картина, роковым образом, в ту пору оказывалась неудачным вариантом. Не от недостатка таланта — от ложности системы. Всю любовь к своему делу художник вкладывал (передвижники ли не были преданы искусству!) в повествовательное сходство с подлинной жизнью, в суетную выработку наводящих подробностей. Творческое воодушевление расходовалось попусту: в усилии представить все как можно нагляднее и рассказать как можно вернее, не преступив, Боже упаси, запретных порогов, за которыми начинается произвол и грезы. О том, что сама по себе художественная форма (качество и характер найденных живописцем уклонов линий, найденного цвета и последовательности тонов, вплоть до способа наложения на холст красок) является таинственной сутью живописи; что, именно вступая в «запретные» области, за пороги элементарно видимого, — где ничто не требует проверки, ибо все происходит по вдохновенной воле творца, — он, творец, перестает быть только ремесленником, служа своему призванию открывателя красоты, пути тайного к Богу; словом, что живопись есть живопись, — об этом ничего не хотел знать художник. Он верил тем, которые говорили, что явью земной, устроенной по законам точной науки, исчерпывается мир очарований. Он верил, что эта явь ни чуточки не таинственна и что стоит ему тоже сделаться ученым в своей специальности, беспристрастным наблюдателем, и в картинах его откроется истина, которую глупо коверкали прежде суеверные богомазы и неинтеллигентные фантазеры. Нужна только объективная точность формы и, конечно, достойный повод показать свои наблюдения, т. е. интересный, не совсем обычный сюжет, будь то пейзаж или жанр. При этом, конечно, большую и роковую роль сыграла уже упомянутая фотография: природа, действительно объективная, схваченная объективом аппарата. Фотографическая перспектива, фотографическая мгновенность и заодно фотографическая чернота. Тот, кто делал снимки на солнце, прекрасно знает, как характерно подчеркиваются тени объективом. Природа мстит человеку за желание механически воспроизвести ее облик: уродством, карикатурно похожим на правду. Получаются — извращенные бесцветные светотенью отношения красок, извращенная трехмерность и, главное, извращенное, неживое движение, потому что — закрепленное в миге, не существующем для нашего глаза. Все эти уродства фотографических снимков мы встречаем у художников разбираемого периода, в картинах Репина, Прянишникова, Маковских, Савицкого, Верещагина, Лемоха, Максимова, Ярошенко, Неврева, Корзухика, Литовченко, Бодаревского и т. д. Я не могу сказать, что они писали по фотографиям (если и случалось, то, конечно, в виде исключения), но бесспорно: в подготовительном материале, которым они пользовались, были и снимки с натуры. Не надо знать этого, — хотя мы знаем, — чтобы все-таки не осталось ни малейшего сомнения в происхождении многих, очень многих деталей, а подчас и отдельных кусков картины и даже всей композиции целиком. Не так давно пейзажист Крыжицкий кончил жизнь самоубийством, когда был уличен неким жестоким критиком в списывании своих ландшафтов с фотографий. Я не оправдываю жестокости критика (хотя мог ли он предвидеть такое трагическое последствие своего разоблачения?), но, в сущности, факты, на которые указал жестокий критик, настолько обычны, что если бы остальные художники старшего поколения отличались совестливостью Крыжицкого, то, вероятно, ни один из них не умер бы своей смертью. Кто из портретистов доброго старого времени не писал, при случае, портретов с фотографий? Ничем зазорным это и не считалось. «Проверить» по фотографии — входило в число приемов по уточнению рисунка. Любопытнее всего, что, глядя на подобный портрет, исполненный со снимка, и сравнивая его с другими — того же мастера, далеко не всегда скажешь, что в данном случае художник обошелся без живой модели, а просто увеличил самую обыкновенную карточку. Точно так же, когда просматриваешь черные репродукции с пейзажей того времени — Шишкина, Верещагина, Орловского, Волкова, Ендагурова, Киселева и др., не сразу увидишь: живопись или не живопись? Вопрос тут, конечно, не в заимствовании, не в плагиате у фотографической пластинки, а в фотографическом восприятии природы. Я далек от мысли, что вырождение реализма в фотографичность испытала только русская школа 70–80-х годов. Фотографизм — явление характерное для европейской живописи, начиная со Второй империи. Эта болезнь искусства не изжита и по сию пору, хотя теперь модные знаменитости больше не «фотографируют». Все же должно сказать, что ни в одной стране фотографизм художнического восприятия не был таким повальным, как у нас. На Западе живописное правдолюбие эволюционировало в красочный эмпиризм «художников впечатления», импрессионистов, задолго до первых русских plein’air’ов[9]. Параллельно не прерывалась в Европе и традиция монументальной, «большой» живописи. Нам, русским, пришлось отвоевывать с большим опозданием то, что было уже завоевано Западом: право на индивидуализацию формы и освобождение живописи от литературы. Кроме того, на Западе бездуховность изобразительных средств в самое упадочное время не была до такой степени общим недугом; краски не засорялись такой фотографической чернотой; повествовательный реализм не отличался таким безвкусным направленством (что объясняется и особыми политическими нашими обстоятельствами); эстетика прошлых эпох не вызывала столь принципиального отрицания, и обывательское невежество не царило так безраздельно в художественных мастерских. Европейская живопись помнила о своей величавой истории, национальные светочи искусства если и забывались — не надолго; к ним постоянно возвращались искатели новых путей, как бы радикальна ни была их вера. Сознание преемственности и пафос личного начала — эти стражи европейской культуры — оберегали чувство красоты, хотя бы в кругах избранных, от посягательства ложных теорий и дурной моды. Рядом с дурной модой пробивали себе путь и другие лозунги, другие независимые течения.
 Ф. Кнопф.
Сфинкс (Искусство). 1896.
Ф. Кнопф.
Сфинкс (Искусство). 1896.
Запад жил сложною жизнью сталкивающихся правд и противоречий. Доминанта не заглушала аккорда, а то и резких диссонансов. Смена отцов детьми происходила порою не менее бурно, чем у нас, но не сопровождалась с обеих сторон такой ожесточенной враждою. В России все ломалось радикальнее. Горючий материал долго и незаметно накоплялся, и пламя очередного пожара взмывало вдруг каким-то вулканическим извержением. Старому, изжитому не было пощады, и, зная это, старое цеплялось за прошлое свое величие и мстило молодому упорно, сварливо, всеми способами. В смене художественных поколений на Руси радикализм ломки и ожесточенность междоусобия объясняются, следовательно, характером общего русского эволюционно-культурного процесса. Он совершался порывами, скачками и притом на поверхности нации, почти не затрагивая народной толщи. Россия, в значительной степени отделенная стеной от Европы, где волны искусства сменялись с ритмической постепенностью, а если, случалось, выходили из берегов при столкновении друг с другом, то вызывая лишь местные наводнения, не потопы; художественная Россия, не связанная культурно с первобытными массами населения, творящая на верхах, в столичных центрах не поспевавшей за Западом огромной империи; художественная Россия, при Петре утратившая свою византийскую традицию, а при Царе-Освободителе традицию восемнадцатого столетия; новая, по-интеллигентски «не помнившая родства» Россия, хватавшаяся то за случайные образцы европейской живописи, то за пресловутую стасовскую самобытность, ложнозападническая и ложнославянофильская Россия передвижных и академических выставок — оказалась в середине 90-х годов накануне одного из этих испепеляющих «вчерашний день» пожаров. На арену выступило поколение деятелей искусства и художников, которому суждено было не оставить камня на камне от академического реализма и реалистского академизма «отцов» и распахнуть настежь двери в Европу конца века и вместе с тем оглянуться восхищенно на забытые красоты «дедов» и «прадедов». Перед этим поколением, вернее сказать, перед избранными представителями этого нового поколения предстала огромная задача, и эта задача была выполнена с быстротой и увлечением поистине русскими, словно в предчувствии краткости отпущенного историей срока.
 О. Бёрдсли.
Саломея. Иллюстрация к драме О. Уайльда «Саломея». 1895.
О. Бёрдсли.
Саломея. Иллюстрация к драме О. Уайльда «Саломея». 1895.
Пожар загорелся, конечно, не в один день, и я попытаюсь дальше рассказать, как он подготовился в сознании наиболее ярких выразителей той переходной полосы творчества, когда старое, отмиравшее было еще слишком сильно, чтобы движение молодое могло быть замечено и оценено по достоинству. Оно только пробивалось, смутно волновало, не вызывая ни страстных похвал, ни нападков. «Менялся» Левитан; удивлял святорусскими сказками Нестеров; ворожил в провинциальной безвестности, а позже в Москве, кое-как поощряемый кучкой меценатствующих любителей вдохновенный Врубель; созревал передвижник Серов, непокорный преемник Репина и благодарный слушатель Чистякова, и другой ученик этого единственного в Академии наставника, у которого можно было кое-чему научиться, Константин Коровин; кипятился и смущал староверов вольными речами на мюссаровских «понедельниках»[10] экспансивный пустоцвет Ционглинский; ревниво воспитывал в любви и трепете к чистому искусству птенцов своей мастерской маститый Куинджи, изверившийся в себе, не выступавший больше на выставках и в глубокой тайне творивший что-то новое; писал уже свои проникновенные исторические были Андрей Рябушкин; в Москве зачиналось русское «неовозрождение» около Саввы Мамонтова; в Петербурге несколько молодых художников, с Александром Бенуа во главе, изучали сокровища Эрмитажа, набирались нового эстетского духа, скитаясь по заграницам, и готовились к приступу передвижнической Бастилии… Но все это было известно немногим посвященным. До самого конца 90-х годов, насколько я припоминаю, один Левитан поражал смелостью красок и мазка да Виктор Васнецов вызывал горячие споры необычностью тем и новизной подхода к натуре сквозь грезу сказочную (благодаря чему и утвердилась за ним надолго слава гениального новатора, хотя, в сущности, он не был ни нов, ни гениален). Васнецов сделался своего рода символом живописного дерзания. После картин Касаткина и Мясоедова сердце отдыхало на его «берендеевских» декорациях, на его картинах-сказках и на росписи Владимирского собора в Киеве. Я сам разразился в ту пору (уже около 25 лет назад) восторженной статьей об этой росписи, не заметив, кстати сказать, того, что было сделано рядом Врубелем. Впрочем, кто тогда понимал Врубеля? И все-таки «пожар» начался с Васнецова. Недаром его «Три богатыря» появились одновременно на страницах первого номера «Мира искусства» и в первой же книжке конкурирующего журнала «Искусство и художественная промышленность». Оба лагеря признали Васнецова своим. Он ничего не «открывал», но ни от чего и не замыкался. Он чувствовал правду нового, хоть не умел ее выразить. Его переоценили декаденты (жестко отплатившие ему за это впоследствии) и не отвергли староверы… На Васнецове враги столкнулись… чтоб разойтись с тем большей страстностью. Война была объявлена. По выходе первого номера «Мира искусства» (1898) как-то сразу все вспыхнуло: вскрылись накопившиеся противоречия, просияли почти никому не ведомые таланты, подверглись яростной критике любимцы публики, закипела лихорадочная «переоценка ценностей», пахнуло в мирных дотоле резиденциях товарища-передвижника XVIII веком, ампиром, европейским декадентством и русскими декадентствующими кустарями из мастерских мамонтовского села Абрамцева и «Талашкина» кн. Тенишевой. Сразу загорелся сыр-бор, по крайней мере так казалось непосвященным. Сплоченной группой выступили какие-то совсем необычные мастера, которых дружеская критика возносила до небес, а критика враждебная обзывала всеми словцами литературной и подчас нелитературной брани. Сразу оказались меценаты именно у этой «упадочной» живописи, любители чахоточных призраков Нестерова, блудливых барышень Константина Сомова, левитанского импрессионизма, малютинских майолик, сумасшедших врубелевских «Демонов» и «Царевен». И сразу как-то померкли недавние властители дум, вместе со своим направленством и анекдотизмом, и выскочили к ужасу правоверной интеллигенции некие новые интеллигенты, правда немногочисленные, но смелые, оригинальные и широко образованные, которые начали все толковать «наоборот». Идейное содержание было объявлено зловреднейшей ересью живописи, на столбцах дягилевской «хроники»[11] появились длинным списком имена чуть ли не всех корифеев столь популярной национальной школы с кратким указанием на то, что им не место в музеях, и в то же время откуда-то из кладовых музейных, из фамильных особняков и дворцовых собраний выглянули на свет Божий отечественные светочи времен Людовиков империи, о которых не вспоминало больше неблагодарное потомство. И сразу Петербург из некрасивого, «умышленного», как сказал Достоевский, города[12], заклейменного казенщиной ненавистной памяти Аракчеева и Николая Павловича, превратился в красивейший из городов Европы, в неподражаемый Санкт-Петербург Великих Петра и Екатерины и Благословенного Александра. И повеяло из-за границы всеми красочными очарованиями балованной современности: английскими туманно-красочными пейзажистами и прерафаэлитами[13], французской батиньольской школой, фантастикой немецкого модернизма с Бёклином, Штуком и Максом Клингером; повеяло богемой Латинского квартала, веселым язычеством молодого Мюнхена, порочной изысканностью Бердслея и всеми противоречиями европейского бунта — и морализующей мистикой Метерлинка, и мистическимимморализмом Ницше, и эстетством нового Брюмеля, Уайльда, и религией «искусства для искусства» поэтов-парнасцев[14], символистов, верлибристов, и проповедью индивидуализма à outrance[15], и стилизацией… Вся эта новизна привилась в России удивительно быстро, несмотря на дружное противодействие «стариков». Кто из них в счастливые дни передвижных триумфов мог думать, что из мастерской Репина, здорово живешь, выскочит мужичок Малявин и развернется во всю русскую ширь такими кумачовыми вихрями, что голова от них закружится и у привыкшего ничему не удивляться Парижа? что сын известного хранителя Эрмитажа А. И. Сомова, человека старых правил в искусстве, юноша-Сомов заговорит неожиданно на странном своем языке о кисейных девах и затянутых в рюмочку кавалерах 30-х годов, да так заговорит, что заткнет за пояс самых переутонченных петиметров декадентского Запада, оставаясь при этом донельзя русским мечтателем-баричем, по-русски задумчивым, неугомонно-пытливым и почти задушевным? что на берегах Невы вождем целой школы стилистов и графиков станет вдруг художник, которого родина как будто вовсе не Петербург, а Версаль Короля-Солнца, Рим Бернини и Венеция Казановы и Пиетро Лонги, и что этот острый художник, блестящий ученый, пламенный театрал и декоратор с нерусской фамилией, Александр Бенуа, несмотря на все свое тяготение к маскараду великого века и космополитические теории, окажется гораздо более русским, более петербуржцем, чем живописцы-интеллигенты, писавшие гоголевских чиновников и купчих Островского по Кнаусу, Дефреггеру и прочим дюссельдорфцам? что ученик Чистякова, примерный рисовальщик с традиционных гипсов, автор строгих «академий» акварелью, которые сохранялись в музее Академии художеств, очутившись на свободе, в какие-нибудь три-четыре года сожжет свои академические «корабли» и после непонятого труда, подвижнического, одинокого, полного мучительных срывов, просияет немыслимым великолепием своего «Демона»? Кто ожидал откровений почти неведомого, гениального, безумного Врубеля? Кто ожидал и того солнца, что осветило внезапно холсты наших пейзажистов, набравшихся смелости у импрессионистов Парижа, — солнца, которому мешали сиять коричневые тени вчерашних законодателей «колорита»? Кто бы сказал, зная ранние, передвижнические портреты Серова, хоть и отмеченные уже печатью одному ему свойственного мастерства, что он, вместе с Левитаном, откроет смиренную красоту нашей деревенской природы и, восприняв уроки западных учителей и русского европейства, достигнет в портрете психологической четкости и мастерства, каких редко достигали и крупнейшие портретисты Запада? Что предсказывало столь буйный расцвет нашего декоративного, вернее — декорационного искусства, вобравшего в себя формы и краски всех эпох и стилей, от Византии и Персии Сассанидов до пудреной роскоши своих и чужих придворных парадизов, от Древнего Крита до русского народного лубка? Ведь в этой области, театральной, сценически живописной, петербургские и московские «декаденты» показали неожиданно способность свою не только учиться у Европы, но и учить Европу. Повторяю, все это случилось на удивление быстро, головокружительно! Можно сказать, «оглянуться не успела» художественная Россия на свое прошлое, не успела заучить как следует имена великих зодчих екатерининских, елизаветинских и александровских времен, не успела вспрыснуться «живой водой» современного французского гения, преодолеть влияние нудных немцев-указчиков и оперно-слащавых итальянцев — как стала самостоятельно творить, завоевывая область за областью давным-давно совершенно не разрабатывавшиеся у нас отрасли искусства: книжное украшение, иллюстрацию, гравюру на дереве, плакат, мебельное производство, майолику, фарфор, вышивки и т. д. Одновременно началась и огромная художественно-историческая работа по приведению в известность памятников национального прошлого, по систематизации сокровищ старины, по изучению истории родного искусства. Творческий энтузиазм этих лет, первые яркие удачи деятелей, заложивших основание последующей художественной культуре, — красивая страница нашей новой Истории, трагически оборвавшейся теперь в дни великой смуты. Новое — подлинное — русское европейство зачиналось в те годы, — они совпали как раз со столетней годовщиной величайшего русского европейца, Пушкина. Был национальный порыв, была мечта о грандиозном здании державной России, о здании чудесном, об эстетическом увенчании ее веков. Пусть были и ошибки, даже грубые ошибки, и преувеличения, и самоопьяненностъ успехом, и дилетантство, и снобизм в этом увлечении эстетикой, и чрезмерность в хуле на ближайших предшественников, и недостаточная мудрость в оценке собственных сил, пусть рухнуло без остатка и само величественное здание, воздвигнутое самонадеянной грезой, — движение, о котором я говорю, останется доказательством великих возможностей, таящихся в русском просвещенном сознании.
 Г. Моро.
Видение. 1874–1876.
Г. Моро.
Видение. 1874–1876.
Группа художников и литераторов (Мережковский, Гиппиус, Розанов, Сологуб, Минский, Бальмонт), вместе с несколькими меценатами, объединилась в конце 90-х годов около журнала «Мир искусства»[16]. Под этим же знаменем начались тогда выставки, которые устраивал сперва единолично С. П. Дягилев, а затем «Союз»[17] самих художников, потребовавших прав «республиканского» образа правления. И журнал и выставки сыграли очень большую роль в развитии русского искусства, — в развитии того направления, какое оно приняло и каким возглавлялось вплоть до последних лет перед революцией. Нельзя назвать, однако, «Мир искусства» определенной школой живописи, нельзя приписывать его деятельности четко очерченных живописных задач. Мирискусники умели убедительно доказывать, чего не надо делать художнику, но не указывали как надо делать. Приемлемым, нужным, желанным было признано все яркое и самостоятельное, все вызванное к жизни исканием красоты и верой в неограниченные права формы. «Улыбкой божества» назвал искусство Дягилев во вступительной статье своего журнала, и это определение действительно выразило тот эстетствующий гуманизм, которым проникнулись дягилевцы. В этом редакторском вступлении были намечены пути и пристрастия людей, убежденно тяготевших к «последним словам» европейской современности и вместе с тем влюбленных в художественные сокровища национального прошлого… и, конечно, решительно отрицавших кумиров вчерашнего дня, за исключением двух-трех: Сурикова, Ге, Репина (последний даже примкнул было к «Миру искусства», правда ненадолго). Я охарактеризовал выше наш академический реализм, выпукло представленный передвижничеством, и намеренно подчеркнул его успех у публики 70–80-х годов и несостоятельность изобразительной его догматики (не настаивая на достоинствах отдельных произведений и мастеров) именно для того, чтобы ярче обозначились контуры пришедшего на смену передвижничеству и глубоко враждебного ему искусствовоззрения. Резкое осуждение старого было неизбежно. Им определялось отчасти все содержание новой веры. Знак минуса убежденно ставился там, где прежде ставили плюс, и наоборот, все, что отвергалось прежде, как антихудожественное «кривляние» или эпикурейское баловство, теперь особенно поощрялось. Форма была провозглашена владычицей живописи, и приветствовались все уклоны формы от обычных навыков, все подходы к живописи «не с того конца», все изощрения, хотя бы явно переходящие в парадоксальную изнеженность и в любительский маньеризм. Культ натуры заменился культом стиля, дотошность околичностей — смелым живописным обобщением или графической остротой, сугубое приверженство к сюжетному содержанию вольным эклектизмом, с тяготением к украшению, к волшебству, к скурильности исторических воспоминаний. Впрочем, нет возможности определить точно эту живопись, быстро разросшуюся во многих направлениях. Лозунгом «Мира искусства» была свобода: индивидуализм, неограниченный выбор средств, самодержавие творца. Вкусы дягилевцев в области иностранной живописи были самые разносторонние. Избранными вместе оказались и величавый символист Сорбонны Пюви де Шаванн, и неподражаемо едкий рисовальщик парижских балетных «крыс» Дега, и феерически салонный Бенар, и плеяда солнечно этюдных импрессионистов, и великий Менцель, и казавшийся великим Бёклин, тогда еще не развенчанный Мейер-Грефе, и Штук (о них горячие статьи писал Игорь Грабарь, корреспондировавший в «Мир искусства» из Мюнхена), и другой немец реалист pur sang[18], размашистый и черствый, как все современные немцы, Либерман, и еще более размашистый реалист, швед Цорн, и ядовито-чувственный график Обри Бердслей, типичнейший сын века и той Англии, о которой кто-то сказал, что «в пороке она еще лицемернее, чем в добродетели», и многие другие баловни славы, которых тогда Россия узнала впервые. Так же разнообразны были и произведения русских экспонентов «Мира искусства». На выставках рядом с двусмысленными видениями Сомова появлялся помолодевший Репин, которого дягилевцы почитали за горячие краски, невзирая на явную старомодность его «сочного» натурализма; рядом с ампирными виньетками Лансере и версальскими импровизациями, тоже просившимися на страницы роскошно изданной книги Александра Бенуа, ослепляли густо вылепленные маслом, безудержно алые, пунцовые, вишневые, цвета барбариса, маков и полевой гвоздики, сарафаны неизменно красных, кумачных малявинских «Баб»; рядом с русскими сказками Малютина и Головина, проникнутыми мечтой о Древней Руси и дилетантизмом скороспелых самородков, висели доведенные «до точки» портреты Серова, мастера, прежде всего говорившего на разных языках своего искусства о ценности не живописных исканий, а найденной формы, и тут же приводил в недоумение даже самых смелых новаторов пламенно искривленный, еще непонятый, замкнутый в волшебном мире своем Врубель. Нет, это была не школа и не доктрина, а «всеприятие вкуса» и, если угодно, художественный авантюризм, не боявшийся ни противоречий, ни любительства. Одно всех связывало — ненависть к обывательской рутине, к будням рассудочного и отсталого ремесла и к пошлости дешевого ловкачества, вера в праздник искусства и в самоутверждение личности художника через красоту, которую он увидел и запечатлел полноправно. На смену передвижникам, проповедникам полезной живописи и объективной «правильности», ревнителям «здравого смысла» и бытового анекдота и последышам академизма, подчас очень нарядным, но внутренне пустым, пришло поколение энтузиастов творческой «бесполезности», субъективного искания, неожиданных парадоксов цвета и стиля… поколение созерцателей поэзии минувших веков. Переворот совсем в русском духе: скачок в будущее, взрыв накопленных за долгие годы дремавших сил. И конечно — взрыв на поверхности, как все дотоле бывшие взрывы нашего культурного бытия. Безусловно чуждым оставался этот праздник искусства не только народным массам — с ними по-прежнему никто не считался, — но и той большой интеллигентной публике, которая не могла угнаться за произошедшей переменой вкуса и негодовала на ее глашатаев. Успех этого праздника, также несомненный, никак нельзя, однако, сравнить с тем благодарным признанием семи- и восьмидесятников, о котором я напомнил. Загоревшись радугой эстетизма, далекого от насущных злоб дня и от привычных представлений интеллигента о «живописной правде», русское искусство наступавших 900-х годов как бы оторвалось от широкой общественности и от разросшихся художественных кругов, которые продолжали жить если не направленством изжитого передвижничества, то во всяком случае близкими ему формами опасливо подражательного новаторства, которое встречало одобрение признанных авторитетов. Идиллия была нарушена, конечно, и в этих кругах. Академическая молодежь, после реформы Высшего художественного училища[19], набралась храбрости и к профессорам, руководителям мастерских, проявляла не прежнее почтение; более даровитые из учеников то и дело перебегали в лагерь «декадентов» — сам Репин, хоть вскоре и раскаявшийся, показал дурной пример, выступив раз или два на выставках Дягилева. Выбор иностранных картин, которыми просвещал отечество этот неутомимый и блестящий arbiter élegantiarum[20], тоже не мог не влиять на вкусы; влияли и запальчивые статьи Александра Бенуа, говорившего часто то, о чем смутно догадывались и непосвященные… Но все же переубедить толпу и угождавших ей «жрецов искусства» было тем труднее, чем изысканнее было искусствопонимание новых жрецов. Да и «старики» не складывали оружия, пуская в ход все средства обороны и нападения.
 П. Гоген.
Женщина с цветком. 1891.
П. Гоген.
Женщина с цветком. 1891.
Я уже упомянул о появившемся одновременно с «Миром искусства» консервативном журнале «Искусство и художественная промышленность»[21]. Издание, поддержанное Обществом поощрения художеств[22], началось торжественно, с необычайной роскошью иллюстраций, бумаги и заставок в старорусском стиле с большим числом сотрудников и широкой программой. Мобилизованы были все силы. Редакция позаботилась о разнообразии материала, не чураясь новизны, имея в виду и педагогические, и широкопросветительные цели, интересы археологии и нужды ремесленников. Но сразу почувствовалось, откуда ветер и на чью мельницу вода. В первом же выпуске была напечатана целая поэма «брату-передвижнику», по случаю двадцатипятилетнего юбилея товарищества. Это обстоятельство больше, чем что другое, обрекло предприятие Общества на полнейшую неудачу; однако издание само по себе, прозябавшее под редакцией Собко довольно долго, сплотило ряды антидягилевцев и, хотя никем не читалось, потому что читать в нем было нечего, противодействовало попыткам «декадентов» завести свои порядки и в официальных учреждениях (музеи, художественные училища, охрана памятников старины и т. д.), и на поприще прикладного художества… Впрочем, журнал Собко может быть и ни при чем, он действительно прозябал. Но далеко не прозябали власть имущие староверы, которые считали допущение художественных новшеств чуть ли не государственной опасностью! Позиции остались за ними, за теми, которые занимали их раньше. Борьба, выигранная «Миром искусства» на просвещенных верхах, была, в сущности, проиграна в масштабе национального строительства. Не удалась реформаторская деятельность кн. Волконского и Дягилева в Мариинском театре[23]. Александру Бенуа, блестяще начавшему журнал Общества поощрения «Художественные сокровища России»[24], пришлось уйти, передав редакционный портфель Адриану Прахову, блестяще похоронившему это красивое дело (оно возродилось, уже в 1917 году, кружком любителей коллекционерства и старины, в форме художественно-исторического журнала «Старые годы»[25]). Заведование Императорским Эрмитажем наследовалось по-прежнему представителями сановной аристократии. Официальные заказы, на которые не скупился двор, попадали в руки модных рутинеров, порою очень невежественных, плодивших монументальные уродства и портивших прекрасные памятники столицы, несмотря на вопли молодых зодчих, заразившихся от «Мира искусства» любовью к старому Петербургу. Только значительно позже атмосфера недоверия к мирискусникам разрядилась настолько, что они стали если не направлять художественные события, то хоть заметно влиять на «сферы», от которых в последнем счете все зависело. Но к тому времени поугас пыл зачинщиков движения, и потускнела их вера в торжество своей правды, и разъединились усилия «молодых». Жизнь брала свое. Наметились новые течения, оппозиционные «петербургскому» эстетизму, который, в свою очередь, оказался уже отсталым. Новые волны нахлынули с Запада, на этот раз воистину разрушительные, таившие в себе семена буйных всходов такого художественного революционерства, перед чьим радикализмом побледнели все дерзания «декадентов», обвинявшихся теперь в том самом академизме и анекдотизме, с которыми они так горячо боролись. Причиной этой неудачи мирискусников, которую вряд ли вознаградило и запоздалое признание их заслуг властью уже после революции, явились не только внешние обстоятельства, так сказать, историческая обстановка, на фоне которой протекала их деятельность, но также грехи самой этой деятельности. Талантливости было много, и критического задора, и многостороннего вкуса. И все же наличные силы не соответствовали грандиозности задач. Для окончательной убедительности недоставало ни морального упорства, ни трудолюбия. Работа «Мира искусства» не была подвигом, профессиональным подвигом, а скорее увлекательной игрой, эстетическим барством с оттенком пресыщенности, славолюбивого легкомыслия и гурманства. Был еще и оттенок презрительного снобизма по отношению к инакомыслящим и «непосвященным», и нежелание снизойти до толпы, заняться популяризацией новых идей, пожертвовать временем на «малых сих» и пойти навстречу менее просвещенным, но, может быть, не менее искренним по-своему любителям художеств и просвещения. Россия чутка к сердечности учительства. Снобизм не одного «Мира искусства», но и всего русского новаторства только отдалил от него и без того далеких, а в самой среде новаторов обострил самолюбия и личные притязания. Не проповедуя доктрины, в собственном значении слова, мирискусники, поставившие себе такие широкие, такие патриотические цели, оказались тем не менее не чуждыми кружковой нетерпимости, которая явилась вскоре главной причиной и расколов в их рядах, и вражды между передовым Петербургом и передовой Москвой, и безвременной смерти журнала Дягилева, и удаления его самого с художественного поприща в России на поприще устройства русских балетных сезонов за границей. Его роль вдохновителя молодых художников и чуткого исследователя старых отечественных мастеров окончилась уже в 1905 году, после устроенной им в Таврическом дворце выставки русских портретов, не сравнимой ни с какой другой по художественному значению и историческому интересу. Издать эту в своем роде единственную портретную галерею, хотя были возможности и нужные средства, он так и не удосужился. Не знаю, сохранились ли в целости хотя бы фотографии, в свое время снятые, но многие оригиналы, вывезенные Дягилевым и его помощниками (между которыми тогда уже выделялся талантливейший барон Н. Н. Врангель, умерший в годы войны) из дворянских поместий России, погибли безвозвратно в разрухе и разгромах революции. Таким образом, никогда уже не довершится этот недостроенный памятник русской живописи. Я указываю на этот случай как на пример недостаточной последовательности усилий, которые должны были укрепить славу нашего художественного наследия и тем самым — кто знает? — укрепить и все здание культуры нашей, что обрушилось так безысходно трагично, подорванное, сметенное грозным обвалом народных масс… Ничего не изменилось бы, разумеется, будь Дягилев менее страстным любителем балета и заграничных лавров… Но разве он один бросил начатое, не сдержал обещаний, уклонился от дела, быть может, не сулившего скорой награды? Разве не все мы, принимавшие участие в этом культурном зодчестве, от которого всегда зависит так много для бытия национального, мы, воспевшие столицу Великого Петра и мечтавшие увидеть ее очищенной от вандализма бездарных царствований, вновь преображенной трудами вдохновенных строителей, в блеске и славе, какими венчали ее «дней Александровых прекрасные начала», мы, верившие в миссию европейского Петербурга, великодержавного сына Москвы, наследницы Новгорода, чьим религиозным творчеством мы восхищаемся не меньше, чем светской пышностью наших барокко и классики, — разве все мы исполнили до конца то, что было подвигом искусстволюбия во имя родины? Россия осталась за нами страной недовершенных усилий и недостроенных памятников. Мы сумели полюбить ее прошлое, поняли огромное значение преемственности в жизни народа и поняли европейскую сущность русского гения, воспринявшего, вместе с христианством, идею творческой личности и приобщенного, — сперва через Византию, а с XVI века и через ближний и заморский Запад, — эллинистической традиции (правда, заглушенной «татарским» бытом, но живой в нашем древнем искусстве)… Мы загляделись в окно, прорубленное царем-плотником, на «страну святых чудес»[26], как сказал Хомяков, на «нашу вторую родину»[27], как подтвердил Достоевский, и захотели праздников искусства, — мы знали, что нет более могущественных доказательств культурной правоты. И нам отчасти удалось заставить себя слушать. Не прошло десяти лет после первой выставки «Мира искусства», как нельзя было узнать русского художества и русской художественной культуры. Помимо завоеваний в области живописи, скульптуры, театра заложено было прочное основание истории русского искусства. Ее вовсе не было прежде, если не считать очень специальных исследований по истории церковной археологии, печатавшихся Академией наук и Археологической комиссией. Появился ряд фундаментальных сочинений и по всеобщей истории искусства. Эрмитажные собрания, вызывавшие любопытство одних знатных иностранцев, стали предметом изучения для целой группы русских ученых. На книжном рынке появилась, наконец, художественно изданная книга и расцвела русская графика: сразу мы чуть ли не опередили в этом отношении Европу, где современная машинность, фабричная рутина лишили книгу былого графического очарования. И далее, какое возникло множество хранилищ красоты и частных собраний! Какие невиданные и на Западе выставки, например упомянутая «Таврическая», или «Елисаветинская», устроенная Врангелем в Академии, или «Сто лет французской живописи» по случаю годовщины двенадцатого года. И далее, какой обещающий рост архитектуры! После временного увлечения разудалой декадентщиной (особенно в Москве) и финско-шведским модерном (в Петербурге), в то время как на Западе зодчество застывало на шаблонно-эклектической нарядности, на уныло казарменном доходном комфорте и дешевой уютности особняка-виллы, молодые русские зодчие, выученики прекрасно поставленного архитектурного отделения Академии, возрождали классику, проникаясь гением раннего Ренессанса и продолжая дело наших несравненных строителей XVIII и начала XIX веков: Старова, Воронихина, Захарова, Казакова и др. И тем не менее я возвращаюсь к моему вопросу: все ли было сделано нами и так ли сделано, как нужно, чтобы не распалась храмина, чтобы не расшатали ее годы великого испытания огнем и мечом? Нет, не все и не так. Передовая художественная Россия жила отъединенной жизнью, поглощенная внутренней рознью, чуждаясь широких кругов населения. Буржуазия, к которой естественно переходило государственное первенство, приобщаясь новой эстетике, — надо же сознаться, — не крепла духовно и нравственно, а только заражалась эпикурейским снобизмом, тогда как в искусстве нарастала волна дикого бунта, стирая чувство национальных целей, и беспомощно недоумевала толпа непричастных зрителей, не направляемая ничьим бескорыстным учительством. Я не говорю о народных массах, до которых было далеко… Да ведь не эти массы повернули революцию в пролетарское русло: повернула все та же полуинтеллигенция российская, напичканная Марксом; ей удалось вырвать «бразды царей» из слабых рук культурного меньшинства. Вот эту-то стихию мы проглядели, с ней не считались, от нее не уберегли святыни. Демократизация была просто не в моде на эстетических башнях. Насадителям изысканного европейства не было дела до толпы непосвященной. Тешась своим превосходством, самодовольно замыкаясь на Парнасе и взращивая орхидеи в теплицах, «посвященные» брезгливо сторонились улицы и угарных фабричных закоулков. Не сознавали грозы снизу, озабоченные местничеством на верхах. Легкомысленно воображали, что в России дозволительны все «роскоши» Европы, что в России можно делать историю культуры в «великолепном уединении» эстетствующего полубарства. Поистине вина во всем случившемся — на всех нас. И теперь, вспоминая о заслугах в насаждении красоты, которой, мечталось, завершится в веках здание Петра, не скроем от себя и собственной немощи. Старая интеллигенция называла нас реакционерами. Это неправда. Между нами реакционеров не водилось. Но равнодушных, себялюбивых, не самоотверженных, не сознававших долга перед Родиной, было много. Тот «взрыв на поверхности» русской культуры, которым началось новое столетие, оказался в значительной степени «огненной забавой». Он не зажег сердце нации. Что делать! Россия всегда жила по преимуществу сердцем. Победить это сердце, возвысить можно было, только вдохновив искусство чем-то большим, чем… изысканность вкуса и самодовлеющая форма. Были же века, когда русское национальное чувство горело восторгом красоты! И как отразился этот восторг в благодатной красоте росписей церковных и иконописных школ! И мы сами за несколько лет до войны разве не преклонились перед искусством иконы, узнав в нем просветленный лик своего народа? Мы пытались строить будущее, но едва заглянули в этот лик и не научились великой любви… Новая интеллигенция повторила грехи старой, преклонясь перед гением Европы, не исполнила завета наших провидцев — Пушкина, Гоголя, Достоевского, Александра Иванова: не освятила красоты. Были одинокие попытки, не было общего подъема. И взыскуемый Запад обратился против нас, и остались недовершенными труды, недостроенными памятники, непобедившим искусство и неспаянной душа нации… Вот раскололась она, и все минувшее кажется каким-то наваждением: и великодержавие Петра, и Старый Петербург, и древняя Москва, и мечты о несбывшейся славе… Однако вернемся к живописи. Ни в чем ярче не сказываются возможности народа, как в искусстве. Движение так называемого модернизма русского, несмотря на все, что говорит против него, отразило столь большие возможности в нашем национальном духе, что малодушием было бы и слепотой перестать верить… мечтам. Народ, умеющий на верхах своих так щедро творить, не может не найти себя, хотя бы ценой невознаградимых потерь!
II Новаторы переходной полосы
От старых форм к новым. — Сближение нескольких непохожих художников.
— В. Васнецов, Суриков, Нестеров. — Рябушкин. — Малявин. — «Не ждали» Репина. — Серов.
Может быть, и неосторожно с моей стороны связывать в одном обобщении художников, столь разных по характеру творчества, как Васнецов, Суриков, Серов, Рябушкин, Малявин, Нестеров, а попутно и ряд других, менее значительных, хотя подчас и не менее оригинальных, — называя всех вместе «новаторами переходной полосы», невзирая на то что по времени расцветы их не совпадают, и, следовательно, говоря о «переходной полосе», я разумею не определенную эпоху, а понятие довольно зыбкое: некое переходное состояние живописи в ее устремлении от старых форм к новым… Обобщать всегда неосторожно. Каждый мастер есть особый случай, даже когда принадлежит к группе, объединяемой резким школьным признаком. А тут ведь не может быть речи ни о какой общей школе. Напротив того, «разношкольность» большинства перечисленных мастеров не подлежит сомнению. Если отнести Васнецова и Сурикова, с очень существенными оговорками, к передвижникам, то Серова никак не отнесешь, хоть реализм его — от Репина, и тем менее — автора стилизованных «Русских женщин XVII века в церкви» и «Чаепития» Рябушкина, или святорусского мистика Нестерова, или реалиста красочных вихрей Малявина… Что же сближает их друг с другом? Я отвечу: то же, что друг от друга отдаляет, — стремление, потребность, бессознательное и сознательное усилие «забыть» то, чему выучили их Академия и «Передвижные», дабы обрести свой язык и на нем выразить свою индивидуальность. Пользуясь математической метафорой, можно сказать, что пути их творчества пролегают по линиям расхождения от одного общего центра: от той «натуральной», «объективной», обязательной правды изображения, которая считалась непререкаемой истиной в дни предшествующие. Все они именно на путях от него, от этого центра, и каждый между тем кровно связан с ним. Тут именно переход от старых форм к чему-то иному, к иным, необычным воплощениям живописного восприятия. Тут преодоление, порой мучительное, унаследованных от «вчерашнего дня» навыков, искание традиции подлинно художественной и заимствования невольные и вольные из разных источников в процессе выработки личной выразительности. И, однако, нет тут не только прямого разрыва с этим прошлым, но нет и сознанной до конца необходимости разрыва. Уйдя от передвижнической веры, художники, о которых речь, внесли в свое новаторство столько элементов этой веры, что является оно, сплошь да рядом, лишь «новой редакцией» первоначального издания. Старая форма, крепко вросшая в сознание, целиком или частично повторяется в более или менее неожиданных комбинациях, внешне преображенная и внутренне та же самая. Отсюда шаткость отношения к ним критики — и консервативного и модернистского лагеря. Оба лагеря признавали их, но с оговорками… противоположного характера. Ценители «правые» готовы были по каждому поводу обвинить их за «левизну» в измене художественным устоям. Между тем в «левом» стане им не прощалась старая закваска, и, вознесенные сначала за эту «измену» передвижничеству, впоследствии они жестоко развенчивались. Я уже упомянул о том, что Васнецов в конце 90-х годов слыл одновременно столпом среди передвижников и чуть ли не гениальным провидцем у мирискусников. Однако Стасов никак не мог простить ему «мистицизма», отдавая должное его таланту орнаменталиста. С другой стороны, увлечение дягилевцев было очень недлительно, и уже в 1902 году в «Истории русского искусства» Александром Бенуа горькая правда о Васнецове высказана довольно определенно. Тот же Стасов величал Нестерова за позднейшие его работы свихнувшимся декадентом, но Нестеровым скоро перестали восхищаться и те передовые деятели и художники, мнением которых он особенно дорожил… Это глубоко обижало его. Он выступал на суд публики все неохотнее, говорил, что «пора бросить живопись». К выставке своих произведений (в 1907 году, в доме Лидваля на Б. Конюшенной) он готовился, как к смертному приговору. Выставка имела успех, большой материальный успех. Но «гвоздь» ее — «Святая Русь», огромный холст с Христом, благословляющим православный люд, что с котомками из далей сельских течет ко Спасу на богомолье, — вызвал резкую критику всех компетентных кругов. После этой неудачи Нестерова я что-то не припомню новых его картин (за исключением икон, главным образом для церкви в Абастумане, которыми никто более не очаровывался). О сверстнике Нестерова и товарище его по московскому Училищу живописи и ваяния Рябушкине и говорить нечего. Он начал блестяще в 1890 году конкурсной картиной на золотую медаль — «Распятие». Хотя Совет Академии медаль и не присудил (для Совета было слишком талантливо), поддержали молодого художника с разных сторон: Репин, бывший в оппозиции к дореформенной Академии, Третьяков, умевший по-меценатски использовать обстоятельства, который купил «Распятие» за пятьсот рублей, и сам президент, великий князь Владимир Александрович, назначивший художнику стипендию на заграничную поездку. Однако Рябушкин не пошел по торной дороге; и за границу не поехал, и советами Репина пренебрег. Его неудержимо влекло к другому берегу, от легко давшегося школьного мастерства — к упрощенной форме, к стилю. На «передвижных» он не привился. Староверам казалось, что он постепенно разучивается письму и рисунку. Его «Петр на Неве» (1896) и «Семья купца в XVII веке» (1897) напоминают лубки. Рябушкина тянуло к «Миру искусства». Но и там его только терпели. «Иоанн Грозный с приближенными» уже за год до смерти мастера, несмотря на крупный успех картины «Едут», приобретенной перед тем музеем Александра III, был отвергнут выставочным жюри «Мира искусства» как произведение малограмотное. Я хорошо помню этот случай. Рябушкин был в отчаянии. Он немедленно предал холст сожжению, как ни уговаривали друзья. Впрочем, и раньше немало сжег он своих произведений, болезненно сознавая, что от одних отстал, а к другим пристать не может. Только спустя несколько лет об этом необыкновенно одаренном художнике, умершем в 1904 году почти в безвестности, опять заговорили, и некоторые творения его заняли почетное место в истории русской живописи. Гораздо устойчивее была репутация Сурикова и Серова. Из передвижников Суриков как был, так и остался на исключительном счету у «молодых». Никто не отрицал действительно вдохновенной мощи его исторического проникновения. Но о Сурикове-живописце мнение сложилось далеко не столь лестное. Очень многое из того, что он делал, встречало протесты в обоих лагерях, а порой — то недоуменное сожаление, которое горше всякого отрицания. Одних смущал уклон к субъективизму, к «ненатуральности» образов, других (особенно в портретах) — явные недочеты формы… С Серовым, в сущности, повторилось то же самое. Любовались им все, да и нельзя было не залюбоваться изумительным его мастерством и остроумнейшей находчивостью во всех жанрах, — и, однако, до конца дней своих он вызывал нарекания то «правых», то «левых». Любопытно, что и те и другие хотели видеть реалиста в Серове, а его манило к синтезу, к стилю и даже к гротеску. В портрете он любил подчеркнуть, упростить, заострить правду модели, а в исторических композициях примыкал открыто к «ретроспективистам» «Мира искусства». Это тяготение Серова прочь от «устоев» реализма, не менее явное, хоть и несравненно более осторожно умелое, чем перерождение Рябушкина, было ли достаточно понято? Серовскую стилизованную «Иду Рубинштейн» так, кажется, никто и не переварил до конца. Я укажу еще на судьбу младшего из этих обращенных реалистов, тоже крупного таланта, Кустодиева. Именно реализмом, грубоватым, но насыщенным силой краски и «чувством воздуха», поражал его семейный портрет Поленовых на всемирной выставке в Венеции. И в ряде других портретов мирискусник Кустодиев не побоялся остаться тем, чем, вероятно, создал его Господь Бог: зорким естествоиспытателем натуры, свободным от протокольной сухости письма, умеющим по-импрессионистски обобщить свою задачу. Но к стилю, к красочной и линейной схематизации, к пестрому русскому лубку тянуло и его все больше и больше. Иные «гуляния» и «ярмарки» Кустодиева на последних выставках «Мира искусства» уже целиком относятся к разряду тех полуграфических изысканностей, которые характеризуют молодую петербургскую школу (о московских новаторах речь впереди). Не подлежит сомнению, что и Кустодиев не обрел на своем отчасти двойном пути полного признания в самой среде своих единомышленников. По поводу иных его портретов между членами жюри «Мира искусства» возникали горячие споры, которые, конечно, не доставляли ему удовольствия. Малявин, тот бурно обижался… И все-таки его хвалили все сдержаннее и условнее. Первыми своими красными «Бабами» он произвел сильное впечатление. Яростная фантастика цвета, виртуозный мазок, солнце, веселье, здоровье «от земли» тешили даже скептического зрителя, недоумевавшего, куда же, наконец, приведет блудного ученика Репина это пристрастие к красным пожарам сарафанов и платков? Когда же все убедились, что в этом и заключается новизна Малявина, что дальше ему некуда, — тогда мало-помалу к нему охладели, стали упрекать в недостаточной культурности, что было совершенно справедливо, а он, упрямо настаивая на своем, терял почву под ногами и, наконец, вовсе заглох. Последняя его работа, оставшаяся в моей памяти, семейный автопортрет, — произведение во всех отношениях неудавшееся, хоть Малявин и говорил, что писал его старательно и «по-новому», запершись в деревне. В. Серов.
Девушка, освещенная солнцем. Портрет М. Я. Симонович. 1888.
В. Серов.
Девушка, освещенная солнцем. Портрет М. Я. Симонович. 1888.
Итак, у всех этих непохожих художников «переходной полосы» отчасти похожая судьба. Живописные идеалы их не отвечали школьным навыкам. Они стремились к новым берегам, переделывая себя в духе времени. И за это подвергались нападкам и со стороны тех, от кого ушли, и со стороны тех, к кому пришли. Меньше остальных Суриков и Серов. Просто потому, что оба были исключительно большими дарованиями и сумели выразить себя с побеждающей силой, один в исторических картинах, превосходящих все, что дало передвижничество, другой в области портрета и пейзажа, которым обеспечено первенство в ряду произведений мирискусников, первенство подлинной маэстрии себя разнообразно нашедшего таланта. Васнецова значительно скорее отверг молодой Петербург. Москва долго еще находила недопустимым колебать авторитет Васнецова-иконописца, даже после того как на большой его выставке в Академии художеств (1905) обнаружилась вся дешевость его византизма и узорной колоритности, техническая беспомощность и неглубокая сентиментальность его мистики. Расстаться с представлением о Васнецове — возродителе религиозной живописи в народно-византийском духе — было тем более обидно для национального самолюбия, что с Васнецова началось, в 90-е годы, целое движение неорусского Ренессанса, полоса влюбленности в допетровскую, теремную Русь, в образы седых былин и сказок. Первым меценатом журнала «Мир искусства» была кн. М. Кл. Тенишева, страстная поборница древнерусской красоты, устроившая в своей усадьбе Смоленской губернии Талашкино уголок кустарей, под руководством сначала С. Малютина, а затем своим собственным, где взращивались заботливо все прихоти кустарного узорчества, не без налета «декадентства», начиная с вышивок, майолик, балалаек и кончая театром-теремом, в котором дети-крестьяне разыгрывали сказочные пьесы. «Мир искусства» посвящал много внимания этой усадебной затее, которая нашла отклик в сердцах поколения, полюбившего Россию «новой любовью». В статье, посвященной Дягилевым Малютину, он без оговорок называет талашкинское творчество залогом русского Rinascimento XX века, хоть и можно заподозрить в данном случае его искренность… Не меньше поощрялись и производства села Абрамцева, где работали Врубель, М. Ф. Якунчикова, Е. Д. Поленова, К. Коровин и др. И здесь и там «берендеевка», весь романтизм былинно-сказочный, которым веет искусство Васнецова, пользовались высоким почетом. В провинции обаяние «васнецовщины» не исчезало до последних лет. Но главное его детище — роспись Владимирского собора в Киеве — не могло не разочаровать людей со вкусом после первого неумеренного восхищения новизной этой иконописи, приближавшей зрителя-интеллигента к тайнам церковного иератизма. Нетрудно было понять, когда глаз освоился с новизной, что Васнецов подошел к Византии «не с того конца» и принял эффекты внешнего изощрения за возрождение традиции. Передвижничество, вошедшее в плоть и кровь его, мешало ему постигнуть главную суть нашей древней изографии: не условность наружных и подчас весьма нарядных отступлений от реализма, а традиционную нереальность самой изначальной формы. И аскетизм и пышность у Васнецова приобрели, надо же сказать, характер несколько вульгарного пафоса, бесконечно далекого от строгих ладов древнецерковного великолепия. Васнецов поставил себе целью слить византийский канон с народно-сказочной непосредственностью, но в итоге его творчество, включая и картины-сказки и былины, — какая-то оперная смесь передвижнической натуры с узорной вычурой. И все же нельзя отрицать большого исторического значения Васнецова. Он зажег интерес к легендарной родной старине. Он подошел к ее красочности первобытно-славянской куда проникновеннее, чем подходили до него любители национальных маскарадов и русской этнографии. Он обрел волшебство ее игрушечной расписной роскоши. Без него не были бы возможны ни Нестеров, ни Рябушкин, ни Билибин, ни Рерих отчасти. Нестеров больше всех взял от Васнецова, но взятое переработал свежо и чутко. Помогло ему то, что исходил он не от стиля, а от глубокого ощущения русской природы. Не знаю, переживут ли долгий срок иконы и религиозные композиции Нестерова, но пейзажные фоны его картин, веющие думой умиленной и святостью Божьей земли, не прейдут так скоро. Есть страницы у Достоевского, напоминающие эти русские дали — грезы души, эти лужайки с тощими елочками и березками, весенне-нежными, сквозящими холмистым простором, эти тропы, затерянные среди трав медвяных, и тихие реки подле одиноких скитов на заре вечерней или ранним утром. Например, разве не «Нестеров» — этот рассказ Лебядкиной студенту Шатову в «Бесах»:
«Уйду я, бывало, на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой — наша острая гора, так и зовут ее горой острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное, — любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо, да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы далеко по озеру как стрела бежит, узкая, длинная-длинная, и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его перережет, и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет, и все вдруг погаснет».Здесь похожи не столько подробности пейзажа (какого ведь не было у Нестерова), а настроение умиленности монастырским кругозором. В этих касаниях к Достоевскому есть нечто, связывающее Нестерова с Суриковым, а Сурикова с Врубелем, мистиком и сказочником. Если искать сходство в понимании художниками красоты русского женского лица, экстатического, напряженно-настороженного, полного чувственности какой-то грозно-духовной, — того женского лица с длинным овалом и преувеличенным размером глаз, что был бы сродни ликам византийской Богоматери, когда бы не грех думы страстной, — то это сходство нетрудно установить между суриковскими девушками в «Боярыне Морозовой» и даже в «Семье Меншикова» и некоторыми рисунками Врубеля: издесь и там экстаз молитвы сочетается как бы с соблазном демонским. Я нахожу тоже, что странно-угрюмые лики врубелевских апостолов кирилловской росписи близ Киева («Сошествие Св. Духа») напоминают типы иных «стрельцов» в знаменитой картине Сурикова. Нестеров вдохновился от Достоевского любовью к земному раю, к весенним «клейким листочкам» и к монашескому «не от мира сего». Суриков почувствовал «бездну» Достоевского, жуть вопрошающую человеческих глаз, красоту, где «берега сходятся». К тому же он историк и видит свои образы как воскресшую быль веков. Его видения всегда реально обстановочны, полны конкретного содержания, отнюдь не сказочны, хоть порой и кажутся царевнами заколдованного царства его неулыбчивые красавицы в собольих душегрейках…
 В. Серов.
Портрет художника К. А. Коровина. 1891.
В. Серов.
Портрет художника К. А. Коровина. 1891.
Мечтателем почти отвлеченным остается Нестеров, даже когда картины его подписаны историческими именами. От реалистской выучки он пошел в сторону лирического преображения: плоть как бы разрежается, становится призрачной. В этом разница между ним и Васнецовым, образы которого, несмотря на символизацию, сохраняют плоскость свою, тяжесть земную, и не в одной масляной живописи, даже в набросках карандашом и акварелью. Акварельные эскизы Нестерова пленительны. Линия скользит и вьется чуть искривленно, чуть манерно-сентиментально, и нежные краски дополняют стилизованный лиризм замысла. Но — что хорошо в рисуночном намеке, нетерпимо как декоративная стенопись. Те же эскизы в размере монументальном удручают слащавостью и наигранным «примитивничанием». Нестеров был бы превосходным иллюстратором, напрасно потянуло его к церковным стенам. Иллюстративны очарования и пристрастия его творчества. Композиции свои он не столько строит, следуя требованиям монументального ритма, сколько узорно располагает, как для книжного листа: красивые, тонко выразительные заставки, не архитектурная живопись! Станковые картины Нестерова много лучше икон. На «передвижных» они казались вестью из другого мира. Часами хотелось любоваться и «Пустынником» (1889), и «Отроком Варфоломеем» (1890), и «Великим Постригом» (1898), и «Св. Сергием Радонежским» (на Парижской выставке 1900 года). Я не знаю другого художника, воплотившего задушевнее молитвенную грезу православия. Какие лица у этих старцев-отшельников, мучеников, монахов! Особенно у монахинь и молодых послушниц с опущенным, затемненным пушистыми ресницами взором… О, да, — и в их смиренномудрии проглядывает жуть Сурикова и Врубеля, соблазн хлыстовских богородиц[28], святых в страстном грехе. Совсем по-иному воскрешает Древнюю Русь другой передвижник-отступник, Рябушкин. Он тоже писал иконы, но, вероятно, с неохотой, по необходимости житейской. По той же необходимости, хотя и не без увлечения, сделал он бесчисленное множество достаточно безвкусных рисунков, исторических, историко-бытовых, былинных и т. д. для «Нивы»[29], «Всемирной иллюстрации»[30] и «Живописного обозрения»[31]. Но его дар, ярко самобытный дар, проявился в нескольких картинах, уже называвшихся мною, где воссоздано им то, что никому, кроме него, не грезилось: повседневность допетровской жизни. Он подходил к старине, в которой отмечались его предшественниками по исторической живописи громкие события или патетические сцены, — со стороны интимного ее своеобразия, как истый любитель подробностей и жанровых черточек. Эти произведения — остроумнейшие иллюстрации к Забелину, Олеарию, Герберштейну… И гораздо больше, чем иллюстрации: какие-то галлюцинации прошлого, самый дух древности русской в бытовых картинах XVII века. Какая потеря для нашей живописи, что Рябушкин умер так рано. Почти все значительное было написано им в последние годы жизни (1900–1904). До этого времени он все только готовился сказать свое слово, набирался сил, искал. И вот нашел себя: краски, стиль, формулу живописного упрощения, к которой стремился, преодолевая уроки Академии. После таких передвижнических жанров, как «Крестьянская свадьба», «Ожидание молодых», «Потешные в кружале» (помимо талантливости и этих картин) — вдруг «Русские женщины XVII столетия в церкви», настоящая победа над собой, почти окончательно достигнутая цель: форма, в которой и следа не осталось от натурщика, часами позировавшего ему привязанным к кресту для конкурсного «Распятия». Прошло десять лет неудач и полуудач, сомнений в себе и страстного ощущения своей правды, и эта правда далась, наконец, как, может быть, никому из более знаменитых его сверстников, и остался, пожалуй, единственным итогом стольких усилий этот маленький холст Третьяковской галереи, сверкающий алостью парчовых женских нарядов, — поразительный документ, открывающий о России Алексея Михайловича во сто крат больше самого подробного сочинения по истории и в то же время поистине видение художника, не реставрация, не постановка режиссера-знатока, даже не суриковская иллюзия, а сон-явь, и потому именно, что изображение нисколько не «натурально» и не хочет быть натуральным. Ведь нет ничего правдоподобнее художественной условности, когда художник искренен до конца.
 М. Нестеров.
Видение отроку Варфоломею. 1889–1890.
М. Нестеров.
Видение отроку Варфоломею. 1889–1890.
К сожалению, это произведение — и впрямь единственное у Рябушкина. Не сравнить с ним ни «Московскую улицу», ни «Въезд посольства в Москву», ни «Едут», хотя всем этим историческим сценам присущи многие достоинства «Женщин в церкви». Но есть в них и другое начало: передвижнический анекдот, выдумка и психологизм с натуры. Толпа в картине «Едут» композицией и реализмом выразительных оттенков напоминает и Сурикова, и Репина. В юморе «Московской улицы» еще больше невольных заимствований и той обыденности формы в цвете и рисунке, которая расхолаживает внимание. Нельзя не остановиться в заключение и на «Чаепитии». Это уже быт современный, но под тем же углом зрения, что и «Женщины в церкви». По крайней мере одинаково намерение: довести условность до едкой правды. Можно ли сказать, что это удалось художнику вполне? Кажется, что нет, не вполне. Здесь несколько жестка форма, более графичная, чем живописная. Между упрощением графическим и живописным существует грань, ее же не прейдеши. Но «Чаепитие» доказывает, во всяком случае, что в этих поисках обобщения и заострения формы задача не зависит от историчности сюжета, а от того, чтобы глаза не помешали художнику увидеть сон наяву… Малявин преодолевал школьный, полу академический, полуэмпирический реализм, преследуя совсем другую цель: стремился к индивидуализации формы, пожалуй, в обратном направлении, — не к примитивизму восприятия, а к освобождению красочных ладов от предметной вещественности, путем преувеличения образов яви и сгущения цвета в эффекты небывалого напряжения. «Бабы» Малявина, а писал он исключительно их, казались какими-то буйными великаншами земли русской, охваченными красным полымем ярких, ярчайших масляных сгустков. Ткани праздничных нарядов, развеваемые не столько ветром родимых полей, сколько размашистой кистью художника, заполняли холст и вырывались за его пределы, обрамляя грубые, смеющиеся или хмуро-неподвижные, загорелые лица этих амазонок — полевиц российских, брызжущих необоримой силой, волей первозданной. Сверхнатурализм Малявина ошеломлял зрителя, покорял стихийностью темперамента. Смелый новатор-самородок почувствовался сразу в этом вызове живописца всем умеренным и аккуратным. Несколько лет малявинские «Бабы» привлекали всеобщее внимание на выставках «Мира искусства», и хоть скептики покачивали головой, указывая не без основания на скороспелость, а потому и непрочность этого фейерверочного мастерства, в подготовительных карандашных рисунках-студиях Малявина — четких, изысканных, образцовых — должны были признать талант Божьей милостью. Почему же Малявин так быстро погас, оборвал свою красочную «линию», не создал школы, в сущности, почти нс повлиял на современную живопись? Думается мне, что ответ один: его метод преодоления вчерашнего реализма был методом слишком внешним, недостаточно углубляющим восприятие формы. В другое время, при других обстоятельствах он, вероятно, и удовлетворился бы найденной роскошью цвета и продолжал бы разливаться на своих полотнах алым хаосом, искрящимся то изумрудом, то сапфиром вокруг бронзовых ликов деревенских своих красавиц, — на Западе и меньшие «открытия» создают устойчивые репутации, а малявинских способностей хватило бы на двоих… Но современный русский художник, когда совестлив, то — до самоистребления. По-видимому, после первых успехов в Малявине опять начался процесс «искания сначала». Он принялся наново сводить счеты с академическим прошлым. Глотнув заграницы, Парижа, противоречивых теорий и модных лозунгов, решил удивить мир совсем по-новому. И в итоге остановился, запутался, остыл, а вероятно, и лениться стал от неуверенности в своих силах. Впрочем, я не убежден, что он когда-нибудь еще не воспрянет, и горячо желал бы этого. И вот рядом с первобытным Малявиным и презиравшим «заграницы» Рябушкиным — такой европеец, как Серов. Но и в нем, глубоком европейце, замкнутом и осторожном, если вглядеться, такая же борьба со старым, самопреодоление, поиски красоты, изощренности, стиля… Когда это началось у Серова? Мне представляется, что еще со времени ученичества. Иначе не создал бы он, будучи двадцатидвухлетним юношей, «Девочку с персиками» и годом позже «Девушку на солнце» (портреты А. С. Мамонтовой и М. Я. Симонович). Годы эти, 1887–1888, знаменательны для русской живописи. Тогда же написал Нестеров «Пустынника», Коровин — своих «Испанок», Суриков — «Боярыню Морозову», а Репин — «Не ждали». Игорь Грабарь в известной монографии[32] рассказывает, как поразила его солнечная «Девочка с персиками» на «передвижной» 1887 года и как, по сравнению с репинским «Не ждали», он понял, что у Серова — «красивее». Я бы сказал еще: и свободнее. Там, где Репин связан по рукам «объективной правдой», там, где он рассказывает больше, чем пишет, озабоченный психологической и аксессуарной точностью, приглашая внимательно читать картину, Серов как бы зависит от этой правды лишь постольку, поскольку она ему нравится, и обращается исключительно к глазам нашим, ничего не рассказывая, увлеченный живописью, краской, смуглой свежестью детского лица, солнечными бликами, белой скатертью, голубоватой в утреннем освещении. Репину важно доказать, что именно «все так и бывает», как он представил, когда — случай всем знакомый — из ссылки вернется, внезапно, в семью свою муж-арестант (мы догадываемся: «политический»). Вот так приподымается навстречу старуха мать, а так хмурые будут коситься дети, не узнав отца, и жена у рояля, тоже успевшая забыть, а может быть, и изменить, испуганно и неласково взглянет на арестантский халат мужа. Заботясь о моментальной правде изображения, художник как бы фотографирует эту немую сцену, выдвигая бытовые ее подробности и «случайность» композиции, и даже преувеличивает фотографичность перспективы, словно придвинув аппарат на слишком близкое расстояние. Все для правдоподобия. Где уж тут вспоминать о красоте. И если красота здесь тем не менее проглядывает, красота репинского мазка и воздушных красок, то сам знаменитый автор как будто не этому придает значение. Инстинктивно он сделал красиво, но озабочен совсем другим и при случае может сделать и вовсе некрасиво (вспомним хотя бы «Искушение Христа» или символического «Толстого» в весенних цветах с поднятой головой).
 М. Якунчикова.
Обложка журнала «Мир искусства» (1899, № 23 24). 1898. Эскиз.
М. Якунчикова.
Обложка журнала «Мир искусства» (1899, № 23 24). 1898. Эскиз.
Серов, напротив, свободно отдается стихии чисто живописной. В этих ранних работах, как и во всех последующих, он уже эстетик до мозга костей — every inch an artist[33]. Ничего еще не зная об импрессионизме, он добрался самостоятельно до светящейся краски и цветных рефлексов, залюбовался формой, нашел внезапно себя, «спятив с ума», по его собственному признанию, презрев уроки Академии и передвижническую учебу. Но оказалось, что нашел-то не совсем. Дальнейшие шаги по тому же пути сделаны не были. Узнав импрессионистов, он за ними не последовал, не продолжил юношеских завоеваний солнечной краски, не заразился примером, скажем, Константина Коровина, стал упорно искать, испытывать себя в других направлениях, постоянно меняясь, противореча, то возвращаясь назад к образцам привычным, то озадачивая стремительным броском в сторону. И так до конца дней своих. Не написан ли им после «Девушки на солнце» совсем передвижнический портрет отца (1889), коричневый, робкий, скучный? Что не помешало ему осилить тогда же такую сложную задачу, как семейный портрет Александра III (для харьковского дворянского собрания), и блеснуть несколькими годами позже рядом мастерских портретных рисунков (между которыми отчетливо вспоминается «Левитан»), и начать серию бесподобных своих деревенских пейзажей, отчасти под впечатлением Левитана, но глубоко оригинальных. Не он ли первый вдохновляется Врубелем («Рождество Богородицы», иллюстрации к Лермонтову), уже создавшим в ту пору «Сошествие Св. Духа на Апостолов» и обретшим свое гениальное безумие в образе «Сидящего Демона», и в то же время копирует мюнхенских Веласкесов и эрмитажную Венеру Тициана, допытываясь и у «стариков» секрета их непревзойденного мастерства? Не переходит ли он все время от одной манеры к другой, от контрастных густо, по-репински вылепленных портретов Мазини и Таманьо (из собрания Гиршмана) к акварельным прозрачностям итальянских и русских «сереньких дней», от жестковатого натурализма «Римского-Корсакова» (1898) к серебристой гамме «Детей» (1900), что в Музее Александра III, и к декоративным панно на библейские темы («Слуги Авраама и Ревекки»), и к циклу исторических гуашей, уже под влиянием стилистов «Мира искусства», как, например, «Екатерина Великая на соколиной охоте» (1902)? А затем, сделавшись портретистом по преимуществу, не увлекается ли он, создавая замечательную свою галерею современников и современниц, таким разнообразием приемов и «точек зрения», что все кажется мятущимся новатором, неудовлетворенным и готовым в любую минуту «с ума спятить», как двадцать лет назад, несмотря на блестящее умение одинаково четко разрешать самые противоположные живописные задачи? Не он ли за год до смерти, после ярко натуралистического, «живого» портрета княгини О. К. Орловой преподнес удивленным почитателям изломанно-плоскую, стилизованную «Иду Рубинштейн», которой «не хотел верить» Репин? И когда умер Серов (1911), не убедились ли мы, разобравшись в оставленных им картинах, папках с набросками и начатых холстах, что именно в последние годы он ревностно работал в этом направлении, преодолевая навыки реализма, добиваясь декоративной условности рисунка и цвета, удаляясь и от академической и от импрессионистской правды во имя каких-то новых, желанных им, лично ему уготованных Аполлоном обобщений формы? О Серове можно говорить без конца, так интересна и поучительна линия, уводящая его от реализма — центра вчерашнего дня. Талант исключительно гибкий, художник на редкость сознательный, он непрерывно менялся, поочередно заимствуя те или иные элементы у различнейших авторов и эпох, начиная с Писсарро, Ренуара, Сарджанта и Александра Бенуа, Врубеля и кончая персидской миниатюрой (эскиз занавеса к балету «Шехеразада») и античными фресками («Похищение Европы»). При этом он ухитрялся во всех случаях оставаться верным самому себе, своей «сути», не впадать в подражательность: пристальное вглядывание нужно иногда для того, чтобы отыскать эти «чужие» элементы в серовском синтезе. Мастерство Серова, оглядывающееся и присматривающееся, удивительно выдержанное, в самых резких уклонах своих от обычной «школьности», разное в зависимости от темы и поставленной себе задачи, никогда не кажется взятым напрокат, но и не производит впечатления своеволия: характер преемственности присущ органически этой многоопытной и многоязычной живописи, как бы соединяющей прошлое русского искусства с настоящим… А будущее? Тут мнения могут, должны расходиться: ведь каждый угадывает по-своему. Сроки еще слишком близки для беспристрастного приговора… Но мое мнение, что будущее стало строиться как-то помимо Серова. Мое мнение, что ему одного недоставало для значительности пророческой: гения. Вероятно, в этом-то и заключается внутренний трагизм его изменчивого творчества. Кто-то сказал, что гений больше «может», чем «хочет». Серов хотел больше, чем мог. Обладая талантом в высшей степени, он не был гением (случается ведь и наоборот: гениальность при недостаточном таланте). Серов исчерпал себя как разносторонний, щедро одаренный умом и умением мастер, однако он так и не обрел чуда: своей безусловной, не поддающейся рассудочному анализу, пусть и не окончательной и не вполне осознанной, но плодотворящей гениальной формы. Серов был тружеником. Свою гениальность он хотел подсмотреть у других, заслужить усилием таланта, выработать, заработать. Но хотя Бюффон, кажется, и сказал, что «гений — труд», изречение в данном случае не оправдалось. И. Грабарь, в упомянутой уже монографии, настойчиво восторгается рисунками Серова к крыловским басням, которым художник посвящал все свободное время в последние годы жизни. Рисунки эти (волки, лисицы, вороны и т. д.) являются, с одной стороны, как бы продолжением вдумчивого изучения художником звериной природы, особенно лошадей (необыкновенно типичны взлохмаченные деревенские лошадки в пейзажах Серова), а с другой — указывают на упорную выработку упрощенной линии. По многу раз неутомимо перерисовывал он те же силуэты волков и лисиц, заостряя и обобщая контур, снимал кальки и снова переделывал и опять исправлял себя, отдаляясь от первоначальной, схваченной на лету «натуры» и добиваясь стиля. Так же зачастую — мы это знаем — исполнял Серов и портреты. Он долго рисовал, раньше чем взяться за кисти, углем и карандашом, затем убирал все «лишнее» и вновь намечал нужные черты до тех пор, пока не ложилась будто сама собой, будто с первого раза художественно-синтетическая линия. Идеалом его мастерства было это «с первого разу», возведенное в принцип Сарджантом, высоко ценившееся, впрочем, и старыми виртуозами своего ремесла. Сарджант доходил до того, что писал свои портреты непременно в один сеанс, и когда не успевал кончить сразу, так и оставлял неоконченными. Портрет одной английской леди вследствие того оказался без глаз, но художник, сдавая заказ, утверждал невозмутимо, что глаза и не нужны, если не были «натканы сразу». Воздушное изящество некоторых позднейших голов Серова — несомненно результат этой мечты его о внезапном совершенстве. Но сколь бы ни был взыскателен к себе мастер, вдохновенной внезапности нельзя сделать терпением и калькой. Мучительный процесс самопреодоления ощущается, как бы ни радовал нас достигнутый итог! Лично меня крыловские рисунки Серова меньше всего убеждают в могуществе его гения; напротив, они предательски обнаруживают слабые стороны некоторых произведений Серова, быть может, недостаточно выработанных и потому неприятно отдающих передвижнической основой. Я считаю несправедливым «отрицание» Серова нашей буйной, воспитанной на Сезанне и Матиссе молодежи, не признающей его за отсталость (да и не одной молодежи), однако строгость эта становится понятной, лишь только посмотришь на Серова не как на крупное явление уже прошедшей истории, а как на силу животворящую. В области портретного психологизма достижения его очень значительны, это несомненно памятник целой эпохи, которым будут любоваться многие поколения, но с точки зрения чисто живописной так ли велик серовский памятник, как нам казалось недавно? Пойдут ли за ним, пойдут ли от него будущие русские (я уж не говорю об иностранцах) художники портрета? Отдавая должное его мастерству, не отвергнут ли какую-то мертвенную белесоватость его красок и порою жесткость светотени и неприятную «нарочность» подчеркнутых подробностей и поз, которыми он любил щегольнуть, судья строгий и насмешливый своих августейших, аристократических, сановных и плутократических моделей? А главное, оценит ли потомство его усилия в сторону стиля, признает ли хоть сколько-нибудь достигнутой его мечту о своей, свободной, преемственно неизбежной, вдохновенно личной форме? Поймет ли нереальную красоту «Иды Рубинштейн» и фресковую монументальность «Похищения Европы», этих двух предсмертных песен Серова? Повторяю, это область гаданий. Я вспоминаю, с каким вниманием всматривался Серов в произведения молодых художников, особенно тех, которые ничем не походили на него, Серова. Он словно с завистью относился к некоторым из них, любуясь убежденностью их уклонов от школьной «правильности», непосредственностью новизны. Он сказал однажды Петрову-Водкину, тогда еще совсем незрелому мастеру, но сумевшему действительно с первых шагов найти свою дорогу, свою нешкольную форму: «Как это у вас все сразу по-своему выходит». Мне крепко запомнилось это замечание, сказанное молодому стилисту не без оглядки на свое мучительное «по-своему», как запомнился и анекдот о Сарджанте (который я слышал от него же). В обоих случаях не выдал ли Серов главной своей мысли-мечты и не признался ли невольно в неудовлетворенности собою? «Сразу» и «по-своему» — этим даром не наградила его природа. Он умел рисовать быстро и сочно, не хуже Репина, красивее Репина (взять хотя бы альбом литографий, изданный «Миром искусства»), но такой рисунок не отвечал больше его взыскательному вкусу, разонравился ему, как, вероятно, разонравилась и солнечная гамма «Девочек», так высоко оцененных его биографом Игорем Грабарем. Он порывался к острой индивидуализации, и это прочно связало его с мирискусниками, приведя к портрету обнаженной «Иды», смутившей, однако, кажется больше всего… стилистов «Мира искусства». Портрет не понравился не «левизной» своей, о чем горевал Ренин, а… искусственностью, вывертом, неискренностью тех «ошибок», которые Серов считал признаком подлинной художественности. «Надо уметь иногда и ошибиться», — любил он повторять. А сам-то умел ли? Потому что ошибка сознательная — разве ошибка? Серов осторожно возводил в рассудочную систему то, что должно быть безрассудством органическим, «второй натурой» художника (например, у Врубеля, Рериха, Петрова-Водкина), чтобы не казаться только позой. Серов к концу жизни возжаждал парадоксальности, новизны, формы гениальной совсем «по-своему» и заставил поклонников его пожалеть о юношеской непосредственности чуть ли не первых своих произведений. Серову хотелось больше того, что он мог… Точно ли? Но ведь я дважды оговорился: судить слишком рано. Ответит будущее. Может быть, оно и настает уже в России, после того урагана, каким пронеслись по ней футуристы, лучисты, имажинисты и прочие большевики от искусства? Недавно тот же Грабарь писал где-то, что русские художники снова возвращаются к реализму, отказавшись от крайностей «беспредметной» живописи (вплоть до эстетических изуверств из стекла и железа Татлина). Какое будет отношение к Серову этих новых русских реалистов?
III Импрессионизм и русский пейзаж
Русское «солнце с натуры». — Левитан. — Левитановцы и серовцы.
— К. Коровин. — Головин. — Богаевский. — Современная «свобода» живописи.
Импрессионизм, т. е. художественное течение, принесшее с собою новое решение задач света и цвета в живописи, как я уже упомянул, проник в нашу русскую «провинцию» с большим опозданием. Еще в 1870 году сделался Эдуар Мане пленэристом, а Писсарро и того раньше. Между тем лишь в самом конце 80-х годов повеяло у нас, и то очень слабо, этим «открытием». Но «солнце с натуры» влилось в русскую живопись гораздо раньше, хотя, конечно, не без влияния иностранцев. Ведь солнечным этюдам на «открытом воздухе» предавался Александр Иванов. Когда еще! В то время только зарождались природолюбцы из Фонтенбло. Иванов был старше них. Впрочем, Иванов — явление во всех отношениях исключительное и до сей поры недооцененное. Выставленные им в 1858 году в Петербурге вместе с картиной «Явление Мессии» солнечные этюды никем не были поняты. Предвидение гениального творца осталось втуне. И все же задолго до Левитана, вдохновившегося французами на Парижской всемирной выставке 1889 года, русский пейзаж потянуло к солнечной ворожбе. Солнцепоклонником пытался быть уже Верещагин, наглядевшись палящих лучей его в Индии и Средней Азии. В середине 70-х годов привез свои яркие этюды из путешествия по Египту Константин Маковский. Тогда же Ге, Репин, Шишкин, Куинджи, Поленов, Дубовской, умевшие иногда подсмотреть натуру с непосредственностью вдохновенной, писали — если не для выставок, то для себя — уголки природы, насыщенные воздухом и светом. Однако никого из этих художников никак не назовешь импрессионистом, даже в том «русском» значении, какое впоследствии приобрел у нас этот термин, просто потому, что ни один из принципов импрессионизма в отношении к солнцу и воздушностям цвета не был применен ими. Существеннейшее начало французского plein air’а состоит в том, чтобы видеть форму неотделимой от красок. Контурный рисунок для «батиньольцев»[34] просто не существует, независимо от живописных, цветовых, соотношений: «предмет постольку нарисован, поскольку окрашен солнцем». В зрительном впечатлении, следовательно, выдвигается на первый план «полихромная субстанция» природы. Рельеф, тени, воздушная перспектива — только производные этой первичной данности, и потому на палитре нет места черной краске. Отсюда — значение цветного рефлекса. Очертания предметов как бы растворяются в воздухе: лучистыми мерцаниями и пятнами становятся объемы и плотности. Для передачи этой мерцающей яркости живописного «впечатления» импрессионисты вскоре стали пользоваться приемом разложения цвета на основные тона спектра, т. е. писать «чистыми» красками (отдельными голубыми, красными, желтыми мазками), как бы подражая солнечному лучу. Между тем русское «реалистское солнце» освещало только поверхности форм, детально нарисованных сначала и потом покрытых смешанным тоном, и мирилось с черными, фотографическими тенями, не догадываясь о цветных рефлексах… Как жестко вырисованы и раскрашены экзотические панорамы Верещагина, передающие блеск южных слепительных полдней силой контрастной светотени: хромолитография, не живопись. Тем же грешат и картина К. Маковского «Перенесение священного ковра», и «Березовая роща» Куинджи, и «Дубовая роща» Шишкина, и множество академических и передвижнических «пленэров», написанных по старым рецептам, хоть и с новыми подчас намерениями. Только на рубеже 90-х годов — если не под непосредственным влиянием «батиньольцев», то в силу косвенного воздействия современной французской школы — удалось передовой русской живописи и особенно пейзажу отделаться от фотографической резкости светотени. Я говорил об импрессионистской солнечности в ранних произведениях Серова, К. Коровина, Нестерова. Напомню еще о женском портрете Ге — Н. Н. Петрункевич у окна (1893), где так неожиданно для этого фанатика натуралистской грубости потоком цветных отражений врываются в комнату утренние лучи из сада, мерцающего жидким изумрудом весенней листвы. И все же Левитан первый подсмотрел у французов секреты их живописных приемов. В Париже именно тогда, я говорю о годе всемирной выставки (1889), «Фонтенбло» и «Батиньоль» овладели всеобщим вниманием. Я помню эту выставку, ознаменованную башней Эйфеля, — и странно безвкусные ее павильоны, что создали впоследствии своеобразный выставочный стиль, и залы с «барбизонцами», и залы с импрессионистами, о которых везде говорили как о дерзких новаторах, ниспровергающих авторитет веков. В русской художественной колонии эти разговоры не прекращались. Отчетливо запомнилась мне на фоне тогдашнего отечественного Парижа фигура Левитана, в то время не слишком заметного передвижника, увидавшего, наконец, столицу мира и восторженно говорившего о Добиньи и Дюпре. Никто еще не догадывался, что ему, молодому автору задумчивых сельских ландшафтов («Весна», «Крымские этюды», «Туман», «Заросший пруд», «Серый день» 1885–1888), не так уж резко отличавшихся от «видов с натуры» других передвижников «с настроением», суждено создать эпоху в русской пейзажной живописи, побывав в этом самом Париже и насмотревшись «барбизонцев» и импрессионистов (последних, впрочем, он оценил лишь значительно позже). Но было бы ошибочно думать, что вся новизна Левитана, постепенно «менявшего манеру», в переимчивости у французов. Они дали ему только толчок к выработке своего языка; в этом своем языке он нуждался для очень личных целей. Во всяком случае, в Париже он воодушевился не столько современными «художниками впечатления», которым первые уроки дал Курбе, проповедник de la vérité vraie[35], сколько умершими уже «художниками настроения», что называли свои картины arrangements[36], друзьями и единомышленниками великого Коро. И позже, увлекшись формой Клода Моне, чисто технической стороной его мастерства, Левитан по-прежнему задумывался над облачной листвой в поздних пейзажах Коро и над певучим сельским идиллизмом маленьких «барбизонцев». Не помешало ему, однако, ни то ни другое сохранить свое, народное, — сделаться новатором и одновременно продолжателем национальной традиции. Действительно, в левитановский импрессионизм влилась безусловно русская струя: лирическое переживание родного деревенского затишья. Э. Мане.
Завтрак на траве. 1862–1863.
Э. Мане.
Завтрак на траве. 1862–1863.
Природа… Где еще на всем свете она задумчива, как у нас, в своей беспредельности безлюдной? Где еще сообщительнее признания природы? Ни опушки старого леса Фонтенбло, ни живописные уголки по течению Сены или окрестности Ветейля и «Экса в Провансе», ни суровые дали Бретани, ни фламандские лужайки с пасущимися стадами, ни берега Рейна с развалинами замков, ни рыбачьи заливчики около Сорренто и Неаполя не заражают человеческого созерцания тем миром красоты, каким веет от степей и пашен, от трущоб лесных и поросших буквицами оврагов, от весенних разливов без конца и края и ржавых болот осени, от одиноких захолустий и снежных сугробов нашей первобытной, большой, не знающей ни в чем меры, убогой и щедрой, печальной и ласковой природы. Такой глядит она на картинах Левитана.
 К. Моне.
Пруд с кувшинками. 1899.
К. Моне.
Пруд с кувшинками. 1899.
Не Левитан первый проникся этой красотой, немного щемящей, неяркой, околдованной ветрами северных равнин. Русские художники почувствовали ее давно, еще тогда, когда, пресытясь садовыми «першпективами» придворного пейзажа, ученики Семена Щедрина и Воробьева полюбили первой любовью леса и нивы своей родины, и братья Чернецовы стали путешествовать по Волге, тщательно зарисовывая ее песчаные скаты, и когда Венецианов и венециановцы, изображая русский «пейзанский» быт, залюбовывались золотыми далями ржаных полей и лугами медвяными с желтым лютиком и белой ромашкой. Очарование деревней по-своему выразили и реалисты наши, хоть старались смотреть на природу «объективно», как естествоиспытатели. И их холсты, жухлые, с густо наложенными коричневыми тенями и мелочливой обводкой подробностей, нет-нет а звучат очень искренней лирической ноткой. Еще в начале 70-х годов прилетели знаменитые «Грачи» Саврасова, и Поленов написал несколько прочувствованных усадебных уголков, и ученик Воробьева Шишкин, награжденный званием академика за «Вид из окрестностей Дюссельдорфа», проплутав по дебрям российским в 1866 году, вдохновился на всю жизнь березами да соснами родимой «лесной глуши» — и, право же, не вовсе бездушны эти жесткие шишкинские фотографии. По крайней мере так начинает казаться теперь, когда время, величайший художник, наложило на них свою патину. От этой патины в моих глазах не выиграл Куинджи, но, может быть, именно потому, что его световая романтика била на яркость красок, и когда краски почернели… остались одни куинджисты (между ними, впрочем, талантливые — Рущиц, Пурвит, Латри, Химона, Рылов) да куинджиевские премии, окончательно сбивавшие с толку учеников Академии. Итак, не Левитан создал «русский пейзаж», не он первый полюбил поэзию родных затиший и поклонился солнцу, но все же больше, чем кто-нибудь, он — вдохновитель «русского Барбизона», если можно так выразиться. Только с ним наш пейзаж проникся тем бесхитростным красноречием природы, которого недостает картинам передвижников. А в конце жизни, под влиянием французского импрессионизма, Левитан достиг многого и в области чисто живописного мастерства. До последних дней, даже примкнув к выставкам «Мира искусства», он не порвал с передвижничеством, но глубоко сознавал его «тупики». В преодолении ложных навыков реализма, в сущности, заключается и его, левитановская, эволюция от первых успехов, в середине 80-х годов, до преждевременной смерти в 1900 году (когда художнику мерещилось, что вот теперь, именно теперь ему открылось, «как надо писать»). Левитан обратил на себя внимание, еще будучи учеником московской Школы живописи и ваяния. На первой же самостоятельной ученической выставке (1879) Третьяков приобрел его «Осенний день», что делает честь меценатской прозорливости Третьякова, так как очень немногое в этом опыте двадцатилетнего ученика Саврасова, благоговеющего перед Шишкиным, предвещает будущего автора «Осеннего дня», что в Музее Александра III (1900). Через два года Левитан окончил училище и стал мечтать о «Передвижной», тщательно подражая пейзажному протоколизму славнейших ее корифеев. Но лишь после нескольких лет тщетных попыток удалось ему попасть в экспоненты знаменитого товарищества. На выставку 1886 года была принята его «Весна», а в следующие годы — «Туман», «Заросший пруд», «Мельница» и др. В этих картинах личность художника уже ярко обозначилась, как и в крымских этюдах, написанных до заграничной поездки. В чем же заключается это индивидуальное, одному ему свойственное, левитановское? Мне всегда казалось — не столько в новизне восприятия природы, сколько в удивительном обаянии манеры. Уже в тот ранний период, преодолев увлечение шишкинскими «подробностями», Левитан стал сосредоточенно доискиваться живописного обобщения, старательно удаляя все «лишнее», с любовью останавливаясь на «главном». Он видел в природе, пожалуй, то же, что и старшие реалисты, но добивался не «копии» этой видимости, а некоего живописного экстракта. Особенно заметно это в этюдах (иногда почти миниатюрного размера), необычайно содержательных, хоть и не поражающих неожиданностью подхода к натуре; некоторые прямо музыкальным колдовством каким-то отдают: в «краткости» и в недосказанностях формы — трепет глубоко сознательного мастерства.
 К. Писсаро.
Пейзаж в Чеповеле. 1880.
К. Писсаро.
Пейзаж в Чеповеле. 1880.
Картины следующего периода (после Парижа) еще сохраняют общий характер «сюжетных» композиций: «Вечер (Золотой Плес)» (1890), «Тихая обитель» (1891), «Лесной пожар», «Владимирка — большая дорога» (1893), «Над вечным покоем» (1894). Но уже веет от них такой свежестью красок и такой непосредственностью природоощущения, что почти незаметен переход к позднейшим чисто левитановским мотивам, где пейзажное повествование заслонено окончательно мелодией света и цвета. По крайней мере это впечатление производили в свое время картины Левитана на всех нас, угадывавших в нем, как и в его сверстниках — Серове, Остроухове («Сиверко», 1891), К. Коровине, Нестерове, — новую силу и новое, освобождающее веяние красоты.
 И. Левитан.
Март. 1895.
И. Левитан.
Март. 1895.
Левитан искал — в том направлении, в каком до него не искали русские пейзажисты, но еще оставался верен школьным заветам в композиции и в рисунке (в частности, безусловно есть даже «фотографизм», хотя бы в известной картине «У омута»). И тем не менее темперамент живописца заметно брал верх. Не только живописный темперамент, а какая-то восторженно-печальная любовь этого еврея к русской родине. Где бы ни скитался он — в окрестностях ли шереметьевского Останкина или пушкинского Болдина, или на Волге около Плеса, или на берегах озер Удомли и Кафтина в Тверской губернии, — везде искал он и находил не только «значительные темы», как того требовала эстетика «товарищества», но и вечно одну и ту же тему, что словами не расскажешь и что мучительно хотел он выразить до конца проникновенной своей кистью, — тайну русской природы. И тут все одинаково годилось ему и одинаково «пело» на его холстах: тропинка, вьющаяся меж молодых березок, стоги на вечереющем небе, насыпь железнодорожного полотна в ярких лучах заката, весенний ручей, темные дымы весенних лесов на талых снегах, усадебный двор в мартовскую распутицу, сельская церковка в сумерки, отраженная речной заводью, золотые и ржавые кудри осенней рощи, лунные тени, заборы, овраги, кустарники, тишина, безлюдье, сельские «песни без слов»… Ярче, светлее, шире, легче делается письмо Левитана в последние приблизительно пять лет (после поездки на юг Франции и на Lago di Como[37] в 1895 году). Его задушевность становится воздушной и лаконической, и собственно сюжет в картинах уступает место настроению и фактуре. Это уже не «картины» в передвижническом смысле, а действительно «куски природы», как провозгласил импрессионизм, и композиция их так же далека от «литературы», как и краткие названия: Март, Зима, Ручей, Дождь, Луна, Лес, На озере, Овраг и т. д. Можно ли сказать, однако, что Левитан подражал кому-либо из импрессионистов? Не думаю. Манера его остается очень личной и очень русской, и более того: во всем, что он создал, даже в эти годы сближения с «Миром искусства», чувствуется первоначальная школьная основа, которой он тяготился, но отвергнуть вовсе не мог. Отсюда — двойственность оценки Левитана младшим поколением художников. Объявив войну передвижникам, дягилевцы признали его своим, отщепенцем, новатором. Но с тех пор все чаще в передовом лагере утверждалось и противоположное мнение: так же, как Серов, и Левитан причислялся к эпигонам реализма. Вообще есть много общего между ним и Серовым: и в отношении к обоим критики, и в отношении их самих к целям искусства — в этой жажде предельного лаконизма, в этой неудовлетворенности собой, в мучительном желании преодолеть себя, переписывая по многу раз одно и то же, «чтобы ничего не оставить лишнего», и в незавершенности исканий, прерванных безвременной смертью. Не меньше, чем Серов, Левитан оказал огромное влияние на русскую пейзажную живопись XX века, хотя вряд ли можно говорить о преемственном продолжении их пейзажа. Скорее приходится указать на подражателей, и довольно посредственных. И тем не менее… чем была бы эта живопись, не будь Левитана и Серова? «Серенькие дни» Серова — деревенский выгон с лохматыми лошадками, занесенная снегом аллея в усадьбе, осенняя полянка, насупленный стог сена подле сарая — прекрасно дополняют левитановские песни без слов. Как-никак, им обоим принадлежит слава родоначальников целой плеяды пейзажистов, проявивших себя особенно в Москве на выставках «Союза русских художников»: Туржанский, Досекин, Жуковский, Аладжалов, Петровичев, Виноградов, Юон и ряд других, менее заметных. Многие авторы и из молодых передвижников (Беляницкий-Бируля, Шемякин, Никифоров) и из академистов (братья Колесниковы и пр.) тоже должны быть причислены кто больше к «серовцам», кто к «левитановцам».
 К. Коровин.
Париж. Бульвар Капуцинок. 1906.
К. Коровин.
Париж. Бульвар Капуцинок. 1906.
Но оговорюсь еще раз. Преемники, как это часто бывает, унаследовали внешние приемы своих вдохновителей и обнажили то, что можно назвать их недостатками. Импрессионистский мазок, густой и своевольный, которым художник как бы забрасывает холст с маху, сообщая живописной форме творческий трепет руки, этот мазок, несколько однообразно «ловкий» у учителей, обратился у последователей в техническую разудалость, в лихость письма, заслоняющую все остальное. Жуковский, умеющий горячо передать игру солнечных пятен и отсветов, грешит этой ловкостью не меньше, чем Никифоров или так непонятно прославившиеся в Петербурге братья Колесниковы. Шемякин, подражая Серову, заразился плохим влиянием Цорна на Серова, и до такой степени, что, можно сказать, растрепал в клочки свое недюжинное дарование (он писал по преимуществу портреты). Туржанский, несомненный мастер в изображении сумеречных далей и понурых сельских лошадей, довел унылость и серость пейзажа до удручающего однообразия. Петровичев стал накладывать мазки толщиной в палец, решив, что этой масляной скульптурой лучше всего выражаются темные гармонии древесных кущ. Все они заразились от импрессионизма «этюдностью» пленэра, но не приобрели утонченной непосредственности Левитана, не говоря уж о блестящей изысканности французов.
 И. Грабарь.
Февральская лазурь. 1904.
И. Грабарь.
Февральская лазурь. 1904.
Константин Коровин, наиболее последовательный импрессионист среди «союзников», так много обещавший в молодости, начал щеголять звонкими красками с легкостью маэстро, который сразу «все может». Но это коровинское «все» не волнует и не утоляет. С годами, под влиянием декорационной работы в театрах, он стал писать размашисто, до потери всякого чувства меры. И невольно вспоминаешь ранние произведения этого жизнерадостного «француза» на передвижных, четверть века назад, когда рядом с ним все наши маститые казались бесцветными и неживописными; тогда женские портреты Коровина, на фоне солнечной листвы, хотелось сравнивать с восхитительными портретами ученицы Мане Berthe Morisot[38], а в пейзажах, независимо от Левитана и Серова, он почти достигал изящества Сизле и Раффаэлли. Если с тех пор первенство виртуоза кисти и осталось за ним, то все же вдохновенность его растрачена на бесчисленные театральные постановки. Последние работы Коровина (на выставке «Союза» 1917 года) отдают легковесностью молодящегося передвижника; они почти бесформенны, в них не чувствуешь культурыстанкового живописца. Внешний блеск и внутренняя немощь: я говорю об «Инее», «С балкона» и «Балерине» (это последнее, что я видел). Другой известнейший декоратор, москвич, но с петербургской оседлостью, Головин, соперник Коровина по части театральной и постановщик не менее ослепительный, счастливо избежал дурных влияний декораторства. Его мало известные, очень тонко красочные узорно-лиственные пейзажи (поступавшие прямо из мастерской художника к И. А. Морозову) немного напоминают манеру Вюйара, но импрессионистское солнце в них отсутствует, а вместе с солнечным светом как бы лишились они и воздуха. У художников Батиньольской школы, так же как и у Левитана, красочный трепет формы — результат погруженности в воздушную среду. Эта среда на полотнах импрессионистов обладает подчас преувеличенной плотностью, отчего становятся бесконтурными, как бы расплываются образы природы. Напротив, природа Головина, восхитительно-красочная и опоэтизированная, — пруды в лесных чащобах, уголки парков, кудрявые купы берез, — тяготеет и цветом и рисунком к четкости почти графической… Пейзажи декоратора, скажут мне? Допустим. Но тогда декорации Головина следует назвать декорациями тончайшего пейзажиста. Каждый раз, что я бывал в Москве, я любовался в морозовском собрании узорными затишьями Головина, рядом с его феерическими «Испанками», написанными темперой и пастелью вместе. Нечто от левитановской грезы перешло и в эти головинские затишья, навеянные воспоминаниями детства о старинном парке Островского-Разумовского. Несмотря на возлюбленные им райские сады юга Европы, где он пропадал подолгу, набираясь впечатлений для театра, деревенский Север ближе ему всех Севилий и Венеций. В последние годы, к сожалению, этот всесторонне даровитый мастер (напомню о его отличных портретах), капризно замкнувшись в своей мастерской на вышке Мариинского театра, уклонялся выставлять и в «Союзе» и в «Мире искусства», отчего заметно обеднели обе выставки. После Головина действительно пустоватыми казались левитановские мотивы большинства наших этюдистов, не меньше, чем нарядные сады и террасы Виноградова, вечно одни и те же серии Аладжалова, и даже куда более интересные холсты Юона, которые, случалось, пленяли замыслом композиции и свежестью красок. В особенности удачны были ранние архитектурные пейзажи Юона — золотоглавые соборы, освещенные солнцем. Впоследствии, поддавшись моде, он захотел «стилизовать», но это удавалось ему хуже. Искание стиля в пейзаже (на смену импрессионистской этюдности) определяет творчество двух весьма заметных художников. Один — москвич из Училища живописи и ваяния, Крымов, другой — петербуржец, ученик Куинджи, Богаевский. О Крымове мне придется еще упомянуть в главе, посвященной московским новаторам, впервые заявившим о себе выставкой «Голубая роза». Здесь замечу только, что творчество Крымова, таким, каким оно явилось на последних «Союзах», предстало нам в итоге целого ряда превращений, довольно неожиданных и знаменательных для ищущего века сего. Напротив, Богаевский как-то сразу напал на свою стезю, еще будучи в Академии, и если искал дальше, а он искал неустанно, то в том же направлении, оставаясь типичным «Богаевским», хоть и меняя манеру письма и стиль. Первые крымские его ландшафты я заметил на одной из академических выставок в самом начале 900-х годов и тогда же написал о них. Это были окрестности Феодосии, из которой он родом: сползающие к морю скалы, развалины генуэзских крепостей, выжженные солнцем морщинистые плоскогорья, низкорослый, кривой можжевельник, окаменелость горной пустыни, древняя Киммерия, впоследствии воспетая в стихах Волошиным[39]. Этому суровому Крыму Богаевский придавал какую-то жуткую одухотворенность фантастическим тоном вечерних и лунных красок и подчеркнутым силуэтом чудовищных камней. В то время он писал густо и черно. В 1905 году на первой выставке «Нового общества художников»[40] та же «Киммерия» Богаевского казалась еще сказочнее и величавее. Повторялись те же мотивы, но цвет стал прозрачнее и свободнее мазок. Года через два появились уже в «Новом обществе» «гобеленные» пейзажи мастера, напоминавшие старинные фламандские шпалеры. Стиль XVII века сказался и в их композиции, и в трактовке листвы, облаков и скал. Опять Киммерийские дали, но сквозь призму не то Гоббемы, не то Лоррэна. Этот пошиб Богаевского его прославил. Он начал много писать в том же духе и маслом и акварелью, изощряясь и, увы, повторяясь скучнейшим образом. Впрочем, наряду с этой несколько дешевой «лоррэнизацией» появлялись также его холсты в другом роде: видения архаические с волшебными солнцами, почти бес красочные, мерцающие резкой светотенью. Пожалуй, это лучшее из того, что он создал. Наконец, в 1911 году была выставлена им картина «Воспоминания об Италии», показавшая, что талантливый художник жестоко заблудился в очарованной стране реминисценций. Попав из пустынного своего Крыма в страну великих примитивов, он до того увлекся ими, что «потерял себя». Наступил кризис. Богаевский опять угрюмо уединился в своей феодосийской усадьбе. Мне передавали, что он сжег все работы, оставшиеся в его мастерской, и собирается с силами в новый путь. Будем надеяться, что этот путь не обманет.
 К. Богаевский.
Берег моря. 1907.
К. Богаевский.
Берег моря. 1907.
Я припомнил подробно историю Богаевского, потому что уж очень она характерна для нашего времени исканий и самопреодолений… Прежде художники знали, что делать и как делать. Задача сводилась к техническому совершенствованию и к выработке самостоятельного акцента. Не возникало сомнений о самих основах искусства; на то были школа, традиция, авторитеты учителей. Каждый художник естественно отмежевывал себе свою область, но, скажем, в XVII веке никому в голову не могло прийти вдруг начать писать, как писали двести или триста лет назад. Художник чувствовал себя сыном своей эпохи, и его поддерживала, направляла воля всего века… Теперь положение живописцев стало куда труднее. Все неясно в искусстве. И цели, и средства. Изобразительные задачи живописи сделались уравнениями со многими неизвестными: и так можно и этак. Ничего твердо установленного, обязательного для всех, освященного общим разумом. За что ни возьмется современный художник, перед ним дороги в разные стороны. Выбирай любую: академизм, натурализм, стилизм, импрессионизм, кубизм… Какая из них — в Рим? Кто научит? Нет больше определенных ограничивающих требований единого вкуса. Все ограничения объявлены предрассудком, — художник свободен, свободен… до отчаяния. Все смеет, все преступает, все пробует и ни в чем не уверен. Страшно прослыть отсталым, не оказаться отгадчиком будущего, но манит властней, чем когда-нибудь, и прошлое, неувядаемая красота столетий. Хочется воззвать к этому прошлому, вернуть его, пережить в мечтах и наивность, и пышности былой жизни. От крайнего новаторства до исторических реминисценций и впрямь — один шаг.
IV Стилисты «Мира искусства»
Regia Versaliarum. — «Школа» А. Бенуа: Сомов, Лансере, Добужинский.
— Этюды А. Бенуа и его «Версали». — «Германизм» мирискусников.
— Судейкин, Сапунов, Бакст, Стеллецкий и др. — Увлечение театром.
Крутыми складками ложится его пурпуровый плащ. Пышно завитой парик стекает на обнаженные плечи. Увенчанный лаврами король хранит милостивое молчание. Рядом с ним на ступеньках трона Мария-Терезия, принявшая образ Венеры, ласково озирает королевских детей, маленьких крылатых амуров. Позади, вооруженная копьем, стоит Mademoiselle de Montpensier[41] — белокурая Диана. Тесным полукругом расположились против них: Monsieur[42], брат короля, в виде Нептуна, королева Англии с трезубцем зятя в руке, жена его Генриетта — нимфой, Анна Австрийская — Кибелой, а в глубине, на фоне цветущих холмов, три грации — Елизавета, Маргарита и Франциска Орлеанские. У ног короля золотая лира Феба. Так увековечил Людовика XIV один из героических портретов в Версале… Ах, этот Версаль, Régia Versaliarum[43], ослепительный музей роскоши и славы, пантеон великолепий!Venez, suivez mon vol au pays des prestiges,
A son pompeux Versailles.[44]
 Б. Кустодиев.
Групповой портрет мирискусников. 1916–1920.
Б. Кустодиев.
Групповой портрет мирискусников. 1916–1920.
Но чудо из чудес Версаля — сады! Узорно-строгие и многоводные сады Версаля, создание Ленотра и его соперника, не менее искусного Перро. Все сочеталось в них на радость избранным: чопорная симметрия, прихотливость, гений художника и щедрость природы. Сады Версаля, похожие на ряды зеленых комнат с паркетами-газонами и деревцами, подстриженными в виде кубов и шаров. Сады Версаля, разукрашенные, как бальные залы, статуями Жирардона, Ле Пюже, Куазво и Кусту. Сады Версаля, наполненные плеском фонтанов и запахами миндалей, жасминов, гранатов и лимонов из теплиц Мансара. Сады Версаля, внимавшие трагедиям Расина, шуткам Мольера и иезуитским нашептываниям Да Шеза и Ле Телье… Там в каждой аллее вспоминается милый образ Mademoiselle de Lavallière[48] и цветущая красота Madame de Montespan[49]. Там на «Зеленом ковре» перед бассейном Латоны, «королевы лягушек», играла в мяч веселая герцогиня Бургундская с герцогом Нандомским, щеголявшим золотыми галунами своего роскошного камзола, синего на алой подкладке. Там в торжественные годовщины триста гребцов водили на Большом канале пестрые гондолы и всю ночь взрывались в небе разноцветные снопы огненных забав… Сады Версаля, боскеты с лабиринтами дорожек, обсаженных буксусом и карликовыми лиственницами: боскет, Королевы-Венеры, вдохновивший Лебрена, боскет Большой залы, где госпожа де Ментенон танцевала в паре с Mademoiselle de Blois[50], боскет Колоннады с перистилем, окружающим жирардоновскую Кору, боскет Короля, где в чащах Острова Любви собирались испытанные остроумцы около блестящей герцогини де Монтазье, госпожи Лафайетт и Mademoiselle Scuderi[51], боскеты, отмеченные нежными именами Звезды, Зеркала, Обелиска, Куполов, боскеты-Шахматы с аллеями каштанов и термами по рисунку Пуссена… Боскеты Версаля, причудливые коридоры листвы, нимфы, зефиры и дельфины бассейнов, белые богини на зелени садовых аркад, —
Chef d’oeuvre d’un grand roi, de Le Nostre ei des ans,
Que Louis, la nature et l’art ont embelli.[52]
 А. Бенуа.
Прогулка короля. 1906.
А. Бенуа.
Прогулка короля. 1906.
В своей графике — а Добужинский график по преимуществу — он тонко обнаруживает это прирожденное ему чувство стиля, какими бы образами ни вдохновлялся: средневековыми арабесками, итальянским Возрождением, ложноклассическим орнаментом, николаевской готикой или народным лубком. И сколько бы ни пытался этот даровитый художник освободиться от наваждения «стильности» (между прочим, в качестве преподавателя в школе живописи[55] он строго проводил принцип живописного неореализма), я уверен, что подлинно творческое в Добужинском так и останется на «том берегу» Леты, как творчество Сомова и Лансере. В мечтах о былом созрели вдохновения этих истинно петербургских художников и многих других, о которых еще придется говорить. Может быть, я не прав, называя их «школой», в особенности если присоединить к именам названным имена таких мечтателей о прошлом, как Бакст, Рерих, Билибин, Стеллецкий, Судейкин, Сапунов. Но несомненно, что всех их связывает или, по крайней мере, связывала в известную пору та зачарованность красотой ушедших времен, которую противоположил Мир искусства сугубому современничанию или историческому натурализму «передвижных» и нарядной ремесленности «Фрин», «Римских сценок» и «Боярышень» на других выставках. Они не заразились ни импрессионизмом французов, ни мифологией мюнхенских немцев, ни красочными симфониями английских пейзажистов, не стали ни продолжателями отечественного ландшафта, как отколовшиеся впоследствии от «Мира искусства» члены «Союза русских художников» в Москве, ни символистами, как тогда же «молодые» москвичи, а увлеклись русской романтикой и русской сказкой, фривольностями и пышностями века Людовиков, Империи и 30-х годов, изощренной стильностью, графикой, иллюстраторством, театральными гримами и декорациями, забытыми памятниками родины, историей искусства, роскошью истории, близкой и далекой, нашей византийской и варяжской истории, зачатой в легендарном Киеве, в Царьграде Палеологов, в Новгороде Великом, союзнике Ганзы, в кочевьях татарских и в стриженых боскетах Людовика XIV… В этом отношении Александр Бенуа, живописец, ученый и мыслитель, оказал поистине провиденциальное влияние на все петербургское (отчасти и московское) поколение художников, сгруппировавшихся вокруг культурного знамени «Мира искусства». Я сказал, что каждый из них мечтатель по-своему, что каждый разно переживает минувшую быль, что Сомов, самый законченный мастер этой плеяды, как будто и не живет настоящим, вращаясь в заколдованном королевстве кукольных призраков, с которыми он породнился душой, женственной, отдающейся наваждению. Бенуа, напротив, человек очень современный, человек воли, темперамента, устремленный вперед, не склонный вовсе к созерцательной меланхолии. Его картины с манерными маркизами часто напоминают Сомова, — недаром они работали в тесном содружестве, так что нельзя и установить, кто из них больше влиял на другого, — но внешнее сходство не мешает увидеть глубокое различие. Вкрадчиво-соблазнительный, недоговаривающий, насмешливый и безнадежно печальный Сомов и — быстрый, горячий, экспансивный, смеющийся, лукавый и влюбленный в жизнь Бенуа! Не он ли за все новое, даже тогда, когда этого нового не приемлет его балованный вкус? Лишь бы не отстать, не пропустить случая, не пройти мимо яркого явления, хотя бы оно и отталкивало в первую минуту. В своем разнообразном художественном творчестве, не меньше чем в писательстве, он сказывается весь: противоречивый и парадоксальный критик, энтузиаст «себе на уме», глубокий эрудит и фантазер. Перед самой революцией мне пришлось подойти вплотную к его живописи, которую прежде, каюсь, я никак не мог разглядеть. Она казалась мне гораздо менее значительной, чем личность Бенуа, его образованность и совершенно исключительный ум, то, что называется ум талантливый, сквозящий в каждом слове и в каждом умолчании… В ту пору готовилась к печати одним петербургским издательством большая иллюстрированная монография о Бенуа[56]. Я должен был в числе других участников написать о его пейзажах. Несколько раз я захаживал к нему в кабинет-мастерскую, он раскрывал передо мной папки, наполненные версальскими этюдами, видами Бретани, эскизами костюмов и декораций для всевозможных театральных постановок. Бесконечно жаль, что не удалось ничего занести на бумагу тогда же (как не удалось написать и заказанную мне монографию о Сомове, для которой уже готовились клише).
 А. Бенуа.
Фронтиспис к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». 1905–1918.
А. Бенуа.
Фронтиспис к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». 1905–1918.
Сам Бенуа придавал особое значение именно этим пейзажам, «скромным наблюдением природы», как он говорил, не стильным композициям, не версальской лирике, не выдумкам и очарованиям своего «театра». И в самом деле, многое в этих «скромных» пейзажных этюдах открылось мне впервые: какая-то японская четкость формы, верность глаза, свобода рисунка, выразительность пятна. То, что представлялось малоинтересным, случайным, почти ученическим на выставках, вдруг ожило в рабочей обстановке, выглянув на свет Божий из вместительных папок художника. Да, это были этюды, но и больше: красиво скомпонованные, взятые в фокус внимания этюды-картины. Так зарисовывали природу старые мастера, невольно насыщая ее своей манерой, своим стилем. Некоторые из них я хорошо запомнил, словно вижу перед собой… Бретань? Конечно Бретань: изрезанный берег, скалы подползли к самому морю, насупленные, как развалины замков; отчетливыми планами чередуются профили их, не отражаясь гладкой водой, с лиловыми гребнями камней, торчащих на поверхности. А вот берег — издали, сверху: тоже скалы-руины, обросшие жесткой травой и кустарником; внизу поле со сжатым хлебом в копнах, длинные борозды меж, клин морского заливчика и покатые холмы на горизонте; огромные серые облака, такие же растрепанные и оттененные бороздами, обступили кусочек синего неба. И еще — дорога, шоссейная, береговая, как все в этой седой стране, живущей морем и воспоминаниями о викингах. Дорога врезалась в песчаную землю, забросанную валунами, и огибает группу каменных хижин, точно приросших друг к другу, с буро-красными черепичными крышами. Этих берегов много, с фигурами крестьянок в белых крылатых чепцах, застывших, как камни, на пригорках и подле старинных церквей, у берегов, желтеющих отмелями, испещренных грудами каменных осколков, поросших местами низкой обветренной елью… Но Бретань прячется в папки, и взамен показываются уголки каких-то модных пляжей с играющими на песке ребятами и по-импрессионистски солнечными пятнами. Потом мелькают окрестности Лугано: вечнозеленые, мягко очерченные холмы над волшебным озером; кое-где башенки деревенских колоколен над кудрями олеандров и туй. И все-таки невольно засматриваешься дольше на этюды Версаля. Удивительно строг Версаль Александра Бенуа, совсем не тот пышно суетный, раззолоченный, узорчатый, каким представляется он мне, знающему о резиденции Великого Людовика по мемуарам и рифмованным описаниям Делиля. Александру Бенуа и книги в руки. Ведь он там… жил при самом короле, и даже точнее: жил, все видел до самых дней его сварливой старости, опекаемых совращенной в иезуитство госпожой де Ментенон… Старый король не любит шума, не терпит суеты. Нет больше ни празднеств, ни музыки. Даже фонтаны звучат тише, чтобы не встревожить долгих королевских бессонниц. Двор облекся в темные камзолы и траурные плащи. Говорят шепотом. Ждут боязливо, надеясь втайне, освободительницы Смерти. А он, сгорбленный, исхудалый, не расстающийся с доктором и духовником, чувствует кругом это оскорбительное ожидание и молчит часами в своем низком кресле на колесах, смотря в неподвижную воду садовых бассейнов… Строгим кладбищенским безмолвием веет от версальских этюдов Бенуа. Словно он бродил невидимый по следам королевского кресла и подслушал мысли умирающего деспота. Но ведь перед нами этюды с натуры? Ведь это кладбище — современный Версаль, давно забывший о своем короле, переживший пять революций, переделанный в музей Наполеоном III, оскверненный немцами, чуть было не уничтоженный Коммуной Версаль Третьей республики, пригород для воскресных прогулок черни? Так почему же не встречаешь в нем прохожих, современных прохожих? Почему на пустынных его террасах и вон там, в аллее, приютившей мраморных богинь, нет-нет, а мелькнет огромный белый парик и треугольная шляпа, и какая-то пышная старуха в темно-лиловом кринолине чинно выйдет из дворца, остановится у балюстрады и костлявым пальцем своим покажем молоденькой дочери, зашнурованной до обморока узко, на заходящее вдали солнце? Полно, разве это этюды «скромного наблюдателя природы»? Разве — не пережитое прошлое, до Коммуны, до Наполеона, до революции? Когда после этих этюдов вспомнишь о картинах Бенуа, где он не хочет быть скромным, а с нескромностью очевидца рассказывает о том, что подсмотрела когда-то его древняя душа, становится понятным, откуда такое влияние сгона художников «Мира искусства». Ретроспективизм Бенуа — дар волшебства заражающего своей непосредственностью и притом, как я сказал, волшебства отзывчивого на все современное. В прошлом, которое он чувствует как пережитое, он любит не смерть, а вдохновляющий пример для настоящего. Он не замыкается, как Сомов, в своем заколдованном круге, а, побывав в стране мертвых, возвращается к жизни и ее художественным задачам обновленный, пламенным бойцом и созидателем. «Версали» Бенуа — сплошная импровизация. Ему не надо ничего выдумывать. Картины складываются непроизвольно, одна за другой. Достаточно ему взять любой этюд, написанный однажды в садах Ленотра, и сами собой из памяти его древней выплывают призраки, населявшие когда-то это пустынное теперь царство чопорной симметрии и тепличных затей. И вот сходятся опять около бесчисленных бассейнов, на украшенных статуями rond-points[57], придворные дамы в расписных портшезах и кавалеры с преувеличенными прическами, торчащими из-под пол камзолов шпагами и огромными пряжками на башмаках. Они встречаются и приветствуют друг друга низкими поклонами, опуская до земли снятые треугольные шляпы; разглядывают цветники в длинные свои лорнеты, отдыхают на скамьях… А вот прогуливается сам король, сопровождаемый свитой: жеманными маркизами, слугами-карликами, шутами и неграми в чалмах; или проносятся маскарадные хороводы, по-итальянски пестрые и шумные; или заезжие комедианты — бессмертная троица бродячих театров — Пьеро, Коломбина и Арлекин разыгрывают свои пантомимы на придворных подмостках… Манера, в которой все это написано, бесконечно далека от исторического натурализма. Скорее намеки, без заботы о выработке рисунка, иногда и вовсе «плохо» нарисованные, быстрые силуэты импровизатора, уверенного в своей сновидческой непогрешимости. И краски тоже — столько же «с натуры», сколько «от себя», тоже сквозь сон. В общем: живопись, приближающаяся к иллюстрации, к цветной графике. С другой стороны, чисто графическое творчество Бенуа удивительно живописно. В качестве украшателя книги (назову хотя бы иллюстрации для «Медного всадника» и «Пиковой дамы») Бенуа гораздо свободнее своих соратников по «Миру искусства». И тут цель достигается им не тщательной выработкой линий и раскраски, а тем же импульсивным приемом быстрого штриха, убеждающего намеком. Кто же предшественники Бенуа? Где источник его фантазии? Каким творцам подражает он невольно, а порой и сознательно? Их много, и родина их вместе с тем и его «вторая родина»: итальянский и французский dix-huitième[58] — Ватто, Фрагонар, Калло, Пьетро Лонги, Пиранези, Гварди и т. д. Но есть одно имя, которое хочется выделить, имя почти современного художника, повлиявшего очень заметно на всю «школу» наших стилистов: Менцель. Еще недавно, проездом в Берлине, я не мог оторваться от картин этого неподражаемого мастера, изливающего свой свет на все скучные залы Национальной галереи. Явление единственное в германской живописи. Подлинный кудесник, взявший у французов благородство и блеск изящества, а у германского гения — способность продумывать до конца всякую подробность…
 А. Головин.
Портрет Федора Шаляпина в роли Олоферна а опере А. Н. Серова «Юдифь». 1908.
А. Головин.
Портрет Федора Шаляпина в роли Олоферна а опере А. Н. Серова «Юдифь». 1908.
Направление «Мира искусства» часто упрекали в германизме. Находили, что Сомов типично немецкий иллюстратор-модерн, что Бакст безбожно подражает Бирдслею, наиболее привившемуся в современной, декадентской, Германии, и заодно чистокровным немцам, как Т. Т. Гейне, Заттелер, Фогелер, Диц, причем не уступают ему и Бенуа, и Лансере, и Добужинский. Даже Билибина уличали в том, что он заимствует свои боярские костюмы у Олеария и Герберштейна. В этом есть доля правды и… большая доза неправды. В искусстве заимствование — стимул. Трудно представить себе, во что бы обратились национальные школы живописи, если бы не подвергались взаимному перекрестному оплодотворению. Яркий пример — тот же Менцель, так чутко воспринявший французскую художественную культуру. Есть, конечно, староверы, готовые отречься от всего нашего европейства и признать преобразование Петром художества российского «от лукавого», но если встать на эту точку зрения, чего в России не отвергнешь и в XVII столетии, начиная с «фряжского[59] письма»?.. Как бы то ни было, после реформы Петра художественные влияния стали стремительно перекидываться к нам из Голландии, Германии, Франции, Италии, и не случись так, не разрослась бы волшебно быстро русская школа живописи в XVIII и XIX веках. Роль немцев, ближайших соседей наших, была в этом отношении очень большой, хотя и не самой заметной, при поверхностном взгляде. Через них отчасти влиял весь Запад. И нет здесь ничего неестественного или прискорбного. Такова история. Вообще же вопрос не в заимствованиях у того или другого народа, а в качестве источников и в национальной переработке заимствованных элементов. Мирискусники менее всего заслуживают упрек в подражательности. Источники их были хороши, а переработка, творческое усвоение чужеземных влияний лишний раз подтвердила необычайную восприимчивость русского дичка к прививкам из оранжерей Запада. Сомов — немецкий модернист? Какие сказки! Разве мог бы нерусский почувствовать так тонко наши 30-е годы, с дворянской праздностью усадебного быта, с укромными беседками для любовных встреч, с кисейными барышнями в бантиках и цветочках, с разочарованными юношами в прическах à la Чайльд Гарольд, со всеми черточками нашего, русского, прадедовского позавчера? А пудреный мирок Сомова, его шаловливые модницы в робронах Marie Antoinette[60] и ухаживающие за ними щеголи, маркизы и виконты «без пяти минут» — разве не призраки из той же отечественной были, что называется русским dix-huitième? Сомов нигде не подчеркивает своего намерения, но как бы невольно типами лиц, подробностями костюмов, характером жестов выдает природу этих воскресших дедов и бабушек, говоривших и думавших по-французски, но, конечно, не скупившихся на крепкие русские слова, коль провинится дворовая девка Машка или зазевается на козлах «дермезы» кучер Иван. Не отнимешь русскости и от последователя Сомова в области ретроспективных идиллий, Судейкина, — своевольного, эфемерного, кипучего, изобретательного и противоречивого Судейкина, словно из рога изобилия забрасывавшего выставки «Мира искусства» своими пасторалями, аллегориями, каруселями, бумажными балеринами, пастушками, овечками, амурами, фарфоровыми уродцами, игрушечными пряностями и витринными безделушками, оживленными куклами всех видов и раскрасок из фейных королевств Андерсена и Гофмана, из зачарованного мира детских воспоминаний и смежного с ним мира, где все невозможное кажется бывшим когда-то и все бывшее невозможным. Не только русский поэт, но и москвич типичный, с примесью пестрой азиатчины, этот неутомимый фантаст, играющий в куклы, так далек от современности и вместе с тем такой ей близкий, мыслимый только в нашу эпоху, противоречивую и хаотическую, ни во что не верующую и поверившую всем сказкам красоты. Не менее подлинным москвичом был и безвременно умерший Сапунов, с которым у Судейкина много общего и который состязался с ним в театральных выдумках, — автор туманно-пышных букетов пастелью и звенящих красками ярмарочных каруселей, тоже любитель кукольных парадоксов, причудливых масок и всякой «гофмановщины» на московский образец, включая и народный гротеск и трактирную вывеску, — чувственник цвета, единственный в своем роде автор непревзойденных красочных сочетаний, вдохновившийся «Балаганчиком» Александра Блока и шницлеровским «Шарфом Коломбины». Но разве не русский, в конце концов, несмотря на еврейскую кровь и экзотизм свой, изливающий сладострастие Востока изысканнейший Бакст, прославленный дягилевскими балетами в Париже и рисунками женских платьев для Пакена и Пуаре, а до того с успехом испытавший свои силы в самых различных областях: в качестве портретиста, пожалуй, и весьма благоразумного, и в качестве дерзкого графика, особенно на страницах «Мира искусства», и как театральный декоратор (балет «Фея Кукол»), и как пейзажист в «большом стиле» (картина «Terror Antīquus»[61]), и как остроумный иллюстратор-ретроспективист (гоголевский «Нос»), и как многообещавший мебельный мастер (обстановка известного коллекционера А. А. Коровина)… Недаром было столько сказано о русской «всечеловечности», о необыкновенной емкости нашего европейства, умеющего вместить самые противоположные начала и заставить звучать их как творческий синтез, немного варварский, допустим, на глаз старых западных civilisés[62], но тем более оригинальный, свой собственный, хоть и навеянный. Только в обстановке русской культуры, парадоксально смешанной и все же какими-то корнями проникающей глубоко в отечественный чернозем, и могли создаться таланты таких русских космополитов, как Бакст или Александр Бенуа. Ни в какой другой стране такие невозможны. Это ли не национальная самобытность? Шехеразада Бакста и даже его пунктиры по Бирдслею, что ни говорите, не Персия и не Англия, а Россия, так же как и доморощенный, хоть и версальский Louis Quatorze[63] Бенуа, и машкерады Судейкина и Сапунова, и сомовский Biedermeier[64], и усадебные ампиры в наших дедовских «Отрадных» и «Кузьминках», и рококо елизаветинских палат, и портреты Левицкого в стиле Лампи, Ларжильера и Наттье… И вовсе не исключительно национальны те художники, что остаются, как, например, Рябушкин, верны России XVII века и упрямо закрывают глаза на Европу, хотя бессознательно получают от нее очень многое из того, что считают истинно народным, или — как Стеллецкий — заимствуют вдохновение у первоисточника русского искусства, иконописи Новгорода Великого, но не желая повторять иконописных подлинников, а с другой стороны, не проникнутые религиозной духовностью древних изографов, превращают в стилизованные картины и цветистые заставки священную узорность русско-византийских образов.
 Н. Сапунов.
Смерть Пьеро. Эскиз декорации и мизансцены к пантомиме «Шарф Коломбины» А. Шницлера. 1910.
Н. Сапунов.
Смерть Пьеро. Эскиз декорации и мизансцены к пантомиме «Шарф Коломбины» А. Шницлера. 1910.
Талантом Стеллецкого, в частности, я очень любуюсь: его раскрашенными деревянными скульптурами, театральными иконосказочными эскизами, иллюстрациями к «Слову о Полку Игореве», аллегорическими панно и портретами бояр и царей, все в том же стиле византийско-русской изографии. Любуюсь его археологическими познаниями и декоративным чутьем, «отличным умением располагать складки одежд и создавать гармонии из ломаных плоскостей и угловатых линий» — как писал я однажды в предисловии к каталогу выставки Стеллецкого. Но… я никак не могу согласиться, что это внешнее восстановление средневековой традиции в XX столетии более национально-жизненно, чем продолжение путей, намеченных нашей живописью после Петра. Средние века были везде, у всех европейских народов, и везде в свое время художники, да и вся культура, византийствовали. Одежда, обычаи, богословие, иконопись, мозаики, фрески заимствовались из пышной столицы Константина. Византийское влияние в России, благодаря условиям историческим и церковным, было только последовательнее и куда прочнее: оно срослось и с православием и с русской государственностью на долгие века, приняв, особенно в религиозной живописи, черты настолько традиционные, что и сейчас, определяя время написания древней иконы, мы не застрахованы от ошибки лет на сто; в иных поселках иконописцев-кустарей, сохранивших традицию, и по сию пору изготовляются образа, похожие до мелочей на древние оригиналы «царских писем». Однако нет оснований полагать, что эта традиция, хоть и глубоко усвоенная Русью и ею переработанная гениально, обладает одна исключительной национально-творческой силой на вечные времена. Ничуть не бывало. В церковном зодчестве, например, русский византизм с течением лет обнаружил признаки естественного, старческого упадка. Так же как хотя бы западноевропейская gothique fleurie[65]. Вырождение, декоративное измельчание нашей иконописи, после Никона, тоже вряд ли подлежит сомнению. Я не спорю что можно вдохновенно возродить традицию византийскую (пример — Кирилловская роспись Врубеля). Но почему же менее законна традиция западноевропейская? Московские формы в свое время были изжиты, измельчали, и вот одновременно с этим измельчанием начался процесс впитывания нашим искусством новых соков, не с Севера варяжского, не с армянского и персидского Юга, не с Востока татарского, а с Запада, с того Запада, откуда во дни оны разбрелись по великорусским равнинам славянские племена. Реформа Петра I поторопила, правда, этот исторически естественный и неизбежный процесс. Россия как бы насильственно была отторгнута от исконной своей старины и потому, став покорной ученицей западной культуры, приобщалась сначала формам ее значительно больше, нежели духу, но уже спустя каких-нибудь полстолетия художники наши доказали, что ничто европейское им не чуждо и что гений народный, сквозящий во всем цветистом своеобразии русского «Востока», может проявить себя не менее щедро и в своеобразии русского «Запада». Я возвращаюсь настойчиво к этому национальному вопросу в нашем художестве, чтобы уяснить основной принцип, каким руководствовалась школа «стилистов», выступающая до сих пор, хотя и за рубежом (последняя выставка в Париже), под знаменем «Мира искусства»: принцип вкуса и разностороннего артистизма, независимо от источников вдохновения, от личных пристрастий. Отсюда — характер дилетантского своеволия и несколько поверхностного многоязычия, который можно поставить ей в укор, так же как чрезмерное увлечение начертательной выдумкой и графической раскраской, тем, что французы называют пренебрежительно «du coloriage»[66], в ущерб чистой живописи, живописного мастерства — «belle peinture»[67]. Станковые картины Бенуа, Сомова, Лансере, не говоря уже о Судейкине, часто смущают недочетами формы и «иллюстрационностью» общего цвета. То, что пленительно в книжной заставке гуашью, режет глаз в большем масштабе, на холсте. Одна из таких неудач, например, бывшая на выставке «Салон» 1909, «Парад при Павле I» Бенуа. И это тем досаднее, что в свои хорошие часы он создавал пламенные по рисунку и глубокие по тону картины, хотя бы «Итальянскую комедию». Сомов ровнее, несравненно законченнее, более мастер, подчас даже совсем безукоризненный мастер (иные «Фейерверки», «Радуги» и «Арлекинады», эротические рисунки, а также портреты Добужинского, Федора Сологуба, Александра Блока и др.), но иногда он кажется сухим и ремесленным, особенно в позднейших произведениях, и это дает повод некоторым критикам считать его по преимуществу графиком. Хотя я сэтим не согласен и восхищаюсь изысканным мазком Сомова и солнечным трепетом его летних пейзажей («Купальщицы», «Конфиденции»), но я должен признать, что, как живописец, он ни разу, пожалуй, не достигал «менцелевской» звучности «Итальянской комедии». Сомов, насколько мне известно, не работал для театра. Он остался верен станковой миниатюре, следуя заветам маленьких голландцев и художников «комнат» Венециановской школы (без особой натяжки его можно назвать преемником этих «маленьких русских», тонких изображателей дворянского intérieur’a[68]). Но из петербургских стилистов один Сомов, кажется, не испытал себя как декоратор. Театральная живопись — еще более характерный для мирискусников уклон от belle peinture, чем уклон в сторону книжной виньетки. Можно сказать, что знаменательный для наших 900-х годов расцвет театрального новаторства наполовину создан живописцами. До такой степени, что стало своевременным говорить о засилии театра живописью и vice versa[69] — о порабощении живописи театром. И это так понятно. Стилизм всегда нуждается в применении, в прикладном оправдании. Попытка создать новую художественную промышленность, распространить изысканный вкус на предметы домашнего обихода (мебель, гончарные изделия, стекло, вышивки и т. д.) вскоре была оставлена дягилевцами. Неорусское возрождение с талашкинским и абрамцевским кустарничеством определенно «не вышло». Опыт создания стильных обстановок (по рисункам Бенуа, Бакста, Грабаря, Головина и др.) так и оборвался на первой показательной выставке, устроенной в 1903 году кн. С. А. Щербатовым («Современное искусство»). Жизнь не поощрила этого начинания, требовавшего щедрости и воображения от публики, либо равнодушной ко всякой обстановочной роскоши, либо преданной до суеверия бонтонности дедовских кресел красного дерева и антикварным или магазинным пышностям в стиле Людовиков. Найти применение своим силам и фантазии на этом поприще «приближения искусства к жизни» мирискусникам не удалось. Отдельные попытки возобновлялись и давали порой отличные результаты, но не вызывали рыночного спроса, без чего никакое полуремесленное производство невозможно. Только в последние годы перед войной, особенно в Москве, создавалась почва для расцвета «малых искусств» и декоративной стенной живописи. Множились роскошные особняки, рестораны, банки, вокзалы, и строители их, из молодых академиков, привлекали к внутреннему убранству выдающихся мастеров стиля, которых еще недавно принято было считать озорниками и декадентами. Зато театр сразу оказался к услугам стилизма. В обеих столицах театральное новаторство заключило тесный союз с ретроспективной ученостью и красочным своеволием передовых художников. Здесь разноязычный историзм и всякая фантастика пришлись ко двору. Толпа не понимала картин, но рукоплескала декорациям и костюмам. И художники сделались страстными театралами, двинулись штурмом на храм Мельпомены, превратились в слуг ее ревностных, в бутафоров, гримеров и постановщиков. И драма, и опера, и балет были постепенно захвачены этой дерзающей, влюбленной в прошлое и открытой всем современным соблазнам живописью, изобретательной, нарядной, порой изысканной до извращения, порой варварски яркой, переходящей незаметно от манерности «стиля раковин» в экзотику мавританской «тысяча и одной ночи», от петровской «Голландии» и ампирных веночков — в красочность пузатого Поповского фарфора, вербных херувимов и балаганных Петрушек, от татарской роскоши Годуновских палат — в романтическую «Испанию» Теофиля Готье и Мериме, от сказочных туманностей северных саг — в узоры готических цветных стекол, от лубочной пестроты «Берендеевки» Островского — Васнецова — в лермонтовский маскарад Головина, от нежных сумерек судейкинской «Сестры Беатрисы» — в гаремное сладострастие его «Константинополя» из «Забавы дев» М. Кузмина, от драгоценных россыпей Врубеля в подводном замке Морского Царя — в языческую чару, далекую и жуткую, «Священной Весны» Рериха…
V Врубель и Рерих
Случайно написались эти два больших имени рядом. Но если вдуматься — рядом стоять им и подобает, несмотря на несоизмеримость их талантов, полнейшую противоположность личных черт и несходство жизненных путей… Врубель, страдалец порывистый и нежный, гордый до ребячества, страстный до безволия и разгула, гениальный до болезни, и — Рерих, баловень судьбы, уравновешенный до черствости, упорный, как хорошо слаженная машина, гениально здравомыслящий и добродетельный до абсолютного эгоизма!.. Врубель всегда горяч, пламенен, одержим любовью всеозаряющей, даже тогда, когда в припадках болезненной ненависти искажает судорожной злобой лик своего Демона. Рерих всегда холоден, неизменно, жутко нем даже тогда, когда хочет быть ласковым и осветить человеческим чувством каменную пустынность седых далей. Врубель — весь сверкающий, изломанный, мятущийся в поисках неутомимых, в грезах вихревых, в любви, взыскующей чуда, в созерцании зыбкости форм и красочных трепетов, весь в напряженном движении, зоркий, тончайший, ослепительный. Рерих — сумрачный или холодно-цветистый, странно спокойный, уверенно прокладывающий свой путь по дебрям неподвижным, среди скал приземистых и валунов, на берегах, где все застыло, где все из камня — и люди, и облака, и цветы, и боги… И тем не менее… Уж одно то, что их можно противополагать друг другу, мученика Врубеля, долго не признанного, до конца дней не понятого, распятого медленным распятием позорного недуга, и плодовитого, сразу прославленного удачника Рериха, даже в дни революции избравшего счастливый жребий и ныне блистающего в стране долларов, уж одно то, что это сопоставление не кажется неуместным, а как-то само собой напрашивается, доказывает, что есть нечто в творчестве обоих, на глубине какой-то, не на поверхности, роднящее их, сближающее и дающее право говорить о них одним языком. Оба они — потусторонние. Кто еще из художников до такой степени не на земле земной, а где-то за тридевять царств от действительности, и притом так, будто сказка-то и есть вечная их родина — jenseits vom Guten und Bösen[70]? Оба они — горние и пещерные: волшебствуют на вершинах, для которых восходит и заходит не наше солнце, и в таинственных гротах, где мерцают самоцветные камни невиданных пород. С этих вершин открываются дали таких древних просторов, в этих гротах такое жуткое безмолвие… Если спросить Рериха, что он больше всего любит, он ответит: камни. Сказочным окаменением представляется мне мир Рериха, и краски его ложатся твердые, словно мозаика, и формы его не дышат, не зыблются, как все живое и преходящее, а незыблемо пребывают, уподобляясь очертаниями и гранями своими скалам и пещерным кремням. И в живописи Врубеля есть начало каменное. Разве не из хаоса чудовищных сталактитов возник его «Сидящий Демон», написанный еще в 1890 году, т. е. непосредственно после того, как были им созданы эскизы — увы, невыполненные — для росписи Владимирского собора[71], продолжение гениальное замыслов Александра Иванова (акварели на библейские темы). Не высечен ли из камня, десятью годами позже, и врубелевский «Пан», седокудрый, морщинистый, зеленоглазый леший-пастух, могучий, огромный, невероятный, веющий всеми древними истомами страстных таинств? Такой же и «Богатырь» Врубеля в зарослях дремучего бора, изваянный вместе с конем своим страшилищем из глыбы первозданной. Нечеловеческие, не дружные с естеством земным образы манили и терзали Врубеля, и язык красок, которым он воплощал эти образы, — сверкание волшебных минералов, переливы огненной стихии, затвердевшей в драгоценном камне. Недаром наука магов суеверно чтит природу камней, считая их обиталищем гениев; заклинательными формулами, обращенными к ним, наполнены фолианты герметистов[72] и алхимиков. Искусство Врубеля возродило мудрость этих естествоиспытателей чуда. Он вещал о чудесном. Чтобы явить нам апостолов, Христа и плачущую над Его гробом Богоматерь, чтобы рассказать о красоте истерзанной падшего Духа, которым он всю жизнь бредил, он приносил из магических подземелий пригоршни небывалых кристаллов и с гор недосягаемых лучи довременного солнца. Врубелю нужны были стены, стены храмов для осуществления декоративных пророчеств, наполнявших его душу. Один раз, в самом начале творческой дороги, ему удалось добиться этого права, и то, что он осуществил, — красота непревзойденная: я говорю о Кирилловской росписи. Но никто не понял. И даже много лет спустя, когда самые благожелательные наконец увидели, все же оценить не сумели. В восторженных статьях, на страницах «Мира искусства» 1903 года[73], и Александр Бенуа (сначала уличавший Врубеля в «ломании» и «гениальничании»), и Н. Н. Ге ставят ему в укор как раз наиболее прозорливое в этих фресках — близость византийской традиции — и отдают предпочтение алтарным иконам, написанным под впечатлением венецианского кватроченто, Чима да Конельяно и Джованни Беллини. Между тем именно в византизме молодого Врубеля сказался его гений. Он почуял — первый, одинокий, едва выйдя из Академии, никем не поддержанный, — что родники неиссякаемые «воды живой» таятся в древней нашей живописи и что именно через эту живопись православного иератизма[74] суждено и нам, маловерным и омещанившимся, приобщиться истинно храмовому религиозному искусству: и декоратизму его и мистической духовности. Это было в начале 80-х годов. До того Врубель, по окончании университета, учился года четыре в Академии, где приобрел славу образцового рисовальщика. Классные работы Врубеля: композиции «Из римской жизни», «Натурщица» (1883) (собрание Терещенко в Киеве) и др. — действительно мастерство исключительное. Но Академии он не окончил и никогда больше не воспользовался школьным своим стилем. Все дальнейшее его творчество — убежденное отрицание академического канона. М. Врубель.
Автопортрет. 1904.
М. Врубель.
Автопортрет. 1904.
Врубель был гений. Ему не пришлось мучительно преодолевать приобретенных навыков. Новая вдохновенно личная форма далась ему по наитию. Когда профессор Прахов обратился к двадцатичетырехлетнему ученику Чистякова с предложением реставрировать роспись заброшенной церкви Кирилловского монастыря близ Киева, этот ученик, еще ничего не создавший, был уже зрелым мастером, готовым на подвиги. Во главе целой артели подмастерий он лихорадочно принялся за гигантский труд (древняя монастырская стенопись XII века оказалась в таком виде, что надо было все создать заново). В один год нарисовал он более 150 огромных картонов, которые и были исполнены помощниками, и написал собственноручно: Сошествие Св. Духа на Апостолов в своде на хорах, а ниже — Моисея, Надгробный плач в аркосолии паперти, две фигуры ангелов с рипидами — в крестильне, и над входом в нее — Христа, и четыре образа для иконостаса: Спасителя, Богоматери, Св. Кирилла и Св. Афанасия. Для меня несомненно, что роспись Кирилловской церкви — высочайшее достижение Врубеля, и притом достижение глубоко национальное, что бы ни говорили о нерусском (польском) происхождении художника и его эстетическом космополитизме. Гениальное искусство всечеловечно, но гений оттого и гений, что умеет подслушать внушения великой нации. Его духом творит народ и в его духе себя обретает. Дело тут не в византийском каноне, — ведь обращались к нему и будут обращаться многие художники в стране, где до сих пор еще жива ремесленная традиция иконописания, — а в пламенном претворении художественной сущности взлелеянного столетиями церковного нашего искусства. Я подчеркиваю — художественной, ибо с точки зрения чисто религиозной, православной, вероятно, далеко не безупречен Врубель. Я вовсе не хочу сказать, что в нашу безбожную эпоху он возвысился до того идеала народной святости, которым насыщено творчество изографов-схимников старины. Конечно нет. То, что выразил Врубель, если покопаться придирчиво, — я не знаю, окажется ли таким же благостным, как те серебристые и бархатистые краски, которыми он написал «Сошествие Св. Духа» и «Надгробный плач». По крайней мере на меня от всех ликов Врубеля-иконописца, из всех этих зрачков, пристальных, немыслимо расширенных, огромных, веет потусторонней жутью, что сродни соблазнительному пафосу его вечного спутника — Демона. Нет, я говорю о Врубеле-художнике, не о Врубеле-мистике, о художнике до крайности субъективном и в то же время — вот здесь-то и диво! — угадавшем сверхличный лад искусства, завещанного народными веками. Самое же поразительное в византийстве Врубеля та свобода, с какой он пользуется иератической формой, насыщая ее своей мечтой и обнаруживая жизненность застылых, мертвенных, как нам представлялось еще недавно, канонов. Что создал бы Врубель, если бы ему дана была возможность продолжить гениальный юношеский опыт, если бы хоть немного поняли его тогда… Если бы! Окончив работу в Кирилловской церкви, он сразу стал готовиться к новому, еще большему подвигу, к росписи Владимирского собора, которой тоже заведовал Адриан Прахов. В киевском собрании Терещенко сохранилось множество акварелей, проектов этой росписи, — огненный след невоплощенного чуда. Они были изданы лет пятнадцать назад «Золотым руном». Еще острее и необычайнее отразилась в них прозорливая фантазия Врубеля, роскошь красочного замысла и линейного ритма сочетались с неизъяснимо-страдальческим эзотеризмом: преображенная плоть, сияние радуг надмирных, лучи и нимбы запредельного света, струящиеся складки легких риз и взоры, грозные, жуткие, узревшие несказанное… Но был один недостаток в проекте Врубеля: гениальность. С этим недостатком не могли примириться ни Прахов, ни его покровители из сановного духовенства. Заказ был передан Виктору Васнецову, которым тогда начали восторгаться. Врубелю поручили только украсить орнаментом часть пилонов[75]. Он вдохновенно выполнял и эту задачу (в конце 80-х годов), превратив мотивы византийского и древнерусского узоров в какую-то прихотливую сказку-симфонию растительно-суставчатых форм и научив многому Васнецова, который умело использовал и врубелевский орнамент, и его реставрацию Кирилловских фресок, использовал именно так, как требовалось, чтобы толпа «приняла». Васнецов-то был достаточно не гений для этого. И невольно спрашиваешь себя, не явилась ли первая несправедливость по отношению к Врубелю, на которого решительно никто не обращал внимания, в то время как пелись дифирамбы Васнецову, не явилась ли эта обидная неудача исходной точкой всего последующего его мученичества? Современники не позволили ему слагать молитвы в доме Божием, и уязвленная гордость его стала все чаще обращаться к тому Духу тьмы и ненависти, который в конце концов испепелил его воображение, довел до безумия и смерти. Творческое равновесие было утрачено, заветная цель отодвинулась куда-то, начались и житейские невзгоды, борьба за кусок хлеба и, главное, сознание своей непонятости, беспросветного, обидного одиночества. Даже «Мир искусства» отвергал сначала его картины (не был принят на выставку 1899 года и «Богатырь»), а критика просто молчала о нем, как будто и не было его вовсе, до той минуты, когда (после падшего «Демона») стали опрокидываться на его голову ушаты насмешек и идиотских нравоучений. Как бы то ни было, Врубель не сдался. Он не изменил ни своей никому не доступной манере, ни призванию декоратора в «большом стиле». Нищенствовал, но не писал того, что требовал современный вкус. Лучшим доказательством, что он умел «быть как все», может служить вполне реалистский, приближающийся к Серову, портрет Арцыбушева. Какой прославленной знаменитостью сделался бы он, захоти только множить эти «портреты портретовичи», как выразился один остроумец. Он не захотел, предпочел работать для себя и отдавать задаром фантастическое свое «гениальничание» нескольким меценатам, у которых хватало смелости удивлять знакомых необычайностью Врубеля. Московская денежная знать заказывала ему панно для особняков в декадентском стиле, входившем тогда в моду. Он брался с увлечением за эту стенную живопись, неистощимый в композиции, ослепительный в красках, не уступающий ничего из своих художественных убеждений и расплачиваясь за свое упорство частыми неудачами у заказчиков. Так создались «Суд Париса» (1894), триптих, напоминающий, пожалуй, Пюви де Шаванна, затем серия декоративных композиций на сюжет «Фауста» для Морозовых («Полет Фауста и Мефистофеля», «Фауст и Маргарита» и др.), три панно «Времена года» (1897), неподражаемо-сказочная «Царевна Лебедь» (1899). Тогда же написаны им гигантские панно для Нижегородской выставки: «Принцесса Греза» и «Микула Селянинович» (1896), торжественно не принятые, выдворенные вон с выставки по приговору академического ареопага.
 М. Врубель.
Пан. 1899.
М. Врубель.
Пан. 1899.
Необыкновенна плодовитость Врубеля в эту пору жизни, т. е. с 90-го года, когда он переехал в Москву, и до страшного приступа душевной болезни в 1902-м. Он берется за все, что дает ему повод утолить свою страсть к волшебному орнаменту и излить сердце красотой сказочной. Он работает усердно в гончарной мастерской села Абрамцева, возрождая вместе с М. Якунчиковой и Е. Поленовой русский кустарный стиль, и овладевает в совершенстве техникой нежных майоликовых полив («Камин», «Купава», «Морские царевны»), расписывает «талашкинские» балалайки, создает декорации для «Царя Салтана» мамонтовской постановки. Он пишет былинные картины («Садко», «Богатырь»), пейзажи с цветами и животными («Сирень» — 1901, «Кони» — 1899), портреты жены, артистки Забелы-Врубель, с которой навсегда соединила его «Волхова» из «Садко» Римского-Корсакова, иллюстрирует Лермонтова (1891) и Пушкина (1900) (изумительная акварель «Тридцать три богатыря»)… Всего не перечислишь. Но сверкающей нитью через творчество столь разностороннего мастера — скульптора, гончара, монументального декоратора, станкового живописца, театрального постановщика — проходит мысль-бред: Демон, «Дух гордости и красоты, дух ненависти и глубокого сострадания, истерзанный и великолепный дух», как талантливо определил однажды А. Бенуа (цитирую на память). Десять лет прошло после первого воплощения этого рокового образа (первого ли?). С тех пор у каменного, пещерного Демона 90-го года выросли гигантские крылья из павлиньих перьев и чело украсилось мерцающей опалами диадемой, и лик стал соблазнительно страшен. Молодой «Демон» Врубеля кажется мускулистым, мужественно-грузным титаном, только что возникшим из волшебных недр природы и готовым опять войти в нее, исчезнуть в родимом хаосе. На картине 1902 года перед нами Дух, вкусивший всех отрав греха и наслаждения, созерцавший Бога и отверженный Богом, околдованный роскошью своего одиночества, Серафим-гермафродит, проклятый и проклинающий, простертый беспомощно, судорожно-угрюмый. Свое ли угаданное безумие хотел выразить художник в этом символе страстной гордыни? Возможно. Но возможно, что не только призраком собственной муки являлся для него этот спутник жизни… Праздно было бы гадать. «Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь, — говорит Достоевский, — тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Достоевский все же пишет «дьявол» с маленькой буквы, Врубель написал с большой. Я увидел Врубеля в том же 1902 году на выставке «Мира искусства». Он привез свою картину из Москвы, где она была выставлена только несколько дней. Художник все не решался признать ее законченной. В Петербурге началась та же пытка. Не успели повесить холст, как Врубель принялся опять переписывать. Ежедневно до двенадцати часов, когда было мало публики, он сосредоточенно «пытал» своего Демона, стирал и накладывал краски, менял позу фигуры, усложнял фон, переделывал больше всего лицо, в конце концов, может быть, искомкал кое-что. Это уж было не творчество, а самоистязание. Спустя два месяца его поместили в больницу для душевнобольных. Случалось с ним «это» и прежде, но не в такой острой форме. Позже еще два раза возвращался Врубель к жизни и немедленно брался за кисти. В эти светлые перерывы создано им немало замечательных холстов и огромное количество рисунков. Каждый раз ему казалось, что теперь-то и начнется «настоящее». Особенно плодовит был 1904 год, когда художник жил в московской лечебнице доктора Усольцева. Написаны были два автопортрета, портреты семьи Усольцева, портрет жены (на фоне пейзажа с березами) и два или три других, акварель «Путь в Эммаус», эскизы «Иоанна Предтечи» и «Пророка Иезекииля», «Ангел с мечом и кадилом» и др. Совершенно исключительная по перламутровой прелести небольшая картина «Жемчужина» написана им в этот же период и несколько позже — превосходный, до жути выразительный портрет поэта Брюсова, оставшийся неоконченным (1906), — кажется, последняя работа перед смертью, наступившей только в 1910 году, — и портрет жены художника в лиловом платье «с камином» (1904), тоже неоконченный. Можно наполнить целую книгу анализом этого призрачного портрета (лицо едва намечено), так полно отпечатлелся на нем лихорадочный темперамент Врубеля-живописца, боготворившего трепеты формы, волшебство земного праха, чудесные его отдельности, изломы тканей, мозаику светотени, мятежные неясности цвета. Здесь он не «каменный», а огненный и дымный. Но какая точность наблюдения в этой фантасмагории серо-фиолетового шелка, вспыхивающего розовыми бликами. Какое мудрое внимание к мелочам и какое свое отношение ко всему, что тысячу раз делали другие. Зная все секреты академического совершенства, Врубель непостижимо дерзко подходит к натуре «с другого конца», забывает начисто уроки Академии и творит какую-то легенду бликов, линий и плоскостей. За много лет до кубистов Врубель обращался с формой не менее самовластно, чем они, деформируя, если надо, анатомию тел и ракурсы, дробя на тонко очерченные фрагменты пересекающиеся поверхности предметов. «Кристаллообразной» назвали его технику, и действительно может казаться, что от «кристаллов» Врубеля до «кубов» Меценже один шаг. Но если вдуматься, кажущееся сходство сведется на нет и даже обратится в противоположность. Ведь кубизм, по сущности своей, сугубо материалистский формализм. Он оставляет природе одни объемы и плоскостные сечения, дабы лучше передать вещественную математику форм. Он стереометричен, он абстрактен, отнюдь не психологичен и не декоративен. Приемы Врубеля, напротив того, именно психологичны и декоративны. Его нисколько не занимают объемы, как таковые. Он ломает обычную цельность зрительного восприятия, чтобы сообщить формам трепет как бы изнутри действующих сил. Он одушевляет. Для него материя словно вечно рождается из хаоса, его мир — становление, неразрывно связанное с человеческой мыслью и с человеческой роскошью красоты. В этом искусствовоззрении безусловно сказалось изучение художником византийско-русской изографии: линейная иконописная узорность вытекает из требований декоративных и иератических. Иконописец не мог изображать природу реально, во-первых, потому что хотел вызвать образом не впечатление яви, а потустороннюю грезу, иную землю и небо иное; во-вторых, потому что византийская традиция вышла из украшения плоскости, стены храма, иконной доски, пергаментного листа и была враждебна трехмерной иллюзии (отсюда и обратная перспектива): тут вопрос стиля… Теми же мотивами отчасти руководствуется Врубель. Он не хочет быть «натуральным», сознательно отступая от видимости явной во имя правды магической. И так же стремится он к украшению плоскости, не только к изображению на плоскости.
 М. Врубель.
Царевна-Лебедь. 1900.
М. Врубель.
Царевна-Лебедь. 1900.
Кубизм произошел, главным образом, от страстной преданности Сезанна третьему измерению, глубине в картине. Разложение формы на «кубы» — последствие этого устремления от плоскости холста в трехмерность, а впоследствии даже в «четвертое измерение». Врубель, наоборот, скорее графически разрешает задачу, от трехмерности тяготеет к двум измерениям и, если не побояться метафоры, можно сказать, что склонен идти еще дальше в этом направлении, тяготеет к одному измерению, к точке, т. е. к средоточию не физической, а духовной природы… Я решусь утверждать, что чем больше измерений в живописи, тем она дальше от духа, и потому во все эпохи искусство священное, иератическое, словно боялось трехмерного пространства. И Врубель инстинктивно чуждался сезанновской глубины и в стремлении к своей внемирной, духовной, демонической выразительности упирался в «точку». Не этой ли «точки» болезненно допытывался он, переделывая без конца искривленный лик своего «Демона», углубляя провалы чудовищно раскрытых глаз, словно в их выпуклых зрачках, изнутри озаренных, воистину средоточие неизреченной духовности? О, конечно, путь опасный эти врубелевские глаза, эта жажда абсолюта в живописи. Художнику не дозволено выходить из трехмерности. Он смеет лишь удаляться от нее до известной степени. Пикассо, выскакивающий в гинтоновское четвертое измерение, кажется безумцем. Врубель, загипнотизованный безмерностью демонского взгляда, погиб в безумии Ослепительные драгоценности приносил он из своих заклятых пещер и лучи ослепительные с гор обрывистых. И сам ослеп. Навсегда.
 Н. Рерих.
Небесный бой. 1912.
Н. Рерих.
Небесный бой. 1912.
В других пещерах и на других высотах волшебствует Рерих, и сердце ледяное предохраняет его от многих искушений… Но есть и у него свой демон только невидимый, безликий, может быть, даже не сознанный им. Когда-то в одной из первых статей, что я написал о Рерихе (в пражском журнале «Volné Směry»), я позволил себе именно такое психологическое «углубление» исторических и доисторических сказок Рериха (с которым я тогда часто виделся). Помнится, я говорил в этой статье об Ормузде и Аримане[76] в национальной психике и находил начало Ариманово в живописи Рериха. Вспоминаются мне и слова о нем, напечатанные несколькими годами позже: «Он пишет, точно колдует, ворожит. Точно замкнулся в чародейный круг, где все необычайно, как в недобром сне. Темное крыло темного бога над ним. Жутко. Нерадостны эти тусклые, почти бескрасочные пейзажи в тонах тяжелых, как свинец, — мертвые, сказочные просторы, будто воспоминания о берегах, над которыми не восходят зори», и т. д. С тех пор прошло около двадцати лет. Картины Рериха стали гораздо светлее и цветистее; под влиянием работ для театра (следуя примеру стольких мирискусников, он сделался ревностным постановщиком) его символика приобрела черты несколько эклектической декоративности… И, однако, я не откажусь и теперь от тогдашних моих замечаний. В то время (1903–1904) Врубель после периода невменяемости опять «воскресал». Рерих, насколько я помню, переписывался с ним и посещал его — наездами в Москву — в клинике доктора Усольцева. Его влекло к Врубелю, к эзотерическому мятежу Врубеля, к великолепному бреду Врубелевского безумия. Он постоянно восхищался им, упоминал о нем с благоговением, всегда как-то особенно понижая голос. Многое в мученичестве вдохновенном Врубеля открылось мне в ту пору через творчество Рериха. В его мастерской (в здании Академии художеств) стоял только что тогда оконченный им эскиз росписи, громадный холст «Сокровище Ангелов», — художник, не знаю почему, позже уничтожил эту картину, производившую на меня большое впечатление. На фоне сумрачно-иконного пейзажа с Кремлем небесным и узорно-ветвистым древом стояли, в облаках, рядами, друг над другом, ангелы-воины, хмурые, грозные, с затаенной мыслью-гордыней в огромных византийских зрачках, — на страже загадочного «сокровища», конусообразной каменной глыбы, отливающей иссиня-изумрудными мерцаниями. Эти «Ангелы» Рериха тревожили не меньше врубелевских «Демонов». Тайными путями соединялись для меня зловещие их державы, и, вероятно, к обоим авторам вместе, глубоко «пережитым» мною в те годы, обращалось мое стихотворение, тогда напечатанное, — в памяти сохранились следующие строки:
И голос мне шептал: здесь сердцу нет пощады;
здесь гасит тишина неверные лампады,
зажженные мечтой во имя красоты…
Здесь молкнут все слова и вянут все цветы…
Здесь бреды смутные из мрака возникают;
как тысячи зеркал, в душе они мерцают,
и в них мерещится загробное лицо
Непостижимого. И скорбь земных раздумий,
испуганная им, свивается в кольцо
у огненных границ познаний и безумий.
 Н. Рерих.
Песнь Сольвейг. Эскиз декорации для постановки драмы Г. Ибсена «Пер Гюнт». 1912.
Н. Рерих.
Песнь Сольвейг. Эскиз декорации для постановки драмы Г. Ибсена «Пер Гюнт». 1912.
Живопись Рериха не сразу была «принята» «Миром искусства». Дягилевцы долго ему не верили. Опасались и повествовательной тяжести, и доисторического его археологизма, и жухлости тона: а ну как этот символист из мастерской Куинджи — передвижник наизнанку? что, если он притворяется новатором, а на самом деле всего лишь изобретательный эпигон? Более чем равнодушно встречены были первые картины, выставленные Рерихом в академические годы: «Гонец» (1897), приобретенный Третьяковым, еще раз доказавшим свое умение угадывать будущую знаменитость, «Старцы собираются», «Поход», «Старая Ладога», «Перед боем» и т. д. (1898–1899). Недоверие не было поколеблено и двумя годами позже, когда Рерих, после заграничной поездки, выступил в Академии художеств с целой комнатой картин, на которых уже заметно сказывалось влияние Парижа (он занимался несколько месяцев под руководством Кормона): «Зловещие», «Идолы», «Поход Владимира на Корсунь», «Заморские гости», «Княжая охота», «Священный очаг», «Волки» и ряд других. Но не поощряемый «молодыми» и, конечно, порицаемый «стариками», молодой художник быстро нашел свою публику. Времена изменились. Все непривычное, оригинальное, проникнутое фантазией и «настроением», входило тогда в моду. Рериху не пришлось бороться с безвестностью в ожидании лучших дней. Он вступил на художественное поприще, как победитель заранее… и слава, покровительница самоуверенных и стойких, не заставила себя ждать. Весь путь его — стройный на редкость ряд удач, которыми обязан он столько же дарованию, действительно глубоко оригинальному, сколько и совершенно исключительной силе характера.
 П. Сезанн.
Автопортрет. 1880.
П. Сезанн.
Автопортрет. 1880.
«Зловещих» (стая воронов на берегу сумрачно-пустынного, древнего моря) приобрел Музей Александра III, а в следующем году, уже с выставки «Мир искусства», покупается Третьяковской галереей картина «Город строят». Это вызывает бурю в большой прессе: после смерти Третьякова пристрастье его наследников к «декадентщине» представлялось «правому» лагерю чуть ли не кощунством, и Рериха, одного из первых избранников нового жюри, критика не щадила… Имя его начинает греметь. Он еще выставляет немного, недоверие в кругах «Мира искусства» еще как будто не рассеялось, но непререкаемый успех уже близок. Вслед за «Городком», «Севером», «Волхвами» и «Ладьи строят» — новым очарованием повеяло от композиции «Древняя жизнь» (1903), написанной значительно легче, прозрачнее, без следа той тусклой черноты, что портит ранние холсты. В 1905 году был окончен «Бой», тоже попавший в национальную галерею — с выставки, устроенной мною, зимой 1909 года, в Первом кадетском корпусе. На этой выставке, под названием «Салон» русских художников[78], Рерих занимал центральное место. Перед тем он не выступал несколько лет, но трудился много, и на любимом севере и за границей, и накопил ряд образцовых произведений. Кроме «Боя» и упомянутого выше «Сокровища Ангелов» тогда выставлены были «Колдуны», «Дочь Змея», два церковных intérieur’a, «Голубая роспись» и «Пещное действо» и множество финляндских этюдов.
 П. Пикассо.
Портрет Воллара. 1909.
П. Пикассо.
Портрет Воллара. 1909.
«Голубая роспись», как и картина «Дом Божий», выделявшаяся на «Союзе» 1904 года, — плоды поездок мастера по русским «святым местам». Рерих подлинный знаток народной истории; эта нота в его искусстве (да и в литературных трудах) звучит особенно убедительно. Я не знаю, кто еще так остро почувствовал и запечатлел национальный лад, какое-то задумчиво-грузное, почвенное своеобразие древней архитектуры нашей. Этюды Рериха[79], которыми можно было любоваться на постоянной выставке Общества поощрения художеств в 1904 году, незабываемо выражали красоту новгородской и псковской старины и послужили немало современному ее «возрождению» (этюды эти, к сожалению, были доверены какому-то авантюристу, который увез их в Америку, где они исчезли). С другой стороны, автор «Дома Божьего» (картина навеяна архитектурным пейзажем Печерского монастыря близ Новгорода) и «Голубой росписи» (под впечатлением ярославских фресок) занялся усердно и религиозной живописью. Примечательными достижениями его в этой области явились образа для церкви в имении В. В. Голубева «Пархомовка» (Киевской губ.) и позже стенопись в церкви, построенной кн. М. Кл. Тенишевой в Талашкине. Было исполнено им и несколько других больших церковных заказов… Но останавливаться на иконописи Рериха я не буду. Отдавая должное его археологическим познаниям, декоративному вкусу и «национальному» чутью, — все это бесспорно есть и в иконах, — я не нахожу в нем призвания религиозного живописца. Рерих — все, что угодно: фантаст, прозорливец, кудесник, шаман, йог, но не смиренный слуга православия. Далеким, дохристианским, доевропейским язычеством веет от его образов, нечеловеческих, жутких своей нечеловечностью, не тронутых ни мыслью, ни чувством горения личного. Не потому ли даже не пытался он никогда написать портрет? Не потому ли так тянет его к каменному веку, к варварскому пантеизму или, вернее, пандемонизму безликого «жителя пещер»? Тайна Рериха — по ту сторону культурного сознания, в «подземных недрах» души, в бытийном сумраке, где кровно связаны идолы, и люди, и звери, и скалы, и волны. Мистичность Рериха, можно сказать, полярна врубелевской мистичности. В «ненормальном», неприспособленном житейски тайновидце Врубеле — все человечно, психологически заострено до экстаза, до полного изнеможения воли. В творчестве исключительно «нормального» и житейски приспособленного Рериха человек или ангел уступают место изначальным силам космоса, в которых растворяются без остатка. «Кристалловидная» форма Врубеля, дробная и колючая, — готическая, стрельчатая форма — как бы насыщена трепетом человеческого духа. Рериху, наоборот, словно недостает средств для воссоздания «подобия Божия»: тяжело закругляется и распластывается контур, которым он намечает своих каменных «человеков», узорные одежды срослись с ними, как панцири неких человекообразных насекомых, и лица — как маски без выражения, хоть и отплясывают ноги священные танцы и руки простерты к чудесным знамениям небес…
 Пюви де Шаванн.
Надежда. 1872.
Пюви де Шаванн.
Надежда. 1872.
На московском «Союзе» 1909 года был выставлен большой холст Рериха темперой — «Поморяне», в тоне которого сказалось влияние фресок quatrocento[80]. Создавая композицию этой картины, в первый раз пришлось ему связать несколько крупных фигур в движении; с этой задачей он не вполне справился и предпочел вернуться к импровизованным символическим пейзажам, оживленным мелкими фигурами. В 1911 году на «Мире искусства», в том же Первом корпусе, опять появилась серия этих пейзажей. Между ними — «Варяжское море», «За морями — земли великие», «Старый король», «Каменный век». Последняя картина — темпера, мерцающая золотистой гаммой, как и написанный несколько раньше «Небесный бой», принадлежит к самым пленительным рериховским грезам. Одновременно развивалась и его декорационная деятельность. Напомню об эскизах нескольких постановок, принесших ему славу театрального мастера: «Фуэнте Овехуна» (Лопе де Вега) для «Старинного театра» бар. Н. В. Дризена, «Пэр Гюнт» (Ибсен) для Московского Художественного, «Принцесса Малэн» (Метерлинк) для Камерного в Москве, два действия «Князя Игоря» (Бородин) и балет Стравинского «Весна Священная» для Дягилева. Театральные эскизы Рериха написаны темперой (иногда пастелью). Темперная техника становится вообще излюбленной его фактурой. Масло заброшено. И краски расцветают феерично, светлые и пряные, изливающие роскошь восточных тканей. В произведениях последнего периода именно красочные задачи преобладают над остальными. Темы по-прежнему — «рериховские», но чувствуется, что главное внимание художника сосредоточено на изысканностях цвета, от которых, на мой взгляд, веет все более и более… иллюстрационным холодом. Эта декоративная нарядность «нового» Рериха, в сочетании с окаменелой формой и с волшебной суровостью общего замысла, может быть, и придает его позднейшим работам особую остроту сказочности… и все-таки жаль «прежнего» Рериха, менее эффектного и театрального и глубже погруженного в омуты своей стихии. Я не раз испытывал это чувство на выставках в годы войны. Рерих ослеплял, но как-то меньше убеждал. Он выработался в виртуоза-фантаста самоцветных гармоний, но ни в рисунке, ни в композиции дальше как будто не шел… На последнем «Мире искусства», о котором мне пришлось писать в роковой год революции, Рерих был представлен 40 новыми произведениями, между которыми выделялись «Веления неба», «Мехески — лунный народ», «Озерная деревня», «Знамение», «Три радости»… Всего не припомню. Да как-то и тогда уже, на самой выставке, не отдельно воспринимались эти картины, не уводили каждая в свой особый мир, а переливались и мерцали вместе, как яркие полосы драгоценной парчи.
VI «Молодые» москвичи
Выставка «Голубой розы». — Борисов-Мусатов.
— П. Кузнецов, Сарьян, Крымов.
Еще до раскола «Союза русских художников» на петербургский «Мир искусства» и московский «Союз» наметилась в Москве группа начинающих живописцев и скульпторов, одинаково чуждых как стилизму петербуржцев, так и неореализму москвичей. Эта группа (большей частью выходцы из Училища живописи и ваяния) объединилась сперва около журнала «Искусство», издававшегося всего один год (1904–1905), под редакцией Н. Я. Тароватого, а в следующем году, когда стал выходить в свет ежемесячник «Золотое руно»[81] Н. П. Рябушинского, примкнула к его выставкам. Первое выступление московских аргонавтовназывалось «Голубая роза». В художественных кругах оно вызвало немалую сенсацию. Общество в то время еще не было приучено к быстрой смене направлений. Не успел водрузить своего знамени «Союз», как появились уже какие-то непокорные новички и отгораживались от старшего поколения новаторов с юношеским высокомерием. Участвовали на «Голубой розе» почти никому не ведомые тогда Павел Кузнецов, Н. Милиоти, Сапунов, Судейкин, Сарьян, Крымов, Уткин, Якулов, Феофилактов и др. Критика встретила их неласково. Даже в передовом лагере Петербурга и Москвы не могли простить декадентам «Золотого руна» незрелой претенциозности подражания Морису Дени и другим постимпрессионистам, о которых начинали достигать слухи в Россию. Но неприятнее всего было в этом модернизме, возросшем в теплице московской меценатской «утонченности», явно любительская расплывчатость символических намерений в духе Метерлинка и нарочитое пренебрежение рисунком. Изысканность красочных сочетаний была налицо, но для чисто декоративных целей эта живопись была чересчур интимна, а для станковой интимности недоставало ей формальной завершенности. Полотна молодых москвичей походили на смутные эскизы фантастических панно, предназначенных неизвестно для каких стен, в то время как сами авторы были уверены, что именно подобными лирическими мерцаниями красок, туманными симфониями цвета и делается поэзия картины. И все же талантливость дебютантов «Голубой розы» бросалась в глаза. Мне как-то сразу почувствовалось, что вот в русскую живопись влилась новая, свежая струя: «направление» минует, таланты останутся и найдут дорогу. И когда редакция «Золотого руна» обратилась ко мне с просьбой написать статью в журнале, критическую, но и отдающую должное экспонентам «Голубой розы», я написал эту статью, наперекор общему недоброжелательству, сочувственно отозвавшись о московской «символической» молодежи. Впечатление меня не обмануло. Не прошло нескольких лет, как обнаружились ярко и для всех убедительно дарования перечисленных выше художников, хотя объединившее их направление действительно сошло на нет вместе с прекратившим вскоре свое существование «Золотым руном». В. Борисов-Мусатов.
Водоем. 1902.
В. Борисов-Мусатов.
Водоем. 1902.
Вдохновителями этой группы были не только французы Понт-авенской школы, продолжатели того чисто красочного симфонизма, к которому пришли французские импрессионисты в начале XX века. На молодых москвичах отразились и гений Врубеля, и творчество другого безвременно угасшего мастера, большого поэта, прекрасного колориста, единственного в своем роде воскрешателя призраков… в эту эпоху мечты о том, что было и не будет вновь: Борисова-Мусатова. Мусатов — одна из самых трогательно-страдальческих фигур в русском художественном пантеоне. Маленький, больной горбун от рождения, он прожил свой недолгий век в мечтах — даже не о прошлом, а о каком-то своем призрачном мире нежности и красоты, который окрашивался для него в увядшие цвета белоколонных барских затиший. Грезой о несбыточной любви можно назвать всю его живопись, начиная с 1898 года (если не ошибаюсь), когда после нескольких лет Парижа и упорных занятий у Кормона он вернулся в Россию и написал известный «Автопортрет», находящийся теперь в Музее Александра III. Это светлый и красочный plein’air, четко отразивший уроки французского импрессионизма, но уже с примесью чего-то очень субъективного и русского: мусатовской мелодии, мусатовской мечтательной печали. Поэзией родимых призраков уже волнует и тенистый сад, на фоне которого изобразил себя художник, и старомодное платье молодой женщины, его сестры, сидящей рядом; но краски напоминают еще о ранних кавказских и крымских этюдах художника. В то время ему шел двадцать восьмой год. Затем в течение всего каких-нибудь шести-семи лет Мусатов создает, одну за другой, свои картины-грезы (вместе с подготовительными этюдами около ста холстов), насыщенные одним и тем же настроением, одной и той же грустью: грустью женских образов-теней, так похожих друг на друга, тихих, безнадежно забытых, о чем-то вспоминающих в запустении старинных парков, в осеннем сумраке и на заре весенней, подле балюстрад с белыми вазами, цветочных клумб и сонных водоемов.
 В. Борисов-Мусатов.
Дама в голубом. 1902.
В. Борисов-Мусатов.
Дама в голубом. 1902.
Эти женщины в волнистых платьях 30-х годов, с локонами, падающими на покатые плечи, — непрерывная мусатовская песнь без слов. Ими наполнено его воображение и тоска по неизведанному счастью. Где бы ни работал он, в саратовской Слепцовке, или в Зубриловке, или на даче близ Хвалынска, или в Подольске около Москвы, или, наконец, в Тарусе, заштатном городке Калужской губернии, везде преследуют его те же привидения дев, унылых и прекрасных скиталиц в тишине завороженной усадебных аллей. Они бродят, одинокие, парами и вереницей, останавливаются задумчиво возле садовых памятников с плачущими амурами, смотрятся в воды бассейнов, чинно всходят по широким лестницам в белые пустынные дома и выходят опять, без цели, молча, нездешние, неприкаянные, хрупкие… В более ранней серии рядом с ними мелькает иногда призрак кавалера в чулках и пудреном парике… Мне запомнился цикл картин на посмертной выставке Мусатова: «Вдвоем»… Но затем мужские фигуры исчезают совершенно и все безнадежнее и туманнее становятся стройные силуэты мусатовских незнакомок в кисее и шелках, серебристых, бледно-лиловых, голубых, желтых, блекло-пунцовых, на фоне узорной зелени боскетов и трельяжей. Так вспоминаются теперь, год за годом, эти признания гениального горбуна, эти сладостно-грустные лирические миражи: «Quand les lilas refleuriront»[82] (1899), «Встреча у колонны» (1901), «Гобелен», «Прогулка при закате» (Музей Александра III, 1902), «Водоем», «Изумрудное ожерелье» (1903), «Призраки» и четыре эскиза акварелью к фрескам (Третьяковская галерея) и, наконец, «Requiem» (1905).
 П. Кузнецов.
Мираж в степи. 1912.
П. Кузнецов.
Мираж в степи. 1912.
На этом Реквиеме (попавшем тоже в Третьяковскую галерею) поздней осенью 1905 года оборвалась жизнь художника. На тридцать пятом году. Его песнь осталась недопетой… Еще одна горькая утрата для русского искусства! Борисова-Мусатова научились ценить только… перед самой его смертью. Даже в 1903 году «Мир искусства» отказался принять на выставку превосходный, образцово написанный «Водоем». Оригинальная композиция этой картины (две женские фигуры на фоне гладких вод, отражающих прибрежные деревья и летнее облачное небо), звучные краски и колдовство проникающей ее печали — могли бы сделать честь любому большому мастеру. «Водоем» поразил меня, когда я увидел его на выставке в помещении Академии, и затем восхищение крепло каждый раз, что я любовался им в московском собрании Гиршмана. Но вот… надо было умереть Мусатову, чтобы современники поняли, какая благодатная сила ушла от нас вместе с его одинокой жизнью. Бедные мы, современники! Так же, как Врубеля, Мусатова тянуло к фреске. Недаром он смолоду увлекался Пюви де Шаванном и добивался чести быть его учеником. Во всей манере Мусатова чувствуется мечта о «большой живописи»: декоративный ритм фигур, плоскостная перспектива, компоновка, ковровая матовость цвета. Но сознательно готовиться к стенописи художник стал лишь в конце жизни, после «Изумрудного ожерелья», где с ясностью вдохновенной разрешена им композиция, которой недостает одного: фрескового масштаба. Все, что писал Мусатов потом, выдаст эту мысль о воплощении монументальном. Но воплотить не удалось ничего. Остались одни эскизы. Например, «Екатерина II и Ломоносов» (по заказу какого-то технического учреждения) и «Девушка, настигнутая грозой». Эскизы для стенописи, приобретенные Третьяковской галереей, — «Весенняя сказка», «Осенний вечер», «Летняя мелодия» и «Сон Божества» — тоже не были приняты заказчиком. Между тем нет сомнения, что эти акварельные замыслы, переливающие перламутровыми мерцаниями, просятся на какие-то просторные, светлые стены. Какой красотой просияли бы они тогда, напоминая о бессмертных декорациях-сказках итальянского кватроченто. Но вот… для Пюви де Шаванна стены нашлись, и какие! А гений нашего саратовского мещанина остался почти весь на бумаге…
 М. Сарьян.
Любовь. 1906.
М. Сарьян.
Любовь. 1906.
Наибольшей популярностью среди «золоторунцев» пользовался Павел Кузнецов. Он начал, так же как Судейкин и Сапунов, с расплывчатых символических туманностей и вместе с ними преобразился в симфониста пленительных красочных изысканностей. Болезненное воображение придавало большеголовым младенцам и матерям, постоянно встречающимся в его композициях, оттенок упадочной, подчас жутковатой мистики. Но затем, под влиянием поездки на Восток, в киргизские степи, он выработался в проникновенного пейзажиста, умеющего передать необычайно простыми живописными средствами поэзию кочевого простора. Этот расцвет Кузнецова совпал с расцветом другого в высшей степени одаренного питомца московского Училища живописи — Сарьяна, искусство которого являет разительный пример национального атавизма. Между «Востоком» Кузнецова и Сарьяна много общего (почти та же самоцветная, изразцовая гамма), но там, где русский европеец Кузнецов стилизует, как мечтательный эстет мусатовской школы, Сарьян, русский армянин, воскрешает красоту предков с непосредственностью истого азиата. Его живопись, вся на плоскости, сверкает контрастами чистых — оранжевых, изумрудных, желтых, синих — тонов, насыщенных волшебным зноем, которому не умеем подражать мы, северяне. Экзотические улицы, базары, звери, фрукты и цветы Сарьяна, — намеченные, скорее, чем изображенные, декоративно, почти орнаментально, — уводили с выставок «Мира искусства» и «Союза», где они появлялись, столь непохожие ни на петербургскую графику, ни на московский импрессионизм, в края полуденных очарований и ковровых узоров. Еще несколько слов о Крымове. Начал он весьма робкими, любительскими поисками нежно-солнечных прозрачностей. Потом пейзажи его постепенно уплотнялись, наливались цветом; перспектива углублялась, яснели очертания. Потом Крымов стал неузнаваем: от новой его манеры повеяло интимным реализмом «маленьких голландцев», но была в ней и графичность, порою резко выраженная. Художник метался. Потом чисто композиционные задачи увели его в сторону «большого пейзажа». Отвергнув окончательно импрессионистскую этюдность, он начал «сочинять» очень красивые, но холодноватые картины с вырисованными деревьями и удаляющимися планами, по классическим образцам. Впрочем, поворот к картинной конструктивности становился в ту пору общим стремлением… То, чего достиг Крымов на этом пути, никогда не казалось мне крупной победой.
VII На рубежах кубизма
Предсказание Бакста. — Взбунтовавшиеся самородки. — Предреволюционная вавилонская башня.
— Русский кубофутуризм. — Петров-Водкин. — Григорьев. — Яковлев и Шухаев.
Случайно, у одного любителя русского искусства в Праге, попалась мне на глаза книжка «Аполлона», одна из первых — № 2 1909 года. Я раскрыл ее наудачу и прочел:«Пусть художник будет дерзок, несложен, груб, примитивен. Будущая живопись зовет к лапидарному стилю, потому что новое искусство не выносит утонченного, оно пресытилось им. Будущая живопись сползет в низины грубости, от живописи теперешней, культурной, отнимающей свободную волю исканий, — в мало исследованные области лапидарности. Будущая живопись начнет с ненависти к старой, чтобы вырастить из себя другое поколение художников, в любви к открывшемуся новому пути, который нам полузнаком, страшен и органически враждебен. И предчувствующий глаз скользит по полированным формам Праксителева Гермеса, невольно останавливаясь на детском рисунке: он точно чует, что свет прольется через детский лепет…»Эти слова принадлежат изысканнейшему из мирискусников — Баксту. Они были сказаны в то время, когда «Мир искусства» начинал уже свою вторую молодость, отколовшись от московской группы «Союз русских художников». Признание знаменательное, пророчество поистине непристрастное к себе и к «своим». Мы знаем теперь, что оно сбылось полностью. То, что Бакст назвал «будущей живописью», стало спустя несколько лет живописью сегодняшнего дня. Она только оформлялась в то время, родившись на посмертной выставке Сезанна. Карьере ее в России мало кто верил. Московские выставки «Голубой розы» и «Золотого руна», противополагавшие стилизму Петербурга и пейзажному неореализму «Союза» свою какую-то утонченную бесформенную символику, все еще представлялись «на гребне волны». Однако быстро надвинулась другая волна, мутная, буйная, разрушительная, пробивая себе путь, действительно «органически враждебный» исповеданию «Мира искусства», хоть руководители его и доказывали упорно, что ничуть не бывало, что талантливая «лапидарность» так же приемлема для них, как и всякое новшество. Будучи школой вкуса, а не определенной доктриной, мирискусники и не могли отрицать в принципе никаких художественных исканий, но благожелательство их сводилось на деле к осторожному компромиссу, который меньше всего удовлетворял «молодых».
 Ж. Сёра.
Воскресная прогулка на остров Гранд-Жатт. 1884–1886.
Ж. Сёра.
Воскресная прогулка на остров Гранд-Жатт. 1884–1886.
И вот в то время как Александр Бенуа, несмотря на испытанную гибкость своего всеприятия, проводил в печати параллель между современным «примитивизмом» и раннехристианским искусством, отвергшим красоту языческих образцов, чтобы начать сначала историю художественных форм, «молодые» обрушивались всей силой аргументов, заимствованных у парижских глашатаев Сезанна, Гогена, Ван Гога, Матисса, на изощренные «версали» и «ампиры» «Мира искусства». Гремя вызывающими манифестами и крикливой рекламой, не скрывая своего презрения к ретроспективизму и стилизации, они требовали во имя чистого искусства коренной переоценки ценностей и воинственно отмежевывались от старшего поколения «отсталых дилетантов». Началось с «Союза молодежи», если не ошибаюсь. Потом пошли «Треугольник», «Импрессионисты»[83] (на свой образец), «Бубновый валет»[84], «Мишень»[85], «Ослиный хвост»[86], наконец — выставки с совсем дикими названиями «нарочно», вроде «Трамвая № 4»[87] и еще почище. Каких-нибудь два-три года, и на улицах Петрограда и Москвы в выставочный сезон не стало проходу от этих ультрапередовых демонстраций, не брезговавших никакой нелепицей, лишь бы обратить на себя внимание. Зритель перестал удивляться обыкновенной новизне, нужны были все более сильные средства, и «молодые» изощрялись кто во что горазд. Париж продолжал, конечно, служить заразительным примером для этой вакханалии художественного скандала, но в данном случае о русском ученичестве говорить не приходится. Ученики быстро опередили учителей. Почва оказалась благодатной. Буйно расплодились, как грибы после дождика, замысловатые -измы наших бунтарей от живописи. Десятки художников оказались сразу главами собственных «школ». Групповые, кружковые и одиночные выступления, прикрытые иностранным ярлыком, зачастую совершенно не соответствовавшим своей доморощенной «теории», соперничали в «дерзании». И все дерзающие требовали исключительного признания, не жалея себя, воюя друг с другом, фокусничая наперегонки, издеваясь над публикой и раздражая ее, хоть и давно ко всему приученную, широковещательным самовосхвалением, малограмотной словесностью в печатных брошюрах и непечатной руганью на своих митингах: кубисты, футуристы, кубофутуристы, футурокубисты, супрематисты, орфеисты, лучисты, имажинисты и т. д.
 П. Синьяк.
Папский дворец в Авиньоне. 1900.
П. Синьяк.
Папский дворец в Авиньоне. 1900.
В этом торопливом бунтарстве без руля и без ветрил, в этой неистовой погоне за немедленной известностью и впрямь сказалась какая-то анархическая сущность нового века и, вместе, очень национальная черта: страстный безудерж россиянина-самородка, закусившего удила. Тот же самородок не так давно слепо верил академическим светилам и, безропотно терпя нужду и невероятные лишения, тянул лямку, из сил выбивался, вожделея «золотой медали» и «поездки за границу». Как не испытывали только маститые его смиренное терпение! Но рухнул авторитет профессорской учебы, индивидуализм был провозглашен новым светом, и самородок решил, что учиться вообще лишнее, даже вредно ему, самородку. Талант — и весь скал. И развернулся он, разгулялся во всю первобытную ширь, куда там Сезанны и Матиссы. Разгулялся, удержу нет, что хочет, то и делает, сам себе и другим указчик… А уж когда стряслась революция, тут самородок окончательно ошалел. Ничего подобного по наивной сумбурности и кричащему невежеству, наверное, мир не видывал и, должно быть, не увидит… Но об этом последнем, современном, периоде нашего новаторства я говорить не собираюсь, так как знаю о нем больше понаслышке. Странную, бесконечно пеструю картину представляла русская живопись в годы издания мною журнала «Аполлон». Нигде, никогда подобной пестроты не знало художество по ту сторону Вержболова[88]. Иностранцы еще пожалеют, что так мало интересовались культурой предреволюционной России. Зрелище было единственное в своем роде, соответствовавшее тому поистине небывалому смешению языков, и в социальных отношениях, и во всем духовном и материальном укладе жизни, которое царило у нас в конце злополучного государствования Николая II. Все художественные наслоения, лет за пятьдесят, сталкивались на поверхности и одновременно находили свою публику, большую и малую, независимо от «новых слов» и увлечений передового лагеря. Можно даже сказать: чем громче заявлял о себе этот лагерь, тем настойчивее вели свою линию художественные группы и учреждения, которым, казалось бы, давно вышел срок. Новаторство, уже признанное модой, как «Мир искусства», и новаторство, которому никак не удавалось сделаться модным, столь оно было противоречиво, скороспело и попросту малограмотно, только подхлестывало самолюбие упорных староверов всех оттенков, а заодно с ними и умеренных «серединка на половинку», и приспособившихся — «чего изволите». Они продолжали выступать обществами и кружками и восхищать и продавать по-прежнему. Мало того, продолжали плодиться, увеличиваться численно, в известном смысле преуспевать, уверенные в неколебимости покупателя, неуязвимые для критики. В одних и тех же выставочных зданиях непрерывно чередовались самые несовместимые «смотры искусства». Из года в год прибавлялись к ним новые выставки, но старые не унывали, иные даже приосанились после нескольких лет явного упадка. В неразберихе мнений и лозунгов, вызванной все той же неистовой молодежью, создалась почва для реакции. Зрителя опять потянуло к передвижникам. «Вчерашний день» окреп на художественном рынке. И пестрота еще усилилась. Вся шкала вкусов и притязаний, от «правизны», переходящей в ремесленничество магазинное, до крайней «левизны», не грезившейся заядлым pittori futuristi[89], оказалась на виду. Повторяю, ни Париж, ни Берлин, ни Лондон, ни один европейский центр не вмещал одновременно такого разнообразия живописных направлений, толков и кружков, борющихся за место под солнцем, — такого культурного разноязычия. Конечно, везде, особенно в наш смятенный век, существуют соперничающие и резко враждебные друг другу течения (хотя бы квартет парижских Салонов). Но… эта русская анархия с бесчисленными «претендентами», эти контрасты и в технике и в духе искусства, эта неувядаемость давно осужденных пережитков и смехотворных провинциализмов и этот фанатический натиск новаторов «море по колено»! Но… с одной стороны, этот неистощимый вкус к стилю и к стилям, изысканные праздники театрального декораторства, возрождение старины, своей и чужеземной, народного кустарничества, религиозной живописи, ампирной классики, итальянского Ренессанса, и с другой — упрямый эпигонизм, какого не знал мир, безнадежное повторение задов! И рядом эта отсебятина, не признающая никаких преград, поцветистее да поудалее, и это слепое преклонение перед Матиссами после одного посещения щукинской галереи[90], и это восхищение древнерусской иконой, и это смешное подражание уличным лубочным вывескам, «которые во сто крат интереснее Эрмитажа», и это всюду распространившееся антикварство, умиление перед мебелью красного дерева из дедовской усадьбы и бисерным ридикюлем прабабушки, и эти выставки, одна за другой: «Петербургское общество», «Акварелисты»[91], «Академическая»[92], «передвижная», «Новое Общество», «Союз», «Мир искусства», «Московское товарищество», «Венок», «Союз молодежи» и т. д., все это сосуществование утонченности до чертиков и принципиальной корявости, консерватизма непробудного и своеволия безудержного, европейства и азиатчины, космополитизма, народничества, декадентства, кубизма, классицизма, импрессионизма, византийства, футуризма вплоть до «контррельефов» Татлина, — все это столпотворение живописи могло случиться только в России и только в XX веке… Нельзя отрицать также, что лапидарная, по выражению Бакста, живопись нашей молодежи, невзирая на клички и теории, заимствованные по большей части у Парижа, сразу обрела черты национальные. Для последовательного ученичества ей недоставало прежде всего школьной выдержки. Сделаться подлинным сезаннистом или гогенистом не так-то просто. Отнюдь не достаточно, «возненавидев» старую живопись, огрубеть, распоясаться и дать волю темпераменту. То, что завещал Сезанн в качестве метода, — наука очень тонкая, хоть и чуждая утонченности графической, хоть и рекомендующая простейшее, геометрическое восприятие природы. Сезанн, так же как Гоген, или Дерен, или кубисты Меценже, Глэз и др., — завершители долгих преемственных поисков формы. Несмотря на свою парадоксальную новизну, в сущности, они связаны традицией с достижениями ряда живописцев чистой воды, по восходящей линии — от импрессионистов к барбизонцам, к Курбе, к Делакруа и т. д. От этой преемственной школы народа с очень высокой художественной культурой наши самородки стояли чрезвычайно далеко. Им понравилась модная грубость, но живописный смысл ее они не уразумели. Они переняли внешние приемы новейших французов, приемы дерзкие, революционные, крайние (резко и черно обведенный контур, анатомическая деформация, геометрическое дробление форм, обратная перспектива и пр.), но многоопытная осторожность в пользовании этими приемами осталась им недоступной.
 А. Матисс.
Обеденный стол (Гармония в красном). 1908.
А. Матисс.
Обеденный стол (Гармония в красном). 1908.
Да и влекло их, русских бунтарей, совсем к другому: к почвенной красоте лубка, к народному гротеску, к домотканой пестряди, к самодельным набойкам, к прянику архангельского изделия, к ремесленному «примитиву» наших вывесок с кренделями, сахарными головами и бутафорскими дынями, словом, опять-таки влекло их к узору, к декоративности, к неисторическому, первобытно-грубому, но все же — стилю. Недаром в Москве такой исключительный успех выпал на долю Матисса, самого декоративного из парижских новаторов. Этим объясняется и то, что, как ни враждовала «молодежь» с «Миром искусства», более талантливые представители ее примкнули к его выставкам: Гончарова, Ларионов, Машков, Кончаловский, Альтман и многие другие. Вероятно, примкнули бы и все, почти без исключения, если бы их приняли. Впрочем, оговариваюсь. Параллельно с подражанием Сезанну и его буро-зеленой гамме, Матиссу яростноцветному и безымянным вывесочных дел мастерам, а также кубистам, разъяснившим новое свое исповедание в известной книжке «Du cubisme»[93] Меценже-Глэза, которой молодежь зачитывалась в обеих столицах; параллельно с бесконечными сериями «натюрмортов» — яблок, груш и апельсинов, грубо вылепленных жестяными красками, голых натурщиц, будто сложенных угловато из деревянных отесков, каких-то грузных уродов с руками и ногами культяпами, изображенных только для «фактурных целей»; параллельно с этой фабрикой окрашенных объемов и плоскостей вскоре стал пробиваться, дружа со всеми крайностями одичавшей формы, и тот динамический футуризм, о котором трезвонил urbi et orbi[94] римский гражданин поэт Маринетти. Самые картины итальянских футуристов так и остались, кажется, неизвестны нашей молодежи, но опубликованные тезисы о беспощадной борьбе с пассеизмом, о прозрачности вещества, о «красоте скорости», об изображении бегущей лошади с десятью парами ног и т. д. — кружили головы самородкам не меньше, чем совет Меценже-Глэза «отречься от геометрии Эвклида» и заняться проблемой четвертого измерения. А затем появились первые парижские ласточки, кубофутуристские композиции преображенного Пабло Пикассо, которому Сергей Щукин отвел почетную комнату в своей московской галерее. Этого было достаточно для нового переворота в молодых исканиях. «Скрипки» Пикассо о четырех измерениях и «беспредметные» конгломераты плоскостей, оттененные обрывками слов печатным шрифтом (и написанных кистью, и прямо, наклейкой на холст, газетных лоскутов), раздразнили до умопомрачения бунтарей из нашей Академии, Школы Общества поощрения художеств[95] и Училища живописи и ваяния. Во мгновение ока создалась целая литература кубофутуристская, нашедшая, как это ни странно, большой круг читателей. Тем для нее было достаточно. Чуть ли не через день возникали новые школы, с программами одна другой головоломнее. После кубизма, так сказать натуралистического, отчасти же с примесью академизма, появился кубизм отвлеченный, вслед ему — кубизм, переходный к футуризму, затем посткубизм, преследующий синтез «в противовес аналитическому разложению формы», и неофутуризм, отрешившийся вовсе «от картины, как от плоскости», покрытой красками, и заменивший ее «экраном, на котором цветная плоскость заменена светоцветной движущейся»… и так далее без конца.
 Б. Кустодиев.
Московский трактир. 1916.
Б. Кустодиев.
Московский трактир. 1916.
Уверовав в математическую метафизику Римана и Гинтона и в футуризм, который даже перекрестили было по-русски в «будетлянство», — неугомонные новаторы решили и вовсе упразднить живопись. Беспредметные свои картины принялись делать из чего попало: из кусков дерева, жести, мочалы, слюды, расположенных известным образом, с расчетом вызывать «эмоции сочетания материалов», словом — докатились до «рельефов» и «контррельефов» Татлина (назначенного при советской власти чуть ли не комиссаром изобразительных искусств в Москве). Открытие Татлина, вероятно и заслужившее ему этот ответственный пост, заключается в том, что он вовсе отказался от плоскости для живописи, а ввел ее в трехмерное пространство, создавая свои «сочетания материалов» в виде разнообразно сложенных из дерева, железа, стекла и т. п. — как бы лучше сказать? — моделей, сооружений, показывающих в натуре то, что прежде проектировалось кубистами на плоскости. Впоследствии, насколько я слышал, Татлин же ввел и движение в свои фигуры, следуя, вероятно, модной формуле о совпадении времени с четвертым измерением… Так вот это-то искусствовоззрение, в результате окончательно порвавшее с живописной традицией, осталось, безусловно, в стороне от «Мира искусства». К этим «низинам лапидарности», к этим тупикам отвлеченной сверхэстетики пути «Миру искусства» были заказаны. Мутная волна кубофутуризма не захлестнула его выставок. Все же остальные ручьи и потоки «вод весенних», пробурлив на свободе свой срок, влились в конце концов в русло, прорытое уже четверть века назад дягилевцами, заявившими, что искусство — «улыбка божества». Чем же объяснить «неувядаемость» «Мира искусства», наперекор шумной кампании «слева»? Почему эта группа поглотила сначала талантливых москвичей «Золотого руна», а затем приручила и «лапидарную» молодежь? Отчего именно «Миру искусства», вовремя освободившемуся от балласта полупередвижников «Союза», принадлежала неизменно руководящая роль, и все подлинно яркое в эту четверть века исходило от него или к нему приходило? Отчего, несмотря на лихорадочную эволюцию передовых вкусов и на шаткость примиренческой позиции, занятой «Миром искусства», ничего не создалось прочного взамен, и в этом смысле успех его безусловен? Мне кажется, что я уже ответил. Причин несколько. Во-первых, не в пример другим организациям, «Мир искусства» являлся оазисом высокой художественной культуры. Этого преимущества его вождей никто не оспаривал, «левизна» оппозиционных кружков соперничала с махровым невежеством. Самые законные претензии и живые идеи «молодых» преподносились в столь сыром виде и с такой приправой неумной словесности, что колебалась вера даже у благожелателей. Во-вторых, головокружительность этой смены одного теоретического обоснования живописи другим. Художники не успевали сосредоточиться над поставленной себе задачей, как уже возникала новая, и вчерашняя правда объявлялась ересью. Ни одно намерение, ни одно творческое усилие не вызревало. Третья причина (в тесной связи с двумя первыми) — тот эстетический разнобой эпохи, о котором я сказал выше. Бесконечно трудно было каким бы то ни было новаторам завоевать прочные позиции в обстановке нашей предреволюционной вавилонской башни. Общественное мнение, сбитое с толку разноречивыми расколами в художественной среде, обилием шумливых начинаний, сумасбродством закусивших удила юнцов и упорством «стариков», настроенных непримиримо ко всякому «декадентству» и вообще ко всему, что не было водой на их мельницу, — общественное мнение, — культурное меньшинство, «делавшее погоду», — оставалось как бы нейтральным, но естественно тяготело к художественному объединению, которое заслужило право на авторитет многосторонней и уже многолетней своей деятельностью на различных поприщах (исторические выставки, охрана памятников старины, кустарное дело, театр, украшение книги и т. д.), и просвещенным европеизмом, и тонким чувством стиля, и познаниями по части истории искусства. И все же главная причина неудачи молодого похода против «Мира искусства» во имя «чистой живописи», во имя освобождения живописи от литературы ретроспективизма, от утонченности, «отнимающей свободную волю исканий», заключается в отсутствии крупных, действительно имеющих власть вязать и развязывать дарований. Их не взрастили русские низины лапидарности. Это бесспорно. И по-прежнему самые яркие из наших художников последнего призыва — таланты, обязанные своей зрелостью не «Бубновым валетам» и «Мишеням», а «Миру искусства». Между ними выделяются Петров-Водкин, Борис Григорьев, Александр Яковлев и Шухаев. Несколькими словами о творчестве этих художников я и закончу мои «Силуэты». Крестьянин Саратовской губернии по происхождению, Петров-Водкин принадлежит к числу тех исключительно одаренных русских талантов, которые придают особый оттенок современной нашей живописи. Пожалуй — и не только современной живописи: оттенок почвенной, варварски-свежей силы, насыщенной, однако, западноевропейским эстетизмом, характерен для многих явлений всей нашей сравнительно молодой художественной культуры. Не этот ли оттенок обнаруживает органическую двойственность (если не раздвоенность) — какую-то противоречивость ее природы: элементарность, так сказать, «от земли» и одновременно изощренность, явно заимствованную и почти всегда лишь поверхностно ассимилированную?.. Не отсюда ли, главным образом, и вопиющие, очень русские, недочеты по части формы? В ней, в форме, особенно сказывается отсутствие преемственной культуры. Большинство русских сезаннистов и кубистов самым наглядным образом подтверждают это замечание. Я уже оговорился, что талантливы и Кончаловский, и Гончарова, и Ларионов, и многие другие, но картины их — как бы ни относиться к избранному ими направлению — оставляют впечатление… не доведенных до конца опытов. Между ними нет мастера, который бы приобрел широкое влияние на современников… Я уж не говорю о влиянии за пределами родины.
 Н. Гончарова.
Град обреченный. 1914. Литография из серии «Мистические образы войны».
Н. Гончарова.
Град обреченный. 1914. Литография из серии «Мистические образы войны».
Но разве не мастер Петров-Водкин? Думается мне — больше, чем кто-нибудь из художников последнего призыва. Заражающая сила его искусства, во всяком случае, очень велика, если судить по количеству учеников, пишущих по его методу (педагогической деятельности он с увлечением предается давно), и я не сомневаюсь, что влияние его могло бы распространиться и вне России. Среди «молодых» Петров-Водкин — надо признать — явление исключительное. В дни живописного разгильдяйства и сенсационных извращений он возлюбил рисунок и композицию, выработал свой рисунок и свою композицию, никому не подражая, обретя сразу «лицо». Восприятие Петрова-Водкина подлинно индивидуально; в сознательной «неправильности» его анатомии — большая убедительность. Это не стилизация, а стиль, не деформация академической пластики по тому или другому рецепту, а непосредственное формотворчество. Метод его работы близок к методу старинных мастеров. Для того, кто видел, например, хотя бы рисунки Дюрера в венском Альбертинуме, сопоставление этих рисунков с картинами великого немца обнаруживает в его творчестве путь от живописного документа к собственно живописи, к картине. Петров-Водкин поступает также. Он зарисовывает сначала и рисует потом, с той же верой в благородство воображаемой формы и в высокую миссию искусства. При этом — не повторяя никого из древних, воплощая видение, «непостижное уму». Верный рыцарь своего пластического идеала, он в то же время и прирожденный монументалист. Огромные размеры иных его «Голов», резко условных по тону, сбивали с толку даже его почитателей, но стоит вообразить эти головы частями каких-то декоративных «ансамблей», и они перестают пугать… Если и можно говорить о недочетах его формы, то лишь в отношении живописной фактуры (например, он пишет маслом так, чтобы дать впечатление темперы, — зачем? не проще ли писать темперой?).
 А. Лентулов.
Василий Блаженный. 1913.
А. Лентулов.
Василий Блаженный. 1913.
Русская действительность не дала в распоряжение Петрова-Водкина нужных ему стен; он остался поневоле станковым художником и в последнее время от фигурных композиций монументального размаха все чаще уклонялся к яркоцветной nature morte[96]. Я слышал от многих, что лучшая картина, написанная за годы революции в России, — «Скрипка» Петрова-Водкина; называли мне и другие его произведения, выделявшиеся на фоне советского горе-имажинизма и футуризма. К сожалению, об этом сегодняшнем периоде мастера, по-видимому, весьма продуктивном, я ничего не могу сказать, но, оглядываясь назад, вплоть до 1908 года, когда я познакомился с Петровым-Водкиным, только что вернувшимся из поездки за границу, я нахожу в его творчестве такую последовательность трудолюбивых усилий, такое упорство художнической веры, что готов, в свою очередь, поверить его «расцвету» даже в это кромешное безвременье, угасившее столько талантов. Я помню, как тогда, четырнадцать лет назад, мне понравились южные этюды Петрова-Водкина (он был страстным путешественником в юношеские годы и скитался по Италии, Пиренеям, Алжиру, Сахаре); в них чувствовалась любовь к природе, проникновенная и преображающая. Тогда же он, впервые в России, выступил на упоминавшемся уже «Салоне» (1909). Затем его отдельная выставка была устроена «Аполлоном». На ней, рядом с жанрами из парижского быта, «Буржуа из Théâtre du quartier»[97], двумя отвлеченными композициями — «Берег» и «Колдуньи», было выставлено около сорока «Африканских этюдов» и большая, замкнувшая этот экзотический цикл картина — «Рождение»… Я написал тогда в предисловии к каталогу, что Петрову-Водкину, русскому кочевнику, тесно в современном городе, где на всех лицах — маски и тела спрятаны под уродливыми одеждами, что он, номад, подобно Гогену, грезит о красоте первобытной, о прекрасном дикаре, отдающем горячую плоть свою горячему солнцу… Но в дальнейшем Петров-Водкин по стопам Гогена не пошел. Он остался в Петербурге и, более того, решительно «отвлекся» от солнечной природы, сосредоточился на полуаллегорических композициях с архитектурной трактовкой пейзажа и монументальной человеческой наготой. Его картины-панно приблизились, ритмической своей замкнутостью, к фрескам итальянских кватрочентистов, но остротой рисунка и яростью красок напоминали и о современном плакате. Таковы появившиеся вслед за «Рождением» «Сон», «Женщины» (1910), «Изгнание из рая», «Мальчики» (1911), «Купание красного коня» (1912), «Юность» (1913) и др. В годы войны художник испытал свои силы и в батальном жанре, увлекся также древней иконописью — Богоматерь «Умягчение злых сердец» (1914) — и дал ряд natures mortes с фруктами, в которых масляные краски доводились им до предельной силы тона. Но, повторяю, говорить об этих работах трудно, не зная последующих… Еще труднее подвести итог творчеству другого крупнейшего из молодых русских художников — Бориса Григорьева, одерживающего теперь, на заграничных выставках, победу за победой. Я не видел последних его берлинских и парижских работ — видел только воспроизведения в журналах. По внешнему характеру эти работы являют новый этап художника; геометрическое разложение (или, если угодно, построение) формы сближает его с кубистами. Но по существу он остался тем же Григорьевым: необычайно острым и «злым» психологом современного вырождения. И в этом глубокое отличие его от правоверных кубистов, изгнавших из живописи психологию вместе с прочей литературой, сосредоточившихся на живописном выявлении, так сказать, «голых», вещественных, схем природы, вплоть до решительной беспредметности изображения. Григорьев пользуется «кубическим» приемом, вернее — намеками на этот прием для усиления психологического воздействия образа. Упрощая, граня, дробя форму на плоскостные отдельности, он усугубляет начертательную выразительность сатиры… Потому что никак иначе не назовешь «портреты» Григорьева (между ними выделялся «Мейерхольд» на «Мире искусства» 1915 года) и те бытовые «русские типы», которые он стал писать в последнее время. Не гротески, а именно сатиры, едкие до жуткой беспощадности, до полнейшего отрицания «подобия Божьего» в человеческом лике. Как документ нынешней коммунистской «России» эти бесовские маски Григорьева впечатляют глубоко мучительным цинизмом правды. Наблюдательность его буйного таланта сказалась в них неподражаемо ядовито. Был ли таким прежде Борис Григорьев, этот парадоксальный русак, возросший на парижских бульварах, влюбленный в Монмартр, в больные прихоти города и в его уличных жриц, вдохновленный отравленными гримасами Тулуз-Лотрека и раскрашенным сладострастием Ван-Донгена? Мне кажется, что был; в первых же работах, отчасти подражательных судейкинским пасторалям, обнаружились в нем это чувство упадка и этот вкус к упадку. Блестящие карандашные наброски Григорьева (немного внешне блестящие) всегда казались мне каким-то разоблачением низкого, звериного в человеке, будь то парижские буржуа, или портовые рабочие, или дети, играющие в сквере. Недаром восхитительны его рисунки животных… От них — какой многозначительный уклон к зверским и изуверским маскам последних выставок! Современная русская — «эмигрантская» — живопись пользуется большим успехом у иностранцев. В сущности, только теперь Запад начинает узнавать художественную Россию XX века; правда, он знал достаточно плохо и прошлые ее века… В Париже, после Бакста, давно уже ставшего парижанином, «завоевывает» театры Судейкин; в Берлине прогремел Григорьев; в Сев. Америке блистают Рерих и Анисфельд; в Софии вызывают восторги театральные постановки Браиловского; в Каире Билибин, случайно туда эвакуированный из Крыма, оказался «первым художником». Париж, относящийся вообще скептически ко всему чужеземному, оценил и тонкие портреты Сорина («héritier inspirè des grands portraitistes de la fin du XVIII siècle»[98] — как выразился о нем французский критик), и декоративные необычайности Ларионова и Гончаровой, и впечатляющие музыкой веков архитектурные пейзажи Лукомского. Но, кажется, наибольший успех выпал на долю Александра Яковлева и Василия Шухаева, этих близнецов из академической мастерской Кардовского, провозгласивших догму неоакадемизма (к сожалению, и их последних работ я не видел и потому должен ограничиться общими замечаниями). Вся сила тут, конечно, в приставке «нео». Исповедание Яковлева и Шухаева — отнюдь не старый, школьный, академический канон, раз навсегда данный, не допускающий деформации. Новый канон, так сказать, пластичен; он приобретает тот или иной характер в соответствии с композиционным ритмом и с общим изобразительным заданием картины, оставаясь прочной системой формальных взаимодействий… Понятно ли? Яковлев и Шухаев, прежде всего, апологеты самой механики рисунка, линейного построения форм. В век, узаконивший пренебрежение контуром во имя индивидуализма и непосредственности красочного пятна, это восстановление в правах карандаша — немалая дерзость со стороны художников, считающих себя новаторами, какими они в действительности и являются. Восстановлены ими не только права карандаша, но и обязательность объективной дисциплины; художническая воля противопоставлена импрессионистскому «наитию», сверхличное знание — индивидуальным поискам, чувству природы — «контроль» над природой.
 К. Петров-Водкин.
Купание красного коня. 1912.
К. Петров-Водкин.
Купание красного коня. 1912.
Дальнейший вывод — артельный метод творчества, исполнение картин содружеством мастеров… Опыты в этом направлении Яковлева и Шухаева (создавших в последнее время целую школу в России) были прерваны, но результатам, достигнутым ими совместно, в тесном сотрудничестве (хотя бы проектам росписи Казанского вокзала в Москве), нельзя отказать в убедительности (сужу по фотографиям). Во всяком случае, оченьзнаменателен этот исход русского «мирискуснического» стилизма, приявшего и отчасти претворившего все искушения новейшего формотворчества, — к модернизованному классицизму. То же самое ведь наблюдается и в лагере «крайних» новаторов. Кубисты и футуристы, или экспрессионисты (как их стали называть в Германии), с Пикассо во главе, круто повернули к Энгру и Пуссену. Неоакадемизм, неоклассицизм — вот пароль наступающих дней. И это так понятно. После смятения, развала и хаоса предшествующего десятилетия возврат живописи к порядку, к закономерности диалектически неизбежен… Но окажется ли действенно-творческим это возвращение к развенчанной мудрости предков, возродится ли снова европейская живопись, как бывало много раз, переболев очередной болезнью века, наполнится ли опять водой живою сосуд ее священный — это уж вопрос не столько внутренних законов художественной эволюции, сколько общих исторических судеб.
СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ[99] (Современные русские художники)

От автора
Пусть будет эта книга — «для непосвященных». Он а составилась из статей, рассчитанных в свое время на «большую публику». Я бы никогда не решился издать их отдельно, если бы не был уверен, что теперь — больше, чем когда-либо, нужны слова о современной русской живописи, доступные не только немногим. Обыкновенно приходится говорить эти слова слишком отрывочно. Трудно судить о действительном мнении критика по тем случайным оценкам художников и торопливым выставочным отчетам, которые пишутся для однодневных листков и ежемесячников. Но собранные вместе, сокращенные или дополненные, приведенные к единству, они приобретают новое значение, становятся ответственной книгой, хотя и не новой для «посвященных». Эти страницы — опыт такой книги. Исправить, переработать пришлось многое — больше всего в статьях о наших «национальных» живописцах с Васнецовым во главе, о котором, в конце 90-х годов, я отзывался юношески-восторженно… За последние десять лет взгляд на живопись изменился в корне. Десять лет назад только мерещилась современная ступень эстетического понимания. Суждено ли нам долго оставаться на ней? Кто скажет? В будущем все гадательно. Критик, затрагивающий вопросы современного искусства, волнующие вопросы нашего художественного «сегодня», — всегда в заколдованном кругу мнений, слишком часто обманчивых. Я сознаю: нет задачи неблагодарнее, чем критическое угадывание современного творчества. В особенности когда приходится говорить с «большой публикой», на понятном ей языке, о живописи, которую понимают у нас так плохо, — о живописи, возбуждающей именно в наше переходное время столько несогласий, горячих пререканий, партийной розни. Выяснить ее значение, цели и надежды, ее борьбу с недавно отжившими школами, связать ее с великим полузабытым прошедшим — тем труднее не на почве чисто субъективного отношения, чем это отношение непосредственнее. Надо сделать над собой усилие, посмотреть на современность в исторической перспективе — и прийти к выводам. Конечно, эти выводы — только угадывания. Но если угадывания критика могут принести хоть какую-нибудь пользу художникам в их исканиях и побудить общество к большей вдумчивости, — его долг обосновать свой взгляд возможно точнее и беспристрастнее… Пусть помнят об этом менее осторожные ценители, в особенности те из них, которые выдают за правду «здравого смысла» свою невежественную хулу на всех молодых, смелых, ищущих новые пути к искусству будущего.Длинное введение: художники, выставки и публика
«Современность» искусства
Искусство и жизнь — как две линии, пересекающиеся в бесконечности. Они кажутся параллельными, но сходятся постепенно и где-то встречаются. Чтобы убедиться, надо заглянуть очень далеко назад. На отдалении тысячелетий линии почти совпадают: искусство становится жизнью былых эпох и жизнь преображается в красоту. Несомненно, что когда-нибудь и наше «новое» искусство — все творчески живое в нем — явится тоже слитым с жизнью, его создавшей. Но пока это только две параллели, и многие думают, что они не могут встретиться, — не все умеют глядеть вдаль. Современное искусство — глубоко своевременно и в этом его психологический и культурный интерес. Но «современность» искусства не иллюстраторство. Художник может быть очень точным изображателем окружающей жизни и не быть выразителем эпохи. И может казаться мечтателем, странно-чуждым всему, что представляется современникам важным, насущным, — и быть ясновидцем века, угадывателем его судьбы, его тайны, его величия. На наших передовых выставках почти отсутствуют «сюжетные» картины, наводящие мысль на происшествия текущих дней. Но это не результат беспочвенности лучших русских художников или их тенденциозной отдаленности от тревог общественного сознания. Они говорят о том же, только на своем языке, на языке воображения и красок, на языке художников. Они — свободные, ищущие сыны века. В них трепет околдованности красотой, стремление весенних потоков, ломающих льды… Разве все живое в России, хотя бы еще бессознательно и робко, не с ними и не за них?.. Нет, не с ними. И даже не против них. Русская «интеллигенция», русское общество просто далеки от искусства. Дальше, чем прежде…Как выставки посещаются
Каждый год, в начале весны, Петербург подводит итоги своей художественной жизни. Каждый год первые незимние лучи нещедрого солнца так же красиво золотят новые холсты и скульптуры — в залах Общества поощрения художеств, Пассажа, Академии. Каждый год те же немногие тысячи петербуржцев считают своею обязанностью посетить выставки. Именно — обязанностью. Многие ли ходят на выставки не потому, что это стало привычкой, что «так принято», а по влечению сердца, с чувством художественного голода, волнующего ожидания? Многих ли искренно, по-настоящему, интересуют новые работы наших признанных и непризнанных мастеров, вопросы художественного преподавания, успехи «начинающих» — словом, то, от чего зависит судьба русского искусства? Откроется выставка… О ней поговорят два-три дня в печати; две-три картины «с интересным сюжетом» удостоятся плохой репродукции в газетном приложении. Вот — все. Лишь в исключительных случаях выставки не забываются совершенно, сейчас же после закрытия… И неудивительно, когда подумаешь, как они посещаются. У редкого обозревателя интереса или любопытства — больше, чем на один раз. Если же одновременно открыто несколько выставок (что обычно для Петербурга), тогда почти всякий старается обежать их подряд, в тот же день, от часу до пяти. Затем можно успокоиться до следующего года. Эта странная торопливость, мешающая всматриваться в картины, приучила публику не видеть их, если они не доступны ей с первого взгляда. Нужен очень опытный глаз, чтобы сразу судить о достоинствах живописи. Но даже самый «опытный глаз» не всегда — верный судья по первому впечатлению. Необходимо возвращаться к картине. Это правило для всех. Какое же мнение может составить себе средний посетитель, посвящающий картинам, один раз в году, ровно столько времени, сколько надо, чтобы прочесть их названия в каталоге? И это еще в лучшем случае. «Большинство» совсем не бывает на выставках, вообще никогда не смотрит на произведения современных художников, довольствуясь отзывами газет. Всего обиднее, что те же равнодушные часто вовсе не чужды эстетике — бывают в театрах, в концертах и восхищаются «мадоннами Боттичелли», путешествуя за границей. Есть признание искусства, есть и влечение к хорошей живописи. Почему же выставки не возбуждают общественного интереса, не отвечают на потребность? Откуда это безразличное, неумелое отношение к «молодым» художникам? Откуда охлаждение к «старикам»? Можно подумать, что современная живопись постепенно утрачивает свое значение для публики, все больше становится чем-то второстепенным, почти лишним…«Старые» и «новые» художники
Нельзя винить одну публику. Ее отношение — следствие, а не причина. Отчего прежняя большая публика (70-х и 80-х годов) относилась к живописи менее равнодушно? Конечно, не оттого, что была более художественно чутка. Не оттого ли, что она чувствовала единомыслие свое с художниками? Она искренно восхищалась Айвазовским, Семирадским, Верещагиным, Ярошенко, Шишкиным, Волковым… Они были вполне доступны, понятны ей и потому милы. Они смотрели на природу, на жизнь одними глазами с нею. Виновата ли публика, что в 90-х годах под влиянием сложных внутренних процессов культуры эта идиллия исчезла и на месте ее воцарился хаос? Еще так недавно русское художество находилось в полном рабстве у теорий «пользы и блага». Это трудное время прошло. Повеяло другими настроениями. Но к ним совершенно не было подготовлено ни большинство зрителей, ни большинство художников. Под брюзжание эпигонов нашего ложнореализма живописцы последних формаций посмотрели на искусство «новыми глазами», шагнули вперед чересчур быстро для публики — иные, «слишком ранние предтечи слишком медленной весны»[100], - так быстро и неосторожно, что не только остались без публики, но и без твердой опоры, без ясного представления о цели… В результате наша публика (в сущности, очень искренняя и непосредственная в своих суждениях) утратила доверие к художникам. С одной стороны, потеряла способность преклоняться перед вчерашними кумирами: почувствовала, что не у них правда. С другой — еще не научилась верить даровитым новаторам: ей все кажется, что у них ложь. Если и заметно, за последнее время, улучшение ее вкуса, то главным образом постольку, поскольку плохие художники перестают увлекать. Скептицизм даже по отношению к таким бесспорным мастерам, как Сомов и Врубель, царит по-прежнему, но попробуйте тех же скептиков, готовых при всяком случае обрушиться на сумасшествие «декадентов», спросить о «Петербургском обществе художников» или даже о «передвижниках» — вы редко услышите одобрение. «Старики стали писать хуже». Нет. Просто изменились к ним требования. То, что нравилось лет десять-пятнадцать назад, теперь положительно меньше нравится. Не только у «новых» художников, у самых нетребовательных зрителей «глаза стали другими», вкусы утончились. Это не излишний оптимизм. Незаметно и бессознательно публика опередила своих недавних вождей. Но опередила недостаточно! Она инстинктивно почувствовала лживость прежних приемов изображения — тенденциозность, грубое пренебрежение формой, олеографическую вульгарность колорита[101], но не научилась свободному, изысканному отношению к живописи. Обычные посетители выставок еще не привыкли видеть в картине картину, т. е. выражение художником в красках, линиях и óбразах своего, субъективного понимания природы. Художественная правда — тысячеликая. Мерило живописи — творческая личность: не то, что воплощено, а как. В этом «как» сливаются и замысел, и тема, и техника картины — все, что принято делить на понятия «формы» и «содержания». Чтобы наслаждаться картинами, а тем более судить о них, надо раз навсегда усвоить эту аксиому. Иначе, какие бы произведения ни находились перед нами — японские какемоны, Сомов, Рембрандт или итальянские примитивы, мы будем вечно бродить «вокруг да около». Для проникновения в сущность живописи необходима культура глаза — умение смотреть на картину, только смотреть, умение мгновенно отказаться от своего нехудожнического восприятия мира (восприятия рефлективного, не непосредственного) и охватить глазами самого художника то, что он изображает, отрешаясь, насколько возможно, от всех переживаний, умственных и моральных, собственного воспринимающего «я» и в то же время — открывая все доступы к этому «я» для внушений от картины. Таинство созерцания красоты — тоже таинство, такое же, как творчество. И как бы ни были различны глаза созерцающих и разноречивы внушения художника (в зависимости от того, кто смотрит), процесс созерцания — один. О вкусах не спорят. Можно расходиться в оценке достоинств и недостатков мастера. Степень приближения к нему меняется с каждым зрителем. И потому сила воздействия картины — величина непостоянная. Но пути, ведущие к искусству, одни и те же для всех зрячих. Наша публика должна еще прозреть! Отсюда — недоумевающее равнодушие, о котором говорю. В жизни искусства воцарилось чудовищное недоразумение. Художники смеются над публикой; публика издевается над художниками. В результате — полное отсутствие единомыслия, согласия и среди художников, и среди их ценителей; в связи с этим — недостаток разумной критики, определенности эстетических мнений, любви во взглядах на творчество. Выскочки и подражатели притворяются новыми пророками новых откровений и заслоняют даровитых людей от более серьезного внимания общества, которое отделывается от тех и других тою же глупою кличкою «декадентства». И опошляется, уродуется то новое, которое могло бы развиться в хорошую сторону, и отбрасывается или обесценивается то старое, которое должно быть вечным в искусстве. С каждым годом старые выставки — передвижная и академическая — кажутся еще «старее». Когда мы бываем на них, ощущение — словно мы давно уже видели все эти пейзажи, портреты и жанры, эти закаты, рассветы, зимы и весны, этих нарядных боярынь и живописных стариков, — видели много раз, мучительно зная, что увидим снова и снова. И тягостное сознание смутного, заколдованного круга, из которого нельзя вырваться, переходит в острое, почти физическое недомогание… Хочется побороть себя, доказать себе хоть на минуту, что, может быть, это не так. Но в мыслях звучат все те же слова: застой, упадок, смерть. Я говорю об общем художественном уровне выставленных картин. Немногие талантливые, живые работы стоят как-то совсем отдельно, чуждые своим соседям, как люди, одаренные речью, в толпе глухонемых… Я нисколько не отрицаю заслуги передвижников. Они первые приблизили русское художество к русской жизни и сделали это в то время, когда общество принципиально «отрицало эстетику»… Пусть, как эстетики, сами они ошибались. Убежденность всегда сила. Они по-своему полюбили искусство. Поверили в истинность и нужность своего творчества и заставили верить ему современников. Боролись за идею. И веяние жизни чувствуется в том, что было их делом. Но теперь? Когда-то насущная, вызванная жизнью правда отжила. Осталась только ее оболочка. Остались слова и традиции, которым никто больше не верит. В сущности, от выставок прежде славного товарищества сохранилась одна репутация. Собственную «физиономию» они давно утратили. Большинство современных передвижников смело могло бы примкнуть к выставкам Пассажа, маленькое меньшинство — к «Академической» или, в лучше случае, к «Новому обществу». В самом деле, на современной «передвижной» выставляют живописцы каких угодно «направлений», даже подражатели Малявину, даже доморощенные неоимпрессионисты… Это уже не прежний оплот идейной живописи и русского «реализма». Зачем же упорствовать в отстаивании самостоятельности, которой давно нет. По привычке? Но искусство! Ведь в нашей провинции передвижники, благодаря своей старой репутации, могут почитаться сеятелями художественных истин. Привычка! Но от этой привычки укореняется «дурной вкус»; поколения русских людей воспитываются на мертвых пейзажах Волкова, Киселева и Пимоненко, на ужасных портретах Бодаревского, на жанрах Богданова-Бельского, Лебедева и т. д. Напрасно «Товарищество» мечтает об обновлении, о «привлечении новых сил». Это только самообман. Еще сравнительно недавно в его составе были выдающиеся художники — Серов, Левитан, Васнецов, Рябушкин, Нестеров, Иванов. Все, кроме Репина и Сурикова, в свое время ушли. Примеру их должна последовать и даровитая молодежь, случайно попадающая на «Передвижные». Впрочем, товарищество начинает, по-видимому, сознавать свой конец. С будущего года его выставки не будут больше «передвигаться» по нашим городам. Вместо них организуются в провинции другие — с участием членов «Союза русских художников»… Пора.Выставки Пассажа
Трудно говорить об умирающих. Еще труднее — о мертвых. Выставки в залах Пассажа («Товарищество художников» и «Петербургское общество») — даже не выставки, а магазины «хорошеньких» натурщиц в золоченых рамах, гладеньких жанров, олеографических ландшафтов, безграмотных исторических композиций и natures mortes… Мертвые срама не имут.Академические
Значение академических выставок тоже близится к концу. Но причина «конца» другая. После того как умерла старая Академия, во главе выставок встала группа художников свободных, передовых. Увлечение «новыми формами» сменило прежнее ремесленное безразличие. Людям легковерным уже мерещилось близкое возрождение… Случилось иначе. Новые увлечения оказались достаточно незрелыми, чтобы не сделаться самостоятельным, терпеливым исканием художественной правды. Почти все «новые» участники вскоре превратились в таких же скучных ремесленников, как и «старые»… Малокультурность неоакадемистов сказывается во всем — и в однообразии тем, и в торопливом подражании «западным» образцам, и в неприятном «мюнхеновском» тоне большинства холстов. Мюнхеновская эффектность, эта престарелая уже «сецессионская» элегантность[102], все еще, по-видимому, считается «последним словом» искусства у питомцев нашей художественной Alma mater[103]. Многих участников «Академической» нельзя упрекнуть в неспособности и в незнании техники. Наоборот, техникой они владеют безусловно. Есть умение, есть старание. И в то же время — какое отсутствие воображения, утонченности, индивидуальной смелости! Чем-то холодным, бессильным веет от этого мастерства без трепета исканий, от этого ловкого делания без творческой искры. Примеры? Куликов несомненно достиг известной виртуозности, но он беззастенчиво подделывается «под Репина». Шмаров, быть может, «элегантный» портретист, но он самодовольно остановился на своей легкой манере и дальше — ни шагу. Зарубин, Столица очень опытные пейзажисты, в особенности — первый, но в их картинах ремесленная эффектность так явно преобладает над красочным замыслом и чувством природы. Из пейзажистов один Химона заметно совершенствуется; в последних «видах Греции» умно разработана тема южного солнца и мраморных развалин. Остальные талантливые «куинджисты» — Рылов, Латри, Богаевский, Пурвит — примкнули к другим выставкам. Я бы хотел еще выделить в отдельную группу молодых участников, подающих надежды: Бродского, Лаховского, Киселеву (с ее не по-женски широкими, но неприятно манерными портретами), Колесникова (которому надо оберегать себя от мнимой колоритности), Фешина, Горелова. На них сказалось меньше плохое влияние профессоров Академии. Если они разовьют свою самостоятельность, то тогда, конечно, не долго будут верны академической выставке. Вспоминаются еще холсты Савинова. Они слишком темны, но в них — глубокий тон и оригинальная задуманность: сумрачные краски порою вспыхивают волшебным отливом, неожиданными пятнами расцветают на фоне комнаты осенние цветы, лунной ночью мерцает серебром вода залива. На одной из «Отчетных» выставок, а также в «Новом обществе» были красивы картины-сказки Савинова с интересно понятой архитектурой древнерусских резных изб и каменно-облачным небом. Об остальных не хочется говорить. Что скажешь о мертвых этюдах Вещилова или о его премированном «Юлии Цезаре», напоминающем все банальности Семирадского? Что скажешь о творчестве Розанова? о сентиментальных гипсах Диллон? о приторной панорамности Крыжицкого? о символических претензиях Клокачевой? о портретах Эберлинга? о громадных «машинах» Сычкова? Все это — далекое, беспорывное, отжившее, неиндивидуальное; хочется поскорее отделаться от впечатления… забыть. В итоге — ясно: несмотря на десятки премий, на даровое помещение и всякие «поддержки», академические выставки, после нескольких лет кажущегося подъема, верными и смелыми шагами идут назад. С каждым годом приобретают все более явный оттенок дешевого производства на дешевые вкусы. «Количественное влияние» все заметнее переходит к «новаторам» сомнительного качества, наполняющим залы Академии развязными подделками под «широкую манеру», безграмотными набросками, претендующими на «настроение и непосредственность», и совершенно невероятными аллегориями в quasi-современном духе. Некультурность — и в самом устройстве академических выставок: расположение картин, характер рам, тысяча неприятно действующих деталей указывают на полное нежелание устроителей считаться с требованиями вкуса. Выставка — праздник искусства. На выставке всякую мелочь надо строго обдумать — согласовать частности в одно целое, примирить диссонансы, выделить красиво контрасты, для достижения единства настроения, стиля. Нельзя ограничиваться развешиванием холстов на щитах, руководствуясь только их размером и освещением! Надо облегчить зрителю интимную беседу с художником, без которой невозможно приближение к личности автора. У выставки должна быть своя архитектура, своя идея… На ежегодных академических «базарах» эти правды попираются с варварским легкомыслием. При таком положении дела неудивительно, что все мало-мальски добросовестные художники стремятся «уйти» от Академии. В сущности, это единственное, что остается и всем молодым, вступающим в жизнь художникам, которые ежегодно снабжаются дипломами. Дурной пример заразителен… Красноречивое доказательство — последние «Отчетные выставки учеников Высшего художественного училища». Казалось бы, именно здесь должны радовать хорошие начинания. Ведь на этих выставках впервые выступают неизвестные, юные, неопределившиеся художники, от которых зависит ближайшее будущее русского искусства. На этих выставках пробивают себе дорогу новые силы, свежие таланты, еще не порабощенные ремесленным трудом и привычкой дешевого заработка… И каждый год, осенью, идешь в Академию художеств с тайной надеждой: вдруг явится из молодежи незнаемый и желанный и околдует красками, смелостью вдохновенной, золотым огнем восходящего солнца… Но хмуро, безнадежно хмуро ноябрьское небо, и хмуры, по-прежнему, залы Академии — словно большие склепы, закрытые для солнца красоты. Между «конкурентами» на звание художника вот уже много лет ни одного сильного дарования, ни одного обещания яркой победы. Все это — люди, может быть, и не лишенные индивидуальности и способностей, но чего-то главного не чувствуется в их дебюте, того, что дает уверенность в нужности, в безусловной ценности творчества. Эти холсты могли бы не быть написаны, авторы могли бы не получить «звания» (с отправкой или без отправки за границу), и не обеднело бы искусство. Они не нужны искусству; безразличны ему. Как выставка картин на Луне. А ученики, будущие «конкуренты»! Когда смотришь на их этюды, в которых изредка, как будто случайно, мерещится проблеск живой, непосредственной влюбленности в чары природы, — невольно думается: стоит ли учиться годами, стоит ли тратить так много холста, так много красок и лучшего времени для того, чтобы в конце концов «творить» так беспомощно? Самое удручающее в этих ученических работах «под руководством» профессоров — Репина, Киселева, Рубо и т. д. — непонимание красочных задач живописи. В отношении «учеников» к цвету и свету поражают то чернота, безнадежная тусклость, то режущая глаза яркость, с претензиями на plein air — яркость холодная, фальшивая, мертвая. Что хуже?.. Наши академисты или вовсе не видят красок, или, вместо цвета, волшебства солнечного мира, видят только голые краски и думают, что в их пестром сочетании заключается «колорит». Нет, не в Академии суждено загореться солнцу красоты. Страшно делается и обидно, когда поймешь, какому искусству учат юношество наши «маститые» профессора. Подрастающее поколение художников потеряло чувство художнического уменья. После реформы Академии пали старые устои ее «классического» периода. Но ничего на их месте не укрепилось жизненно нового. Старая Академия душила личность, заковывала ее в рамки узкого, холодно-школьного мастерства «на заданные темы». Новая Академия провозгласила свободу, и свобода превратилась в высочайше утвержденную распущенность. Была плохая, мертвая школа. Теперь — отсутствие всякой школы. Как всегда у нас — вообразили, что реформа зависит от «перемены устава». Вечное заблуждение! Для нового дела нужны новые талантливые люди. Чтобы не повторялись ученические выставки, подобные последним, надо подойти с живым интересом к задачам современного творчества и призвать в Академию даровитых руководителей, хотя бы иностранцев, если их нет в России. Какое простое и трудное решение вопроса! Сами члены Академии видят тот невозможный тупик, в котором очутилось наше высшее художественное преподавание. Весною 1908 года, под председательством гр. И. И. Толстого, состоялся ряд совещаний (с участием нескольких передовых художников и без участия академических профессоров) для обсуждения реформы Высшего художественного училища по образцу старой, екатерининской Академии. Члены совещания единодушно высказались за проект… Что же, будем надеяться, что его осуществление начнет новую эру академической жизни.Союз
После выставок «Мир искусства», сыгравших на рубеже XX столетия такую большую роль в истории русской живописи, передовые художники объединились под знаменем «Союза русских художников». К сожалению, только в числе передовых, рядом с большими, настоящими талантами и молодыми искателями новых путей, оказались мастера, уже пережившие свою славу, усталые, стареющие знаменитости. Они сообщили «Союзу» характер преждевременной отсталости. Вместо русского Сецессиона — действительно бодрой выставки протеста против застоя и рутины «большинства», получилось предприятие какое-то безразличное, не освященное жизненным замыслом. Выставки «Союза», оставаясь бесспорно лучшими и единственно серьезными выставками, как-то фатально «не удавались». Наиболее плодовитыми экспонентами оказывались наименее интересные, а самые ценные, за исключением двух-трех, являлись участниками словно по обязанности. Широкое привлечение в ряды приглашенных талантливых, дерзающих «молодых» также ни к чему не привело; представители этой молодежи, дорожа званием «союзника», как своего рода дипломом, продолжали пользоваться всеми поводами для самостоятельных выступлений отдельными кружками. При таких условиях «Союз» не мог приобрести значения объединяющего центра и тем менее — руководящего передового лагеря. Раскол начался в среде самих инициаторов. Не сегодня завтра все дело может распасться, и это жаль, потому что именно теперь публика, не поспевающая за «декадентами» последней формации, начинает всматриваться в «декадентов» вчерашнего дня с сочувственным вниманием. При новой группировке, менее индивидуалистически свободной, менее беспартийной, могут создаться новые поводы для недоразумений.Новое общество
Еще неудавшаяся выставочная организация — «Новое общество художников». Его создание вызвало в свое время понятное сочувствие среди друзей искусства. «Новое общество» возникло как попытка небольшого кружка молодых, ищущих питомцев из Академии отъединиться от пошлого «большинства». Первая выставка обещала много. Удачный подбор картин главных участников — Гауша, Кардовского, Аронсона, Фокина, Кустодиева, Баклунд — давал право верить в свежесть намерений. Чувствовалось, что инициаторы отнеслись к задаче серьезно, культурно. На это указывало и самое устройство выставки: красивое расположение картин и удачное убранство скучных зал Академии наук, темно-зеленые пятна декоративных растений, пахучие гиацинты, белые и лиловые, в майоликовых вазах… Все это мелочи, но мелочи, доказывающие известный уровень вкуса, мелочи, очень нужные в наши дни, когда внешний вид выставки приобрел большое значение. К сожалению, отъединиться — не всегда значит найти яркую самостоятельность. Лучших надежд недостаточно для победы. Я боюсь сказать, что Общество стало безнадежным. Но действительность наводит на серьезные опасения: выставка «Нового общества» из года в год становится случайнее, беспорядочнее. Первоначальная задача забыта. Наиболее даровитые инициаторы дезертировали. Остался тяжелый «балласт» — в лице совсем недаровитых Мурашко, Пироговых, Шервудов, Нерадовских и т. д., рядом с которыми произведения приглашенных знаменитостей из «Союза» кажутся случайными гостями. Желание конкурировать с Союзом все больше толкает «Новое общество» на путь «погони за именами». Это не может дать выставке прочной, осмысленной raison d’être[104]. Сказочные пейзажи Богаевского и декорации Головина, акварели Сомова, Лансере могут украсить любую выставку, но «балласт» остается балластом, сообщающим неприятный специфический оттенок всему предприятию. Не надо быть пессимистом, чтобы и здесь предвидеть неизбежный, естественный конец…Вывод
Что же останется? Не только фактически, но идейно, жизненно — как праздник искусства с воспитательным влиянием на вкусы публики, как вывод из всех предыдущих группировок. Какая выставка поведет художников и публику вперед? Конечно, не маленькие «часовни искусства», как московская «Голубая роза» или петербургский «Венок». Мне кажется, что время узкопартийной замкнутости все-таки пережито. В этом отношении идея «Союза» верна; ошибка — в другом, в отсутствии жюри, строгого выбора и широкой, серьезно обдуманной программы. Настало время объединительных выставок, совмещающих различные течения, но с очень осторожным приемом картин. Выставок таланта, в каком бы направлении он ни выражался. Нужен русский «Салон»[105] — средоточие всего ценного и характерного не только в русском художестве, но в искусстве мира. Такие Салоны существуют у других народов Европы[106]. Будут и у нас. Может быть, тогда понимание истинных ценностей творчества облегчится и для публики, равнодушной к «старым» художникам и недоверчивой к «новым», и для художественной молодежи, не знающей в конце концов, кому поверить и куда идти. В России есть таланты и желание работать, но для культурного созидания нужна культурная общественная атмосфера, которой нет.Культурная среда
Нигде не приходится работать художникам в более трудных условиях. При отсутствии поддержки со стороны эстетически развитой публики, без критики, без воспитывающих глаз впечатлений, вдали от художественных центров мира. Россия так бедна и «неустроенна», в ней столько насущно житейских проблем, столько элементарной борьбы и роковых невзгод, что искусство в ее городах кажется только роскошью, роскошью или средством для других общественных целей, но само по себе, как высшая цель и культурная победа, как необходимое завершение жизни, оно не чувствуется, не волнует, не убеждает и не влюбляет в себя. Не надо особенной зоркости, чтобы понять, как мало в России эстетических стремлений. Менее, чем в любой стране. Уродство, грязь, неряшливое забвение о минимальном вкусе — царят полновластно. Несмотря на «интеллигентность» средних классов, на впечатлительность и несомненную даровитость народа, в этой серой, бесформенной жизни страны нет благообразия, нет искания стройности — инстинктов зодчего, стремления к прочному, законченному, красивому. Недостаток этого стремления сказывается во всем — в литературе, в науке, в политике, в общественном быте, в идеологических течениях. Отсутствие определенных критериев, неясность мысли, пренебрежение формой, шаткость понятий и расплывчатость идеалов, отсутствие школы, единения, преемственности в культурных достижениях — все вместе создает «социальный воздух», исключительно неблагоприятный для искусства. Наши художники выучиваются как-то случайно, случайно создают красивые, «обещающие» произведения, бесплодно борются с нуждой или поощряются на ненужное и вредное; рано умирают или преждевременно слабеют, «выдыхаются», обращаясь в скучных ремесленников, не оправдав надежд. Не одна большая публика, даже немногие любители искусств осуждены на блуждание в области идей и модных слов, забытых, отживших на Западе, но искушающих нас новизной. В то же время коренные вопросы, без решения которых нельзя двинуться дальше, остаются невыясненными. Самые очевидные правды нуждаются еще в словах, в формулировке.Национальный вопрос
Россия и Европа
О дин из нерешенных вопросов — вопрос о русском национальном искусстве. Особенно жгучий для нас и сложный вследствие удивительной незрелости нашего национально-культурного самосознания. Мы давно, заблудились в каких-то роковых идеологических противоречиях, не проверенных ни жизнью, ни историей… Россия и Европа. Это противуположение, неверное по существу, привело к не менее лживой дилемме: или Россия — или Европа.«Мы обретаем национальное в отречении от Западного; тяготея к Западу, отрекаемся от национальности; национальное для России — неевропейское, допетровское…»Вот софизм, создавший бес плодную междоусобную борьбу в обществе, борьбу мнимых принципов, беспочвенных теорий и легкомысленных предубеждений. Тот же софизм был приложен к искусству: все, что от Запада, — подражательно, самобытно — все, что говорит о допетровской Руси. Так получился фантастический критерий для оценки присущих русскому творчеству элементов самобытности. И, как следствие, явилось и отрицание этой «самобытности» — столь характерный для русских мнимый «антипатриотизм», возмущающий мнимых «патриотов». В результате ряд художников отвернулся от «европейского» искусства, чтобы не изменять заветам Родины, другие — так же решительно отказались от Родины, любуясь Западом. Им говорили: вы не русские. Они отвечали: у искусства нет национальности. Я думаю не так. Искусство выражает культуру. Культура всегда национальна. Будем далеки от эстетического шовинизма; искусство нельзя заключить ни в какие рамки; при современном тяготении народов к общим культурным формам художественный интернационализм становится все более понятен. Но это не значит, что народ может забыть родную красоту! Нельзя требовать от художника непременно «национального духа»; не это — мерило художественных достижений. Но в искусстве каждого народа должны быть чуткие, серьезные выразители национального гения. В России, как нигде, с настойчивой страстностью доказывалось: будем национальны. И нигде этот призыв не вызывал более откровенного протеста. Почему? Мне кажется, что я ответил. Потому что незрелость национального самосознания привела нас к нелепой антитезе. В устах наших «патриотов» призыв к национализму не имел никакого реального смысла. И так же нереален был «антипатриотический» лозунг: будем европейцами! Нашему искусству в одинаковой степени повредили и непродуманные стремления к самобытности, и непродуманный отказ от национализма. Все дело в том, что это слово слишком долго понималось неверно, как вывод из софизма, не как живая, исторически созданная, развивающаяся в веках идея. Творческая идея, идея-сила, культурная идея.
Культурные корни
У народов Запада культура развивалась равномерно, во многом — сама из себя, как растение, корни которого уходят глубоко в землю. Россия, благодаря особым условиям своей эволюции, напоминает растение с «воздушными корнями». Они тянутся к стеблю из разных мест, вливая в него питательную свежесть многих родников. Родная почва камениста, открыта всем ветрам; могучий стебель завял бы, не расцветши, питаясь только от нее. Он бы не расцвел, если бы не дали ему корней земля варягов и земля византийцев и позже — земли европейского Запада… Эти западные корни стали тянуться к нам вовсе не со времени Петра — гораздо раньше. Без Запада наш XVII век так же невозможен, как XVIII. Если же влияния Запада получили быстро преобладающее значение, то причина — естественный рост, а не прихоть гениального реформатора. Народ, как растение, жадно впитывает соки, нужные ему в борьбе за жизнь. Что бы ни говорили наши славянофилы, у них нет ни одного довода, ни одного реального доказательства того, что реформы Петра были насильственны, чужды национальному духу, а не явились логическим выходом из вековых скрытых потребностей народа. Петр был величайший из русских националистов, может быть, не всегда сознательный и осторожный, но все, что сделано им, сделано во имя национальной идеи. Его «антипатриотизм», в разумении простонародья, старообрядцев и «длиннобородых» бояр, был ответом на плохой патриотизм, на застой быта, на вырождение культурных идеалов. Блестящее шествие России после Петра убеждает лучше всяких слов, как верно были им угаданы дремавшие в нации стремления, какой яркий выразитель их — он сам. Петр создал новое русское государство и указал России путь к новому русскому европеизму. Но, конечно, Запад, воспринятый верхними слоями общества, не мог сразу претвориться в национально-творческую силу. Наступила эпоха подражательности, смешной, грубой вначале; в то время как массы народа оставались прежним, допетровским народом, правящие классы перенимали облик голландцев, немцев, французов, англичан, забывая заветы прошлого. Я не спорю: наверное, гораздо действеннее была бы наша европеизация, если бы совершилась не извне, не из подражательности, а из сознательного приобщения к творческим идеям Европы. Но разве история ждет? Как медлительно было бы такое приобщение! Соседи успели бы нас уничтожить. Государству нужны были новые формы для внешнего могущества, для самозащиты. Уродливая быстрота заимствования этих форм — историческая неизбежность. Нет ничего забавнее современных рассуждений на тему: если бы Петр не поторопился, если бы не расправился так резко с обычаями старины, если бы… Как будто нация может отделить себя от жизни других наций! Разве не прав хирург, отнимающий ноги у больного, когда нет других средств против гангрены? Петр был жестоким хирургом, и отнятые ноги нам дороги. Но безногий народ может научиться летать! У нации вырастают крылья. Наши крылья — та живая культурная идея, которая еще так плохо понята, идея, соединяющая «Россию и Запад», идея новой России, благоговейной к своим старым корням, потому что они создали ее прошлое и еще питают великую темную душу народа, и — России, устремленной к будущему, приобщившейся к культурному строительству Европы — «нашей второй родины», как говорит Достоевский. Этот окрыленный национализм так же чужд бессильной «западобоязни», как и бессильному «западничеству». Горе именно в том, что у нас были русофилы и были западники, но почти не было русских европейцев. Особенно — в области искусства. Зодчество, ваяние, живопись — нежнейшие цветы культуры. На них сильнее действуют ее пороки. В России вся идейная атмосфера влияла скорее отрицательно на развитие художественной самобытности. Нигде не было более завзятых ненавистников «иноземщины», но нигде так плохо не изучали Родину — ее святыни, ее старину, ее вековые красоты. Надо посетить исторические города России, чтобы понять, как они заброшены, никому не нужны. Памятники искусства — забытые оазисы среди пустынь провинциальной скуки и грязи, свидетели единственные минувшего — стоят без призора, заваленные мусором, не вызывая благоговения. В лучшем случае какой-нибудь заезжий археолог полюбопытствует об их существовании. Обидно, до какой степени даже у людей развитых, пробужденных, озабоченных искренно Отечеством, этого уважения мало. Так повелось исстари. Так воспиталось общество. И вот в итоге — до сих пор большинству русских, не шовинистов или специально не изучавших вопроса, наш древний стиль представляется каким-то мифом и влечение к нему — почти доказательством «дурного вкуса»…«Этот пресловутый стиль — патриотический вымысел. Мы не создали самостоятельного зодчества. Все формы старинных русских зданий заимствованы у искусства Византии, Норвегии, Италии, Индии… Не так ли? В период дохристианский наши учителя были варяги. Приняв православие, мы стали сооружать храмы по греческим образцам македонской эпохи. Это продолжалось долго. Но объединители Руси, цари московские, под влиянием восточной пышности, занесенной татарами, и первых общений с культурой Запада, пожелали окружить себя затейно-богатыми дворцами и соборами. Строгий византийский стиль отжил. В Москву были призваны итальянские зодчие. Отсюда — прихотливость очертаний, пестрота, нарядная узорность церквей, шатровых башенок и теремов XVII века: смесь стилей, византийского, романского, готики, ренессанса и, может быть, индийского… Вот и все».Невзирая на успехи современной археологии, на разные кружки «ревнителей» древности и ежегодно издающиеся веленевые книги[107], это пренебрежительное «отрицание» русского монументального искусства все еще чрезвычайно распространенный недуг. Взгляд на допетровскую архитектуру как на что-то варварское и подражательное еще господствует! В этом отношении русское общество стало немногим вдумчивее и осторожнее, чем сто лет назад, когда знатоки искусства, воспитанные на образцах александровского empire’a[108], авторитетно утверждали: «Предки наши не имели и не могли иметь понятия о красоте зданий. Богатство составляло крайнюю цель украшений церковных… Первые храмы христианские строились по примеру современных греческих. Последовавшие за ними были также более или менее подражания, уродуемые по прихотям строителей. Зодчество византийского вкуса заменилось каким-то готическо-индийским и т. д.» («Северные цветы»[109], 1826). Русский скептицизм прежде всего выражается в скептическом отношении ко всему русскому… Вот несомненно великий грех против художественной культуры, против святая святых народной истории, великая опасность на пути к европеизации… Безумно думать, что для любви к старине существуютархеологи, профессора «изящных искусств» и вообще люди отсталые, что безразличие и даже пренебрежение к прошлому верное условие для движения вперед. Германец Ницше мог говорить об «излишестве истории» и национализма. Мы должны говорить о «недостатке истории» и национального сознания. Если правда, что мы плохие русские оттого, что недостаточно европейцы, то не меньшая правда и обратное: мы плохие европейцы оттого, что недостаточно русские. Тогда как везде на Западе ревниво лелеялось родное творчество, благоговейно чтилась старина, — в России укреплялось невежественное равнодушие к памятникам древности и убивались творческие попытки крестьянства. Лучший пример — уничтожение старых медных досок для лубков, которое довершил, в начале 40-х годов, Закревский. Везде, где нужна была забота о «своем», бережная любовь к созданному веками, все равно какими — древними или послепетровскими, мы оказывались невнимательными, равнодушными, не знающими реликвий и чар своей земли.
Псевдорусский ренессанс
Только в силу того же векового недоразумения могли прослыть истинно русскими талантами художники, изображавшие русскую природу, русскую историю и быт фальшиво, мелко, по-мещански, как «полуинтеллигенты», которые выучились кое-как техническим приемам у западных мастеров, но не сумели оживить свои холсты ни единым лучом поэзии! Только этим, наконец, можно объяснить ту позорную страницу русского искусства, которая называется «неорусский» архитектурный стиль, распространившийся сравнительно недавно, хотя основание ему положено еще при Николае Павловиче, и его насадители — разные Тоны, Дали, Монигетти, Зауервейды, Тиммы, Шарлемани, Ропеты — давно почили в славе. Не согретый чувством и воображением, мертвенно-академический, несмотря на затейливость очертаний, вычурный без фантазии, тяжелый без внушительности — этот стиль, конечно, самое грубое, ненужное и нерусское, что создала Россия во имя национального искусства. И какие яркие образцы этого «ренессанса» возникают еще теперь, на наших глазах! Ропет умер — явился Парланд. Вы видели храм Воскресения в память Александра II[110], только что построенный на Екатерининском канале?.. Страшно подумать: вот после почти двух тысяч лет христианства в столице России выросло небывалое архитектурное уродство под знаменем русского христианского зодчества… Страшно. Ведь камни не лгут и камни остаются навсегда. Памятники архитектуры — каменная книга столетий. Что скажут о нас будущие поколения? Поймут ли, что, если Парланд злоупотребил неведением «пославших его», виновато не общество, что простые смертные не имели возможности помешать осуществлению этой роскошно-бессмысленной затеи, что храм царю-освободителю сооружен усилиями чиновных комиссий, по указаниям какого-то монаха, которому приснилось «чудесное видение»? Если же поймут, то им останется одно — уничтожить произведение Парланда бесследно, срыть до основания чудовищный собор. Достаточно элементарного чутья к форме, чтобы прийти в ужас от этого нагромождения пряничных деталей «по Василию Блаженному», от грубо-замысловатых куполов, колонок, орнаментов, от отсутствия архитектурной пластики, гармонии, единства, логики в этом здании, сложенном из раскрашенных кубиков. Но внутри! Надо видеть, что творится внутри, на стенах, пилонах и арках собора, сплошь покрытых мозаикой. Внутри — какие-то немощные потуги бездарно-кропотливой фантазии. Парланд и его помощники превзошли себя в декоративном изуверстве. Всего характернее, пожалуй, по безвкусию — иконы самого Парланда, как «Благовещение», и Беляева — «Сон Якова», «Неопалимая купина». Но не многим лучше мозаики Харламова — «Евхаристия» и «Спас» в алтаре, или «Самаритянка» Отмара, или унылая композиция Кошелева «Бегство в Египет», или сладкие жанры на евангельские сюжеты Бодаревского, доказавшего еще раз (после икон в московском Храме Спасителя и в Киевском соборе) свою безнадежность и в качестве иконописца. Детальная оценка такого искусства невозможна. В новом храме возмущает полное отсутствие у декораторов понимания задач храмового убранства. Ни чувства стиля, ни религиозности настроения. Все эти мозаичные иконы — жанрики с передвижническим пошибом, не иконы вульгарные рассказы на библейские темы, не воплощения библейских символов. Приторный сентиментализм изображений дает им сходство с дешевыми рыночными олеографиями. Грубая пестрота мозаик достигает местами парадоксального уродства: фоны икон — голубого цвета самых разнообразно неприятных оттенков: по-видимому, каждый художник «творил», совершенно не сообразуясь с требованиями общего впечатления… Не довольно ли? Нет обязанности тяжелее, чем отрицание того немногого, что делается у нас именем национального стиля. Современный псевдорусский ренессанс… Мы не вправе, к сожалению, обходить этот больной вопрос, если хотим увидеть лучшее в творчестве нескольких художников последнего десятилетия. Ведь холодной и фальшивой долго была и русская «историческая» живопись; она начала свое существование с брюлловской «Осады Пскова», выразилась затем в картинах Угрюмова, Сазонова, Солнцева, Плешанова и их преемников — Литовченко, Седова, Лебедева, Якобия… и стольких еще…Плохой национализм
Пропасть, отделяющая наше общество, европеизованное наполовину, беспочвенную «интеллигенцию», от крестьянства, что живет «по старине», эта пропасть чувствуется во всем созданном русскими художниками с претензиями на народно-русский характер. И витязи Гальберга или Демута-Малиновского, и статуи Антокольского («Ермак», «Грозный»), и бояре Лебедева или К. Маковского, и «мужички» передвижников — в сущности, выражают одинаково неглубокое понимание народной истории и народного быта. Психологически это искусство одинаково серединное, «интеллигентское», фальшивое. Только сравнительно недавно в картинах нескольких даровитых мастеров — о них речь впереди — почувствовалась живая связь с национальным прошлым. Но, к сожалению, и эти мастера оказались жертвами общественной некультурности! Любуясь красотою далеких столетий, они увидели в ее художественном воскрешении исчерпывающую задачу нашей «самобытности». Во имя прошлого они отвернулись от настоящего и будущего. Захотели отречься от того, что давно стало русским для русских, глубоко национальным, хотя и не «народным», от «второй родины» нашей культуры. Их творчество грешит узким народничеством — не в смысле «гражданской тенденции», как у передвижников, но в смысле признания за отжившей или доживающей колоритностью дореформенных веков самодовлеющего, истинно национального значения. Вот, конечно, основное заблуждение всех современных возродителей допетровского «духа» и стиля: надо признать раз навсегда. Как элемент национальной живописи и декоративного искусства, этот «дух», эта еще живая в простонародье колоритность — драгоценное приобретение. Но чтобы сделаться хорошим художником, национальным в высшем, творческом значении, мало одного «народничества». Ведь русское искусство живое, «наше» искусство, а не то, о котором мы грезим в прошлом, давно претворило элементы западноевропейского творчества. Остается только сознательно и ревниво работать, приобщая его к великим сокровищам искусства европейского. Это — условие для движения вперед. Нужно учиться у Запада, а не чураться его. Учиться не значит подражать. Подражают одни неучи. Если русские художники так много подражали, то, разумеется, не оттого, что слишком хорошо учились у Запада. Наоборот, учись они лучше, они, вероятно, лучше бы поняли значение оригинальности в искусстве. Немногочисленность национальных памятников в России и недостаток любви к ним объясняется, прежде всего, недостаточным, поверхностным приобщением нашим к эстетической культуре Запада. Если русские живописцы долго ничего не знали о народной красоте, то главным образом оттого, что были плохими европейцами. И если, узнав свой народ, остались плохими живописцами, то в силу той же причины.Самобытность нашего искусства
Любоваться допетровскою Русью — не значит признавать в ней национальную сущность навеки. Прежде всего, это заблуждение с чисто формальной стороны; художественная оригинальность Древней Руси сложилась как результат многих прививок. Не говоря уже о византийских и скандинавских корнях, заимствования у Запада, в XVI и XVII столетиях, повлияли не только на боярскую роскошь, но внесли европейские декоративные мотивы глубоко в русскую деревню. Допетровские лубки, вышивки на полотенцах, резные украшения, орнаменты, стилизованные изображения, которые принято считать безусловно народным творчеством, — как часто они заимствованы у итальянских и немецких первоисточников! Но, разумеется, дело не в формальной стороне вопроса. Ни один народ не развивается настолько изолированно от других, чтобы ничего не заимствовать. Сплошь да рядом он наследует целиком чужую культуру, и все его творчество является переработкой воспринятых форм. Искусство Германии и Франции расцвело на почве, созданной доисторической микенской культурой, кельтами, греко-римским язычеством со всеми элементами восточных цивилизаций Египта, Сирии, Персии — арабской образованностью, итальянским rinasciménto[111]. Когда мы углубляемся в «первоисточники», мы почти всегда находим заимствование. И это совсем не важно. Важно, как претворил народ взятое у других; самобытность его в том, как он видоизменил унаследованные формы, как выразил через них свои особенности. В этом смысле, конечно, не менее ярко самобытны, чем безымянные художники времен царя Алексея Михайловича, лучшие мастера елисаветинского и екатерининского XVIII века и «дней Александровых» и наконец — многие крупные таланты от Брюллова до наших дней. Рядом с искусством только подражательным или фальшиво-народническим было искусство, выразившее истинную русскую даровитость, не полно, отрывочно, но все же достаточно явно, чтобы дать веру в будущие достижения. Художники петровской России, ученики знаменитых голландцев и французов, даже первые «гофмалеры»[112], воспитанные в атмосфере рабской подражательности иноземцам, обнаруживают черты самостоятельности, доказывая тем, что истинный европеизм глубоко таился в русском обществе и только ждал возможности выявиться. «Семейный портрет» Матвеева или «Барон С. Г. Строганов» Никитина уже предсказывают Левицкого и Боровиковского, великих выразителей нашей эпохи «фижм и париков», мерцающего шелка и светских улыбок, «эпохи столь типично русской», несмотря на западноевропейскую декорацию. И вспоминаются другие имена, недавно воскрешенные критикой: Рокотов, Шибанов, Аргунов, Щукин, скульпторы — Козловский, Шубин, Прокофьев, Мартос… В каждом из них, хотя и в формах, заимствованных у Запада, несомненно воплотилось оригинальное, свое, русское, так же, как воплощалось прежде в формах, унаследованных от Византии, Скандинавии, монгольского Востока. Повторяю: вопрос не в формах, а в их одухотворении, в неопределимом трепете красоты, внушенной веками национальной жизни. Между старыми художниками Левицкий особенно дорог нам, потому что в его портретах выразилась не только внешняя культура екатерининского времени, но еще — новое, русское отношение к портрету. В нем — тот непосредственный реализм, та искренность изображения, которой нет ни у знаменитого Натье, ни у Токкэ. Левицкий глубоко правдив, несмотря на все условности придворной среды, в которой вырос его талант. В человеческом лице он увидел интенсивную правду жизни, правду личности и создавшего ее быта. И это — русское, так же как в Пушкине русское — его задушевная искренность, его полная чар простота, несмотря на французское легкомыслие, заимствованное у Парни, и драматический пафос, взятый у Байрона. Если между нашими художниками все-таки нет Пушкина, по глубине национального ясновидения, нет Глинки, Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, воскресивших звуками «народную» и европейскую основу нашего эстетического бытия, если в этом отношении мы богаче литературой и музыкой, чем живописью, скульптурой, то отсюда не следует, что надо искать художественную самобытность вдали от влияний Запада. Отказ от этих влияний, претворенных в творчестве лучших художников, влияний, слитых с прошлыми веками всей жизнью нашей и культурной миссией, всеми усилиями к национальному идеалу, — безумие или наивность плохо понятого патриотизма. О русском, оригинальном, неподражаемом говорят нам и художества елисаветинского и екатерининского века, и русский эллинизм александровского empire’a, и классицизм Брюллова, Иванова, и задушевность Венецианова и Федотова, и натурализм Репина, и утонченный вкус «ретроспективных мечтателей» — Сомова, Лансере, Бенуа, и пейзажи Левитана, и портреты Серова, и декоративное волшебство Головина, Коровина, и северные сумраки Рериха, и «старые усадьбы» Борисова-Мусатова, и гениальные бреды Врубеля… И мы это ясно сознаем именно теперь, когда начинаем освобождаться от пренебрежительного недоверия к художественным святыням прошлого, когда научились любить, чаруясь сказками Сурикова, Васнецова, Рябушкина, лучше, чем любили прежде народную красоту, красоту деревни — сказочный лепет далеких столетий.Народная сказка и живопись
У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том… Народные песни и сказки — таинственное наследие, завещанное веками. В них поет наше невозвратное прошлое. Оттого, когда вспоминаем их, нам становится как-то по-детски жутко-радостно и грустно не по-детски. И мы чувствуем, что этот волшебный лепет старины нужен нам, близок современному искусству, выросшему из пытливого изучения жизни. Мы угадываем в ребяческих вымыслах народа отзвук нашей искушенной мечте. Утончилось понимание реального и нереального. Обманные границы постижимого отодвинулись далеко. Старым сказкам народа-ребенка верят только дети. Но разве во всем, что красиво, теперь, как прежде, не то же веяние сказки? Гейне назвал искусство священной игрушкой людей… Элемент сказочности в русской живописи — одно из выражений художественного идеализма, нового, утонченного идеализма… Tief ist die Welt und tiefer als der Tag gedacht[113]. Прежние художники-идеалисты, романтики, стремясь уйти дальше от действительности, воскрешали чудесное, чувством своим давали призракам реальность. Новый идеализм — интеллектуальный, преображающий явное до призрачности. Был «возвышающий обман»[114]. Теперь — углубленная правда. Между ними тонкая грань, которую надо почувствовать… В русской сказке — сердце русского народа. В ней отразилось все, что он пережил когда-то, и все, что продолжает доныне питать его сознание: скорбь и грезы счастья, нравственное чувство, художественный вкус, юмор, вера. Сколько певучей простоты в этих небылицах, сплетающих в один узор и предания языческой старины, и бытовую мудрость, и первые воспоминания народа, и легенды Древнего Востока! Как хороши эти повествования о богатырях и злых кудесниках, о Василисе Премудрой, о «Перышке Финиста-ясна сокола» и «Арысь-поле», о Диве-Дивном и Кощее Бессмертном, о сестрице Аленушке и братце Иванушке! Заколдованный мир народной фантастики — вольный и тихий простор для художника… Там, в далеких царствах, за горами, за синими морями, в дремучих лесах с зарытыми кладами, говорящие деревья шепчутся с путником, в узорчатых теремах царевны тоскуют о витязях: заплачут ли — из очей жемчуг сыпится, засмеются — кругом цветы расцветают. Там на полях волшебных кони «грива золотая, хвост золотой, по бокам звезды» — пожирают камни самоцветные; на скалах, высоких до самого неба, живут страшные змии с крыльями, с когтистыми лапами, Идолище семиглавый, Вихорь Вихревич, у которого — скатерть-самовертка, санки-самокатки, посошок-перышко. Там в зарослях чащи лесной скачут верные слуги Бабы-Яги — всадник белый в одежде белой, как день ясный, и всадник алый весь в алом, как солнце красное, и черный всадник, как ночь темная, и на острове Ивана-царевича сверкает царство золотое, и мост через море, устланный бархатом, и по сторонам его деревья чудные и на них серебряные птицы — хохолки золотые… Там все возможно; там природа подчинена прихотям человеческой мечты; там нет различия между действительностью и снами; там чудовищное кажется естественным и все небывалое — былью. Там чудеса: там леший бродит… Да, Пушкин. Он первый воскресил эти «чудеса» чудом своего гения и полюбил их с такою вдохновенною убежденностью, что сделал навсегда любимыми. Первый сроднился с творчеством народа, поверил в красоту его языка, быта… Русские живописцы до недавнего времени не помнили о «чудесах», воспетых Пушкиным. Почти ничего не знали о том, что в преданиях загадочного прошлого, в очертаниях крестьянской утвари, в затейных изображениях и орнаментах, которыми испещрены пожелтелые страницы старых церковных книг, — во всем своеобразном колорите народных обычаев, суеверий скрыты неисчерпаемые богатства форм и красок, драгоценные россыпи живописных образов… Только теперь «лед сломан» и произведения нескольких передовых русских художников озарились тихой красотой веков. Чтобы оценить их лучшие достижения, надо прежде всего почувствовать коренное, глубокое несходство между «новым» отношением к русской старине и отношением ложнонациональных живописцев. Художники прежнего склада, академики и натуралисты по эстетическому воспитанию, видели жизнь Древней Руси «другой» только с внешней стороны. Художники нового склада увидели в истории образы своего художнического созерцания, волшебство мечты. Как понятно их влечение к сказочным вымыслам народа! Народ бессознательно шел тем же путем, когда создавал, в иных формах, ту же грезу о «несуществующем и вечном». Старая сказка научила нас идеализации. Перед «Боярыней Морозовой» Сурикова или «Старой Москвой» Ап. Васнецова не знаешь, где кончается история и где начинается сказка. Это не восстановление мертвых эпох по учебникам. Не «живые картины» с подлинными костюмами, не исторический маскарад, не переряженная действительность. Тут вполне современное, непосредственное, наше представление о бывшей когда-то жизни, жизни, преображенной думами русских людей, сроднившихся с поэзией народа. Историческая реставрация как художественная задача? Нет, истинный художник проникает глубже, за ощутимость к неощутимой тайне. Он не может видеть в прошлом внешний факт. Ценность исторической картины не доподлинность рассказа, а воплощенное видение, вдохновенная вдумчивость в былое. Пусть художник — археолог, но — до минуты творчества. Лишь бы с этой минуты он был поэтом! Тогда все отступления от внешней правды, все самые неправдоподобные фантазмы получат силу и убедительность… «Переоценивая» художественное значение Сурикова, Васнецова, Нестерова, мы не должны забывать, что в их картинах эта правда есть, несмотря на все их несовершенства. Я далек от мысли, что они выдающиеся живописцы. Но я убежден, что они почувствовали нашу забытую или ложно понятую старину, как никто до них; вдохнули новую поэзию в ее бытовые и декоративные подробности; с любовью припали к родникам «воды живой», бьющим из глубоких недр. Сказка создала современных «национальных» художников. Они сказочники. Для них древняя, допетровская Русь — как сон волшебный. И в этом их приближение к «исторической правде». В красоте сказочного, фантастического, выявляющего вневременную сущность народного духа, оживают мертвые века и становятся близкими, реальными, явными…В. Васнецов[115]
«Переоценка» Васнецова
Он гениальный художник, оригинальный и неподражаемый и в жанре, и в эпических и религиозных картинах… — говорит о Васнецове А. Успенский в книге[116], вышедшей два года назад. Лет десять раньше почти так же восторженно прославлялся Васнецов многими критиками (в том числе и мною) как возвеститель русской «самобытности», вдохновенный мистик, художник национальных откровений. Не прежний Васнецов, писавший мужичков и мещан с передвижническим юмором, а Васнецов новый — декоратор Владимирского собора, автор «Сестрицы Аленушки» и «Снегурки». С тех пор мы узнали, что наивной была наша вера, Васнецов не кажется больше ни гениальным учителем, ни вдохновенным мистиком. Открытый им путь остался — путь к народной красоте, о которой прежде мы знали непростительно мало, но сам он, как живописец, как мастер, отошел в ряды заурядных и заблуждающихся. Он разочаровал как-то сразу. Внезапно возвеличенный — столь же внезапно потерял свое обаяние. На последней выставке в Академии художеств (1905 года) все чуткие поняли: великого Васнецова не стало… Как это случилось? Отчего в промежуток пяти-шести лет могла произойти такая «переоценка»? Мы знаем. Именно в это время завершилась в России эволюция художественного вкуса, которая началась еще в 90-е годы, — переставилась точка зрения на живопись. После нерешительных блужданий между старым берегом доморощенной художественной идеологии и «новыми берегами» западного искусства мы научились требовать от живописца прежде всего хорошей живописи — благородства тона, рисунка, вдохновенного знания ремесла, радости для глаз. Мы убедились, что не идейное намерение, а форма — ценное и вечное в живописи: краски, свет, гармоничность воплощения, прекрасная плоть искусства. Если этого нет, обаяние картины — только преходящая иллюзия. С Васнецовым, автором эпических и религиозных картин, повторилось то же, что несколько лет раньше с жанристами и пейзажистами передвижных выставок. В его произведениях ясно обнаружился плохой живописец — беспомощный рисовальщик и очень условный колорист. Конечно, и прежде эти «недостатки» не оставались незамеченными, но их пагубность недостаточно сознавалась. Внешне «национальное», обманно-впечатляющее в его творчестве казалось каким-то гордым вызовом неумелому «западничеству» художников-подражателей и компиляторов. Это увлечение «самобытностью», характерное для наших художественных чаяний в конце XIX века, сменилось более трезвым и строгим отношением к искусству… Живопись — всегда живопись. Плохая живопись всегда остается плохой живописью. С этой точки зрения совершенно безразлично, что изображает художник — былинный эпос или парижские улицы. Если он самобытен, национален — тем лучше, но пусть его самобытность скажется в новом разрешении живописных задач! Тогда, только тогда станет убеждающей силой вера его в художественный гений народа. Васнецов понял инстинктивно то что не было понято ложно-русскими художниками, он привел нас в забытое, милое царство, оказал нам памятную услугу, победив наше некультурное, неевропейское пренебрежение к родной стихии; в истории живописи он останется будителем «народных настроений», человеком большой идеи, упорного, цельного мировоззрения, — это много и за это мы всегда будем признательны Васнецову — и все-таки живописных откровений он не дал. И причина не только недостаток таланта, но и психологическая ошибка, все та же свойственная патриотически настроенным русским «западобоязнь». Упрямо отвернувшись от страшного «Запада» — он остался чужд лучшим поискам современных мастеров кисти; если же подчинился общим течениям европейского искусства, то невольно, бессознательно и потому неудачно. В. Васнецов.
Сирин и Алконост. Песнь радости и печали. 1896.
В. Васнецов.
Сирин и Алконост. Песнь радости и печали. 1896.
Отсюда несерьезность его церковной живописи. На него повлияли и английские прерафаэлиты, и позднейшие символисты, но случайно, поверхностно, и эти непродуманные влияния, в соединении с навыками передвижничества и с подражанием византийским образцам, дали странно-незрелое сочетание. Модернизация византийских форм привела Васнецова к внешней, дешевой манерности, от которой бесконечно далеки величавые, полные грозной суровости лики нашей старинной иконописи и тем более — дивно-нереальные образы византийских мозаик. Васнецов несомненно «опошлил» великолепную условность древнего иератизма, смягчив его сентиментальной идейностью и неглубоким драматическим пафосом. Когда-то я писал по поводу икон Васнецова:
«Из Владимирского собора направимся к св. Софии. Здесь утомленное внимание отдыхает. Спокойные, запыленные краски орнаментов, холодная роскошь мозаик, по которым прошли века, поражают после пышности нового храма. Тот же стиль; вы ясно видите, что одно породило другое, что византизм был готовой формой для современного творчества, и только. Новый дух прорывается везде в образах Васнецова. Он перетолковал художественные традиции по-своему со всей непокорностью самостоятельного таланта; совершил волшебство — узкие рамки школьной иконописи, мертвенной иконописи, как мертвенно все, что неподвижно веками, расширились. Открылись новые пути, невиданные области для религиозного воображения. Византийская живопись была до сих пор строго церковной, в ней царило одно настроение беспорывной отвлеченности. Васнецов, соединив народный сказочный элемент с древними формами, вдохнул в византийское искусство новую жизнь. Наш народ — сказочник по натуре; он проникнут суеверием преданий и легенд, стремлением к чудесному. Глядя на образа Васнецова, понимаешь связь между русской сказкой и русской верой»…Несмотря на только что сказанное мною против религиозной живописи Васнецова, я не могу отказаться вполне от этих замечаний. Верно ли понято художником возрождение византизма, жизнеспособна или нет его концепция — другой вопрос. Сделанная им попытка, попытка связать народно-фантастический элемент с церковным каноном, во всяком случае — интересное художественное явление. Васнецов действительно «расширил» рамки школьной иконописи, показал возможность «новых путей» для декоративного храмового искусства. Но он не справился с задачей. Однажды он сказал одному французскому критику: «Je ne suis pas un peintre, Monsieur, je suis un artiste»[117]. Нельзя лучше определить самого себя. Да, он не живописец, но все-таки — художник, баян народной красоты. Несильный, заблудившийся искатель «самобытности», но искатель! И эта «внутренняя» сторона его творчества — бесспорная ценность. Мы можем любить Васнецова-поэта, забывая о Васнецове-живописце…
Его декоративное чутье
«Жили да были старик со старухой. У них было три сына. Младшего звали Иваном. Стали братья невест искать. Старший пошел — не нашел, середний пошел — не нашел. Пошел младший брат; дошел до заветного камня. Отвалил его, а там дыра в землю. Спустился Иванушка на ремнях под землю и увидел три царства: золотое, изумрудное и алмазное, и из каждого царства вывел по царевне…»Из всех произведений В. Васнецова, навеянных народной сказкой, эти «Три царевны подземного царства» — наиболее живописны и впечатляющи. В их неподвижности, в волшебных отливах ожерелий, в длинных складках парчовых одежд, во всей картине — красивый аккорд. Достаточно этого холста, чтобы признать в Васнецове дар сказочника, несмотря на плохую, дешевую сказочность знаменитых «Богатырей». Но из всего созданного Васнецовым наиболее художественны, конечно, архитектурные и орнаментальные композиции. Об этом не раз уже говорилось. В киевском соборе св. Владимира есть узоры, ласкающие богатством цветовой гаммы, остроумной изобретательностью рисунка. В этих орнаментах, как в заглавных рукописных буквах IX столетия, растительно-суставчатые формы преобладают над геометрическими; позолота сердцевин и окаймлений выделяет листву, и стебли небывалых цветов сплетаются в легкую сеть… Стены, столбы, арки собора словно увешаны гирляндами причудливо-нежных растений; их разводы на бронзоватом фоне — сказка неожиданных превращений. То голубые, лиловые листья распускаются в гроздья винограда; то вырастают из павлиньих перьев кресты и розовые флоксы; то белые маргаритки и кукуруза на тонких стеблях и колосья ржи превращаются в букеты пятилепестных лилий; то длинные стебли тюльпанов, окружив голову серафима, закручиваются в пеструю бахрому. Можно не соглашаться со многими деталями этой росписи, слишком пышной, слишком затейной для церковного убранства, — общее впечатление приятное. Красив местами подбор красок, чередование цветных пятен. Не будучи колористом в высшем значении слова, Васнецов обладал наитиями декоратора-фантаста. Отсюда — его огромное влияние на современников. Это чувствуется даже в его столь неудачных иконах. Несмотря на вульгарность «общего тона», иногда и в них пленительны декоративные сочетания. Почти ни один цвет не повторяется. Пышные ткани княжеских одежд, темные ризы монахов, уголки пейзажей ласкают глаз оттенками. Мне вспоминается фигура Михаила Черниговского на фоне бледно-розового заката: темно-зеленый кафтан, рубиновый плащ, пояс золотой, с драгоценными камнями. У Михаила Тверского — белая шуба с голубыми разводами и лиловый кафтан в лилиях. Борис и Глеб — в светлом атласе на пунцовой подкладке: у одного алые, у другого изумрудные сапоги. На Алимпии — зеленовато-коричневая ряса, и сверху эпитрахиль[118] темной лазури… Вспоминается также картина «Прародители до грехопадения», вся в ярких пятнах: зеленый луг Эдема, усеянный маргаритками и колокольчиками, попугай из пурпура, павлин, вышитый малахитом, кролики, точно хлопья снега, золотистое небо. Конечно, во всем этом мало чисто живописных достоинств; в самом качестве тона нет той долговечной красоты, которую могут дать лишь истинные колористы. Но есть сказка, поэзия цвета, декоративная выразительность — то, что немцы называют «Farbendichtung»[119].
Архитектурные проекты
Поэзия национальной красочности наиболее ярко выражена в архитектурных проектах Васнецова и особенно — в постановке «Снегурочки». Здесь — на просторе ничем не стесненного вымысла — он показал себя почти волшебником. Все эти пестрые церкви, игрушечные дворики и терема с замысловатыми крылечками, узорные костюмы бояр, царских гонцов, скоморохов, гусляров, «игрецов на гудке и на сопели» — вводят нас в новый сказочный мирок. Никто еще не выражал с такою смелостью экзотическое великолепие забытой берендеевской старины. Вообще не было открытий в этой области, если не считать иллюстраций гр. Ф. Соллогуба к «Золотому петушку». Васнецов создал стиль. Пусть даже — не прочный и не жизненный, как это казалось недавно, пусть даже — только «курьезный» стиль. Все-таки он бесконечно ближе к народной красоте, милее, интимнее, правдивее, чем «петушиный» стиль, воспетый Стасовым. Быстро меняются общественные вкусы. Теперь, после сказочных композиций Поленовой, Якунчиковой, Малютина, после театральных постановок Коровина, Головина, Ап. Васнецова, после иллюстраций Билибина, после вышивок Давыдовой, Линдеман, после кустарных изделий Мамонтова и талашкинских работ кн. Тенишевой, теперь, когда русский экзотизм не кажется больше какой-то самодовлеющей задачей нашего искусства и утомляет обычностью, — легко «отрицать» Васнецова. Но его декоративные предвидения, его околдованность прошлым России, влюбленность в народное творчество — вклад в сокровищницу русского искусства. Картины Васнецова умрут, Васнецов останется.Суриков[120]
«Стенька Разин»
Суриков тоже разочаровал нас, хотя и не так, как Васнецов. Его последний громадный холст «Стенька Разин» (на передвижной 1907 года) — одно из тех произведений, которые сразу открывают глаза на слабые стороны художника. В этой картине, так долго ожидавшейся всеми, мы увидели лживость живописных принципов Сурикова — великана нашего исторического жанра. Жухлые краски и тени, черные, как смола, варварская размашистость мазка, грубо-натуралистические эффекты, вульгарность рисунка, композиции, в конце концов — недостаток знания, культурной чуткости глаза, все вместе говорило не только об упадке таланта Сурикова, но о роковых заблуждениях его творчества. Невольно возникал вопрос: да был ли Суриков великим художником? Или он — тоже наша иллюзия? В. Суриков.
Боярыня Морозова. 1887.
В. Суриков.
Боярыня Морозова. 1887.
В самом деле, после «Стеньки Разина» почти все картины Сурикова начинают казаться удивительно грубыми панорамами. Лучше, свежее, бесспорнее — «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири», «Меншиков». Но «Казнь стрельцов» или «Переход Суворова через Альпы» — разве это живопись? Хорошая живопись?! Надо иметь мужество сознаться: Суриков гораздо более живописец, чем Васнецов, но он тоже «plus artiste que peintre»[121], и он — художник замыслов, поэт, воскреситель стихийно-нравственных типов, не пластик и не колорист. И все-таки Суриков — Суриков. Большой, уродливый, вдохновенный.
Мистика Сурикова
Его долго ценили за идейно-передвижническую правду. Теперь мы знаем: ценное в нем — глубокая правда мистической поэзии. Несмотря на грубость формы, картины Сурикова — магические сны. Такого дара сновидца я не знаю ни в ком из наших художников. Может быть, этим и объясняются его недостатки — ограниченностью вкуса и сознательного умения в сравнении с надсознательною прозорливостью. Уайльд сказал о Браунинге — «он заикается тысячью ртов». О Сурикове хочется сказать: он вдохновенно-косноязычен. В его творчестве — повелительная убежденность галлюцината. Он действительно видит прошлое, варварское, кровавое, жуткое прошлое России и рассказывает свои видения так выпукло-ярко, словно не знает различия между сном и явью. Эти видения-картины фантастическим реализмом деталей и цельностью обобщающего настроения вызывают чувство, похожее на испуг. Мы смотрим на них, подчиняясь внушениям художника, и бред его кажется вещим. Правда исторической панорамы становится откровением. В трагизме воскрешенной эпохи раскрывается загадочная, трагичная глубина народной души…Демоническое начало
Скорбные женские лица с лихорадочным блеском глаз, искушающие сладострастной девственностью, сумрачные лбы осужденных на смерть, лохмотья калек, бледные улыбки юродивых и сатанинский смех палачей, руки, проклинающие и поднятые для благословения и повисшие в бессильном отчаянии, взгляды, полные ненависти, страстной мольбы и страстного ужаса, — и всегда толпа, всегда смятенность толпы, то ждущей кровавых казней на тесных улицах древней Москвы, то вырастающей в варварское полчище на сибирских прибережьях, то воодушевленной подвигом на льдинах суворовских Альп — вот Суриков! Несомненно стихийный талант, прозревший темную сущность восточнославянской стихии: ее роковое, грозное начало. В задумчивых глазах его героинь — раздвоенность морального самосознания — мучительное опьянение, которое Достоевский назвал «надрывом»… Они стоят в толпе, и порывисто вглядываются в лица приговоренных на казнь, и шепчут суеверно молитвы; они никогда не улыбаются, хрупкие, красивые и мятежные — страдальческие царевны, монахини теремов, в чарах сказки прошлого. И рядом с ними еще угрюмее смотрят мужские лица с длинными бородами и взъерошенными кудрями, старые и молодые, с тем же упорным взглядом исподлобья: стрельцы в железных оковах, бояре, странники, солдаты. Зловещими силуэтами выделяются их костистые профили, сутулые спины. От них веет былинной удалью и сумраком монастырской кельи, простором волжских степей и зарослями доисторического леса. В каждом чувствуется личность, познавшая свое право на жизнь и смерть, но в них есть и общее, одинаково присущее всем… Как женщины-царевны Сурикова, бледные героини в кокошниках и узорных душегрейках, так и эти угрюмые герои в казацких шапках и петровских киверах — образы-символы народной души. Художник понял в этой «душе племени» демоническую основу: трагизм острых контрастов, смесь варварства, буйной «татарщины» с экстазом моральных «надрывов» и религиозного отречения, — довизантийской эпической силы с робостью церковно-бытового смирения, смесь жестокости, юродства, разгула, подвижничества, душевной муки, любви. Мне кажется, что, называя Сурикова мистиком и символистом, мы подразумеваем именно это… Суриков не столько бытовой художник, сколько психолог, заглянувший «по ту сторону» обычной психологии и увидевший мистические бездны там, где прежде видели только «быт».Натурализм Репина
Между всеми нашими художниками, околдованными допетровской Русью, Суриков — наиболее натуралист. Натуралист специфически национального склада. Это приближает его к другому столпу нашей «самобытности» — Репину. Натурализм, чисто русское пристрастие к обнаженной, грубой правде, одухотворенное у Сурикова мистическим проникновением в народную душу, Репин бессознательно возвел в абсолютный принцип. Отсюда его сила и его слабость. Натурализм Репина, достигающий иногда гениальной мощи, подчеркивает главный недостаток его произведений, характерный для стольких русских художников: отсутствие благородства, вкуса, некультурность художественной концепции. Репин видит, но не воображает. В его даровании нет того, что заставляет нас прощать многое Сурикову, Нестерову, даже Васнецову, и потому, несмотря на громадный талант живописца, порою он кажется беспомощным. Как ясно это обнаружилось в одной из его последних картин — «Искушение Христа». Для понимания отрицательных сторон репинского творчества она сыграла такую же роль, как «Разин» — для понимания Сурикова и «Святая Русь» — для Нестерова. Трудно представить себе попытку на «идейный жанр» более неудачную во всех смыслах. Вульгарная фигура Спасителя и рядом жирный диавол, на фоне гор, освещенных розовым бенгальским огнем, оставили во мне впечатление комедиантов на подмостках странствующего театра… Художник хотел сказать большую правду и произнес с усилием маленькую пошлость. Но после «Искушения Христа» Репин опять явился перед нами тем Репиным, каким мы научились его ценить. Я говорю об этюдах — портретах для картины «Государственный Совет». В них — все резкие особенности репинского натурализма: исключительно яркая непосредственность воплощения и вместе с тем — что-то странно отталкивающее. Живые этюды! Внешние достоинства — смелость и уверенность лепки, энергия мазка, определенность красок. Сила характеристик необыкновенная. Хотя бы мы не знали моделей, с которых они написаны, мы убеждены, что они страшно похожи. В каждом из этих подмалевков, еще не вполне отделившихся от холста, угадывается портрет — то живое, особенное, явное и тайное лицо, далекое от других лиц, которое отличает человека от людей и которое дано видеть только художнику. Но в то же время чувствуется и еще что-то — неудовлетворяющее нас, действующее неприятно, болезненно… Как назвать это «что-то»? Отчего двоится наше впечатление? У всякого художника — свои глаза, своя зоркость. Зоркость Репина-портретиста в том, что он умеет подметить сразу, по первому же взгляду на человека, характерные, ему одному свойственные, неотъемлемые черты его телесной физиономии, его физической личности, черты, в которых так много животно-уродливого, говорящие об инстинктах, привычках, наследственных пороках, влияниях общественной среды. Но он не видит дальше, не видит духовного, нравственного человека, не видит, что в тех же чертах отражается жизнь более скрытая и глубокая, чем наша душевно-телесная жизнь: тайные глубины страсти, вдохновения, совести, поэзия мысли, мистика чувств. Несколькими обдуманно-небрежными штрихами он определяет линию лба, изгиб носа, движение плеч, взгляд, бессознательную усмешку, морщину, подробность, мелочь — и перед нами весь человек, человек во всем своем типическом несовершенстве, но не тот человек, который созерцает, мыслит, верит, овеянный сумраком своего «я», а тот, который ест, спит, двигается, болеет и наслаждается, — животный двойник человека, призванный к самостоятельному бытию волей беспощадного наблюдения. Правда Репина неполная. Репин великий физиономист, но физиономист односторонний. Главное — абсолютно не поэт. Его портреты всегда ближе к сатирам, чем к поэмам. В их сходстве есть что-то смешное и пугающее. Странное, недоброе сходство. Кажется, стоит сделать малейшее изменение, прибавить или убавить несколько неуловимых черточек — и все эти столь похожие лица-двойники превратятся в зловещие маски, в уродливые личины, в какие-то смешные и страшные подобия человеческих лиц… И. Репин.
Портрет художника В. А. Серова. 1901.
И. Репин.
Портрет художника В. А. Серова. 1901.
Вследствие той же особенности репинского натурализма, особенности, которую я бы назвал своеобразным художественным цинизмом, Репин — портретист, психофизиолог человеческих «лиц» по преимуществу. Его картины «Царевна София», «Иоанн Грозный», «Св. Николай», «Запорожцы», в сущности, только ряд «душевно-телесных» характеристик, ряд выразительных «лиц», схваченных в минуты забвенных, инстинктивных состояний. Гневная гордость Софии, ужас Иоанна, сострадающий ужас св. Николая и разгульный хохот запорожцев — разные проявления той же, бессознательной или полусознательной, животной стихии в человеке. Для создания картины такого реализма недостаточно. Кроме наблюдательности, кроме анализа нужен творческий синтез, соприкосновение творящего духа с красотой и тайной воображаемой жизни. Картины не чувствуется также и в последней картине Репина «Государственный Совет». Этот громадный холст скучен и бездушен донельзя, оставляет впечатление гигантской раскрашенной фотографии. Опять-таки — кроме отдельных лиц-портретов, поражающих нас силой того же «беспощадного» натурализма, но характерно, что эти портреты все-таки проигрывают на картине, проигрывают не только оттого, что их душит мертвенность общего тона, что они отзываются вялостью работы «по заказу», стесненной требованиями, чуждыми целям искусства… Нет, с точки зрения, сейчас мною высказанной, репинские портреты, как завершенная часть картины, должны уступать его этюдам. То, что видит Репин с такою необыкновенною зоркостью — маска-двойник человека, трепет его физической личности, — эта неполная правда выражаетсяярко, свежо, убедительно именно этюдом, виртуозным подмалевком; для законченного произведения Репину недостает проникновения, фантазии, подъема… Как это обыкновенно случается с русскими художниками, Репин теперь, в конце своей деятельности, заметно идет назад. С недоумением я всматривался в портреты князя И. Р. Тарханова и В. П. Антокольской («Передвижная» 1906 года). Какая небрежность фактуры, какое отсутствие вкуса! В этих портретах только приемы прежнего Репина — нет великого таланта Репина; за пределами привычного «мастерства» — ничего, ни красоты красок, ни силы впечатления, ни строгости рисунка… Я имею в виду в особенности картину «Разведки» (на той же выставке). По живописи, по тону, по грубой и сентиментальной повествовательности это уже очень близко к жанрам не то Мясоедова, не то Лебедева. Делается страшно. Если Репин пойдет дальше по тому же пути, то совсем перестанет выделяться на «Передвижной» и ему уже некуда будет «уйти», по примеру стольких товарищей, примкнувших к выставкам «Мира искусства» и «Союза»…
Поленова
Мы знаем: в середине 80-х годов около Васнецова в Москве образовалась группа художников, одушевленных желанием возродить живописью, архитектурой, резьбой на дереве, узорами для тканей и для майолики тот «народный стиль», который так безнадежно выродился в пошлую официальную «ропетовщину». Между этими художниками была Елена Дмитриевна Поленова. С 1882 года (после переезда в Москву, где она близко познакомилась с Васнецовым) до преждевременной смерти (в 1898-м) она стремилась неутомимо к осуществлению мечты — воскресить в России «национальное» художество. Ее дарование развивалось с большою постепенностью. Она терпеливо училась, долго искала себя, сомневалась, меняла манеру, переходила от керамики и выжигания по дереву к жанру и пейзажу маслом, от книжных иллюстраций — к рисункам для мебели, для вышивок. Смерть взяла ее слишком рано. Многое осталось недовершенным. Но все созданное — оригинально, умно, хотя и не «гениально», как уверяет Стасов. До Поленовой наши художники не иллюстрировали русские сказки. Все, что делалось прежде в этой области, — неумело, грубо заимствовано из иностранных изданий: стоит вспомнить об известном, чуть ли не единственном иллюстрированном издании русских былин Германа Гоппе, под редакцией Петрова (1875), или просмотреть рисунки в псевдорусском стиле, появлявшиеся на страницах «Художественного листка» и «Северного сияния». Она любила сказки. С детства полюбила их вдумчиво-нежной, женской любовью и осталась верна им всю жизнь. Она знала их из первых уст, от деревенских баб, детей и стариков и как-то сразу нашла образы, согласные с простонародной певучей речью. Так возникли ее первые иллюстрации к сказкам «Война грибов», «Избушка на курьих ножках», «Иванушка-дурачок и Жар-птица», «Царь-Мороз». В последнюю пору своей деятельности, живя подолгу за границей, Поленова не перестала верить в живописную прелесть народных украшений, в тихую красоту северной природы. Второй цикл сказок, созданный художницей за эти последние годы серьезного изучения западного искусства, гораздо самостоятельнее, ярче. Особенно удачны «Отчего медведь стал куцый», «Красный и Рыжий» и «Как кот лису перехитрил». Здесь понятна самая сущность сказок известного рода — неожиданные эффекты фантастического юмора сочетаются с любовным изображением русской деревни. Другая заслуга Поленовой — ее заботы о кустарных изделиях села Абрамцева. В 1885 году, после сближения Поленовой с владелицей имения, Мамонтовой, абрамцевская мастерская была преобразована: учащиеся в ней мальчики-крестьяне стали исполнять различные резные работы по оригинальным рисункам. Вскоре к тесной «семье Абрамцева» присоединилась еще даровитая художница — Якунчикова. Так создались первые, уже значительно распространившиеся теперь и, увы, опошленные — резные ларцы, полочки, скамейки, шкапики, исполненные по образцам древнерусского кустарного производства. После талантливых родоначальниц Абрамцева возрожденное ими московское кустарничество пережило несколько «направлений». Не так давно видная роль в этом деле перешла к Малютину. Его влияние, наложившее такую деспотическую печать на все производство мастерских княгини Тенишевой в Талашкине, сказывается и здесь. Но в последних изделиях Абрамцева есть и нечто новое, идущее с Запада, и подчас красивое: формы и в особенности тона нескольких кувшинов и цветочных ваз. Нежные, маслянистые поливы радуют глаз и приятны на ощупь. Две-три майоликовые головки, чуть-чуть напоминающие египетские скульптуры эпохи сайтов, стильны без дешевого модернизма, без слепой подражательности надоевшим шаблонам.Малютин
В сказке есть греза, в сказке — печаль; в сказке — смутный бред… Все, что лишь начинало мерещиться Поленовой в конце ее жизни, когда вопросы фантастической стилизации выдвинулись для нее на первый план и на ее рисунках стали таинственно расцветать огненные цветы небывалых папоротников в зеленом сумраке затейливо-пышной листвы, — все это манящее, странное, экзотическое живет в творчестве Малютина. Я не знаю русского художника, равного Малютину по непосредственности, доходящей порою до грубых излишеств, до бесцельных капризов воображения. Эта особенность Малютина лучше всего выразилась в изделиях села Талашкина. О них сказано мною подробно в специальном издании{1}. Сейчас мне хочется только подчеркнуть и в творчестве Малютина опасность неверно понятой самобытности. Одаренный несомненным талантом стилиста, Малютин, в конце концов, ничего не создал прочного. Ему много подражали и будут подражать, но это еще не доказательство стиля. Нет большего трагизма для творчества элементарного, народнического, чем отсутствие сдерживающей, культурной самокритики. Элементарное неизбежно превращается в манерность дурного вкуса, как только художник-самородок вообразит, что его произвол — лучший законодатель форм. Трагизм еще увеличивается, когда самородок убежден, что ему не у кого учиться, потому что он стихийный выразитель «национальности». Мы опять подошли к тому же «проклятому вопросу», чтобы убедиться снова, какой великий вред для искусства — наша нелепая народническая самовлюбленность… Впрочем, судя по последним выставкам «Союза», Малютин начинает излечиваться от заблуждений юности. Я уверен: в его таланте неуравновешенного фантаста есть данные для серьезного, искреннего живописца.Билибин
После Поленовой иллюстрированием сказок занялся И. Я. Билибин. Его дебюты были скромны — дебюты искателя более добросовестного и умного, чем вдохновенного. Но уже в них угадывался будущий тонкий стилист и знаток народного узора. Дарование Билибина определилось сразу: большое техническое умение, задушевное понимание русской природы и быта, наблюдательность, чувство деталей и — недостаток смелости, темперамента, творческого размаха. Нельзя требовать от художника больше, чем он может дать: Билибин блестяще сдержал свои «обещания»… Большинство заставок blanc et noir[122], нарисованных им еще в 90-х годах, появились на страницах «Мира искусства». Милы эти миниатюрные иллюстрации русского пейзажа: деревянные церковки в лугах, занесенных снегом, стены древних городов под облачным небом Севера, редкие сосны по оврагам, берега широких рек — тихие, немного грустные уголки деревенского простора, которым художник поведал свои мечты о далекой, сказочной Руси. Вскоре стали появляться и акварели Билибина. К 1899–1902 гадам относится серия «сказок», которые могут быть также причислены к ранним опытам. В композиции чувствуются разнообразные влияния — Васнецов, Поленова, Якунчикова, Малютин. Заметны и заимствования у японцев и, к сожалению, у немецких изданий «для детей». Навыки реалистического изучения природы еще не превзойдены; пестрые причуды орнамента не всегда гармонируют с бесхитростным изображением полевых цветов, животных; стилизация не приведена к единству; человеческие фигуры — в особенности — недостаточно упрощены, недостаточно связаны с окружающим их фантастическим миром иногда слишком обычно-реальны, иногда грубо-карикатурны. От многих из этих недостатков Билибин избавился впоследствии, работая с неутомимой энергией, совершенствуя графический прием, вникая в красоты национального орнамента с любовным терпением. Уже в первой серии сказок видны постепенные успехи. Иллюстрации 1899 года — «Царевна-Лягушка», «Иван-царевич и Жар-птица» — гораздо слабее, чем рисунки для «Василисы Прекрасной» или «Марьи Моревны», помеченные 1900 и 1901 годами; наиболее удачны — «Белая уточка» и «Братец Иванушка и сестрица Аленушка», исполненные в следующем году. В рисунках Билибина — больше поэзии, чем стиля. Любуясь мелодиями красок, нежно-волшебных, мы прощаем ему угловатую жесткость рисунка, какую-то неприятную «точность» контуров. Краски действительно красивы, и одухотворяет их интимное, чисто билибинское настроение. Уголки природы чаруют: морские побережья с угрюмыми валунами и елями, огромная желтая луна на дымно-синем небе, заросли дремучих боров, золотоглавые церкви на холмах, алые закаты над лесными далями, озера… «Много плакала княгиня, много князь ее уговаривал, заповедовал не покидать высока терема, не ходить на беседу, с дурными людьми не ватажиться, худых речей не слушаться. Князь уехал; она заперлась в своем покое и не выходит»… Рисунок наиболее сказочный из всей серии — этот княжий терем, весь узорчатый, с красным «коньком» на крыльце, и около — бирюзовые главы церквей, белые зубчатые ворота и сторожевая башенка, высоко над темным морем с пестро-парусными ладьями. Очень красива и другая иллюстрация для «Белой уточки»: на берегу реки отражаются густые сосны, стоят «деточки» околдованной княгини: «Белая уточка нанесла яиц, вывела деточек, двух хороших, а третьего заморушка»… После сказок — былины. Иллюстрации к «Волге» показывают, с какой упорной добросовестностью продолжал Билибин совершенствоваться в избранном стиле. Его рисунок становится свободнее. Он все больше и больше отдаляется от «плохих образцов», отказывается от несколько приторных эффектов, завоевавших ему симпатии большой публики. В то же время глубже проникает в дух крестьянских узоров, вышивок, кружев, барочной резьбы, лубочных картинок, — воскрешает забытое народное творчество, стилизованное «по-билибински» с большим умением, хотя и не всегда с безупречным вкусом. На выставке «Мир искусства» 1905 года он выставил четыре хороших рисунка — «Северные женские наряды». В них красиво сочеталась наивная грубость лубка с кружевной «бирдслеевской» законченностью деталей. Менее удачными показались мне иллюстрации к «Царю Салтану». Здесь художник увлекся деталями в ущерб композиции, и это ослабило волшебство замысла. Ведь утонченность манеры и микроскопическая техника — не синонимы! Об успехах Билибина свидетельствовали также выставки «Союза» 1906 и 1907 годов (иллюстрации к «Золотому Петушку»). Наконец, совсем красивы русские «костюмы» для парижской постановки «Бориса Годунова» Мусоргского (1908). Билибина принято упрекать за то, что он недостаточно самостоятелен, слишком рабски придерживается старинных образцов. Но мне кажется, что в этом подражании давно умершему, в этой любви к первоисточнику — залог будущих достижений. Можно не любить Билибина как художническую индивидуальность, но у него твердая почва. И это много в наше время индивидуальных исканий, слишком часто беспочвенных.Афанасьев[123]
Еще сказочник, о котором хочется упомянуть. Рисунки Афанасьева давно меня интересуют. Его иллюстрации-карикатуры к «Коньку-Горбунку», появившиеся в журнале «Шут»[124], обнаруживают такое знание русского мужика, столько наблюдательности, веселья, национального юмора и живописной точности, что мы им прощаем некоторое однообразие и ненужную грубость графического приема. Иллюстрации к сказкам Пушкина «Царь Салтан» и «Золотая рыбка» еще удачнее: тоньше и сдержаннее. Наконец, выставленная в 1904 году на «Передвижной» пастель «У праздника» — совсем серьезная работа. Признаки карикатуры, шаржа доведены здесь до крайней незаметности. Получился стилизованный реализм, глубоко народный по духу… Нам уже не до смеха. Сквозь уродливо-смешное мы прозреваем вместе с художником какие-то роковые особенности крестьянского быта: что-то грузное, устойчивое, упорное и колоритное, как наши древние восточнославянские соборы и кремли со стенными башнями. Эти неуклюжие, сутулые, почти зловещие старухи с длинными клюками, эти странники и странницы в лохмотьях и в огромных лаптях — приземистые, придавленные, словно сгорбленные под ношей вековых суеверий и вековой нищеты, вся эта ленивая, тяжелая, варварская и упорная толпа — около белой ограды монастыря с яхонтово-синими куполами на низком, сером небе — приобрела в изображении Афанасьева силу загадочной правды.Рябушкин
«Рано угасший талант»
Несмотря на известность Рябушкина (1861–1904) как исторического и бытового художника, как иконописца и иллюстратора, смерть его не произвела большого впечатления на русское общество. Он был плохо понят при жизни. Когда его не стало, слишком немногие почувствовали значение оставленного им художественного наследия. В печати о нем почти ничего не появилось: два-три биографических очерка, несколько заметок, сдержанно-доброжелательных и равнодушных, как некролог. Не узнав Рябушкина, его забыли. Это понятно отчасти. Лучшие холсты художника (если не считать нескольких картин в Третьяковской галерее и в Музее Александра III) находятся у частных лиц, так же как большинство рисунков и эскизов. Их мало кто знает. В то же время наиболее известны его церковные композиции — наименее удачные. Иллюстрации Рябушкина, знакомые публике по разным дешевым изданиям, тоже значительно хуже того, что он умел делать в свои «хорошие часы». А. Рябушкин.
Русские женщины XVII столетия в церкви. 1899.
А. Рябушкин.
Русские женщины XVII столетия в церкви. 1899.
Еще один даровитый русский мастер ушел со сцены почти незамеченным… Кто он? Какое место его в истории нашей живописи? В лучших произведениях Рябушкина — «Купеческая семья при Алексее Михайловиче», «Московская улица допетровского времени», «Чаепитие», «Ожидание посольства» свободная, творческая личность чувствуется, непокорная и сильная. Он умеет быть самобытным без всякой претенциозности и национальным без грубого и неприятного «шовинизма». Но вместе с тем Рябушкин — мастер очень неровный. Иногда гениальный, иногда не идущий дальше заурядного ремесла. Помните его рисунки для иллюстрированных изданий? Между ними есть удивительно яркие, выпуклые, продуманные. Встречаются настоящие образцы выдержанной стильности, достойные лучших рисовальщиков. И рядом — образчики полнейшей беспомощности воображения и техники. Особенно удручающее впечатление оставляет «Альбом былинных богатырей» (изд. 1893 г. Германа Гоппе). Бедные оперные «богатыри», помахивающие бутафорскими палицами и гарцующие на лошадях «кавалерийской породы»! От них не веет сказочной былью Древней Руси, они удивительно нехудожественны. Рисунок совсем детский, композиция тривиальна… И все-таки Рябушкин несомненно слишком «рано угасший талант», как выражается его биограф И. Ф. Тюменев{2}. Долго таившаяся болезнь легких унесла его как раз в то время, когда он достигал полной творческой зрелости. С каждым годом его произведения становились продуманнее, серьезнее, утонченнее. Завершалась медленная эволюция: от неотесанности, от невольной подражательности псевдонародному стилю — к высшей культурности духа, без которой современный живописец, как бы он ни был талантлив, не в силах дать всего, что может.
Западобоязнь Рябушкина
Недостатки ранних работ Рябушкина объясняются главным образом недостатком эстетической культуры и в нем, и в окружавшей его среде. В ту пору почти никто еще не сознавал, что требования, предъявляемые к художникам такими журналами, как «Всемирная иллюстрация» или «Нива», не имеют ничего общего с искусством. Тогда еще многие думали, что русский патриотизм и самобытность русского искусства заключаются в «отрицании гнилого Запада». Все это, конечно, влияло на молодого Рябушкина. Поступив в начале 80-х годов после окончания московского Училища живописи и ваяния в петербургскую Академию, он принялся рисовать иллюстрации на «русские темы» и сделался страстным «патриотом». Его нежелание «учиться у Запада» дошло до того, что он отказался от заграничной поездки, когда получил денежную субсидию за свою конкурсную картину «Снятие с креста». Вот что говорит по этому поводу И. Ф. Тюменев:«Всецело посвятивший себя своей родине, направлявший все мысли и желания к изучению ее истории, народного творчества, быта, интересовавшийся в этом отношении каждою мелкою подробностью, каждым старинным костюмом, старинной песней, старинною грамотою (некоторыми почерками XVII и XVIII столетий он владел в совершенстве), старинною утварью, резьбою на избах, старинными узорами на тканях, вышивками на полотенцах, запоминавший каждую интересную мелодию, каждое меткое выражение, одним словом, живший и дышавший только своим народным, русским, он не мог ехать к немцам, французам, итальянцам — и всю полученную сумму употребил на разъезды по России, оставшись и в этом отношении вполне самобытным, так как, насколько помнится, ни до, ни после него не было слышно о пансионере, который отказался бы от заманчивой возможности побывать в „заморских краях“».Можно от души пожалеть, что в то время не было у Рябушкина советчика, который бы уговорил его все-таки отправиться в заморские края. Я убежден, что это помогло бы ему выйти скорее и сознательнее на свой путь. Рябушкин нашел этот путь только в конце жизни, именно тогда, когда волна обновленного «западного» творчества дошла до России и передовые русские художники поняли, что пора перестать беспомощно топтаться на месте. Подойдя к историко-бытовым картинам Рябушкина с этой точки зрения, мы видим, как они постепенно улучшаются. Первый, выставленный им в 1880 году, холст «Крестьянская свадьба» еще носит на себе отпечаток грубоватого передвижничества. Та же грубость видна и в картинах «Ожидание новобрачных из церкви» и «Потешные Петра I в кружале» (передвижные выставки 1891 и 1892 годов). Только в произведениях, написанных за последние восемь-десять лет, выразился гармонично и ярко тот русский народный дух, который является эстетической сущностью его творчества.
«Русские женщины XVII в.»
Конечно, у всех, знающих Третьяковскую галерею, в памяти небольшой холст Рябушкина: «Русские женщины и девушки XVII века в церкви». Эту картину трудно забыть. Такой у нее хороший, ясный тон, так она выделяется чисто национальной поэзией общего впечатления, гармоничной алостью красок и типически живописной теснотою в компоновке из всего того, что у нас обыкновенно называют «историческим жанром», — столько вложил в нее художник непосредственного любовного, своего понимания русской старины. Вы сразу чувствуете, глядя на этот уголок древнего храма с причудливой росписью стен и сводов, в котором, близко друг к другу, стоят богомольно-неподвижные женщины, нарядные и немного неуклюжие в своих тяжелых парчовых сарафанах и шушунах, опушенных соболем, в высоких кокошниках и венцах, разубранных яхонтами, бисером, жемчугами, — вы чувствуете, что здесь родная стихия художника, что ему не пришлось мучиться, напрягая воображение, чтобы представить себе до мельчайших подробностей прелесть этой полутатарской и византийско-славянской колоритности. Рябушкин не только знает, во что одевались жены и дочери наших бояр XVII века; он знает, как они носили свои платья, как белились и румянились, как подвязывали на спине длинные рукава душегреек, как вплетали в косы разноцветные ленты, как складывали крест-накрест холеные руки, украшенные затейливыми перстнями, держа обрядово шелковые платочки с золотой бахромой. Все это он видит. Много писалось и до него узорных сарафанов и кокошников, иногда очень эффектно. Но кто из наших мастеров умел передать с такою законченностью характер надетого на древнемосковском человеке древнемосковского платья? Чтобы красиво написать старинные шелка и бархаты, не надо ничего, кроме технической виртуозности. Художник должен обладать высшим даром, чтобы вернуть этим бархатам и шелкам прежнюю жизнь, утраченный отпечаток времени и людей, — превратить старинную материю в старинную одежду. Рябушкин обладал этим даром. Он изображает русские одеяния так, точно видел их на московских людях; живописью складок, рисунком вышитых золотом и серебром узоров он передает не парадную внешность XVII века, но внутренний стиль эпохи — что-то восточное, тесное, обрядовое, теремное, что было в жизни наших прадедов. Композиция Рябушкина не археологические восстановления. Археология дает ему только материал. Цель его искусства — импровизация, создающая иллюзию-грезу о минувшем. Оттого в его «исторических» картинах обыкновенно отсутствует исторический сюжет. Он воплощает свое видение старины вне всяких условностей исторической перспективы. Рассказывает о своем непосредственном впечатлении от нее как от знакомой действительности. И в этом утонченность его реализма.Правда истории
Лучшие холсты Рябушкина несомненно знаменуют собою совершившийся за последнее время поворот в творчестве наших художников от чисто внешней исторической иллюстрации к более интимному и непосредственно-впечатляющему воскрешению былых эпох. Коренным образом изменился взгляд русского живописца на правду истории. С одной стороны, он понял, что от нее неотделим элемент сказочный, фантастический; в то же время — почувствовал и полюбил ее бытовую реальность, увидел в ней не только венчания на царства, победы и торжественные заключения союзов, не только исторические «моменты», понял, что громкие «события» — прежде, как и теперь, — растворяются в неуловимой стихии жизни, что красота, поэзия минувшего — не в них, что самое значительное и вечное не увековечивается славным именем, что кроме той истории, о которой пишут историки, есть еще другая история, которую выявляет творческая греза. Содержание этой истории неисчерпаемо, потому что оно растет вместе с ростом нашего постижения жизни. Эту историю нельзя заключить в рамки исторических фактов. Она — вне искусственных, мнимых пределов, создаваемых нашей мыслью о прошлом. Современный художник хочет грезить о старине, как поэт и ясновидец, избегая всякой программности, определенности рассказа в картине, избегая той литературной сюжетности, которую еще так недавно ставили на первый план. Если он пользуется каким-нибудь готовым сюжетом для композиции, то исключительно как темой, облегчающей ему проникновение в интимную сущность эпохи и глубже куда-то — в вековечную сущность национальной психики. Впрочем, это относится не к одним историческим композициям, но вообще к бытовой живописи. Жанр, старый повествовательный жанр, ошибочно считавшийся последним словом реализма, в особенности жанр с драматическим или юмористическим «содержанием», отжил свой век, уступив место свободному художественно-субъективному изображению жизни, раскрывающему ее безымянное значение, непостижимое богатство ее символов, ее тайный смысл, тайный и вечный. И отсюда тоже — прямой путь к примитивности в живописи, к стилизации рисунка, красок.Интимный реализм
Стремление к примитивности присуще Рябушкину, может быть, больше, чем кому бы то ни было из русских мастеров, стремление совершенно ненамеренное. Потому он так интимно-реален и в то же время — сказочник. В его лучших картинах ничего предвзятого, никакой программы, но каждая подробность обусловлена «целым», содействует ему и сливается с ним, как отдельный звук в аккорде. Он рисует древнерусский быт с непосредственностью, которая кажется наивной. В такой наивности — мудрость. С прошлого приподнята завеса. И перед нами возникают, как видение сна, образы далекой жизни. В древнем храме с причудливой росписью стен и сводов толпятся молящиеся женщины в узорных нарядах… Богатая «купеческая семья» расположилась в сенях: сам хозяин, его жена с ребенком на коленях и около них дочери-подростки, тщательно набеленные и нарумяненные по моде XVII века; по их выжидающей неподвижности можно догадаться, что они позируют перед каким-нибудь заезжим живописцем из «фряжской земли»… Весело шумит в весеннюю распутицу праздничный люд на широкой, покрытой гатью улице допетровской Москвы; грязь по колено; над домами-избами серое, теплое небо; в воздухе — смех, шутки, щелканье бичей и покрикивание ездовых; на первом плане — женщина в красном… Перед молодым Михаилом Романовым, вдоль стен думной палаты, сидят бояре, бородатые, тяжелые, степенные, в парчовых, сверкающих каменьями кафтанах… Царские стражники с топорами на плечах оттеснили народ, чтобы открыть путь посольству. Любопытство, робость, хмурая сосредоточенность на лицах. Смуглые, глубокие краски воскрешают жизнь и движение тревожно выжидающей толпы… Как видения сна возникают эти странно знакомые, странно реальные и фантастические образы далекой жизни… И через них начинает мерещиться что-то, что за ними, что-то общее, неопределимое, загадочная основа их своеобразной красоты — дух народа, дух расы, дух неисчислимых веков племенного единения, отразившийся на всех этих непохожих друг на друга лицах женщин, детей, бояр, стрельцов, в замысловато пестрых одеждах, в каждой живописной детали, в настроении каждой фигуры, в красках и формах предметов. Нацию создает история. Племенные особенности слагаются тысячелетиями доисторической жизни. Искусство дает почувствовать эти тысячелетия. Рябушкин, как живописец-историк и как бытовой живописец, изображает известную эпоху, известную среду. Но невольно он заглядывает глубже и дает больше, чем обещает. За это можно простить ему все «плохое» в его живописи: былые увлечения передвижничеством, ничтожные рисунки для иллюстрированных журналов и образа, которые он писал сериями на заказ, для церквей в модном, со времени Александра III, псевдорусском стиле. Иконопись хуже всего давалась Рябушкину, хотя именно на нее потрачено им много сил. Он смолоду знал ремесло «богомазов». Его отец был крестьянином-иконописцем. Еще мальчиком он помогал ему в работе. Впоследствии на него имел влияние Васнецов, по примеру которого он старался слить в картине-иконе элементы византийской декоративности с выразительностью одухотворенного реализма. Но и ему храмовое искусство было совершенно не по силам. Тем больше сознаешь настоящую силу Рябушкина, возвращаясь к картинам исторического и бытового цикла, к некоторым позднейшим рисункам-иллюстрациям, например в «Царской охоте» Кутепова и в «Сочинениях» И. Ф. Горбунова[125], и к немногочисленным пейзажам, удивительно ясным, тихим.«Чаепитие»
Последняя маленькая картина Рябушкина, поразившая меня, «Чаепитие», на выставке «Союза русских художников» 1903 года (теперь в Третьяковской галерее). Они пьют чай. За столом, покрытым белой скатертью, они сидят, прямо против зрителя. Их четверо: два молодых темноволосых парня в жилетках и ярко вышитых рубашках, женщина в платочке и старый мужик с аккуратно приглаженными седеющими волосами и белой окладистой бородой. Сосредоточенно и молчаливо они пьют чай «вприкуску» «с блюдечка». Позади видно еще несколько фигур на сумеречном фоне тесной, низкой избы: направо — чернобородый малый с бутылкой водки в руке, налево — две старухи в кофтах и целый выводок ребятишек, забравшихся на печь под самый потолок… Они пьют чай. У них упорные, устало-неподвижные лица; в их позах — что-то серьезное, почти торжественное, словно они совершают за этим столом, покрытым белой скатертью, древний, веками освященный обряд. Поражает рисунок — своей суровой простотой, своей примитивностью, наводящей мысль на церковные изображения. Поклонников законченного, «правильного», академического рисунка он удовлетворить не может; с точки зрения верности «ракурсов, пропорций и рельефа» он не выдерживает критики. Но именно таким рисунком художник достиг силы настроения, которая убеждает нас, что необходимо или принять его «способ видеть» целиком, или целиком отвергнуть. Эта цельность творчества обнаруживает качество таланта. Я не хочу преувеличивать значение Рябушкина. Он не обладал ни стихийной мощью Сурикова, ни задушевной нежностью Левитана, ни мистическим пафосом Врубеля, ни властностью репинского реализма. И все же его неровное, но большое дарование дает ему право на почетное место в семье современных русских мастеров.Нестеров[126]
Художникам, как Нестеров, невольно прощаешь несовершенства рисунка и кисти, потому что любишь поэзию их творчества. Это тоже — поэзия чего-то большого и смутного, выходящего за грани личности. Не поэзия индивидуального вдохновения, но поэзия, говорящая о далях и озаренностях народа. Такие художники обыкновенно лучше чувствуют, чем выражают. Надо вглядеться пристально в их картины, надо забыть о многом внешнем, мешающем, случайном, отдаться наваждению и тогда, тогда вдруг по-иному засветятся краски, и оживут тени, и улыбнется кто-то, таинственный, «на другом берегу». От творчества Нестерова веет этой улыбкой. Много раз, смотря на его холсты, узнавал ее — в молчании зимних полян, поросших тонкими-тонкими березками, в сумраках соснового бора, стерегущего одинокий скит, в дымно-вечереющих облаках над простором, в грустном лице послушника, в нежном профиле монахини. И я люблю его за эту улыбку. В ней — далекое и вместе с тем близкое, народное, загадочное, реальное: и христианская, отшельническая умиленность «Божьим садом», и другая, не христианская, а уходящая в глубь древнего язычества религиозность постижения мира и тайны… М. Нестеров.
Димитрий, царевич убиенный. 1899.
М. Нестеров.
Димитрий, царевич убиенный. 1899.
Разве не так чувствует природу древняя, далекая и близкая душа народа? Христианское, церковное, историческое сплелось в ней с первобытным, пантеистическим в одно искание, в одно радостное и страдальческое чаяние. Понимание этой сложности народной мистики, угаданной Нестеровым с нежной проникновенностью, — ключ к пониманию всей его живописи, и хорошего и плохого в ней. Когда Нестеров хочет быть только мастером образов, иконописцем, возрождающим каноны византизма (Владимирский собор, церковь в Абастумане), он очень слаб; слишком чужды ему определенности церковной мистики. Так же, когда он хочет быть только живописцем, наблюдателем природы, язычником в мире форм и красок. Он интересен, когда, несознательно, по наитию угадывая что-то большое и смутное в сердце народном, соединяет духовности славянского христианства с мечтою языческого обоготворения природы. Тогда он находит свой тон, свои светы и краски, свою неподражаемость. Мне нравятся картины Нестерова, потому что в них чувствуется любовь к мелодии цвета, искреннее искание оригинального стиля (пусть даже только искание), благоговение перед красотой жизни, чуждое всего временного и пошлого. Мне нравится в картинах Нестерова его нежно-субъективное отношение к тихим просторам русской деревни, благостная грусть мистических настроений. Они выражают поэзию крестьянского мира. Этой поэзии, может быть, и нет больше, но она есть эстетически — для того, кто верит в сказки прошлого. И мне не нравятся иконы Нестерова. В этой области он унаследовал недостатки Васнецова: неприятную манерность композиции, рисунка, дешевый сентиментализм символических намерений и ту «литературность» изображения, которая так плохо вяжется с декоративными задачами храмовой живописи. Подчеркнутость выразительных деталей (расширенные и словно подведенные глаза, тонкие шеи, болезненно-сжатые губы), однообразие ликов, какая-то жеманная и вялая монотонность движений придают образам Нестерова оттенок фальшивой чувствительности, очень далекой от истинно религиозного настроения. Он более тонкий техник, чем Васнецов, более осторожный колорист, живопись его не груба и не безвкусна, но ложность общей концепции отзывается на качестве тона и лепки…
Христианская идеология
Неудачные иконописные работы совершенно обесценили Нестерова в глазах многих. Я не согласен с такой постановкой вопроса, хотя должен признать, что и последние картины художника, в особенности «Святая Русь» (на петербургской выставке 1907 года), доказывают преувеличенность тех похвал, которые ему расточались прежде. Художник, решившийся выставить такую картину как свое главное произведение, итог предыдущей деятельности, — беззащитен от нападок. «Святая Русь» — грандиозный самообман. И чувство досады, почти обиды на автора тем больше, чем очевиднее наивная убежденность его намерения, его вера в значительность и философскую глубину замысла… Еще раз погубила русского художника христианская идеология. Иванов, Поленов, Ге, Крамской, Репин, Рябушкин, Васнецов — все отдали дань тому же роковому призраку — Христосу. Иванов поплатился жизнью, другие — лучшею частью своего дарования. Плохие «христианские» картины и плохие иконы — действительно какой-то злой рок русских живописцев. Я уверен, что, если бы ни Поленов, ни Ге, ни Васнецов, ни Рябушкин, ни Нестеров не писали «Христов», они создали бы гораздо больше. Одному Ренину удалось благополучно пережить опасное самовнушение: репинский «Христос» ужаснул всех, но не обесславил мастера… «Христос» Нестерова оттолкнул от него даже самых искренних друзей. Трудно выразить «идею» менее удачно. Фигура Христа настолько уродлива, что ее невольно хочется закрыть, стереть, чтобы как-нибудь спасти картину, хотя бы один уголок картины — весенние нивы, даль леса, белые березки, небо — где виден прежний Нестеров, автор «Отрока Варфоломея» и «Царевича Димитрия». Чем объясняется это странное упорство русских художников и странное единодушие в стремлении к теме, одинаково для них непосильной? Все тем же трогательным, если угодно, но некультурным в корне заблуждением, что цель живописи — идейное откровение. Написать картину, которая бы воплощала глубокую суть христианства, т. е. творческое понимание высшей моральной проблемы — «Христос»; выразить синтез жизни одним образом, одним вдохновенным видением… Ап. Григорьев сказал: русскому человеку нужен святой, с меньшим он не помирится. И так же — русскому художнику нужен Бог, с меньшим он ни за что не мирится. Но Бог-идея — не Бог-красота. Искусство одухотворяется красотой, не идеей. Живопись озаряет божественная вещественность форм, красок, зрительных обольщений. «Идея» — самое внешнее и недолговечное. Красота мира, непосредственное, полусознательное любование земными чарами — вот сущность искусства. Так же и в отношении иконописи, разумеется. Для нас гений древних мастеров — итальянских, фламандских примитивов и их великих преемников Ренессанса — в бесконечной радости для глаз, совсем не в той идее католицизма, которую они выразили. Их картины — молитвы красок, ожерелья драгоценных камней, переливы многоцветных тканей, лучи солнца в золотых волосах мадонн и нежных юношей, сказка неба в праздничных одеждах жизни, россыпи жемчужин и благоухание цветов. Они глубоко религиозные люди, часто — монахи, фанатики веры; но, проповедуя, поучая, призывая к идеалу святости, они оставались художниками, живописцами прежде всего, влюбленными в красивые линии и гармоничные пятна. Для Джотто каждая краска имела свое символическое значение, каждый цвет — эмблема добродетели или порока: белый — чистота, зеленый — надежда, лиловый — страсть… Он никогда не делал мазка необдуманно, видя в сочетании тонов нравоучительную повесть. Но эта тенденциозная схоластика, о которой все забыли, эта мистическая идейность ничего не портит, потому что Джотто, может быть и бессознательно, — не только идеолог христианства, верный учению св. Франциска, но нежный и чуткий пониматель красоты — красивой видимости жизни и декоративной роли религиозной живописи. Если бы он писал не святых и ангелов, а бытовые портреты или пейзажи, он бы не был и тогда менее вдохновенным. Русские художники, мученики идеи, не поняли простой правды: единственно ценная идея для живописца — быть живописцем! Не поняли и Васнецов, и Рябушкин, и Нестеров — все современные иконописцы, возродители православного церковного искусства. Я говорю об истинном понимании-ощущении, не о теоретическом выводе; современный иконописец должен твердо знать то, о чем древние могли и не ведать.Иконопись теперь и прежде
Вся атмосфера религиозного творчества — иная теперь. Прежде иконописец мог быть почти бессознательно художником, так же как он был бессознательным и часто подневольным выразителем религиозного идеала своей эпохи. В старинной иконописи самая явная мистическая тенденция не кажется чем-то самостоятельным от художественности изображения и на самом деле сливается с нею в одно целое. Не переживая внушений символа, которые имели когда-то первенствующее значение, мы чувствуем, что этот символ и воплотившие его формы неразрывно слиты, слиты всеми эстетическими и моральными настроениями эпохи, создавшей художника-мистика. Итальянский тречентист или ваятель языческих Аполлонов несомненно выражали религиозную идею, и за ее выражение, прежде всего, и ценились их произведения современниками. Но тогда это нисколько не противоречило вечному призванию художника — быть творцом красоты. Все силы окружающей жизни — «гипноз века» — обусловливали слиянность идеологии и эстетизма: между внешним и внутренним в творчестве художника не было границ. По крайней мере — так было для вдохновенных и сильных мастеров старины; на маленьких и слабых «идейность» всегда отражалась губительно. Что мы видим теперь? В наше время «интеллигентного» неверия, полной разобщенности между культурным слоем общества и народом, тем народом, который в России молится святым угодникам, религиозный живописец, даже если он искренно верующий, одинок. Его мистическое намерение не оправдывается коллективной волей эпохи. Стихийный разум культуры не создает больше желанную гармонию красоты и веры. Художник одинок еще и потому, что у него нет предшественников. Традиция нарушена. На Западе искусство икон давно перешло в руки ремесленников, потакающих с грубой откровенностью лубочным вкусам простонародья. В России иконописное искусство, в сущности, всегда было ремеслом по образцам Византии, хотя и очень красивым ремеслом у древних. Современный русский художник, тяготеющий к религиозной живописи, находится между Сциллой и Харибдой ремесленного шаблона, освященного веками, и личным разумением церковных символов. Отсюда — два возможных выхода. Или возобновить утерянную традицию, оставаясь как можно ближе к народному пониманию веры, или посмотреть на свою задачу с личной, живописно-декоративной точки зрения. Второй выход свободен и верен эстетически, но не верен с религиозно-исторической точки зрения… Остается путь традиции, византийской традиции. К тому же это единственный способ подойти к народному мировоззрению и согласовать церковную живопись с новым церковным зодчеством, проникнутым стремлениями к ренессансу допетровского стиля. В этом — безусловный трагизм нашей религиозной живописи. Требования, предъявленные к ней жизнью, идут как бы вразрез с тою национальной идеей, в широком смысле, которая указана России со времен Петра. М. Нестеров.
Душа народа (Христиане, На Руси). 1915–1916.
М. Нестеров.
Душа народа (Христиане, На Руси). 1915–1916.
В течение долгого развития византийского искусства его формы отжили. Та прививка западного искусства, которая была сделана к ним в России в XVII, а потом в XVIII веке, не дала свежих ростков, не создала новой традиции (как в Италии в эпоху trecento[127]) и в дальнейшем только испортила характер древнего стиля… Но эти византийские формы нужны, потому что жива церковь со всем внешним decorum’ом[128] древнего богопочитания! Светское искусство естественно развилось в сторону европеизма, иконопись осталась в рамках византийствующего канона… У художников, у искусства страны не может быть двух правд. На самом же деле получились две правды — правда национально-культурных эстетических достижений и правда церковной эстетики. Это противоречие еще осложнилось за последнее время, когда крупные русские художники, благодаря неверному пониманию нашего «национального вопроса», увидели в этой «второй правде», как более близкой народу, путь к русской самобытности.
Путь к примитивизму
Я уже говорил о попытке Васнецова возродить нашу иконопись в народническом духе. Допустим, что его подход к трудной задаче верен (во всяком случае, он интересен). Забудем о его чисто живописных недостатках. Важен другой вопрос: насколько возможно, идя по пути, указанному Васнецовым, создать церковный стиль, который бы не был в противоречии с формами светского искусства, другими словами — насколько значительна попытка Васнецова, как предвидение слияния в религиозной живописи народной веры и культурного вкуса. Я спрашиваю: может ли действительно возродиться наша иконопись? Она должна быть византийской по традиции и народнической — может ли она сделаться «европейской» в лучшем смысле? Да, может. Пока в России строятся храмы, пока православное христианство — религия народа, пока есть потребность в культе, русские художники должны стремиться к разрешению этой, быть может, величайшей задачи нашей национальной культуры. Приобщение народа к эстетическим достижениям культурных слоев общества может совершиться именно на этой почве. Еще сильна вера крестьянства, и кто знает, насколько сильно неверие нашей демократии… В истории за периодами вольномыслия всегда следовали периоды мистицизма. Будущий расцвет религиозного искусства совсем не так немыслим… Смотря с такой точки зрения на достижения нашей храмовой живописи за последние двадесятилетия, мы приходим к целому ряду вопросов и выводов, над которыми стоит задуматься. Если Васнецов указал путь будущим иконописцам, то сам не сделал на этом пути ни одного шага; все красиво-декоративное в его творчестве — отклонение в сторону. Он понял необходимость возрождения византийской традиции, но понял эту традицию ложно и потому так ложно применил ее. Творческий пламенный примитивизм нужен там, где он поступал, как реалист с дурными навыками передвижника-идеолога! И вслед за Васнецовым наши религиозные живописцы увидели византизм глазами впечатлительных мещан и приняли свое собственное интеллигентское умиление за религиозный пафос веков. Увидели колоритность вместо строгой гармонии. Рассказ — вместо символов. Условную манеру — вместо стиля. Васнецов — не примитив (каким должен быть возвеститель новой красоты) ни одним стремлением своей души. Несмотря на волшебную новизну своей фантастической «Берендеевки», он эпигон в области творчества. Нестеров — благороднее, чище, нервнее и потому кажется более примитивным, но он тоже — конец, а не начало. Примитив — творческое начало, таинственная завязь будущего, мудрость наивного лепета, безупречность вдохновенного неумения. Может быть, будущие поколения признают Васнецова возродителем декоративного народного стиля, не знаю. Но я знаю, что русская иконопись еще ожидает своего Джотто, который возьмет у византийских форм их душу, их декоративный ритм и преобразит их в узоры прекрасных символов. Пути европейской живописи и религиозной — встретятся в храме. Не будет «двух правд» — эстетики церковной и светской. Будет правда, доступная народу и близкая культурным вкусам общества, красота монументального церковного стиля. И тогда иконописец перестанет чувствовать себя одиноким между «интеллигентным» неверием и народом, молящимся святым угодникам. Он разгадает тайну синтеза. Услышит веления коллективного национального разума. Пойдет на поиски красоты не верующим идеологом, а художником, влюбленным в молитвы красок и линий. Эта красота примирит веру и отрицание. Но если не так? Если нашей церковной живописи — вообще церковному искусству — не суждено дождаться своего примитива? Даже если и суждено когда-нибудь, то теперь — что делать теперь художнику, пишущему иконы? У кого учиться? Куда идти? Возможен один ответ: надо идти к началу, к основе того стиля, которым создалось великолепие русско-византийских церквей. К первичным примитивным формам древней красоты. Только в них может открыться забытая традиция, нужная современному творчеству. Только от них пути к будущему. Формы завершенные, определившиеся, знаменующие расцвет стиля — конец художественной эволюции. От этих форм некуда стремиться. Художники, мечтающие о новом примитивизме, должны их забыть. В далеком сумрачном лепете форм возможность еще не сказанных слов красоты, еще неведомого языка. Даже если не суждено возродиться русской религиозной живописи из творческого примитивизма, попытки в этом направлении — единственное разрешение задачи. Первично-византийское и первично-народное — отсюда все мосты и далекие берега. Искусство нашего XVII века не первично; в нем изысканность и определенность конца. Потому — не к этому искусству и не от него должны мы стремиться, мечтая о будущих храмах. Ошибка всего неорусского и неовизантийского направления заключается, главным образом, в том что наши патриоты захотели «возродить» завершенный стиль, воспользоваться его позднейшими формами. Этого было достаточно для вырождения стиля. Мудрый возврат к архаизму и глубокое проникновение в древнюю душу народа — вот первая задача нового церковного искусства, исходная точка для нахождения той элементарности, тех зачаточных форм, которые могут развиться в благоухающий примитивизм. Вторая задача — поиски средств для превращения элементарного в примитивное. Какие это средства? где их искать? — В эволюции современной живописи, в завоеваниях нового европейского чувства красоты. Архаичное и народное, уходящее в глубь прошлых столетий, должно сделаться современным в высшем значении слова — творческим началом для будущих веков. Здесь речь идет, конечно, не о легкой модернизации по распространенным образцам Запада, но о вдохновенном применении «новых слов» Запада. Разумеется, можно отвергать эти слова, но, признав их истинность для Запада, нельзя отрицать их истинность для русского национального искусства. Все современные европейские школы живописи — в лихорадочных поисках примитивизма. Русский художник, русский иконописец не должен забывать ни на одну минуту, что в народной традиции, в детском народном творчестве — для него только животворящее прошлое; настоящее и будущее в его культурном европеизме. Так представляется мне судьба русской иконописи. Теоретически я не вижу другой желанной судьбы. Наши художники-сказочники, несомненно, достигли ценных результатов в смысле выявления народного элемента; за ненужным, наносным, непродуманным угадываются верные пути — и в декоративных композициях Васнецова, и в мистическом ясновидении Сурикова, и в узорах Поленовой, и в рисунках Билибина, и в бытовых стилизациях Рябушкина, и в кустарных причудах Малютина. Из художников, чутко понявших другой элемент — византийский архаизм, я знаю только одного Рериха. И в творчестве Рериха много наносного, непродуманного, но никто до него не показал так выпукло жизненности, сокровенной первичности церковного архаизма. В иконах Рериха — о них идет речь, — может быть, слишком заметна «археология», но есть в них и подлинный архаизм, проникновение в самую сущность византийской традиции.Церкви Щусева
Стремление к архаизму, глубоко современное по своим задачам, отразилось и на нашем храмовом зодчестве, о чем лучше всего свидетельствуют проекты церквей Щусева. Рассматривать их подробно я не буду. Ограничусь только несколькими общими замечаниями. Несомненно, что и наша церковная архитектура, чтобы вылиться в гармоничное, национальное храмосозидательство, должна резко повернуть прочь от стиля, который принято называть русским ренессансом, — к архаическим, элементарным формам. От них — уже возможна эволюция дальше, к чарующим неизведанностям нового примитивизма. Так же, как иконопись, архитектура должна превзойти формы, унаследованные как нечто завершенное, чтобы найти традицию и путь к своему возрождению. Проекты Щусева, удивляющие своей первичностью, отказом от обычных ремесленных приемов современного строителя, убежденного в том, что красота здания — в роскоши заимствованных деталей, эти проекты, такие простые, грубоватые и как будто далекие от требований современной техники, надо рассматривать как результат глубоко своевременных попыток возродить церковное зодчество. Точно так же — и все, что делалось нашими художниками в области народного декоративного стиля: попытки угадывания будущей эстетической культуры, национальной в истинном, широком значении этого понятия. Первичные, в глубинах народных, в глубинах прошлого найденные формы впитают в себя весь опыт новых столетий, все эстетическое воодушевление XX века… И будет праздник красоты. Я верю — будет.Рерих
Два пути творчества
Есть художники, познающие в человеке тайну одинокой духовности. Они смотрят пристально в лица людей, и каждое лицо человеческое — мир, отдельный от мира всех. И есть другие: их манит тайна души слепой, безликой, общей для целых эпох и народов, проникающей всю стихию жизни, в которой тонет отдельная личность, как слабый ручей в темной глубине подземного озера. Два пути творчества. Но цель одна. Достигая ясновидения, и те и другие художники (сознательно или невольно) создают символ. Цель — символ, открывающий за внешним образом мистические дали. Так, от вершин одинокой личности к далям безликого бытия и от них снова к загадочной правде личного человека, смыкается круг творческой прозорливости.Безликий человек
У людей на холстах Рериха почти не видны лица. Они — безликие привидения столетий. Как деревья и звери, как тихие камни мертвых селений, как чудовища старины народной, они слиты со стихией жизни в туманах прошлого. Они — без имени. И не думают, не чувствуют одиноко. Их нет отдельно и как будто не было никогда: словно и прежде, давно, в явной жизни, они жили общей думой и общим чувством, вместе с деревьями и камнями и чудовищами старины. Н. Рерих.
Идолы. 1901. Эскиз.
Н. Рерих.
Идолы. 1901. Эскиз.
На этих холстах, мерцающих темной роскошью древних мозаик или залитых бледными волнами цвета, человек иногда только мерещится или отсутствует. Но полузримый, невидимый — он везде. Пусть перед нами безлюдный пейзаж: пустынная природа Севера, овраг, роща, серые валуны; или — в затейном узоре иконной росписи — не люди, а хмурые угодники, святые, ангел, строгая оранта; или — просто этюд, рассказывающий сказку русско-византийской архитектуры… Уклоны рисунка, символика очертаний, красок, светотени, неуловимый синтез художнического видения возвращают мысль к тому же образу-символу. К нему — все творчество Рериха. Кто же он, этот «безликий»? Какие эпохи отражаются в его слепой душе? К каким далям возвращает он нас, избалованных, непокорных, возвестивших «культ личности»?
Замыслы
Мы смотрим. Чередуются замыслы. Сколько их! В длинном ряде картин, этюдов, рисунков, декоративных эскизов воскресает забытая жизнь древней земли: каменный век, кровавые тризны, обряды далекого язычества, сумраки жутко-таинственных волхвований; времена норманнских набегов; удельная и московская Русь… Ночью, на поляне, озаренной заревом костра, сходятся старцы. Горбатые жрецы творят заклятия в заповедных рощах. У свайных изб крадутся варвары. Викинги, закованные в медные брони, с узкими алыми щитами и длинными копьями, увозят добычу на ярко раскрашенных ладьях. Бой кипит в темно-лазурном море. Деревянные городища стоят на прибрежных холмах, изрытых оврагами, и к ним подплывают заморские гости. И оживают старые легенды, сказки; вьются крылатые драконы; облачные девы носятся по небу; в огненном кольце томится золотокудрая царевна-змиевна; кочуют богатыри былин в древних степях и пустырях. И снова — Божий мир; за белыми оградами золотятся кресты монастырей; несметные полчища собираются в походы; темными вереницами тянутся лучники, воины-копейщики; верхами скачут гонцы. А в лесу травят дикого зверя, звенят рога царской охоты… Мы смотрим: все та же непрерывная мечта о седой старине. О старине народной? Если хотите. Но не это главное, хотя Рериха принято считать «национальным» живописцем. Не это главное, потому что национально-историческая тема для него — только декорация. Его образы влекут нас в самые дальние дали безликого прошлого, в глубь доисторического бытия, к истокам народной судьбы. О чем бы он ни грезил, какую бы эпоху ни воскрешал с чутьем и знанием археолога, мысль его хочет глубины, ее манит предельная основа, и она упирается в тот первозданный гранит племенного духа, на который легли наслоения веков. «Человек» Рериха — не русский, не славянин и не варяг. Он — древний человек, первобытный варвар земли.Красота камней и детство
Каменный век! Сколько раз я заставал Рериха за рабочим столом, бережно перебирающим эти удивительные «кремни», которые считались так долго непонятной прихотью природы: граненые наконечники стрел, скребла, молотки, ножи из могильных курганов. Он восхищается ими, как ученый и поэт. Любит их цвет и маслянистый блеск поверхностей и красивое разнообразие их, столь чуждое ремесленного холода, так тонко выражающее чувство материала, линии, симметрии. Камни, в которых живет безликая душа ранних людей! Он верен им с детства; они вдохновили его первые художнические ощущения. Рерих вырос в родовом имении Извара (Петербургской губернии). Год рождения — 1874-й. Отец его юрист, бывший среди первых нотариусов при введении судебных уставов. Извара — красивое место, красивое тем особенным грустным обаянием Севера, которое дороже нам, русским, всех чар южной феерии: старая усадьба, холмистые нивы, перерезанные непроезжими дорогами, болота с тощими сосенками, поляны, окаймленные кустарником, и густые чащи мачтового бора со всякой птицей и зверем. Тут Рерих проводил и позже несколько месяцев в году. Он рано научился любить природу всеми помыслами. Будучи мальчиком, увлекался охотой, целыми днями бродил по лесу, собирал коллекции минералов, бабочек и птичьих перьев, любуясь волшебной игрой их красок, тех красок, которые узнал впоследствии на древних досках Ван-Эйка, Мемлинга, на какемонах японцев, в живописи современных волшебников цвета — Бенара, Мареса, Сегантини, Врубеля. Из родного леса — где водились в то время медведи и лоси, где громадные деревья перешептывались с ветром и в зеленом сумраке мерещились призраки сказок — он вынес на всю жизнь много ощущений и дум. Вблизи от имения, на холмистых нивах, рядом с бором, были старинные курганы. Еще в детстве он рылся в них и находил бронзовые браслеты, кольца, черепки и кремневые орудия. Так зародилось в нем влечение к минувшим столетиям и великая, тихая природа Севера слилась для него с далями незапамятного варварства. Так маленькие камни «пещерного человека» заворожили его мечту. Впоследствии любовь к ним придала совершенно особый оттенок его исканиям примитивных форм. Это обнаруживают очень ясно его декоративные композиции, графические работы и даже самая манера письма. Между холстами Рериха есть тонко обласканные кистью бархатные ковры с обдуманной выпиской деталей. Но есть написанные густо, тяжелыми, слоистыми мазками: они кажутся высеченными в каменных красках. И во всем стиле его рисунка, упрощенного иногда до парадоксальной смелости, как будто чувствуется нажим каменного резца. С этой точки зрения искусство Рериха гораздо ближе к примитивизму Гогена, чем к народническому проникновению кого-нибудь из русских мастеров. Но Гоген — сын Юга, влюбленный в солнечную наготу тропического дикаря. Подобно финляндским примитивистам, Галлену, Эдельфельду, Рерих — сын Севера.Северный сумрак
Каменный Север — в его живописи суровость, угрюмая сила, нерадостная определенность линий, цвета, тона. И если иногда его картины, особенно ранние, неприятно темны, то причину надо искать не в случайном влиянии В. Васнецова или Куинджи (под руководством которого он начал работать), но в сумрачном веянии сказки, околдовавшей его душу. И если в его картинах вообще нет светлого полдня и так редко вспыхивают солнечные лучи, то потому, что образы являлись к нему из хмурых гробниц времени. Солнце — улыбка действительности. Солнце — от жизни. Думы о мертвом рождаются в сумраке. Он пишет, точно колдует, ворожит. Точно замкнул себя волшебным кругом, где все необычайно, как в недобром сне. Темное крыло темного бога над ним. Нам жутко. Нерадостны эти тусклые, почти бескрасочные пейзажи в тонах тяжелых, как свинец, — мертвые, сказочные просторы, будто воспоминания о берегах, над которыми не восходят зори; и когда загораются в них яркие пятна и нежные просветы, мы видим не солнце, а мерцания драгоценных камней и перламутровых раковин на дне подводных пещер. И нам понятно, почему одна из лучших картин Рериха — «Зловещие», черные птицы у моря, неподвижные вороны на серых камнях, пугающие мысль недоброй сказкой. То же зловещее молчание идет от большинства картин… Перед ними не хочется говорить громко. На шумных выставках они кажутся из иного мира.«Сокровище Ангелов»
Древние, холодные полумраки Севера — недобрые шепоты темного бога. Ими овеяны не только люди и звери и сообщница их, природа; святые и ангелы Рериха также странно нерадостны, почти демоничны. В его религиозных композициях отсутствует все умиленное, светлое, благостно-невинное; пламя христианства погашено мрачной языческой ворожбой. Помню, я почувствовал это впервые, любуясь огромным эскизом церковной фрески «Сокровище Ангелов»… Громадный камень, черно-синий с изумрудно-сапфирными блесками; одна грань смутно светится изображением распятия. Около, на страже, — ангел с опущенными темными крыльями. Правой рукой он держит копье, левой — длинный щит. Рядом — дерево с узорными ветвями, и на них вещие сирины. Сзади, все выше и выше, в облаках, у зубчатых стен райского кремля, стоят другие ангелы, целые полки небесных сил. Недвижные, молчаливые, безликие, с копьями и длинными щитами в руках, они стоят и стерегут сокровище. От их взора, от общего тона картины, выдержанной в сумрачных гармониях, делается жутко и замирают молитвы… Ангелы, вкусившие от древа познания, ангелы змеиной мудрости, ангелы-воины, грозные ангелы искушений, ангелы-демоны…Демонизм Врубеля
Художник, которого невольно хочется сопоставить с Рерихом, — Врубель. Я не говорю о сходствах. Ни характером живописи, ни внушениями замыслов Рерих не напоминает Врубеля. И тем не менее на известной глубине мистического постижения они — братья. Различны темпераменты, различны формы и темы творчества; дух воплощений — един. Демоны Врубеля и ангелы Рериха родились в тех же моральных глубинах. Из тех же сумраков бессознательности возникла их красота. Но демонизм Врубеля активен. Он откровеннее, ярче, волшебнее. Горделивее. На нем сказался гений Байрона, мятеж Люцифера. Отсюда — его влечение к пышности, к чувственному пафосу восточной мистики, острота движений, угловатость контуров и зной сверкающих красок. Символизм Врубеля переходит в религиозный экстаз. Кольцо замыкается. Вершины аскетического целомудрия соприкасаются с мукой гордыни и сладострастья. К Врубелю можно применить слова, которые Метерлинк говорит по поводу Рюисброка Удивительного:«Мы видим себя вдруг у пределов человеческой мысли, далеко за гранями разума. Здесь необычайно холодно и темно необычайно, а между тем здесь — ничего, кроме света и пламени… Солнце полуночи царствует над зыбким морем, где думы человека приближаются к думам Бога».Символизм Рериха — пассивнее, тише, как весь колорит его живописи, как мистика народа, с которой он сроднился если не сердцем, то мыслью, вдумчиво изучая фрески удельных соборов. Ангелы-демоны Рериха таят угрозу, но ее огненные чары не вырываются наружу, как ослепляющие молнии: в сумраке мерещатся только зарницы.
Древнерусские памятники
Когда от видений варварской были, от пейзажей, населенных безликим человечеством прошлого, от фантастических образов мы переходим к этюдам художника, изображающим архитектурные памятники нашей старины, мы чуем ту же странную, грозную тишину… Перед нами большей частью постройки ранней русско-византийской эпохи — зодчество, еще не определившееся в ясно очерченные формы, грузное, угрюмое, уходящее корнями в даль славянского язычества. Можно сказать, что до Рериха никем почти не сознавалось сказочное обаяние именно этой примитивной архитектуры. Ее линии, лишенные красивой изысканности итальянствующего стиля в XVII столетии, казались грубыми, и только. Художник научил нас видеть.«Древнерусский стиль — патриотический вымысел. Народ наш не создал самостоятельного зодчества. Все формы старинных русских зданий — формы, заимствованные от искусства Византии. Приняв православие, мы стали строить храмы по тем же образцам, по каким строили их греки при императорах Македонской династии. Это продолжалось долго… Но объединители Руси, цари московские, под влиянием восточной пышности, занесенной к нам татарами, и первых общений с культурой Запада, захотели окружить себя затейливо-богатыми дворцами и соборами. Строгий византийский стиль отжил свой век. В Москву были призваны итальянские зодчие. Отсюда — прихотливость очертаний, пестрота, нарядная узорность церквей, шатровых башенок и теремов XVII века. Вот и все».Несмотря на успехи современной археологии, несмотря на разные кружки «ревнителей» древности и ежегодно издающиеся книги на веленевой бумаге, это недоверчивое отношение к «русскому» монументальному искусству все еще чрезвычайно распространенный недуг у нас. Так повелось исстари. Так воспитались взгляды общества. Неудивительно, что до сих пор большинству русских людей, специально не изучавших вопрос, «русский стиль» представляется каким-то мифом лживого патриотизма и влечение к нему — почти доказательством «дурного вкуса». Я не буду говорить о том, насколько подобное отношение несправедливо с точки зрения чисто архитектурной, — насколько самобытны и независимы от византийского зодчества составные элементы зодчества древнерусского. Тут сталкивается много вопросов, вопросов научных, теоретических. Вопрос, которого я намерен коснуться, совсем иного порядка. Стиль — еще не все в зодчестве! Кроме математики форм, кроме законов, управляющих взаимодействием масс, соотношением линий и поверхностей, кроме тех или других особенностей орнамента — словом, кроме внешних признаков архитектурного памятника мы чувствуем в нем (как во всяком произведении искусства) еще что-то — не поддающееся анализу, живое, органическое, никаким расчленениям не подчинимое: тихую, таинственную душу сложенных в здание камней. Формы — только оболочка, через которую она излучается. Мы любуемся оболочкой, потому что сквозь нее проникаем глубже. Видим определенные формы, но чаруемся призраком неопределимым, что таится в них и за ними.
 Н. Рерих.
Дозор. 1905.
Н. Рерих.
Дозор. 1905.
Выражение человеческого лица — в чертах его. Но бывают люди с чертами лица почти одинаковыми — между собою непохожие. На границах телесного неуловимость, физиономия лица — тайна. Тайну архитектурной гармонии нельзя передать самым точным, самым формально верным рисунком. Чтобы выразить ее, надо приблизиться к каменному бытию здания, художнической думой проникнуть в его каменную думу. Вот почему все точные архитектурные чертежи — не более как научные схемы, очень нужные для строительных и учебных целей, но в сущности — мертвые. Они не воспроизводят главного: настроения памятника, его живописного единства, его художественной индивидуальности. Полнейшее непонимание художественной стороны зодчества, непонимание духовной сущности стиля, исказило наше отношение к древнерусским памятникам. Отсюда, как я говорил уже, — возникновение ложнорусского ропетовского «стиля», этой клеветы на вкус народный, этой подделки под национальный вкус. Отсюда и ученое варварство наших реставраторов, успевших испортить столь многое на Руси. Отсюда — фальшивость и какая-то бессильная манерность в большинстве современных изображений нашего древнего искусства. До последних лет, когда наконец появились в России художники — ясновидцы прошлого, никто не замечал чего-то самого важного и впечатляющего в нашем искусстве…
Национализм Рериха
Россию Рерих знает и любит лучше, серьезнее, искреннее громадного большинства современников. Он изучил ее историю, археологию, изъездил ее из края в край и действительно болеет сердцем о том равнодушии к древним памятникам, какое встречается у нас на каждом шагу, не только в некультурном населении, но и в среде присяжных деятелей по искусству и специальных обществ, учрежденных с целью его «поощрения». Эта боль иногда вырывается у него негодующим криком, апеллируя к разуму и совести соотечественников.
«Где бы мы ни подошли к делу старины, — читаем мы в одной из его статей, — сейчас же нападаешь на сведения о трещинах, разрушающих роспись, о провале сводов, о ненадежных фундаментах. Кроме того, еще и теперь внимательное ухо может в изобилии услыхать рассказы о фресках под штукатуркой, о вывозе кирпичей с памятника на новую постройку, о разрушении городища для нужд железной дороги… Грозные башни и стены заросли, закрылись березками и кустарником; величавые, полные романтического блеска соборы задавлены кольцом жидовских хибарок; седые иконостасы обезображены нехудожественными доброхотными приношениями. Все потеряло свою жизненность; заботливо обставленный дедовский кабинет обратился в пыльную кладовую хлама. И стоят памятники, окруженные врагами снаружи и внутри… Неужели будет так всегда? Неужели близкие всем нам святыни древности будут стоять заброшенными?.. Дайте памятнику живой вид, возвратите ему то общее, ту обстановку, в которой он красовался в былое время, — хоть до некоторой степени возвратите! Не застраивайте памятников доходными домами! Не заслоняйте их казармами и сараями!»
И когда иссякают слова жалоб и упреков, художник, забыв об обидах времени и людей, говорит с восторгом знатока о великолепии поруганных святынь. Речь его становится благоговейной и задушевно-грустной при воспоминании о том, что он любит так одиноко чутко:
«Осмотритесь в храмах ростовских и ярославских, особенно у Ивана Предтечи в Толчкове. Какие чудеснейшие гармонии вас окружают. Как смело сочетались лазоревые воздушные тоны с красивейшей охрой. Как легка изумрудно-серая зелень и как у места на ней красноватые и коричневые одежды. По тепловатому светлому фону летят грозные ангелы с густыми желтыми сияниями, и их белые хитоны чуть холоднее фонов. Нигде не беспокоит глаз золото, венчики светятся одною охрою. Стены — это тончайший бархат, достойный одевать дом Божий. И ласкает, и нежит вас внутренность храма, и лучше здесь молитва, нежели в золоте и серебре».Рерих написал целый ряд таких статей и заметок, прочел множество рефератов, исследовал, как археолог, многие памятники. Но главным делом на пользу старины все-таки остаются замечательные архитектурные этюды, написанные им во время летних поездок по древним городам русским и урочищам. Они были выставлены в 1904 году зимой, в течение двух-трех недель, на «Постоянной выставке Общества поощрения художеств». Петербургская публика, разумеется, их не оценила… Потом они были отосланы, в числе других работ художника, в Америку. Еще тогда я спрашивал себя с тревогой — «вернутся ли из-за океана?». Мое предчувствие подтвердилось. Из Америки этюды никогда не вернутся. И этого бесконечно жаль. Особенно теперь, когда стало ясно, что Рерих не напишет их больше так, как четыре года назад. Может быть, еще выразительнее, «лучше», но «по-другому». На его холстах эти дряхлые монастыри, крепостные башни и соборы — окаменелые легенды древности, величавые гробницы времени, хранимые безликою душою мертвых. Как фантастические привидения — забытые соборы-великаны. Низко надвинуты огромные главы. Стены изъедены мхами. Хмурые глыбы кирпичей громоздятся друг на друге, кое-где оживленные лепным орнаментом, остатками росписи. Годы проходят. Они стоят, как гигантские каменные гиероглифы, — символы призрачных веков… Загадочная грусть в их обветшалом величии. И не верится, что они еще живы, что под их сводами раздается церковное пение и с колоколен плывут, как прежде, призывные медные звоны. И вспоминаются старые-старые сказки…
Святыни старины
Восхищенный этюдами Рериха, я несколько раз ездил к памятникам, которые он написал. Я любовался видом Новгорода со стен седого «Детинца», был у Юрьева монастыря, поклонился на обратном пути в город тяжелоглавому «Спасу на Нередице». Я видел реку Великую с высокой звонницы Троицкого собора и удивительную живопись в приделах монастыря Мирожского. По дороге в Печоры я отдыхал у темнобашенных твердынь дряхлого Изборска, Труворова городища. Я прожил несколько дней в Печорах у самой монастырской ограды… И я чувствую себя благодарным Рериху. Он показал мне много бесконечно красивого и значительного, что прежде я видел, не видя. Все эти соборы, крепко вросшие в землю белыми стенами, кремли с шатровыми теремами, тихие церковные дворики и нахмуренные крепости-башни изображены художником такими, какими они не кажутся безразличным глазам случайного прохожего. Он написал их поэзию, их древнюю душу. Он почуял вокруг них сказку времени. Полюбил их таинственное родство с народом. Пристально всмотрелся в каменное лицо старины и понял его выражение. И когда, в свою очередь, вы глядите на это странное, от времени потемневшее лицо, то уже не спрашиваете, самобытны или нет «формы русского зодчества». Вы понимаете, что эти памятники могли создаться только на Руси, что веет от них каким-то упрямым, несокрушимым своеобразием, что между ними и памятниками Византии, Италии, Индии — бездна, что выросли они из родной земли вместе с окружающими их дубами вековыми и елями неразрушимые, как скалы, плоть от плоти и кость от кости великорусского славянства. Вы чувствуете, что есть путь не только от народа к ним; есть путь от них к народу. В их несимметричности, в их грузности, в тяжелых очертаниях гладких стен и цветных куполов столько чего-то «круглого», по выражению Л. Толстого, и вместе с тем так много иной, жуткой красоты, — совсем особенного, славянского мистицизма, мистицизма нравственно-напряженного и печального, как безумные духовидения Достоевского… У этих смутных обрывов мысли, куда-то в глубь народного творчества, в глубь расовой мистики, угадывается символическое значение архитектуры. Камни таят откровение; и посвященные смолкают перед ними, творя молитвы. Мы вчитываемся в каменные слова времени, чаруясь народным зодчеством. И тут вдруг становятся близкими речи таких огромных людей, как Достоевский, и через них близкой кажется стихия народа. И начинаешь понимать, почему тот же Достоевский всего глубже, всего безумнее, всего страшнее на тех страницах, где он эстетик, где он заслушивается звоном соборных колоколов и монашеским пением или страстно любуется небывалой красотою своих героинь…Печорский монастырь
Россия не богата памятниками древности. Ее города, похожие на села, и села, похожие на города, плохо помнят о прошлом. Но есть в ней уголки, которым по вековому уюту нет равных в мире. Они мало посещаются. И это имеет свою прелесть. Любопытство туристов их не опошлило. Девственно-красива, благостно-покойна их старина. К таким уголкам принадлежит Псково-Печорский монастырь (верстах в 50-ти от Пскова). Несмотря на многие подновления, на позднейшие пристройки и безобразный «Николаевский» собор на самом возвышенном месте, он еще жив тут, жив доныне — сказочный дух жизни минувшей! Вокруг монастыря — сглаженный временем ров и высокая полуразрушенная ограда с угловыми бойницами. Старейший собор внизу, в котловине, образованной покатыми холмами. Здесь — и древняя звонница, и какие-то странные красные здания. Отсюда же вход в «пещеры», где тлеют кости многих тысяч иноков… Это было на Святой неделе. Склоны оврагов кое-где еще белели снегом; он лежал причудливыми петлями и разводами на мертвой траве… В воздухе гудел непрерывный пасхальный звон. По дорогам из ближних и дальних сел шли странники-богомольцы с котомками за спиной — такие старые, сгорбленные, серые. Завидя монастырские главы, они крестились и что-то шептали. За ними шли другие. Еще и еще… И мне чудилось, что окружающая действительность преображается, теряет облик временный. Века молитв, века набожных шепотов и причитаний, века скорби и веры, — века были здесь, среди равнин, перерезанных проселочными дорогами, среди неоглядных равнин… Вот он — народ, думалось мне. Вдали от наших городов он живет и верит так же, как верил прежде, всегда… И по-своему он ближе к великим, вечным таинствам жизни и смерти. Выходя из монастыря, я обернулся. Налево шла белая стена с деревянной наружной галерейкой под широким навесом крыши. Низкие полукружные ворота. В сумраке — мерцающая лампада. Над воротами большой потемневший образ в киоте. Справа — тоже стена. И казалось, эти две стены, сойдясь у входа в обитель, что-то шепчут друг другу. На весенне-бледном небе ярко выделялся синий-синий купол.Изменчивость Рериха
Трудно назвать художника, который бы чаще «менялся», чем Рерих. Он — один из немногих, не останавливающихся на пути. Каждый новый холст — неожиданность и для нас, и для него самого. Я говорю, конечно, с точки зрения чисто живописной. Не довольствуясь знанием испытанного приема, побеждая искушения навыка, он импровизирует с утонченной дерзостью счастливого искателя. Поэтому картины, которые еще так недавно казались итогом, выводом из всех предыдущих исканий, вдруг приобретают иное значение, отодвигаются куда-то назад. Этим объясняются и недостатки его произведений, даже наиболее удачных. В нем — больше темперамента, нетерпеливой смелости, чем выдержки… Способность быстро меняться влияет на качество его работы не всегда в хорошую сторону. Ему вредит спешность творчества! Впечатлительный, восприимчивый — он слишком легко заимствует у других то, что могло бы явиться результатом упорного и осторожного труда. «On voit trop les influences»[129], — сказал о Рерихе один французский критик… С другой стороны, этой гибкостью дарования объясняется и совсем исключительная «молодость» его и близость, в позднейших работах, к новаторам последних лет, отмежевавшимся от художников «Мира искусства» (к которым принадлежит и Рерих по возрасту своего творчества). Тем непонятнее взгляд некоторых критиков, называющих его последователем и даже «подражателем» В. Васнецова. А. Бенуа так и пишет в своем предисловии к каталогу Парижской выставки 1906 года: «Victor Vasnetsov et ses principaux émules, Nesterov et Rerich»[130].Ранние работы
Ему было двадцать лет, когда в первый раз, на ученической выставке Академии художеств (за 1894 год), он выставил поясной этюд маслом. Этюд назывался «Варяг»; в нем уже угадывалось дарование, но рисунок был вял и живопись очень черная. Художественное образование Рериха началось поздно. Он принялся систематически за карандаш только в последних классах гимназии, лет восемнадцати. На это были посторонние причины. Его отец, как мы знаем, был нотариусом. Он готовил сына к карьере нотариуса и требовал повиновения. По настоянию отца Рерих поступил на юридический факультет Петербургского университета, не испытывая никаких влечений к юриспруденции. Но одновременно он сдал экзамен и в Академию. В Академии два года классов. Затем — два года в мастерской Куинджи, наставника многих даровитых художников нынешнего поколения: Пурвита, Рущица, Латри. Богаевского, Химона, Рылова. «Варяг» — только ученический опыт. Первая картина, с которой выступил Рерих, — «Гонец» (1897). Она сделалась и первым его «успехом». «Гонца» приобрел Третьяков для своей галереи. Участь художника решилась: юридическая карьера была оставлена, и наступили годы напряженных занятий археологией и живописью. В 1899 году он пишет «Старцев». Это, несомненно, шаг вперед. Картина вызывает общее внимание. Путь найден. Хотя «Старцы» еще очень темное обещание красоты, в них уже ощущается избыток самостоятельности. «Поход» (1899) — третий отметный холст этого подготовительного периода, к которому относятся все работы, исполненные до 1900 года: «Старая Ладога», «Перед боем», рисунки «Жальников» для издания археологического общества и т. д.Начало новой манеры
После заграничного путешествия 1900 года, в Париж и Венецию, сразу расширяется круг его замыслов, археология отступает на второй план перед живописными задачами, краски освобождаются от гнетущей беспросветности. Целый ряд превосходных холстов принадлежит к 1901 и 1902 годам. Самые значительные: «Идолы» (в нескольких вариантах), «Зловещие», «Заморские гости», «Поход Владимира», «Волки», «Священный очаг». Говорить о них подробно не буду. Их общее достоинство — сила настроения, глубь созерцающей мысли. Общий недостаток — искусственность тона и отчасти композиции (следы влияния Куинджи?). Уже в конце этой деятельной эпохи наступает освобождение от школьных условностей; дурные навыки юности превзойдены; яснеют новые берега. Этот процесс можно проследить по двум вариантам «Княжьей охоты». Утренняя «Охота» еще в обычном старом стиле, красивая сумрачность «вечерней» — ласкает глаз лиловыми дымами цвета. С тех пор в работах Рериха — прямая линия от достижения к достижению. «Город строят», «Север», «Городок», появившиеся на выставках «Мир искусства», затем «Волхов», «Строят ладьи» — окончательная победа нового над старым. Словно из тесной мастерской, наполненной археологическими «документами», художник вышел к вольным просторам природы. Появляются многочисленные этюды с натуры. Краски становятся прозрачнее и глубже. Рисунок утрачивает последнюю обычность «неоакадемических» приемов. Радуют первые опыты пастели.1903–1906 годы
Мы подошли к 1903 году, когда написано большинство архитектурных этюдов, о которых я говорил. Ими начинается ряд произведений, все более и более отдаляющих нас от Рериха «Старцев» и «Идолов». Прелестная картина «Древняя жизнь» (1903), с млечной гладью озера, кривыми сосенками и игрушечными избами на сваях, — совсем неожиданный скачок к интимной «японской» стилизации пейзажа. Вспоминается еще «Дом Божий» на выставке «Союза», проникновенная, задумчивая картина, навеянная Печорским монастырем и впоследствии уничтоженная художником в порыве творческого самоистязания, которое знаменательно для этой эпохи лихорадочных поисков, декоративных замыслов и первых композиций на церковные темы. Пишется «Сокровище ангелов» (1904) и другой большой холст, последний холст в бессветных, металлических тонах, — «Бой» (окончен в 1905 году). Вся жуткая поэзия Северного моря вылилась здесь в симфонии синих, лиловых, желтых и красных пятен. Какой праздник сумрачного цвета и сумрачной мысли! Клубятся дымные грозовые тучи. Волны кишат яркопарусными ладьями. И в небе, и в водах — яростный бой, движение зыбкого хаоса, мятеж темных стихий… Из работ последующих двух лет наиболее интересны пастели и гуаши: «Дочь Змея», «Пещное действо», «Колдуны» и эскизы для росписи церкви в киевском имении В. Голубева Пархомовка. Масляные краски исчезают совсем. Наступает опять пора исканий: новой красочной гаммы, новых декоративных гармоний. В этих исканиях, может быть, — все будущее Рериха. Они предчувствовались уже давно, но определились только позапрошлым летом, во время второй поездки за границу, к святыням раннего Возрождения, в города Ломбардии, Умбрии, Тосканы. Он многое увидел в эту поездку, многое пережил. И совершилось желанное. Угрюмые чары северных красок рассеялись, точно по волшебству. Его пастели делаются яркими, лучистыми; синие тени дня ложатся на зеленые травы; синие светы пронизывают листву, и горы, и небо; солнце, настоящее, знойное солнце погружает землю в трепеты синих туманов.Последние произведения
Большинство этих этюдов, написанных в горах Швейцарии, где Рерих отдыхал после «итальянских» впечатлений, еще не были выставлены в России. Но последняя картина-панно на московском «Союзе» — «Поморяне» — прекрасно выражает перемену, совершившуюся в художнике так недавно. Нерадостность настроения, эпическая грусть мечты остались. Тот же Север перед нами, древний, призрачный, суровый. Те же древние люди, варвары давних лесов, мерещатся на поляне — безымянные, безликие, как те «Старцы» и «Языческие жрецы», с которыми Рерих выступал на первых выставках. Тот же вещий полусумрак далей. Но летние этюды и долгие подготовительные работы пастелью сделали свое дело. Темпера заменила масло. Фресковая ясность оживила краски. Природа погрузилась в синюю воздушность. И сумрак стал прозрачным, легким, лучистым. Что повлияло на художника? Вечное солнце Италии? Или благоговейные мечты примитивов треченто и кватроченто — фрески Дуччио, Джиотто, Фра-Анжелико и гениального Беноццо Гоццоли, в дворце Риккарди, в соборе San-Gimignano[131]? Или просто случилось то, что неминуемо должно было случиться рано или поздно? Не все ли равно? Я приветствую это новое «начало» в творчестве Рериха. И если, идя дальше в том же направлении, он немного изменит жуткой поэзии своих ранних замыслов и станет менее угрюмым волшебником, я не буду сожалеть. Темные видения его юности не сделаются от того менее ценными для всех понимателей красоты… Но они не могу вернуться к нему и не должны вернуться. Пусть даже последние холсты Рериха менее «самобытны», как думают иные иностранные критики, менее самобытны в том смысле, что выдают не всегда переработанное влияние современной французской школы и художников Севера. Я не вижу в этом опасности. Рерих — мастер неустановившийся. Развитие его таланта еще далеко не закончено. С другой стороны, «самобытным» в искусстве русских художников иностранцы привыкли называть то, что для нас — результат «национальных» влияний, слишком часто отрицательных с точки зрения живописной. Превзойдя эти влияния (Суриков, Куинджи, Васнецов), Рерих только доказал свое чуткое и глубоко культурное понимание истинных ценностей искусства. Поэзию личности, поэзию «национальной стихии», с которой он сроднился, мечтая о призрачных далях минувшего, никто не может отнять от него. Но чисто живописные задачи, меньше всего понятые именно русскими художниками, привели его совершенно естественно к открытиям импрессионистов. И если в поисках красочной гаммы он еще не вполне «нашел себя» и невольно подчиняется внушениям западных «единомышленников», то это — только вопрос времени, вопрос будущего… Не так ли и для всей «молодой» русской школы? Можем ли мы говорить о ней независимо от того переворота, который совершился на наших глазах во всем европейском искусстве? Разве не в «поисках красочной гаммы» сущность всех достижений современного художественного Sturm und Drang’а[132]? Путь, избранный Рерихом в последние годы, открыт не им — всем творческим духом века. Духом новаторства, утонченного субъективизма, духом реакции против ложнореалистического и академического credo предшествующих поколений.Ретроспективные мечтатели
Несмотря на подавленное состояние русской культуры в наши дни, несмотря на всю нашу отсталость от Запада, художественное созидание «молодой России» за последние годы несомненно крепнет… Может быть, никогда творчество русских живописцев не представляло большего интереса для изучения. Призыв к «новомуискусству», услышанный нами в середине 90-х годов, нашел благоприятную почву в России, где художественные заветы XIX века вылились в особенно уродливые формы передвижничества и упадочного академизма: слишком ничтожно было то, во имя чего могли бороться охранители традиций, — правда индивидуальной свободы, смелых и утонченных опытов в области цвета, света и стиля увлекла как-то сразу талантливых и чутких. С тех пор непрерывно растет число счастливых «искателей». Мы уже вправе думать теперь, что передовые русские художники действительно ценны, интересны, нужны всему культурному миру — как оригинальные выразители современности, сумевшие не утратить национального акцента, воспользовавшись всеми «открытиями» западных мастеров. Главная заслуга в этом «освобождении» русской живописи принадлежит бесспорно группе «молодых», объединившихся, лет десять назад, под знаменем журнала «Мира искусства»: К. Сомов, Александр Бенуа, Лансере, Бакст, Добужинский, Остроумова-Лебедева. Этих художников, тонких стилистов формы, мне бы хотелось назвать «ретроспективными мечтателями». Мечта о былом — интимная поэзия их творчества. Изощренность рисунка, капризная законченность контура, чувство линии, острота графических приемов в связи с глубоким проникновением в душу прошлых веков — вот признаки, достаточно характерные для выделения в особую школу главных создателей «Мира искусства», вдумчивых поэтов русского модернизованного empire’a и XVIII века. Их культурный европеизм и вместе с тем вполне самобытное переживание русской действительности и русских настроений дали красивое сочетание исторической грезы, остроумия, живописного новаторства и того «хорошего вкуса», которого не было долго в нашей живописи — в грубых иллюстрациях художников-бытовиков и в слащавой манерности последователей Брюллова. Их «ретроспективная мечтательность» — не только следствие той «любви к редкому и невозвратному», которой овеяно все искусство конца XIX столетия, но несомненно объясняется и более глубокой потребностью: вернуться к хорошей художественной традиции, к забытой красоте екатерининской и александровской эпохи, после гнетущей прозы и фальши искусства 50–80-х годов. Русский XVIII век — живопись Рокотова, Левицкого, Боровиковского, Алексеева, скульптуры Козловского, Прокофьева, постройки Растрелли, Росси, Гваренги, Воронихина — открылся нам во всем неожиданном великолепии своего расцвета. Впервые русские художники «нового века» оглянулись назад с благоговейной вдумчивостью и прикоснулись к забытым сокровищам уже далекого русского прошлого с сознательностью тонких понимателей красоты. Из пыльных кладовых и музейных чердаков, из опустевших дворцов Петербурга и Москвы, из дворянских гнезд провинции выглянули снова на свет Божий произведения напудренных предков и вместе с ними — вся жизнь, колоритная, зачарованная своей невозвратностью жизнь былой, помещичьей и придворной России. И сами предки ожили! Мы вспомнили их, и они ожили, как «старики» из «Страны прошлого» в драме-сказке Метерлинка «L’oiseau bleu»[133]. И мы полюбили их какой-то новой любовью, немного болезненной, грустной, волнующей загадками смерти. Полюбили их чопорное изящество в золоченых гостиных и стриженых боскетах, их тщеславную роскошь и эксцентрический вкус, их улыбки, слезы и любовные похождения — томные взгляды светских красавиц, переливы шелка и бархата в усадебных intérieur’ax, красивые турецкие шали на бледных, точеных шеях, плюмажи, треуголки и огромные цилиндры уличных франтов… всю странную декорацию, окружавшую забытых мастеров времен Елизаветы, Екатерины, Александра.А. Бенуа
Этому стремлению к светской грации и к стильной изысканности минувшего указали путь два больших художника, еще не оцененных по достоинству и, конечно, не высказавших всего, что мы вправе ждать от них: Константин Сомов и Александр Бенуа. У того и другого есть работы безукоризненные, истинные образцы вкуса, интимной оригинальности. Такие разные по темпераменту и творческим приемам, они очень близки друг другу самим отношением своим к задачам стилизации, близки — и общим тяготением, глубоко сознательным (иногда рассудочным), к прихотливой и острой экспрессивности… Ал. Бенуа — более разносторонний, изобретательный и более «горячий» художник. Также — более историк. Его волнует прошлое — красота и роскошь видения прошлого, отшумевший маскарад XVII–XVIII века, чопорно-сказочная декорация жизни в дни Великого Людовика, стриженые сады и фигурные фонтаны Версаля, на фоне которых так обаятельно призрачны эксцентричные парики и длинные камзолы современников Короля-Солнца… Его волнует архитектурная экспрессия сумрачно-великолепных дворцов и монастырей baròcco[134] с колоннами, гербами, лепными карнизами и фризами, — тревожно-ломаные линии и строгие массы этого придворного зодчества, «вкусные» завитки орнаментов, большие белые вазы на садовых балюстрадах, мифические статуи, пленительные своей условной грацией и симметрией, прямые аллеи с мостиками, прудами, беседками, бесчисленные затеи самого несовременного нам и самого искусственного из искусств…Настроение Версаля
«Настроение Версаля» — лейтмотив, звучащий почти во всем творчестве Ал. Бенуа. Когда мы смотрим на его картины и невольно проникаемся их грезой, нам кажется, что он всю свою жизнь скитался один, в опустелых залах пышного века, прислушиваясь с грустью и любопытством к отзвукам минувшего, чувствуя странную близость мертвых. И этот мир мертвых в его изображении — какой-то игрушечный, кукольный, загадочный мир марионеток, разыгрывающих маленькие смешные комедии. Резкими, нервными силуэтами, на фоне версальских пейзажей, художник намечает своих излюбленных героев. Сам король в сопровождении причудливой свиты, нарумяненные «маркизы» и жеманные щеголи в высоких треуголках, хрупкие пажи и придворные карлики, комедианты, фокусники, патетические пьерро, испуганные коломбины — веселые маски, парадоксальные тени, призраки-куклы, нарисованные остроумно и дерзко, с тонким знанием историка-дилетанта и с неподражаемым вкусом художника «до мозга костей», — пестрой вереницей возникает перед нами эта суетливая толпа и дразнит, тревожит нас своей «скурильной»[135] прелестью, манит к тайнам умолкшего праздника…Мертвые и живые
Это было. Этого никогда не будет. Но это есть! Прошлое — всегда с нами, всегда наше. Прошлое — зеркало наших мыслей, трагедий и фарсов живой жизни. Скорбные призраки далеких веков — тени наших скорбей. Когда мертвые плачут — мы, живые, плачем о себе. Когда мертвые смешат живых — разве не мертвые смеются над живыми. Художник, переживающий историю с непосредственностью Ал. Бенуа, должен перешагнуть через все грани обычной психологии. Как это ни странно, «смешное» в «марионетках» Бенуа — следствие очень серьезной, углубленной любви к царству мертвых. В их «скурильности», в их гримасах убедительность какой-то лукавой и острой правды. Но это совсем не сатиры, не карикатуры! не исторические карикатуры — во всяком случае. В то же время призраки и куклы — они самые эфемерные и самые выразительные из человеческих созданий. Почти забава, и все-таки — грусть. Почти насмешка, и все-таки — смерть. В узорчатых садах Версаля без них было бы слишком пусто, слишком безнадежно одиноко. Как скрипичное пиччикато[136] на фоне грустных, темных аккордов, они оживляют сумрачные гармонии архитектурных пейзажей. Художник, придумавший их, одновременно иронизирует и любуется, воскрешает и отдается наваждению собственных капризных переживаний. И любуясь им, мы понимаем, что фантастические «куклы» иногда гораздо правдивее выражают людей, чем доподлинные портреты, и что «волнение прошлого» не укладывается ни в какие установленные рамки. Понимаем, что в жизни и в живописи ирония и таинственные «lacrima rerum»[137] могут совмещаться.Рисунок и краски Бенуа
В этом совмещении — обаяние Ал. Бенуа и всего «ретроспективного» направления, созданного им и К. Сомовым. Обычным зрителям самая сложность такой психологии может казаться аффектацией, произвольной манерностью. Надо посмотреть немного дальше, немного вдумчивее. Тогда почувствуется неподдельная искренность мастера во всех его эксцентричностях и преувеличениях. Неподдельный темперамент виртуозного рисовальщика, наблюдательность умного поэта. Этих качеств нельзя отнять ни от ранних акварелей Бенуа, вызвавших столько нелепых толков в «Обществе акварелистов» в начале 90-х годов, ни в особенности от его позднейших работ. К позднейшим — относятся и «Прогулки короля» (в Музее Александра III), и иллюстрации для «Медного всадника», и серия «Игрушек», и «Детская азбука», и последние «Версальские виды» и т. д. Смелость штриха, как бы на лету схватывающего мысль, яркость движений в фигурах, строгий и вкрадчивый вкус — в пейзажах и архитектурных эскизах, действительная овеянность сказочной сущностью любимой эпохи — вот несомненные достоинства Ал. Бенуа, вознаграждающие нас за известную черноту колорита и сухость мазка, которыми грешат его картины маслом и акварелью. Ал. Бенуа, как вся школа ретроспективных мечтателей «Мир искусства», — более график, чем художник красок. Конечно, чисто живописные искания последних лет не прошли мимо него. Это доказывает изысканность его цветовой гаммы, волшебство цвета — хотя бы в таких работах, как «Итальянская комедия» или «Китайский павильон». Но солнца, горячего солнца он не взял на свою палитру. Ему ближе по настроению искусственный свет, эффекты театральной рампы, волшебные огни иллюминации или — серые «говорящие» сумраки осени.Купальни маркизы
Впрочем, в некоторых работах он является перед нами и совсем исключительным колористом. Лучший пример «Le bain de la marquise»[138], на последней выставке «Союза». Восхитительно призывна эта мраморная купальня, окруженная летней листвою парка; яркая зелень деревьев, отражаясь в воде, гладкой и блестящей, как кусок малахита, переходит по сторонам в ровные тени стриженых кустов, а в глубине, на возвышении, сверкает белый павильон в лучах солнца. Кокетливая маркиза в кружевном чепчике — хрупкая, призрачная нимфа завороженного боскета — только что погрузила в воду свое холеное розовое тело и улыбается улыбкой севрской куклы… Все в этой картине так художественно прочувствовано, так живописно метко, что понимаешь сразу бесспорность дарования художника, несмотря на разные «но» пристрастных критиков. «Купальня маркизы» переносит нас невольно к художественным темам Сомова. В этом произведении Ал. Бенуа ближе всего подошел к Сомову, вернее — встретился с ним. Было бы несправедливо говорить о «заимствованиях» одного у другого. На самом деле о прямом подражании здесь не может быть речи. Ал. Бенуа должен приближаться к Сомову в тех случаях, когда он становится поэтом женщины. Между ними слишком много общего для того, чтобы могли быть избегнуты взаимные влияния, и Сомов — слишком «в своей сфере», когда изображает «скурильных» маркиз, чтобы не заражать своей мечтой близких ему по духу художников.Сомов: поэзия женщины
Я назвал Сомова поэтом женщины. Это требует пояснения. Мы привыкли отождествлять поэтизацию женщины с желанием видеть только красивые и нежно благородные черты женственности. Джорджоне — поэт женщины; Рафаэль, Тициан, Мурильо, Бёрн-Джонс… Эта поэзия совершенно отсутствует в творчестве Сомова. Обращаясь к старинным мастерам, мы скорее найдем родственные Сомову настроения у позднеготических скульпторов, у нидерландских и немецких примитивов, в мадоннах Кривелли… Но это также неверный, случайный оттенок сходства, не больше. Я хочу только сказать, что в женских изображениях примитивов есть невольная, бессознательная «манерность типа», в которой мы улавливаем что-то очень едкое, пряное, плотское — я боюсь сказать «эротическое», — что-то странно современное нам своей мистически чувственной остротой.«Колдовство»
Когда мы смотрим на «Колдовство» Сомова, на эту худую женщину с бледными зрачками и большим лбом — страшную в своем уродливом кринолине, — держащую над головой чародейное зеркало, — мы положительно вспоминаем каких-то ранних «святых» треченто и кватроченто тоже с мертвенными глазами и с болезненной исхудалостью ликов. Сомов только прибавил одну свою черту — черту греховной истомы — и этим подчеркнул то, что лишь тайно мерещится в живописи далеких примитивов. Правда, не все «женщины» Сомова — такие, не все до такой степени выдают свои опасные чары, превращаясь из женщин в каких-то беспощадных, отталкивающе-обольстительных жриц порока, — но почти во всех (даже в портретах) есть намек на эти чары. К. Сомов.
Волшебство. 1902.
К. Сомов.
Волшебство. 1902.
Может быть, ни один художник не соединял теснее в женском типе кокетливый маньеризм с порочным сладострастием… Я говорю, порочное сладострастие, потому что не нахожу более точного определения. В сущности, ни то ни другое слово не выражают «едкости» сомовской фантазии. От змеиных улыбок его женщин, изрисованных с такою влюбленностью в капризы линии, веет смертью ядовитых цветов. Их порочность в похотливом бессилии сердца. Их сладострастие — в самовлюбленной жадности тела. Да, в них что-то мертвое и обнаженно-живое, ласкательное и пагубное, почти комическое и страшное. Они были когда-то, эти женщины, и опять хотят родиться и ваять от жизни ее отрады и наслаждения, хотят и не могут. Они впиваются в нас своими маленькими косыми глазами, словно для того чтобы перелить в себя новые силы для нового бытия, но остаются призраками с окоченевшим сердцем и холодной кровью. Художник встревожил их, позволил им заглянуть в мир живых, полюбил их загробное кокетство, но не воскресил до конца, не дал им смешаться с людьми. И сам невольно стал смотреть на живые лица глазами их, умерших, оторванных от могил прошлого, но не ставших реальными, вожделеющих к ласкам, но бессильных… Я не умею сказать иначе выражения, каким смущают сомовские «маркизы» и девушки, одетые по моде 20-х годов, — в таких картинах, как «Колдовство», «После мигрени», «Отдых в лесу», «Conversation galante»[139], «Август», «Прогулка», «Поцелуй» и многие рисунки, которые, к сожалению, не могут быть выставлены для публики из цензурных соображений. Эротика Сомова — область совсем своеобразных, обостренных до тончайшего садизма ощущений и грез. Эротика бывшей жизни, воспринятая холодно интеллектуально глубоко современным художником и претворенная им в чувственность неожиданно наивных и тем более искушающих намеков. В этой сомовской «наивности» — та поэзия, о которой я говорю. Поэзия женщины-куклы в пудреном парике и атласных фижмах, знавшей когда-то все шалости любви, а теперь — явившейся нам вожделеющим привидением «другого мира», ядовитым цветком старинных боскетов. Поэзия женщины-подростка в белом кисейном платье empire, обвораживающей болезненной грацией… Поэзия худенькой некрасивой девочки, бледной девочки с обнаженной шеей и опытными, насмешливыми глазами.
Пасторали Сомова
Когда мы смотрим на старые русские портреты, мы угадываем то, что так полюбилось Сомову в манерном стиле прошедших веков. Интимная картина былой жизни — русской жизни, жизни прадедов и прабабушек наших — представляется непрерывной пасторалью, беспечным праздником под нежным летним небом, мечтательным отдыхом на лужайках, усеянных цветами, в тенистых усадьбах, на берегу искусственных прудов. Здесь царит настроение интимистов Венециановской школы. В. Серов.
Портрет балерины Т. П. Карсавиной. 1909.
В. Серов.
Портрет балерины Т. П. Карсавиной. 1909.
На садовых скамейках сидят робкие барышни, ожидая любовных писем; нарядные пары прогуливаются по аллеям; в весенний день, на опушке леса, поэты в затейных цилиндрах читают стихи под шелесты молодых дубов; в уютных уголках маленьких комнат и густолиственных парков томно целуются любовники… И все остро призрачное, нецеломудренно мертвое — в претенциозных ужимках, в искушающей «наивности» этих бывших людей — озарено, согрето солнцем, торжествующей гаммой весенних красок, золотым светом юной природы…
Его пейзаж
Сомов видит русский пейзаж с такой самостоятельной чуткостью, что его можно сравнить только с Левитаном. Но Левитан видел природу, русскую деревню одинокой, без людей; он вникал в ее пустынные просторы, в ее безбрежную тишину и сумеречную задушевность. Сомов видит деревню через окно старой помещичьей усадьбы, видит ее обласканной и измененной человеком; оттенок «исторической перспективы» придает его паркам и лесным полянам обаяние яркой и все-таки отзвучавшей сказки. Это все же — эхо природы, не сама природа, мечта о солнце, не солнце. Я подразумеваю то тяготение к ретроспективной стилизации, какое присуще Сомову quand même[140], хотя в своих этюдах и набросках акварелью он кажется иногда совсем реалистом, совсем непосредственным живописцем «с натуры». На самом деле природа Сомова — такой же обособленный уголок его личных душевных иллюзий, как и гости ее — маленькие жеманные люди, маленькие жеманные женщины. В пейзаже он чувствует прежде всего рисунок, графический контур, т. е. узор, воспринимаемый интеллектуально, потом краски и свет, живописное видение мира. Меньше, чем остальные художники «Мира искусства», он все же подчиняет это видение своей внутренней психике, околдованной мелодиями старины. Через деревья и облака и фантастические радуги неба он смотрит назад, в дали былого, в волшебство отснявших дней. Всегда остается мечтателем, исповедующим прекрасную землю в утратах минувшего.«Ретроспективность» — строй души, определяющий все приемы художника. Воспринимая видимую реальность больше воображением, чем глазами, оставаясь узкосубъективным до конца, ретроспективный художник замыкается в тесный круг переживаний, иногда очень тонких и глубоких, но свободные порывы к широкой, ничем не ограниченной жизни ему неведомы. На природу он всегда будет глядеть из какого-нибудь окна, людей всегда будет видеть загадочно сросшимися со старомодным костюмом. Новая, вечно раскрывающаяся загадка жизни, новая, вечно юная красота природы, которую можно почуять, только отказавшись от себя и от навязчивых воспоминаний, — в эту область художественных открытий художники, как Сомов, попадают лишь случайно. Тем интереснее их открытия и чисто пластические достижения.
Техника Сомова
Загадочный рисунок у Сомова. Не яркий, не быстрый, но какой-то особенно живой и вкрадчивый. Иногда — словно колеблющийся, иногда — парадоксально неправильный и всегда — тонко выявляющий интимный характер формы. В результате — удивительно точный рисунок, без всякой ремесленной обычности, мелочливо завершенный — без неприятного педантизма. Сомов в каждом произведении как будто выискивает «все сызнова», не пользуясь умением навыка, которым обыкновенно злоупотребляют опытные рисовальщики. Он медленно, с любовной осторожностью определяет очертания, отказываясь от виртуозности для углубленного и трепетного искания линии. Вот почему, несмотря на однообразие тем и даже отдельных фигур, его работы не оставляют впечатления однотонности; каждый раз все тот же Сомов кажется новым. Вот почему только он может старательно заканчивать картину до едва уловимых деталей, может превращать масляную живопись в миниатюру — и не казаться скучным, ремесленно кропотливым. Наконец, по той же причине создано им сравнительно немного, и все созданное так ценно, начиная с декоративных заставок для иллюстрированных изданий и кончая портретами.Виньетки
Как виньетист — Сомов долго останется непревзойденным мастером. Нежная ритмичность его грациозных узоров, аристократизм вкуса в выборе линейных мотивов, орнаментов и фантастических мелочей, придающих книжному украшению прелесть недосказанной мысли, его чувство стиля и симметрии, безупречность техники, волшебная точность графического приема сочетаются в такие утонченные гармонии, что рядом с ними почти все кажется грубым и бесформенным. Любуясь этими красивыми паутинами Сомова, нежными ожерельями цветов, неожиданными сплетениями жемчужных нитей, перьев, масок, капризных завитков и пунктиров, мы ясно понимаем, что в истинном искусстве нет малого и великого и стушевываются грани между «прикладным» и самоцельным творчеством. Книжные заставки могут быть так же проникновенно художественны, как самый пламенный grand art[141]…Сомов — ювелир стиля. На картонах и дощечках в несколько вершков он рассказывает поэмы настроения, превосходящие изысканной непосредственностью все, что когда-либо делалось в том же роде. Малое и великое, глубокое и легкомысленное, шутливый вымысел и острое наблюдение природы, меланхолия и эротизм неразрывно соединены в его кокетливых жанрах и пейзажах, написанных свежо, красочно, гармонично, иногда чуть-чуть холодно, но никогда — не вдохновенно. Стилизованные сцены минувших веков — «Письмо», «После дождя» (1896), «Прогулка зимой», «Август», «Радуга» (1897), «Поэты», «В былые времена», «Отдых в лесу» (1898), «В боскете» (1899), «Остров любви» (1900), «Влюбленные» (1901), «Вечер» (1902), «Как одевались в старину» (1905), «Фейерверк», «Зима», «Весна» (1906), «Волшебный сад» (1908) и т. д. — все это истинные образцы художественной чуткости и той аристократической изощренности, которая выделяет Сомова не только между русскими, но и между западными мастерами. И действительно, влияние «сомовского стиля» на современных иностранных художников, в особенности на немцев, — явление бесспорное, но ни в Германии, ни во Франции нет Сомова.
Графика и живопись
Быть таким прирожденным графиком, как Сомов, и в то же время остаться превосходным живописцем, хотя и с определенно выраженным тяготением к ретроспективности, — редкое соединение в художнике. График видит мир как волшебство линий, одухотворенных личным чувством и мыслью; живописец должен прежде всего видеть краски. График, по самому качеству своего ремесла, выражает форму как схему осознанных очертаний; живописец выявляет форму из оттенков цвета, из соотношения тонов. К. Сомов.
Дама в голубом. Портрет Е. М. Мартыновой. 1897–1900.
К. Сомов.
Дама в голубом. Портрет Е. М. Мартыновой. 1897–1900.
Этому существенному различию между рисованием и живописью посвящена замечательная брошюра Макса Клингера «Malerei und Zeichnung»[142]. Клингер, между прочим, говорит:
«Рисунок от руки, особенно же гравирование, травление офортом и т. д. …часто находится в полном противоречии с эстетикой живописи, не теряя при этом характера законченного художественного произведения».Вот почему «мотив, вполне художественно изобразимый, как рисунок, может из эстетических оснований не годиться для живописи» и наоборот.
«Задача живописи — найти выражение в гармоничной форме для красочного мира тел; даже выражение стремительности и страстности должно подчиниться этой гармонии. Ее главной задачей остается сохранение единства впечатления, какое она может произвести на зрителя: средства ее позволяют ей достигать для этой цели необычайной законченности форм, цвета, экспрессии и общего настроения, из которых и созидается картина». «Очарование картины в способности художника — охватить, увидеть и в умении проследить и прочувствовать все виденное — живую и мертвую форму в ее полноте и взаимоотношении с другими формами. Самое простое получает в картине величайшее значение, благодаря интенсивности художнического понимания, потому что сущность живописи именно в том, что каждая выраженная ею форма может влиять на нас, околдовывать сама по себе».Потому живопись вовсе не нуждается ни в какой духовной примеси, ни в каких интеллектуальных комбинациях. Они, напротив, мешают. Впечатление, производимое на нас картиной, тем больше, чем непосредственнее она влияет красотой воплощения. Тогда мы получаем радость, которую природа не часто может нам дать: одновременность многого видимого, постоянные перемены в видимом и, прежде всего, наша собственная внутренняя сосредоточенность редко позволяют нам получить зрением чистое ощущение. Перед лицом природы мы всегда бываем соучастниками того, что видим! В ее настроения всегда примешиваются наши желания, наша тревожность. Перед картиной они рассеиваются, потому что мы даем нашему «я» раствориться в личности художника и видим мир его глазами, если он умеет показать нам полно свою собственную природу. В этом «растворении» мы достигаем того, чего напрасно ищем в жизни: наслаждения без обязанности давать себя, ощущения внешнего мира без телесного соприкосновения с ним.
 К. Сомов.
Портрет поэта А. А. Блока. 1907.
К. Сомов.
Портрет поэта А. А. Блока. 1907.
Клингер заключает этот тонкий анализ живописного восприятия так:
«Поэтому очень существенно избегать в картинах всяких прибавок в фантастическом, аллегорическом или новеллистическом духе, которые уводят зрителя к размышлениям, слишком далеким от самой картины. Внутреннее спокойствие, само себя удовлетворяющее, и есть то, что манит нас к произведениям всех мастеров живописи; достигнуть его возможно только законченностью изображения в форме, в краске, в выражении и общем настроении. Фантастика (интеллектуальные примеси), к которой дозволено стремиться в картине, должна быть такого рода, чтобы эти условия никогда не нарушались». «Рисунок по отношению к видимому миру гораздо свободнее. Он оставляет фантазии широкий простор красочно восполнить изображенное; формы, не относящиеся непосредственно к сущности изображения, и даже самую форму рисовальщик имеет право трактовать с произвольной свободой; он может изолировать изображение так, чтобы фантазия создала вокруг него пространство… Идея служить возмещением отброшенной телесности». «Чтобы достигнуть цели, рисунку необходимы другие средства, чем те, которыми располагает живопись. Живопись представляет каждое „тело“ именно как „тело“, как конкретную отдельность, как существующее само по себе (вне связи с внешним и посторонним), округленное, завершенное целое. Следовательно, живопись занимают вещественные стороны изображения: воздух — легкий, светящийся, морс — влажное, сверкающее, тело — нежное, шелковистое. В рисунке вся эта вещественность может приобрести особенности, которые менее действуют на глаз, чем на поэтическое восприятие и умственные угадывания».
Можно, конечно, не соглашаться с некоторыми выводами Клингера, но основная мысль этих критических замечаний безусловно верна. Определенное Клингером различие между рисованием и живописью прекрасно объясняет неизбежную разницу, существующую в самых склонностях художника-графика, по навыку своему или по призванию, и — художника-живописца. Есть, впрочем, еще область творчества, о которой не упоминает Клингер, — красочная графика, но это не меняет дела, так как красочная графика — только раскрашенный рисунок, не живопись.
«Дама в голубом»
Несомненно, живопись очень многих графиков по призванию и темпераменту напоминает именно раскрашенный рисунок. В этом — слабая сторона художников «Мира искусства», о которых идет речь. Но, возвращаясь к Сомову, мы должны признать, что он наиболее свободен от этого недостатка. Рядом с работами, чисто графическими по заданию, он создал превосходные холсты, написанные маслом и отвечающие всем требованиям истинной живописи. «Самоцельное спокойствие», о котором говорит Клингер и которое, по его словам, достигается «завершенностью изображения — в форме, в цвете, в экспрессии и общем настроении», именно это спокойствие присуще, например, таким работам Сомова, как «Дама в голубом платье» (1900). Каждый раз, что я бываю в Третьяковской галерее, я подолгу любуюсь этим удивительным портретом. Все прекрасно в нем — и строго выисканный, ритмический рисунок, и общий тон — нежная гамма коричневого, голубого, белого, оттеняющая цвет тела на фоне темно-зеленой листвы, — и пластичность позы, и вопрошающе-вдумчивое выражение лица. Одно время портрет казался мне несколько сухо написанным; теперь я вижу, что эта кажущаяся сухость, этот сомовский «холодок» — только строгая выдержанность рисунка и колорита. «Дама в голубом платье» — chef d’oeuvre[143].Е. Лансере
Менее определившийся и самостоятельный, но, может быть, не менее даровитый — Е. Лансере. Он еще мало создал, зато все, за что он принимался, поражает талантом: виньетки пером, архитектурные рисунки, иллюстрации сказок и драм, исторические картины, декоративные панно и карикатуры для сатирических журналов. К. Сомов.
Арлекин и смерть. 1907.
К. Сомов.
Арлекин и смерть. 1907.
Относительно акварелей «Университет» и «Императрица Елизавета в Царском Селе» (1905) не может быть двух мнений. В них есть все: тонкое чувство эпохи, музыка колорита, изящество линий, поэзия субъективного приближения к фактам истории… На нем сказалось влияние Бенуа и Сомова. Он тоже — «ретроспективный мечтатель», овеянный тенями близкого прошлого. Лейтмотивом его творчества был до сих пор — русский rococo[144] или empire: улицы александровского Петербурга, берега Невы, бесчисленные канавки с узорчатыми решетками, задумчивые силуэты в «Онегинских плащах»… Лучшие работы Лансере — картины, внушенные сказкой петровского и елисаветинского века.
Лансере еще совсем молодой художник для той репутации мастера, которой он достиг в течение последних 6–7 лет. Первая работа, обратившая на него внимание, — иллюстрации к «Бретонским легендам»[145] Е. Балабановой (находятся теперь в Музее Александра III). Этими иллюстрациями он дебютировал на выставке, устроенной Дягилевым в 1898 году[146]. Летом 1901 года были нарисованы первые «Виды Петербурга», появившиеся вскоре в «Мире искусства». Тогда же исполнен подсвеченный рисунок «Барки» (в Третьяковской галерее). В 1901–1902 годах появился ряд заставок и концовок для кутеповской «Истории царской охоты» (XVIII ст.). Всю зиму 1902/03 года Лансере занят отделкою столовой (вместе с Ал. Бенуа) для выставочного помещения «Современное искусство»[147] кн. Щербатова и Мекка. Зимы 1903/04 и 1904/05 годов, между другими мелкими работами, он компонует и рисует «Елизавету в Царском Селе», а в 1905–1906 годах всецело отдается новому роду творчества, деятельно участвует в иллюстрировании сатирических журналов «Жупел»[148] и «Адская почта»[149]. Наконец, в 1906–1907 годах пишет большие декоративные панно для «Б. Московской» гостиницы и для петербургского «Cafe de France»[150]. Последняя значительная работа Лансере — иллюстрации к «Царю-Голоду» Андреева, в издании «Шиповник»[151].
У Лансере — всегда благородный и одухотворенный рисунок. Не загадочно-тонкий, как у Сомова, но не менее выразительный. Каждая черта, проведенная им на бумаге, удивительно приятна для глаза. Это врожденное графическое чутье позволяет художнику браться за самые различные темы и находить новое, впечатляющее, красивое — везде. Изображает ли он старый Зимний дворец или Забайкалье, деревенские типы или призраков Леонида Андреева, рисует ли иллюстрации к норманнским легендам или к стихотворениям Бальмонта — он никогда не кажется неопытным, неискренним. Без остроты настроений Сомова и Бенуа — его искусство такое же вкрадчивое и завершенное. В нем нет глубокого, едкого лиризма этих художников; он проще, бессознательнее. Но его «хороший вкус» безупречен даже тогда, когда нам кажется недостаточно сильно продуманной идеологическая концепция его образов.
 А. Бенуа.
Купальня маркизы. 1906.
А. Бенуа.
Купальня маркизы. 1906.
Впрочем, трудно говорить о Лансере как о явлении ясно определившемся. Последние годы в особенности заметны колебания в его творчестве — от исканий стиля, графической изощренности к более реальной и непосредственной живописи. Он словно хочет побороть в себе наваждения ретроспективности, «найти себя» в пытливом изучении действительных, не призрачных людей, действительной, не призрачной жизни. Первые опыты в этом направлении, на последних выставках «Союза», разочаровали многих. Невольно возникал вопрос: может ли Лансере сделаться только живописцем? Тусклость красок в некоторых работах как будто доказывала обратное. Но я не думаю, что этих опытов достаточно для приговора. Я вижу в них хорошие поиски. Живописное дарование Лансере может развиться совсем неожиданно. Я жду от него новых, ярких побед… А пока нельзя не признать в нем одного из лучших графиков нашего времени. После Сомова он — тончайший мастер виньетки. Ему больше, чем кому-либо, обязана своей внешней облагороженностью современная книга в России. Украшение книги, забота об эстетике заглавных шрифтов, заставок, концовок (словом, о том, что считалось в течение долгих десятилетий совершенно неважным и потому опошлялось грубой типографской безвкусицей), культурное отношение к печатному искусству, эта потребность в издательском вкусе в значительной степени — его дело. И мне будет жаль, независимо от того, что суждено создать Лансере в области «большой» живописи, в области красочных замыслов и реалистических перспектив, — будет жаль, если он откажется от своего скромного и глубоко полезного служения книге…
«Старый Петербург»
В рисунках Лансере мы часто видим город. Наш молодой и уже старый город — столицу Петра и Александра. Лансере первый начал рисовать Петербург, проникаясь поэзией его старой архитектуры, угадывая красоту сквозь уродливые изменения и добавления современности. И вслед за ним многие художники, мечтая о прошлом, стали смотреть другими глазами на улицы и здания, воспетые когда-то Пушкиным и долго с тех пор не вызывавшие никаких художнических настроений. Современники Пушкина любили эстетику Петербурга. Можно судить об этом по количеству старых гравюр и литографий с изображением его главнейших построек и памятников, его широких площадей, царственной Невы, пестрящей грузовыми барками, садов… И было за что любить! В своей интересной статье о Томоне, строителе Биржи, А. Трубников говорит:«Восторженно описывают современники Александров Петербург. И действительно, если, по старым планам и гравюрам, воображением воссоздать его, он явится заманчивым видением. XVIII век оставил Петербургу в наследие великолепные дворцы. Александровское время украсило его простым, величавым empire»… «У синей реки, у Невы, „нимфы нежной и божественной“ Петербург был нарядный город. Его новые дома с белыми колоннами, тонко оштукатуренными фризами, искусно исполненными и умело выбеленными барельефами, были красиво выкрашены в мягкие тона: в бледно-зеленый, лимонный, в светло-серый. Они казались фарфоровыми или деликатно вырезанными из тонкого картона. И правда, их декорация была хрупкая, как фарфор, недолговечная, как картон»… «Было много поэзии; романтическая эпоха сказалась и на городе Александра. Поэтично белели античные фронтоны, изукрашенные героическими доспехами, в темной зелени, светлой прозрачной ночью…»{3}
Добужинский
Раньше, чем возникла мысль о серьезном изучении Старого Петербурга раньше, чем сорганизовались общества защиты его архитектурных памятников от вандализмов городского самоуправства, — художники «Мира искусства» стали рисовать его былую красоту, уцелевшую местами от посягания людей и времени. Начал Лансере (1-й выпуск «Мира искусства» за 1902 год); вскоре появились прекрасные ксилографии А. П. Остроумовой (заслуживающие отдельного критического исследования); Ал. Бенуа занялся иллюстрацией «Медного всадника»; Н. Кардовский сделал несколько удачных рисунков для издания «Невский проспект»… Но более всех углубился в эту художественную тему самый молодой из сотрудников «Мира искусства» — Добужинский. Добужинский — поэт Города. Его виды Петербурга не только образцы стильного рисунка, графической завершенности и не только живописные уголки старины, — это глубоко прочувствованные «настроения города», большого города, живущего своей особенной жизнью, жизнью каменных мостовых, каменных тротуаров и каменных домов с бесчисленными окнами, за которыми прячутся люди… Город, как таинственно-живое существо, как архитектурный организм, — в этих рисунках карандашом и пастелью, иногда окрашенных намеренно условно, иногда написанных почти реально. Город — с вековыми наслоениями быта, вкуса и безвкусия, красоты и уродства, суетного человеческого труда и жутко-призрачных воспоминаний. Город — вообще, чудовище новой цивилизации, мир жизней в нагромождении кирпичей, гранитов и булыжников, и — наш город «с самой фантастической историей в мире» (по выражению Достоевского), наша столица, творение Петра и Александра, о которой сказал Пушкин:Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит.[152]
 М. Добужинский.
Человек в очках. Портрет поэта К. А. Сюннерберга. 1905–1906.
М. Добужинский.
Человек в очках. Портрет поэта К. А. Сюннерберга. 1905–1906.
И в тишине города воскресает прошлое, и будущее кажется уже бывшим, и вспоминаются слова Достоевского:
«Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон?.. Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится, — и все вдруг исчезнет!..»[153]Ночью город путает. Толпа, населявшая его нестройным и пестрым движением, прячется в жилища-улья, за серые стены, под крыши, в темные подвалы. И улицы — пустые улицы — приобретают странное выражение. Жутко запоздалому прохожему, и понятен ужас бездомных. И на рассвете — протяжные гудки фабрик и свистки локомотивов жалобно хоронят ночь…
Все это есть в стилизованных рисунках Добужинского. Он умеет одухотворить не одну красоту старинных построек, но всю прозу, все обычности городской архитектуры. Он любит в этих обычностях внутреннюю, скрытую фантастику, которая иногда так красиво передается наивными лубочными «ландшафтами» и детскими рисунками. Несомненно, что в художественном восприятии ребенка есть элемент бессознательного проникновения в «сущность вещей». Сказочность обыденного дети чувствуют лучше, чем взрослые. Совершенно понятно, почему Добужинский, особенно в своих последних работах, откровенно приближается к стилю народного лубка и детского наброска. И это заимствование (разумеется — чисто внешнее и очень обдуманное), в соединении с острой, глубоко-личной творческой сознательностью, дает действительно новую и пленительную сказочность. Я не забуду впечатления, какое произвела на меня его маленькая пастель — «Окошко парикмахера» (выставка «Мир искусства» 1906 г.). Этот уголок вечернего города — ярко освещенное окно, в котором бессмысленно улыбаются восковые куклы, — поразил меня почти детской причудливостью, но какой не детской, почти зловещей экспрессией! На той же выставке было другое «окно» Добужинского («Человек в очках»); в окне — видны просто стены и крыши домов, освещенные тусклым петербургским днем, но в них — город, весь город, свод небес зелено-бледный, скука, холод…
Добужинский выставляет всего пять лет; о его техническом умении говорить пока трудно. По качеству рисунка, конечно, его нельзя сравнивать ни с Сомовым, ни с Лансере. Как живописец он еще совсем не определился. Но он безусловно обладает своеобразной красочностью, хотя графические навыки — необходимость видеть природу преображенной, синтезированной по прихоти настроения — мешают его исканиям живого цвета. Зато в декоративном цвете, в гармониях условных тонов, он показал себя совсем незаурядным колористом. Я имею в виду эскизы для театральных декораций — например, для «Лицедейства о Робене и Марионе» (прошлогодняя постановка комедии XIII века в «Историческом театре»). Красивая игрушечная пестрота этой постановки, удивительно связанная с «лубочностью» всего декоративного замысла, давала красочный аккорд, необыкновенно выдержанный и сильный. Я думаю, что Добужинский может смело взяться за кисти, и если его живопись будет все-таки живописью города и волшебно-лубочных рассказов, то это только придаст ею картинам «свою», особенную прелесть. Современные художники до сих пор плохо видели красоту города, бесконечное разнообразие городских красок и светов. Какая тема для живописца — петербургские белые ночи, старые медвежьи углы нашей провинции, гигантские центры Европы и Америки! Сколько загадочного колорита в кажущемся безвкусии современных улиц с большими окнами магазинов, с бесчисленными вывесками и афишами, с черной бесформенной толпой, с черным унылым дымом фабрик! Художники любят смотреть назад. Плохо любят себя, свое, окружающую нас, новую жизнь. Но жизнь ждет их любви. Она уродлива лишь оттого, что этой любви мало, а не наоборот. Ведь красота действительности — искусство. Красоту создает только Бог или — художник. Все что мы легкомысленно называем «современным уродством», мы, «ретроспективные мечтатели», — все это художник может и должен претворить в красоту. Фабрика — некрасива, но«фабрики» Менье восхитительны. Американские дома-башни вызывают отвращение, но когда-нибудь явится большой мастер и сделает их прекрасными. И, любуясь его картинами-сказками, наши внуки скажут: как было красиво тогда…
Бакст
Еще несколько слов о Баксте. Стилисты «Мира искусства» слишком близки ему по общему настроению «ретроспективности», чтобы можно было здесь умолчать о нем. Но Бакста нельзя охарактеризовать одним каким-либо настроением: он слишком разносторонний и «неуловимый» художник. То — автор строгих натуралистических, немного сухо написанных портретов, то — остроумный виньетист с тонкими заимствованиями у Обри Бирдслея, то — превосходный декоратор в стиле rococo. Мы знаем его прелестные акварели-миниатюры, иллюстрирующие русский быт в начале XIX века, нежной законченностью не уступающие сомовским рисункам; мы знаем его модернистические плакаты, в которых может быть слишком заметно влияние Парижа; мы знаем его заставки и обложки для «Мира искусства» и других художественных изданий — всегда виртуозные, отточенные с исключительным вкусом; мы знаем также менее удачные пейзажи… Л. Бакст.
Элизиум. 1906.
Л. Бакст.
Элизиум. 1906.
Художник гибкий и впечатлительный — Бакст иногда грешит излишней «приспособляемостью» к модным течениям и новаторским «последним словам». Но, приспособляясь, он остается личностью, неподдельной художнической натурой с изменчивым и тем не менее ярким, своим дарованием. Парадоксалист в духе Бирдслея, любящий пряности и узорные осложнения рисунка, — он умеет оставаться правдивым до конца, влюбляясь в «простую природу» с тою же серьезностью, как и в изломы графических силуэтов. Знаток старых стилей и живописной «скурильности» минувшего — он стилист более современный, в узком значении слова, чем Сомов или Лансере, отзывчивый ко всем исканиям нового европейского творчества. В этих исканиях рядом с красочными задачами выдвинулись на первую очередь вопросы новой формы — изысканной, прекрасной линии. Искусство «прекрасной линии» — лозунг, в котором мерещится возможность какого-то неведомого возрождения неоклассицизма, — этот лозунг чувствуется во всем, что создавал Бакст за последние годы. В его композициях мы часто видим греческие мотивы. Его манит легкая упругая и чувственна светозарность эллинского фронтона — ритм вечных мраморов, спокойная улыбка Аполлона. Более других мечтателей о прошлом он мечтает о будущем, угадывая в нем то, что освободит живопись от раздробленности нашего времени и от разобщенности красоты и жизни, — уверенное обладание художественной формой, принципом гармонии и прочности искусства. В с воем творчестве Бакст — меньше всего идеолог. Он любит и углубляет свое ремесло. Карандаш, перо, краски — для него повод, чтобы хорошо «сделать», точно закрепить тот или другой пластический замысел. Глубокой, внутренней подосновы, психологической сложности ни в его рисунках, ни в живописи нет. Даже когда он хочет, чтобы было. Но именно этот «недостаток», может быть, — главная прелесть Бакста. Он не дает раздумий, только — радость. Не тревожит, а увлекает. Его ретроспективные композиции, по темам напоминающие и Бенуа, и Сомова, по характеру совсем другие; в них чувствуется бодрость, насмешливая улыбка, но не скрытая скорбь. И эротика Бакста тоже не имеет ничего общего с сомовским «загробным садизмом». Он не воскрешает мертвых, а просто рисует их, очень метко и красиво, и потому не веет от них «гримасой смерти»… Впрочем. Бакст — иллюстратор былого менее характерен, чем Бакст — стилист современности. Но и тут его парадоксальность чужда тех зловещих недосказанностей и преувеличений, какими нас мучат нынешние графики. Даже подражая Бирдслею, он остается «эллином в душе». И я убежден, что все дальнейшее развитие Бакста именно в эллинизме, а не в бирдслеевских настроениях. В нем достаточно нерусской душевной ясности и «хорошего вкуса», чтобы больше ни к чему не «приспособляться», а идти своей дорогой — к богам Греции… И многие пойдут за ним.
«Дематериализация» природы
Веласкес и реалисты
Характерно для современной живописи одно явление… Назвать его? Хотелось бы найти слово. Но слова так обычны, когда надо сказать необычное понятие. Что делать — я вперед согласен принять заслуженный укор в злоупотреблении метафизическим термином: это явление — «дематериализация» природы. Современных художников разочаровала покорность прежних, не знавших о призрачности мира. Недавние реалисты и великие предки их, со времени Возрождения, считали, что цель живописи — повторять природу. Они переносили природу на холст со всеми элементами ее видимой вещественности. Изображая деревья, помнили о строении листьев и древесной коры. Когда писали портрет, не смели забыть, что перед ними, за волшебством живописного видения, — настоящая человеческая кожа, нежная эпидерма, пронизанная сетью сосудов, и за цветной гаммой одежд — настоящие ткани из шелка, льна и бархата. Они предоставляли самому зрителю видеть в изображении нужное для радости глаза. Даже создавая вполне субъективные гармонии тонов и очертаний, они никогда не переставали думать о веществе, не хотели отделить от него красоту видения. Картина казалась им зеркалом и тогда, когда отражалась в ней не природа, а ее идеализация, не реальный мир, а фантастическая греза. Между ними были превосходные и плохие мастера, глубокие ясновидцы и посредственные имитаторы, но все одинаково верили, что живопись должна передавать на плоскости всю природу, т. е. иллюзию ее непостижимой сложности. Так верил Веласкес, непревзойденный правдивец; так верит теперь какой-нибудь Бонна или… Богданов-Бельский (да простится мне дерзость сопоставлений!). В конных портретах Веласкеса видно, что лошади написаны с чучел, и вы знаете, что это происходит по той же причине, почему лица его моделей — живые до ужаса… Веласкес передавал на холсте всю «натуру», все, что может быть осознано с помощью зрения… Покорность гения обезоруживает. Реальную «натуру» Веласкес одухотворял своим титаническим гением. Но разве покорность… наших передвижников, покорность перед природой, «как она есть», не родственного происхождения? Конечно, кроме этой покорности, у передвижников ничего нет. Это другой вопрос. Стремление остается тем же. Мало того. В этом стремлении, несомненно, есть правда: иначе не было бы Веласкеса. Однако не меньшая правда — другое, обратное стремление…Примитивы
К непокорной правде, к правде изображения, передающего только красоту, магизм линий, красок, светотени, только красоту, освобожденную от тленного праха, от всей этой вещественности (в которую мы больше не верим) — к правде субъективной «дематериализации» природы, пришли современные художники. И их стало неудержимо манить к забытым примитивам. Я говорю о ранних, о самых далеких от нашего опыта, о тихих созерцателях, которые выявляли неумелою кистью радугу мира, преломленную творческой грезой. Они не владели еще приемами натурализма; не знали грани между явным и призрачным. Поэтому они могли творить свободно, хотя внешне были гораздо более связаны, чем мы: традицией, церковными канонами, социальным рабством. Поэтому самое неумение их «повторять» осознанную, вещественную природу чарует нас, как красота, и кажется тончайшим умением. В детскости есть восторг свободы и бессознательная непокорность, которые дороже всех достижений зрелого возраста… Но сознательное возвращение к бывшему — всегда более или менее обманно. Трудно, вкусив от «древа познания», превзойти опасное ведение. На пути неминуема другая опасность — подражание. Современная живопись в своем стремлении освободиться от слишком большого опыта, от соблазнов слишком зрелого знания создала много восхитительного на этом пути. Все школы нашего стилизма выросли, как странно-яркие цветы, на кладбище былого детства. Но разве не слишком веет от них возлюбленным кладбищем? «Дематериализация» природы (ценный результат острого, утонченного отношения к искусству) выразилась в этих школах все-таки не как новая задача, а как воспоминание о тех временах, когда условности стиля создавались всей жизнью эпохи, не изобретательность одиноких.Стилизм
Современный стилизм — упоение непокорностью линии и краски, обманывающей чувство действительности, впитал в себя много новых элементов. По преимуществу — графических. Ведь именно в наше время графическое постижение мира изощрилось, как никогда. Мы взяли лучшее у всех веков и народов, чтобы выразить, черными чертами на белом, наше новое «я», влюбленное в призрачность превзойденной природы. Но стилизм наш в живописи удивительно ретроспективен. Он расцвел быстро и уже кажется стариком с ужимками ребенка. Он был несомненно нужен, как освобождение от пошлости торжествовавшего «сегодня», от реализма, выродившегося в фотографичность. Но в нем слишком явно далекое «вчера». Как искусство, как язык форм, он не слился с потоком времени и, в большинстве случаев, остается дилетантством.Импрессионизм
Это особенно ясно теперь, когда выдвинулись новые задачи — новой влюбленности в красоту мира, нового современного примитивизма. Впрочем, эти задачи мерещатся давно, со времени первых импрессионистов. (Разве их нет у Веласкеса? И это понятно: дойдя до вершины, нельзя не мечтать о далях.) Импрессионисты первые захотели «дематериализировать» природу не с помощью одухотворения и стильной условности, а непосредственностью чувства — не разумом, а глазами. Мимолетное впечатление они противоположили рабству длящегося знания, мгновение — чувству реальности. На их холстах природа стала мгновенным впечатлением; от нее отлетела осознанная вещественность; материальные формы растаяли в цвете; художественное видение заменило покорность зеркала. Но это было не все. Возникший на наших глазах неоимпрессионизм превращает самое впечатление в длящееся знание и в нем открывает элементы вечного — симфонии цвета, красоту, отвлеченную от вещества, изумляющую правду «дематериализованной» природы. Неоимпрессионист не «повторяет» природы не оттого, что не хочет знать ее реальности, но оттого, что видит в ней одно для него важное. И его видение часто кажется фантастическим, потому что постигаемая красота всегда фантастична. Обыденна только непостижимая сложность природы. Стилизм, в свою очередь, повлиял на неоимпрессионистов. Оба течения отчасти сливаются в творчестве Мориса Дени… Но сейчас мне хочется отметить не взаимные влияния двух течений, а их борьбу. Может быть, она всего интереснее теперь в России, на наших культурных выставках.Еще так недавно стилизм казался последним словом русской живописи. Но вот прошло несколько лет после первых выставок «Мира искусства», и недавние новаторы уже кажутся совсем не «дерзкими» и новые дерзости «молодых» сбивают с толку непосвященных. Так думается невольно на выставках «Союза», «Венка», «Голубой розы», перед холстами мало известных, как-то страстно заявляющих о себе дебютантов. Большинство картин не удовлетворяет, но в них чуется «завтра» — солнечное, смелое, свободное, упоенное свежестью утра…
«Голубая роза»
Московский примитивизм
Искусство долго называли храмом. Теперь говорим о часовнях искусства. Каждая новая группа художников — новая часовня — для немногих. Их тоже немного — около двадцати художников. Почти все очень юны. У большинства индивидуальность еще не определилась. Выставки «Голубой розы» прежде всего заинтересовывают как выражение коллективного искания. Они — влюбленные в музыку цвета и линии. Они возвестители того примитивизма, к которому пришла современная живопись, ища возрождения у самых родников — в творчестве непосредственном, не обессиленном тяжестью исторического опыта. П. Кузнецов.
Любовь матери. 1905–1906.
П. Кузнецов.
Любовь матери. 1905–1906.
И думается в сотый раз: бывают эпохи, когда искусство «возвращается», чтобы вернуть себе силы детства для долгой жизни; но до наших дней оно «возвращалось» бессознательно, невольно, под влиянием внешних событий, или же — бывало только «архаизирующим»; современный сознательный примитивизм, понятый как основная задача, — последнее усилие художнического освобождения… Конечно, можно не верить этому усилию. Говорят: на родине Гогена и Сезанна разочарование уже началось. После недавних успехов Понт-Авенской школы сами художники как будто усомнились: «правда ли?» Но что же из этого? Что во Франции настанет время для новой часовни? Только. Московская часовня тоже — новая, несмотря на близость юных гиерофантов «Голубой розы» к западным учителям импрессионизма.
Французы
Французский неоимпрессионизм, по своим намерениям, в значительной степени — внешний, физический. Его выразители — красочники по преимуществу. Цвет как самоцель — их credo. С тех пор как вспыхнули на холстах Гогена белые полдни, сапфирные тени и знойные малахиты тропических побережий, с тех пор как загорелись оранжевые и лиловые гаммы в сезанновских natures mortes — «молодая» французская живопись стремилась все более и более к волшебству откровенно красочных видений. Перед нами целая плеяда убежденных виртуозов палитры. Солнечный пуантилизм Анри Мартэна и фантастическая радужность Бенара давно превзойдены. Холсты-панно Вюльяра чаруют, как луга, вышитые яркими полевыми цветами. Нежно-тканые бархаты Герена — экзотические цветники в светах вечера. Боннар не боится еще более странных, порою резких, эффектов, и ему не уступает молодежь «Салона независимых». Наконец, «дикие» пейзажисты — Матисс, Синьяк, Кросс, Рюисберг — не только искатели «красочных приключений», но совсем бесстрашные солнцепоклонники, разлагающие природу на мозаику ослепительных «сырых» красок, потерявших последнюю связь с изображаемою вещественностью мира. Н. Феофилактов.
Проект обложки журнала «Весы», посвященного О. Бёрдсли (1905, № 5).
Н. Феофилактов.
Проект обложки журнала «Весы», посвященного О. Бёрдсли (1905, № 5).
Один Морис Дени сливает импрессионизм с лирической грезой, декоративное волшебство и музыку настроения. В его светлых коврах — с молитвенно тихими фигурами женщин, юношей, детей и старцев, живущих медленной жизнью призраков, — утонченность колориста граничит с ясновидением поэта. В самом цвете, в самой краске он любит красоту не только декоративную, но красоту символическую, выявляющую миры угадываний и предчувствий. Отсюда — близость Дени к Борисову-Мусатову. А в этой близости — родство художников «Голубой розы» с французскими симфонистами цвета.
Русские признания
У них — то же стремление к примитивизму, та же влюбленность в чары красок и линий (то, что еще Уайльд называл «the scheme and symphony of the colour, the satisfying beauty of the design»[154]). Но у них — еще что-то, более интимное, глубокое, душевное, русское, хотя и заимствованное у Метерлинка. Почти у всех. И яркоцветные — изумрудные, алые, синие, золотые — водопады Н. Милиоти, и задумчивые легенды П. Кузнецова, и сказочные прозрачности С. Судейкина, и эскизы для театра Н. Сапунова, и весенние туманы Н. Крымова — может быть, даже интереснее с точки зрения интимной поэзии, чем со стороны чисто живописной. Во всяком случае, их воздействие не внешнее, физическое, а психологическое; в красочных аккордах почти всегда — сложные, острые признания. Рассказ отсутствует, отвергнута определенность образов, но это вопрос формы, приема: творческое намерение остается идейно-символическим. И когда тот же художник от живописи переходит к графике, этот внутренний, психологический трепет обнаруживается иногда с поразительной силой.П. Кузнецов
Кто видел небольшой рисунок П. Кузнецова «Рождение дьявола», поймет меня. Это бредное признание волнует болезненной углубленностью в мистику «греха», в самые недра сладострастного ужаса. Бесформенный хаос сгущается расплывчатыми кругами; детские трупы-зародыши возникают из оплодотворенного мрака — соблазняющие оборотни плоти; в тайне зарождений — улыбка дьявола. К сожалению, работы остальных графиков «Голубой розы» не производят столь же глубокое впечатление. А. Арапов, Дриттенпрейс, М. Сарьян («Сказки и сны») — еще слишком не установившиеся фантасты; трудно предвидеть, что они дадут. Н. Феофилактов, несмотря на свое дарование, рисует довольно вяло, но умеет достигать глубоких эффектов чередованием белых и черных пятен. Обращаясь от рисунка П. Кузнецова к его декоративным панно, мы слышим опять страстную исповедь интимного поэта, рассказывающего оттенками радужно мерцающих туманов — легенду неутоленной грусти и неутолимой мечты. Цикл этих холстов на выставке 1907 года — «Белый фонтан», «Увядающее солнце», «Рождение», «Утро», «Цвет акации», «Озаренная», «Любовь» и т. д. — выходит из области декоративного искусства, представляя из себя красивый опыт красочного мифотворчества. Когда я смотрел, мне так ясно казалось: вот — жизнь души, женской, любимой души, во всех преображениях ее на пути к смерти, во всех озаренностях неги и скорби. Жизнь юной, весенней души, понявшей слишком рано, что роща земли не для ее легких шагов. Она вспыхивает, как нежное пламя, в золоте утра, она грезит у белых фонтанов, в садах, обвеянных бледным инеем акации, и увядает вместе с солнцем; и люди уносят ее в лазурный склеп, и плачут… Да простит меня П. Кузнецов за навязывание ему, может быть, не его мыслей. Это удел всех поэтов, а я положительно не знаю художника — более поэта. Разумеется, он слишком молод, чтобы быть вполне самостоятельным как живописец; но его поэзии нет ни у Мусатова, ни у Дени…Н. Милиоти
Н. Милиоти — менее непосредственный, менее таинственный, зато несомненно более зрелый, более опытный мастер, уверенно владеющий формой, рисунком красочной музыки. Его лиловые, розовые, знойно-синие вихри, опаловые и смарагдовые дожди, изумрудные россыпи — не случайно красивые пятна, но обдуманный, строго вылепленный узор. Они пластичны; в этом их особенная прелесть. И в них тоже — лиризм нежной символики: певучий ритм верленовских признаний и «райские кущи» Бодлера. Наиболее удачные работы: портрет г-жи Гауш (собрание И. С. Остроухова), пасторали на последней выставке «Мира искусства» (1905), зеленоструйная волна «Шум моря» (1907) и «Сад», на выставке «Венок» 1908 года.Судейкин, Уткин
Из волшебного грота Н. Милиоти выходишь отуманенный, оглушенный звенящими переливами красок… Бледные полусумраки Судейкина дают отдых. Это намеки, дрожащие силуэты, голубые расплывы, в которых мерещатся образы-призраки, готовые исчезнуть от первого громкого возгласа. В этой новой манере Судейкина чувствуется хорошее влияние Кузнецова. Остается найти свой собственный путь в полусумраках красоты. Этот путь еще не найден и Уткиным, хотя у него нельзя отнять оригинальных мыслей, своего ощущения природы и своей нежности. Его холсты — обещающие миражи предчувствий и воспоминаний. Но художник еще далек от убеждающего искусства; ему надо учиться и, главное, не усложнять чрезмерно свои темы.Опасность символики
Вообще усложнение символической темы чаще становится недостатком, чем достоинством картины. Особенно при упрощенности техники эта победа духа над плотью — опасное нарушение равновесия. Живопись не может сделаться бестелесной, как бы ни «дематериализовалось» изображение природы. В живописи должна быть плоть, более того — скелет; иначе ей грозит возможность расплыться, исчезнуть в фантастических дымах. К. Петров-Водкин.
Сон. 1910.
К. Петров-Водкин.
Сон. 1910.
Вот почему я не думаю, что живописи суждено развиваться дальше в направлении той «дематериализации», которою вдохновился современный примитивизм. Вернувшись добровольно к элементарности, даже к детскости восприятия, набравшись новых сил в сознательном отказе от определенности, от исчерпывающей полноты изображения, живопись опять будет эволюционировать к вершинам строгого, закономерного искусства. Я смотрю на современный крайний примитивизм как на творческую туманность, бесформенную, трепетно-нежную в своей неясности, — туманность, из которой должны еще родиться крупные, ясные звезды. И рождение их должно быть болезненно, как всякое рождение.
Панно и картины
Прежде всего произойдет дифференциация самих живописных задач. Задачи чисто декоративные, т. е. живописи, не отделимой от архитектурного целого, которое она призвана украсить, отъединятся от задач станковой живописи (peinture do chevalet). Совершенно так, как бывало и прежде в эпохи дифференциации искусства. Декоративность нашего примитивизма, превращение живописи в феерию красочных панно, мерцающих волшебной радугой, — естественная реакция против прежнего бессилия художников в декоративном замысле и технике. Но в этой живописи, столь декоративной по замыслу именно потому, что дифференциация еще не произошла, много элементов, чуждых искусству декоративному, элементов, из которых должна развиться новая станковая живопись. И это вполне понятно. Ведь декоративные цели не могут исчерпать целей живописи. Рядом с тем, что красиво и нужно как украшение, как часть архитектурного единства, есть живопись самодовлеющая, создающая законченную картину, картину, выражающую личность автора свободно, неподражаемо, цельно. К такой живописи невольно тяготеет и современный художник, хотя часто не умеет создать картины. И в этом ему мешают навыки декоратора. Декоративное панно в большинстве случаев нуждается в соседстве других, выигрывает от сравнения. Знакомясь с современными симфонистами цвета, мы учимся любить их в целом ряде холстов, дополняющих друг друга. Мысленно мы представляем себе те светлые залы, которые они могли бы украсить. Поэтому каждый холст в отдельности (как произведение самоцельное) не удовлетворяет, не замыкает нашего любования: мы чувствуем, что в нем — лишь намек, отколовшаяся часть живописного единства. И это, конечно, в наших глазах не недостаток, когда задача художника — декоративная. Наоборот — достоинство. В светлых залах, с любовью украшенных мастером, все должно быть слитно, взаимно согласовано и зависимо; каждая деталь должна быть «частью целого». Но на самом деле часто ли мы можем мерить такой меркой современную живопись? Часто ли наши художники могут быть декораторами в истинном значении слова? Ведь «светлые залы», о которых я говорю, еще не существуют; живописцу приходится работать независимо от архитектора; в большинстве случаев он не в состоянии видеть в своем холсте только панно. И вот невольно, бессознательно он влагает в декоративную живопись элементы, не принадлежащие ей, — поэзию слишком интимного и субъективного созерцания для целей архитектурного украшения. В результате — он полудекоратор-полуинтимист. Другими словами, декоративность перестает быть задачей, а делается приемом, неверным приемом станковой живописи. Н. Сапунов.
Голубые гортензии. 1907.
Н. Сапунов.
Голубые гортензии. 1907.
Отсюда — не только двойственность нашего впечатления; отсюда и несовершенство техники, и «случайности» формы. Я понимаю эти «случайности» в прямой связи с тем, что сейчас сказано. Формы декоративной живописи вырабатываются в зависимости от архитектурного стиля, для которого она создается. Пока этот стиль все еще in statu nāscenti[155], пока архитекторы только нащупывают формы нового зодчества, пока строительство эстетической культуры не приведено к единству, пока художники не знают, для какого здания они трудятся, пока прекрасные дворцы будущего в облаках — декоративная мечта не может найти строгих берегов художественной формы. Работая теоретически, отвлеченно, не сливая творчество с требованиями ремесла, современные художники создают направление ложно-декоративное, от которого рано или поздно придется отказаться. Повторяю: прежде всего неизбежна дифференциация. Тогда определятся формы и декоративной, и станковой живописи. Формы и техника. И тогда живопись не будет в рабстве у технических приемов. Разве искание новой техники во что бы то ни стало (вместо преемственной выработки лучшей техники) не губит картины, — картины как завершенное, вдохновенное целое!
 С. Судейкин.
Карусель. 1910.
С. Судейкин.
Карусель. 1910.
В наши дни живопись все более и более уходит в декоративную эскизность. Материал и способы пользоваться им отвлекают внимание художника от внутренней цельности композиции, из которой рождается новый, одинокий, таинственный мир, называемый — картина. Когда мы любуемся великими произведениями старых мастеров, мы не помним о самом веществе красок, зачарованные тем, что воплощено в этих красках, светах и тенях. У нынешних новаторов, «дематериализующих» природу, краски, наоборот, необыкновенно материальны, иногда они накладываются мазками в палец толщины; холст превращается в палитру…
«Венок»
Единодушные нападки на выставку «Венок», устроенную в прошлом году петербургскими художниками «крайне левого» оттенка, можно было предугадать, конечно, наперед. Большинство петербургских участников «Венка» слишком несозрелые искатели, чтобы вызывать сочувствие даже со стороны «посвященных». Все же именно такая выставка была в высшей степени своевременна. Она познакомила нас с настроениями той «передовой» петербургской молодежи, которая не может слиться ни с одной из существующих выставок. Действительно, дебютанты «Венка» еще очень «зеленая» молодежь, но именно поэтому она заслуживает серьезного критического внимания. Действительно, эта молодежь не желает считаться ни с каким авторитетом и с самонадеянной смелостью берется разрешать сложные живописные задачи, не имея к тому ни достаточной подготовки, ни спасительного чувства меры. На то она и молодежь. Будем справедливы. Никто не дебютирует законченным, определившимся мастером. Будем осторожны, если мы взрослые. Опасное самомнение, недостаток знания и культуры — не всегда доказывают отсутствие таланта. Мне хочется воспользоваться случаем, чтобы сказать несколько слов о художниках «Венка», выступивших впервые на суд публики. Между произведениями М. Шитова было два-три неприятно темных холста, может быть близких и понятных «авторскому сердцу», но мало говорящих посторонним глазам. Зато М. Шитов дал несколько пейзажей, задуманных глубоко, овеянных настоящим чувством, тонко интеллектуальным созерцанием природы. И даже эти темные холсты — если смотреть на них в связи с остальными — были нужны для выражения его совсем своеобразного понимания красок и формы. Н. Наумов выступил очень скромно с шестью небольшими эскизами акварелью и маслом, но сказал красиво и обдуманно то, что хотел. Из таких натур вырабатываются настоящие художники. Об А. Кареве пока трудно сказать что-либо определенное. Он еще весь «в мечтах и замыслах». Выражено им немного и, видимо, наспех. Однако задатки у него несомненные: чувство цвета, интимное, «свое» постижение природы (акварельные этюды). Две работы И. Плеханова обнаруживают незаурядное колористическое дарование. Когда художник приступит к систематической работе, он расскажет нам — я убежден — много красивых сказок. М. Сарьян.
Финиковая пальма. Египет. 1911.
М. Сарьян.
Финиковая пальма. Египет. 1911.
Всех незначительнее были произведения Чернышева, неумело подражающего Б. Анисфельду, и акварели Шаврина, хотя нельзя утверждать, чтобы он кому-нибудь подражал. Кубасов со своими рисунками, подписанными стишками, — простое недоразумение. У М. Яковлева — были удачны цветы, написанные ярко, солнечно, непосредственно. За эти цветы можно было простить ему очень плохую голубую картину, которой место скорее на выставке «Петербургских художников». Впрочем, М. Яковлев не так уж далек от «Петербургских художников», как это кажется. В нем чувствуется, вместе с внешней талантливостью, что-то поверхностное, дешевое: полное отсутствие самокритики и вкуса. М. Яковлев, я боюсь, — не будущий мастер. Вот, кажется, все «новые» петербуржцы — на «Венке». Б. Анисфельд, щеголявший по обыкновению красочными парадоксами, А. Гауш, выставивший превосходные, мастерски написанные пейзажи, А. Явленский, идущий по стопам великого Гогена и Сезанна, и, наконец, москвичи «Голубой розы» — все это художники, достаточно определившиеся, чтобы не выступать более на выставках «зеленой молодежи». Вообще, мне думается, что такие выставки в России больше не нужны — надолго. Благодаря отсутствию у нас культурной общественной критики преждевременное выступление начинающего художника под новым девизом часто окончательно портит его. Отверженный, осмеянный — он чувствует себя непризнанным гением, и тогда действительно начинает писать плохо…
Послесловие
В этих «страницах» критики многое кажется недоговоренным. Составленные из отрывков они носят, конечно, отрывочный характер. Некоторых областей современной русской живописи мне не пришлось коснуться вовсе; часто я ограничивался лишь попутными замечаниями. Три самых крупных в России мастера (за последние десятилетия) — Серов, Врубель, Борисов-Мусатов — случайно не оказались во главе громких и менее громких имен, которым посвящены эти страницы. Хотя, может быть, именно с них следовало начать: Серов — как тончайший реалист нашего времени, Врубель — как родоначальник русской фантастики, Мусатов — как самый глубокий и тихий из ретроспективных поэтов. Сказанное о Репине, Сурикове, В. Васнецове — конечно, лишь малая часть того, что следовало бы о них сказать. Многим даровитым художникам — Якунчиковой, Остроумовой, Гаушу, Н. Милиоти, Крымову, Сапунову, Кардовскому, Анисфельду — уделено только несколько слов. Многие не названы совсем: ни блестящие декораторы — Головин, большой и разносторонний мастер, и Константин Коровин, ни Кустодиев, совершенствующийся последнее время в портретной живописи, ни талантливые пейзажисты «Союза» — Игорь Грабарь, неутомимый искатель технической новизны, Юон, и близкие к новой Академии — Богаевский, Латри, Пурвит, Рылов, — ни «бывшие передвижники» с несомненным проникновением в настроения русской природы В. Жуковский, Петровичев, ни Малявин, упорный и яркий талант, к сожалению, загипнотизованный алостью кумача, ни вдумчивые художники interieur’ов — Средин, Н. Ф. Петров, Пастернак. Этот список необходимо еще дополнить именами Яремича, Шервашидзе, Зедделера, Чемберса, Шемякина, известных по выставкам «Союза» и «Нового общества», Калмакова, Сабашниковой, и молодых интересных москвичей — Якулова, В. Милиоти, Ларионова, В. Кузнецова, Егорова, Дурнова, Нивинского. Не следует также забывать многообещающих художников, создавших себе имя за границей, Тархова, Лукш-Маковскую, Евсеева, Кандинского, Веревкину, Петрова-Водкина, Кончаловского… Но это — материал для новой книги, для следующих «Страниц художественной критики».ПОСЛЕДНИЕ ИТОГИ ЖИВОПИСИ[156]

Введение
Что делается в наши дни с живописью, с новой живописью? Куда завели живопись художники так называемых «левых течений», глашатаи кубизма, футуризма, экспрессионизма и прочих современнейших «крайностей»? Как отнестись нам (не крайним, не экстремистам по исповеданию, хотя отнюдь не староверам) к этому искусству suî generis[157], пустившему корни за последние лет пятнадцать почти везде на белом свете? Уверенно ли враждебно, как к опасной болезни века? Или, напротив, выжидательно, с сознанием смиренным своей отсталости? Не приоткрывает ли в самом деле непонятная для «толпы», пресловутая «левая» живопись некую правду будущего? Ведь искусство не только смотрит назад. Искусство предвидит и предсказывает. Художник познает красоту, до которой непосвященному долгий путь. Что, если и непонятность современного экстремизма — от близорукости непосвященных? Экстремисты, разумеется, это и доказывают. Широковещательные манифесты их полны ссылок на исторические аналогии: разве история живописи не изобилует примерами того, как творческое новшество, дружно отвергнутое вчера, становится общепризнанным завтра? Времена меняются, но борьба с рутиной все та же в веках. Над Аполлодором Афинским — за то, что он, по словам Плиния[158], «смешивая краски, передавал светотенью трехмерность», — глумилась афинская улица, приученная к бестенным фрескам Полигнота. Теперь забыт великий переворот, совершенный этим первым скиаграфом (тенеписцем), «привратником, что отомкнул двери живописи», но тени его, сообщившие плоским силуэтам телесную глубину, представлялись когда-то не меньшим парадоксом, вероятно, чем на сегодняшних выставках «кубы» и «цилиндры» Пикассо или Метценже… И дальше на протяжении христианских столетий в борьбе обретала живопись свое право. Каждый решительный ее успех получал признание лишь после тяжбы с традиционным вкусом и безвкусием. Как джоттистам, современникам Данте, нелегко дались лавры победителей (над иератизмом Византии), так и никому из последующих новаторов: ни гениальному реалисту кватроченто Мазаччио, ни столь же гениальному Андреа-дель-Кастаньо — в XVI веке, ни самому Рембрандту — в XVII, ни позже, вплоть до нашей эпохи, всем открывателям неторных путей, защитникам свободы и правды искусства против школьной косности, будь то ложноклассицизм или ложнореализм: и романтикам, и Курбе, и первым возвестителям plein air’а, и постимпрессионистам Понт-Авенской школы. Все это правда… Но можно ли заключить по аналогии, что нынешний экстремизм — такой же этап живописи на пути ее завоеваний? Такой же, каким был, например, импрессионизм еще позавчера, когда Салоны отмахивались от Мане и Ренуара, а Рескин, апостол красоты Джон Рескин, публично издевался над Уистлером? И да, и нет. Перед нами случай особого порядка. Не столько очередное завоевание, сколько катастрофа. Этап, но со знаком минус. В рождении нового — вырождение. Скачок в будущее, похожий на стремительный упадок. Краткому обоснованию этого вывода, мало утешительного — что и говорить! — для всей современности, и посвящены нижеследующие строки.I Живопись с точки зрения живописной формы
Живопись, как всякое явление культуры, можно рассматривать с самых разных точек зрения. Скажем — и с литературной, и с художественно-бытовой, и с социальной, и с экономической (как советует модный нынче эс-де-материализм), и т. д. Все они законны, и не следует, вероятно, пренебрегать для уяснения судеб живописи даже отдаленнейшими от нее «точками». Но в данном случае пригоднее всех ближайшая: точка зрения живописной формы. Для нашей темы — чем ближе, тем виднее… Лишь поняв отчетливо, какое значение приобрели с некоторых пор в искусстве исключительно формальные достижения; лишь проделав мысленно путь художников от Давида до Пикассо в поисках наибольшей выразительности; лишь подойдя вплотную к превращениям за последние десятилетия живописной формы и к вопросам самого ремесла живописи: техники, материала, фактуры; лишь вложив персты в раны этой, покорной всем хирургическим опытам, прививкам и вивисекциям, живописной плоти, что терзали и терзают на холстах своих живописцы-экспериментаторы безжалостного века сего, можно понять смысл и причины произошедшей эволюции. Живопись была некогда служанкой церкви. Красоту византийских икон — да и не всего ли раннесредневекового художества? — нельзя постичь, не углубясь в христианскую символику… Потом живопись поклонялась «прекрасному человеку» и воскресшим богам эллинов: пока эллинские боги не обратились в «их христианнейшие величества» пышных королей и королев XVII и XVIII веков… Но еще до великой революции «аристократическое» содержание, божеское и человеческое, стало испаряться из живописи. И красота святости, и святость красоты. Мир омещанился. Идеальное сделалось лишним… После первой империи живописью постепенно овладел куда более демократичный сюжет; романтический рассказ, историческая и литературная иллюстрация (дантовские и шекспировские картины Делакруа!). Однако и сюжетность вскоре оказалась в стороне от главного направления XIX века. Главное направление определенно наметил тот французский пейзаж, вдохновленный Констэблем и Боннингтоном, который прославил вторую империю: от человека к природе, от сюжета к «натуре». Недаром сам отец академизма Давид советовал ученикам: «Забудьте все, что вы знаете, и подходите к натуре, как ребенок, который ничего не знает»{4}. Г. Курбе.
Здравствуйте, господин Курбе! 1854.
Г. Курбе.
Здравствуйте, господин Курбе! 1854.
С тех пор в европейской живописи все заметнее преобладает форма (я имею в виду прежде всего французов, ибо они творили, остальные за редкими исключениями только по-своему повторяли). Лиризм барбизонцев, мечтательные arrangements Диаза, Руссо, Дюпре, Добиньи, Шантрейля и, конечно, великого Коро — как бы последняя дань «молодой» Франции очеловечению природы, духовности… Но вот — Курбе. Новоявленный натурализм становится убежденнейшим союзником «бессодержательности». Единственной целью живописи провозглашена правда, la vérité vraie, le vrai absolu[159]. Проблемы формы приобретают поглощающее значение: не что, а как. Если колористский реализм Делакруа наперекор поэту классических линий, «Рафаэлю XIX века» Энгру (которого тем не менее называли и «l’amant dr la nature»[160]) победил европейскую живопись между 30–50-ми годами, то в 60–70-е годы созидается новое искусство, уже вполне эмпирическое, целиком захваченное задачами мастерства с натуры. В наши дни никого более не коробит «реализм» Курбе, хотя современникам живопись автора «Похорон в Орнане» казалась непростительно грубой{5}. Эта грубость, однако, была не чем иным, как натуралистским art pure[161]. На французской выставке 1912 года в Петербурге была картина Курбе «Женщина со свиньями». Серое небо. Копна соломы. Крестьянка, держащая огромными руками лохань с кормом. В правом углу несколько поросят, уткнувшихся рылами в землю. Все это изображено без мысли «рассказать» что-нибудь (как рассказал бы любой жанрист, бытописатель), без особого интереса именно к этой крестьянке, к этим, поросятам. Они только повод, случайный «мотив». Повод выразить размашистыми мазками и глубокими, отливающими теплой чернью красками натуру, просто, непосредственно (удалив ненужные для художественного обобщения подробности): вот эти серые складки фартука на женщине, ее огромные руки, выгнутые спины животных, клочки соломы. Можно сказать наверное, что ни один старый мастер не отнесся бы к теме так формально. Ни величайший из реалистов, Рембрандт, ни другой великий учитель современности, Веласкес (на копиях с Веласкеса воспитались и Курбе, и Мане, и Ренуар), да и никто другой. Почему? Не потому ли, что прежде, сколько бы ни увлекался художник зримой вещественностью, он не был способен по нравственно-религиозному своему воспитанию на чисто эстетское мироощущение? Этому научил современный эмпиризм. Впрочем, сам Курбе положил лишь начало художественному эмпиризму Третьей республики. Как новатор, он остановился на полпути, не преодолев воспоминаний Лувра. Только со следующим поколением природо- и правдолюбцев, с пришествием импрессионистов завершилось натуралистское «освобождение» живописи. Освобождение от остатков традиционной условности: от коричневатого, галерейного тона, от картинности в картине, от «оживления» пейзажа «настроениями человеческой души», от композиционного ритма и стиля… Природа, «как она есть», без прикрас вымысла, и человек на фоне ее, как пейзажная частность; природа, воспринятая глазом, только глазом, возможно, непосредственнее, свежее; природа — впечатление красочного трепета, воздушных емкостей и солнечных рефлексов; природа без тайн и признаний; природа и ничего больше — вот клич Батиньольской школы. Он был услышан везде, хотя и не сразу. Он ответил как нельзя лучше чаяниям современности. Правда, параллельно то здесь, то там возникали и другие течения: прочь от живописного эмпиризма и анализа к декоративному синтезу и к символике. Не надо забывать ни великого ученика Кутюра Пюви де Шаванна, доказавшего, что монументальные видения могут сниться и в наш безархитектурный век, ни воспетого Гюисмансом Моро, ни символических мечтаний Сегантини, ни внушительных символов Ходлера, ни неоидеалистских сказок Фердинанда Кнопфа, ни неоромантических росписей Мориса Дени в часовнях Ле Визене, ни многого другого, созданного художниками в декадентствующий fin de siècle[162], падкий на заимствования у мертвых времен, щедрый на контрасты, на выдумки и утонченности в разных вкусах. И все-таки возобладавшим, победоносным началом осталось то, что еще в годах предрек Лавирон: L’art actuel, l’art de l’avenir, c’est le naturalisme[163]. Несомненно так. Последовательно, поколение за поколением всюду в Европе новаторы, борясь с посредственностью… не на жизнь, а на смерть — за право выражать себя, быть собою, любить и ненавидеть своим сердцем, своим горячим чувством{6}, утверждали живопись как искусство видимого, как искусство обособленно-зрительных восприятий, которое лишь по недоразумению засаривалось в предыдущие эпохи религиозной мыслью. Красотой (с большой буквы), повествованием, историческим и психологическим пафосом и прочей «литературой», как презрительно называют нынче все, подлежащее изгнанию из живописи. Батиньольская школа завершила это «очищение» искусства. От духовного человека и его замкнутого мира, сквозь который смотрели прежние художники на природу, импрессионисты окончательно увели живопись к природе объективной: этой природой, внешней, физической полуреальностью-полупризраком, поглотился и весь человек, такой же вещественный феномен, как проходящее облако, придорожный камень или дерево. Естественно,что на первое место выступили задачи света, цвета и манеры. Все свелось к «кускам природы» и к «кускам живописи», morceaux de peinture[164]. Иначе говоря — к живописной форме. Форма утратила значение средства. Форма стала самоцелью. Весь смысл изображения ушел в форму. Там, где прежде художники чуяли всю природу, импрессионисты увидели физическое впечатление от нее, очарование «полного воздуха», окрашенного света и пронизанных светом красок, влюбились в солнечную поверхность вещей, трепетную, зыбкую, изменчиво-обольщающую оболочку природы, причем «„осталась в пренебрежении“, — как замечает К. Верман, — глубина того душевного переживания, что следует за восприятием глаза»{7}. В импрессионизме нет созерцания природы, непостижной, говорящей, глубокой, таинственно напоенной Божеством природы. Истинные выученики XIX века, демократичного, рассудочного, экспериментального, провозгласившего догму неограниченного индивидуализма, — импрессионисты сосредоточились всецело на радужно-светной поверхности видимого, на прекрасных мимолетностях земли, стараясь об одном — о разнообразии и утончении способов их передачи. Они изощрялись, изобретали теорию за теорией в оправдание той или другой живописной формы. И случилось то, что должно было случиться: задачи собственно изображения отошли на второй план, форма оттеснила их, поглотила и приобрела как бы самостоятельное от изображения бытие. Вопросы красочной гаммы, вибрации и разложения тонов («дивизионизм»[165]), вопросы перевода на язык быстрой линии и пятна — движений, ракурсов, схваченных на лету силуэтов и характерных подробностей (импрессионистская динамика), подменили собой все остальное. Отныне искание формы становится лихорадочным — формы, по-истине «свободной», самодовлеющей и дерзкой, как никогда раньше. Искусство обращается в формотворчество. Этот-то живописный пуризм[166] и достиг высшей точки в том, что мы назвали крайностями новой живописи, выродясь в своеобразный фетишизм чистой формы. Презрение к повествовательному содержанию перешло в отрицание самого изображения, как такового (ведь изображение — тоже рассказ о природе). Отсюда один шаг до «беспредметной» живописи, до ничем не прикрытой наготы формы-объема, формы-ритма и формы-схемы пространственных отношений… Конечно, l’école des Batignolles[167], сама по себе, неповинна в последующих уклонах живописного формотворчества. Я полагаю, что Мане не одобрил бы Пикассо-кубиста, как не одобрял его на старости лет Огюст Ренуар. Надо было преодолеть импрессионизм для того, чтобы разорвать связь живописной формы с природой. Чтобы окончательно очистить форму, т. е. совершенно отвлечь от природы, нужна была реакция против живописи «впечатлений», возврат к статике, понятой сугубо формально. Нужен был так называемый кубизм. Реакция наступила с Сезанном. Начав правоверным импрессионистом. Сезанн увлекся затем разработкой статической формы. Он пренебрегает динамикой цветного пятна, скользящей линии и тающего объема. В зрительном объекте его занимает масса, плотность, вещественный монолит. От некоторых поздних работ Сезанна прямой путь к стереометрической сверхприроде кубистов, к «откровениям» отвлеченной (лишь отдаленно напоминающей природу или не напоминающей вовсе) абсолютной живописной формы. Но, может быть, все-таки неясно, что я называю живописной формой? Представьте, что перед вами две natures mortes: блюдо с фруктами старого голландского мастера и фрукты, написанные современным «пуристом». Скажем, Виллем Кальф и тот же Поль Сезанн. Картина голландца, чем дольше смотреть на нее, тем больше навеет воспоминаний и ассоциаций. Невольно вы почувствуете эти плоды как пережитую когда-то действительность, невольно замечтаетесь о садах, где они созрели, о солнце, что напоило их нежными соками и ароматами, о птицах, что клевали их в жаркие осенние дни, о хозяйке, которая сорвала их, чтобы подать на майоликовом блюде какому-нибудь амстердамскому или гаарлемскому гражданину в черном камзоле и белых накрахмаленных брыжах. И если вы любите фрукты, вам захочется повесить картину Кальфа в столовой… Но вот плоды Сезанна. Вы не чувствуете ни их запаха, ни вкуса, ни секунды не кажется вам, что они для вас сорваны. Не отразились в них ни быт, ни природа, ничего из жизни, окружавшей их раньше, чем стали они «мертвой натурой». Художник не захотел. Он сосредоточился на другом. Для него эти плоды — не плоды, а исключительно цветные контрасты и окрашенные объемы, трехмерный материал для заполнения холста, повод для разрешения красочно-композиционной задачи, modus[168] изобразительного мастерства, словом — живописная форма… В понятии «живописная форма», следовательно, соприкасаются субъективное и объективное начала живописи. Это то, как видит художник. Вернее — как умеет и как хочет видеть. Живописная форма в картине голландца, несмотря на свои совершенства, не исчерпывает ее смысла. За формой, за индивидуально выраженным зрительным восприятием, неотделимое от формы, ощущается нечто более важное: духовная родина мастера и одухотворенность самой природы, им возлюбленной, разгаданной им, преображенной им.
 Э. Дега.
Репетиция. 1873–1874.
Э. Дега.
Репетиция. 1873–1874.
Не иллюзия, не «обман глаз», а именно одухотворенность природы, трепет чувственных ее соблазнов и непостижимое родство с человеком. Этот сложный образ красоты, в котором слияны все элементы созерцания, не отвлеченная эстетика, а невольная исповедь художника перед лицом Творения. Всего художника, всего человека с его нравственным миром и страстями ума, с его отечеством, с его любовью и грезами. Этический момент здесь неотторжим от эстетического. В полноте изображения — полнота красоты. Но именно всего-то человека, вольного и невольного обнаружения целостной личности, не нужно новой живописи! Нужна ей живописная форма, отцеженная, так сказать, от «посторонних примесей». Отсюда специфическое понятие станковой чистой живописи, получившее огромное значение в наши дни. Чистая живопись на современном языке значит живопись, не только свободная от прикладных целей, все равно, декоративных или идеологических, но и от всякой выразительности, не являющейся выразительностью живописной формы{8}. Борцы за передовое искусство пришли исподволь к этому эстетскому credo и обратили его в чудовищное недоразумение. Именно здесь надо искать разгадки новейшим художественным «измам», ошеломляющим подчас самых искренних любителей новизны. Культ станковой чистой живописи — основа, на которой расцвели махровые теории сегодняшнего ультрановаторства. Известно, что принцип, доведенный до «крайних» выводов, обращается против себя. И вот, так же как первоначальный натурализм Курбе, «очистившись» в горниле импрессионизма, привел к реализму «развеществленного» видения природы и к красочным абстракциям пуантилистов[169], а затем к объемным абстракциям кубизма и к «четвертому измерению» футуризма, так и «чистая живопись» обернулась в творчестве кубофутуристов против себя: против живописи, ибо художники, выйдя из плоскости холста, стали заменять краски «различными материалами» (вплоть до кусков мочалы и проволоки), и против «чистоты», в конце концов, потому что и беспредметный и предметный экспрессионизм представляют зрителю весьма широкий простор для ассоциативной игры фантазии и даже для «метафизики». Внутренними противоречиями объясняется все меньшая понятность прозелитов «левой» живописи. Они так запутались в собственных дерзаниях, что судить о них поистине труд неблагодарный. Необходимо долгое упражнение не столько глаза, сколько воображения, чтобы если не ощутить, то хоть представить себе эстетические эмоции, которых добиваются авторы, преподнося нам как последнее слово искусства этот выродившийся, отвлеченный сверхнатурализм — самое безысходно рационалистическое из созданий европейства, прямое следствие бездуховного и бесплодного культа чистой формы.
II Превращение формы в XIX веке: от классики к экспрессионизму
Говоря о возобладании в новой живописи формы, я указал несколько вех, намечающих путь ее превращений в XIX столетии. Остается рассмотреть самый процесс этих превращений. В начале века искусство было сковано так называемой ложноклассикой. Античные воспоминания, разогретые пафосом якобинцев, подражавших доблести римлян, пресекли традицию живописи dix huitième и стали надолго вдохновителями академий в Европе. Но параллельно, мало заметное сперва, созрело другое, враждебное академизму искусство, ярко преобразовательное по духу. Протест против официального лжеидеала, вскоре окончательно выродившегося в эпигонство дурного вкуса, — преемственный клич всех последовательно возникавших школ этого передового реалистического искусства, которому, кстати сказать, не были чужды и главные виновники антикопоклонства во Франции{9}. Красною нитью проходит через историю послереволюционной живописи борьба: за освобождение от школьных шаблонов, от подражания гипсам, от красивых пошлостей и пошлых красивостей, от холодного, немощного, подрумяненного, из вторых рук заимствованного, не освещенного внутренним пламенем псевдоискусства, которым ежегодно наполнялись столичные выставки-базары. Прежде всего — борьба с принципом ложноклассической формы. Следуя этому принципу, высокохудожественная форма — результат не непосредственного наблюдения природы, а наблюдения, видоизмененного по античному образцу: это называлось благородством. Хотя ложноклассики не учили писать «из головы», по одним музейным воспоминаниям, хотя они умели пользоваться натурой, но во всех ответственных случаях новое вино вливалось ими в старые мехи. Гипсовый слепок, статуя или рисунок с антика полагали вперед идеальные границы изображению. Строение головы, торса, рук и ног, пропорции тела и ракурсы движений — все было подчинено «золотой мере», выработанной с лишком два тысячелетия назад под солнцем Эллады. Владеть формой означало уметь нарисовать человека в любом положении так, чтобы каждое из них отвечало прославленному образцу древности (или, по крайней мере, чтобы отдельные части изображения напоминали о славных образцах: голова — Аполлона Бельведерского, рука — Дискобола и т. д.). Так учили Винкельман, Кайлюс и Катрмер-де-Кэнси. Они говорили: «природа, исправленная по классическому оригиналу». И хотя Мерсье, современник Давида, еще в конце XVIII века писал, что «в искусстве надо жить среди своих ближних, а не прогуливаться в Спарте, в Риме или Афинах»{10}, греческая скульптура (за недостатком античной живописи, от которой, к сожалению, остались одни легенды) сделалась надолго нормой, пластическим каноном для живописи. «Робеспьер в живописи» Давид советовал смиренно учиться у природы, но — для того чтобы лучше преодолевать ее несовершенства. Формула его гласила: «Будьте сначала правдивы, благородны после», а тайну благородства хранили древние мраморы. Неудивительно, что чисто живописная, красочная сторона формы у ложноклассиков на второй очереди; на первой — контур и светотень. Картины Давида, Жерара, Жироде (или еще Герена!) более нарисованы, чем написаны. Тут краски как бы вспомогательный элемент. В давидовской «Клятве Горациев» или в «Короновании Наполеона» фигуры застыли, как окрашенный горельеф. Они задуманы скульптурно. Их живописная форма — производное от античного ваяния и колористических образцов Высокого Возрождения. Нет сомнения, что Ренессанс вообще властно повлиял на эту героически настроенную живопись, но опять же — как гениальное истолкование антиков, как школа эллиноведения — непосредственная, независимая гениальность Возрождения долго оставалась скрытой. Холодно-рассудочно воспринимались и Рафаэль, и Винчи, и Буанарот. Именование ложного пристало в особенности классицизму этой эпохи, если сравнить ее с предшествующими эпохами{11}, именно вследствие холодной надуманности, какую приобрела живописная форма у художников «школы Давида» и их преемников, учеников барона Гро: Делароша, Флери, Кутюра и поздних эпигонов академизма: Бугро, Кабанеля, Бодри и других, им же имя легион не в одной Франции. В 1824 году Констебль имел основание сказать про французов: «Они столько же знают о природе, сколько извозчичьи лошади о пастбищах… Всегда музеи и никогда живой мир!» Но он был прав не совсем. «Живым миром» были бесспорно уже в то время и монмартрские «Мельницы» Мишеля, который выставлялся в Салонах с 1791 по 1814 год, и давидовская «Г-жа Серизье» (Лувр), и нежная ласка светотени на холстах Прудона, и малоизвестные до сих пор, удивительные по чувству правды пейзажи безвременно умершего Жерико, не говоря уж о его гениальной «Scène de nau frage»[170], изумившей художественный Париж в 1819 году, т. е. тогда, когда друг Констебля, двадцатилетний Делакруа, только готовился к своей «Резне в Хиосе» (1824). Как бы то ни было, страстной попыткой «расковать» живопись от обуявшего ее холода, освободить из тисков винкельмановщины были романтизм и великий глашатай его Делакруа. За время учении в мастерской Герена он запасся на всю жизнь вдохновенной ненавистью к теориям учителя, и в непрерывной дуэли с наследником Давида, Энгром, которого не мог и не хотел понять, он проявил художнический темперамент, обжегший своим пламенем живопись остального века. Жерико и Делакруа «повернули» форму к красноречию красок, к вольному, передающему трепет цвета мазку, к рисунку, независимому от «подражания греческим произведениям» (Винкельман), к природе стихийной, горячей, к Востоку ослепительному, к человеку бурных чувств и взлетов. Годы жизней Энгра и Делакруа почти совпадают. Душеприказчик Давида на десять лет старше, но он на четыре года пережил своего соперника. Тем не менее Энгр принадлежит целиком к прошлому, а Делакруа — к будущему. Один — великолепный мастер линии, другой — ясновидящий краски. «La ligne — c’est le dessin, c’est tout»[171], — говорил Энгр и краску называл «agrément négligeable»[172]. Но в искусстве XIX века победу одержала краска. Делакруа возвеличил краску. В книжке, уже называвшейся мною, кн. Шервашидзе очень верно определяет: «Все дальнейшие усилия в сторону живописную, техническую, были им предугаданы и указаны». Он первый убрал с палитры черные и тяжелые краски и взял самые яркие, которых боялась «школа»: гарансовый лак, изумрудную зелень, кобальт, кадмиум и желтый цинк. Он указал способ давать впечатление общего и светового тона, прибегая к мелким мазкам дополнительных красок, способ, впоследствии принятый Сёра и пуантилистами. Констебль дал ему эту мысль. Так называемые ориенталисты, художники Востока, его ярких и знойных красочных гамм, Деоденк между прочим, тоже идут от Делакруа… Давид и его школа считали искусство, во всей чистоте сердца, средством поднять моральный уровень современников; поэтому они пренебрегли стороной живописной, как мешающей выражению чистой идеи: они думали, что игра и блеск красок дадут слишком много материального фикциям, существующим на их холстах только для того, чтобы вызывать восхищение нашей души, но не глаза. Делакруа также думал, что нужно трогать душу и ум; но трогать душу и ум он хотел именно избытком материи. От натиска Делакруа живописная форма растрепалась. Недаром про него сказал Ван Гог, что он «писал, как лев, терзающий свою добычу». Рисунок у него не только не классический, исправленный по антику, но вольности и небрежности рисунка, на которые никто не дерзнул бы прежде, приобрели с ним право гражданства. Лихорадочная кисть покончила с засилием скульптуры. Красоту по канонам Фидия и Праксителя вытеснила красота мощных контрастов, движений и огненного колорита. Великие исторические воспоминания, великие чувства и мысли, выраженные великими произведениями литературы, затмили полуаллегорические сюжеты из древней истории. Любопытно, что в начале XX века опять возгорелся спор между поборниками Делакруа и Энгра. Любопытно в особенности, что антиимпрессионистская реакция, ведущая начало от Сезанна, доказывает родство свое именно с Энгром. В этом есть доля правды, конечно, несмотря на явность формальной противоположности между классикой и кубофутуризмом… Статическая завершенность Энгра, далекость ложноклассической формы от непосредственно воспринятой природы — ближе, чем Делакруа, послесезанновской статике и новейшему «отрицанию природы». Теперь пошли только гораздо дальше в «отрицании». Ложноклассики исправляли натуру по требованию «благородства», но хотели «сначала» правдивой ее передачи. Экспрессионисты готовы вовсе обходиться без природы, довольствуясь отвлеченными пространственными построениями. И в некоторых случаях о них можно тоже сказать, что «они пренебрегают стороной живописной, как мешающей выражению чистой идеи…». Идеи беспредметной формы. От романтизма больше всего выиграл пейзаж. Впервые после ста лет (если не считать полубезвестных попыток упомянутого Мишеля, Брюанде, Бидо) пренебрежения им чистым пейзажем, вольной природой лесов и лугов художники взглянули опять на мир Божий глазами старых голландцев, влюбленно-созерцательно и по-деревенски просто. До этого все то же «благородство» требовало, чтобы в ландшафте были непременно пуссеновские руины и купающиеся нимфы. Школа Fontainebleau[173] — реализм, романтически углубленный, тронутый задумчивостью сердца. Сорокалетний Коро, под влиянием мастеров из Барбизона, обрел эту новую свободу и новый поэтический акцент в изображении пейзажа. После уроков сугубо академического Карюэля д’Алиньи он многое понял уже во время первой поездки по Италии. Потом прозрел: природа перестала ему казаться сопровождением человеческих фигур из истории или мифологии. Пейзаж сам по себе преобразился в «полный организм». Arsène Alexandre[174], у которого и заимствую это выражение, в статье «От Давида до Сезанна» кончает так: «Композиция, мало-помалу меняя предмет свой и даже имя, хотя и сохраняя внутренние начала, сделалась синтетической… Природа у Коро стала выражением человеческой мысли, мысли художника; поэтической, чуткой, полной волнения и грезы». Недаром существует легенда, будто Коро видел сначала свои пейзажи во сне.Почти одновременно с Коро целая семья одаренных художников воспользовалась уроками Констебля и Делакруа, чтобы вновь «открыть» природу, и это открытие знаменует едва ли не высшую точку в живописи XIX столетия. Пейзажи барбизонцев увлекают какой-то трогающей ясностью и полнотой чувства, вдохновенным молчанием созерцающего перед ликом Божьей красоты. Оставаясь неприкрашенными видами родной природы, они вместе с тем полны признания и мечты. Они человечны, они религиозны в тончайшем смысле этих понятий… Странное значение определенной эпохи, определенных лет! Все наиболее выдающиеся деятели этого кружка-школы родились и умерли приблизительно в те же годы, вместе, как колосья одной жатвы: Теодор Руссо родился в 1812 году, Жюль Дюпре — в 1812-м, Милле и Шантрейль — в 1814-м, Диаз — в 1809-м, Труайон — в 1810-м, Добиньи — в 1817 году. И все, кроме Дюпре, пережившего остальных на десять лет, ушли из жизни между 1865–1878 годами. О живописной форме восхитительных мастеров Барбизона можно сказать: в ней примирились le Beau и le Vrai, между которыми от «дней Давидовых» длилась распря. Только «правдивой» ее не назовешь никак, — независимо даже от налета музейных воспоминаний о Рейсдале и Гоббеме и в красках и в манере письма, но чуть-чуть стилизованная «красота» формы так срослась с «правдой» наблюдения и переживания, что эта живопись никогда не кажется условной, надуманной. Образы этих уголков природы, отвечающих человеку его же думами о вечности, убедительны, как музыка Шумана (жившего в то же время): и великолепно-пластичные дубы Руссо на фоне утренних зорь, красиво выдержанных в тоне, и закатные сумерки жестковатого Дюпре, и золотым светом насыщенная колоритность Нарциса Диаза, и простодушный сельский идиллизм Добиньи и мимолетности Шантрейля. Барбизонцы начали современный пейзаж. Больше того: современная живопись им, главным образом, обязана своей «пейзажностью», тем направлением, которое я определил вначале: от сюжета к натуре. С антропоцентризмом идеалистского искусства было покончено. Естественно-исторический взгляд на землю и ее обитателей коснулся живописи. Под его влиянием живопись «объективировалась», и в прощальном сиянии романтики красочный «избыток материи» Делакруа переродился в художественный материализм. Вот почему, одновременно со школой Fontainebleau, рядом, в Париже, разгорался новый lūx ex tenebris[175], новое утверждалось природолюбие: Курбе. Он родился и умер приблизительно в те же щедрые годы (1819–1877), но как далека была его «абсолютная правда» от Барбизона! Курбе не поэт. Этим все сказано. Его вера — вещество, вещественность. И хотя он сам сказал о себе: «Моя мысль не преследует праздной цели искусства для искусства», и еще: «Не дерево, не лицо, не изображенное действие меня трогают, а человек, которого я нахожу в создании его, могучая личность, которая сумела создать, наравне с Божьим миром, свой собственный мир», — в действительности его интересовали именно дерево, лицо, зрительный объект, подлиннейшая плоть, но не дух человеческий, преображающий и преображенный. Если есть смысл в формуле: «искусство для искусства», то именно тот, который характеризует отношение к живописи, принятое Курбе и его многочисленными последователями. Барбизонцы дали чистый пейзаж, — до них он был только аккомпанементом человеку, — и вместе с тем «очеловечили» природу. Курбе дал человека в природе как часть пейзажа, «опейзажил» человека. Правда барбизонцев пронизана мечтою. Мечта Курбе заключалась в том, чтобы служить одной правде. И если частенько он мечты не достигал, отдавая невольную дань музейным реминисценциям, то не его вина… Живописная форма, завещанная Курбе натуралистам Третьей республики, вскоре подверглась действию нового фактора, все еще, как мне кажется, недостаточно оцененного: фотографии. Ни малейшему сомнению не подлежит, что этот мир — таким, каким он запечатлевается на фотографическом снимке, не был известен, пока не было фотографии. Человеческий глаз иначе видит природу, чем объектив. Но процесс зрения — физический акт лишь отчасти, и в значительной мере — акт психический, т. е. зависимый от приспособления глазного восприятия к нашему представлению о природе. Мы видим ее в соответствии с тем, как представляем себе. Удивляться ли тому, что представление, внушенное фотографией, изменило до известной степени в наших глазах природу? На живописи это отразилось почти с первых дней появления дагерреотипов. Влияние на живопись механической «правды» воспроизведения действительности было огромное — и прямое, и косвенное. Косвенным влиянием я называю конкуренцию, которую явила фотография натуралистской форме: художников перестала соблазнять мелочливая точность изображения после того, как это оказалось во власти объектива (по этой причине фотография сыграла роль и в указанной выше победе краски над рисунком — влияние «обратного действия»). Еще значительнее было прямое влияние.
 В. Ван Гог.
Подсолнухи. 1888.
В. Ван Гог.
Подсолнухи. 1888.
Изменение живописной формы благодаря фотографии — характернейшее событие новой эпохи. Меняется изображение перспективы, художники бессознательно (а то и вполне сознательно!) подражают фотографической перспективе: угол образованный линиями схода, гораздо тупее в фотографии Меняется рисунок движений: фотография, особенно моментальная, улавливает движения, которых глаз не видит. Меняется композиция: фотография закрепляет «естественную случайность» компановки, до которой не додуматься самому художнику. Меняется все отношение живописца к натуре. Он учится воспринимать ее объективно, «как объектив», учится любить ее мгновения, пойманные глазом, без вмешательства чувства и мысли. Я уже сказал: живопись объективируется, видение живописца приближается к моментальному снимку… Не в этом ли, кстати сказать, различие между старыми и новыми реалистами? В старину самое реальное изображение оставалось образом, возникшим из глубины творческого духа. Нынче даже нереально задуманные образы кажутся снятыми с натуры… Не знаю, может быть, я преувеличиваю, но мне представляется, что изобретение Дагерра и Ниепса сорвало какой-то покров тайны с природы, отлучило ее от человека: то, чего теперь приходится добиваться, сознательно деформируя и стилизуя натуру во избежание фотографичности, прежде достигалось во сто крат полнее смиренным желанием передать одну правду. Фотографический натурализм второй половины прошлого века — факт слишком общеизвестный, чтобы на нем настаивать. Менее выяснено влияние фотографии на импрессионистов, пришедших вслед за Курбе и барбизонцами. Отрицать это влияние нельзя, но уравновесилось оно другим, не менее властным влиянием противоположного характера: японской цветной гравюрой. Японская ксилография, с которой прежде не были знакомы в Европе, открыла европейцам гениально-самобытную «манеру видеть»: бесхитростно-реально и как фантастично-одухотворенно! Утонченный реализм японцев, прозрачная легкость японской формы поразили в самое сердце французский натурализм. Особенно же — японские краски. Рядом с радужно-нежной японской imagerie[176] вся живопись старого континента казалась черной и тяжелой. Желтокожие художники знали секреты изображения, о которых не догадывалось белое человечество. В живописи они соединяли точность естествоиспытательства с изысканнейшим эстетизмом. При рожденные экспериментаторы, они подходили вплотную к природе, не допуская между нею и искусством никаких «средостений» априорности, но соблюдали при этом ревниво свой национально-стилистический пошиб. По внушению Хокусая и Хирошиге в середине 70-х годов воздух и солнце вольными потоками влились в европейскую живопись. Честь этого «открытия» принадлежит Писсарро и Клоду Моне, познакомившимся с «японцами» в 1870 году, путешествуя по Голландии. При импрессионистах форма расплылась в горячей краске, растаяла в воздушном трепете, распылилась на солнце. Мане, который тоже начал, по завету Курбе, со штудирования старых испанцев и венецианцев, в первых своих нашумевших картинах еще далек от «японизации», но сразу — какая разница с Курбе! Разрыхляется линия, нежнеет гамма, обволакивается дымкой светотень. Подлинным импрессионистом, как известно, Мане сделался лишь пятью годами позже «Олимпии» (1870), когда при участии Моне и Писсарро нашел plein air в саду своего приятеля де Ниттиса. С этого времени солнце овладевает живописью. Все устремляется к одной цели: к правде света… Краски должны сиять и, сияя, дополнять друг друга. Переходы из цвета в цвет музыка природы. Краской поглощается контур. Рисовать солнечной краской вот завет! Начинается философия живописного пятна. Кисть только намечает очертания предметов. Лепка мазком, то густым, плотным, то растертым, лишь задевающим поверхность холста, выдвигает и удаляет планы (правда воздушной перспективы), гасит и воспламеняет пятна, по степени напряжения колорита и освещения. Все преобразилось. Не только красочная гамма, но и качество цвета и способ накладывания красок на холст. Импрессионисты начали, вслед за Мане, писать чистыми несмешанными красками, подражая солнцу, окрашивающему предметы лучами спектра. Сложные комбинации мелких мазков, красных, синих, желтых и т. д. заменили прежнюю лепку масляным тоном, смешанным на палитре. Первые шаги по пути этого «дивизионизма», находящего подтверждение в научной оптике, были сделаны уже Делакруа. «Неистовый Орланд колорита» нащупывал также и правду дополнительных тонов, т. е. — пáрного цветового согласия: один цвет как бы вызывает другой, дополняющий его. Но понадобилось четверть века, чтобы дать этим открытиям исчерпывающее применение. Красочный аналитизм и динамизм, присущие потенциально живописи Делакруа, были только отчасти осознаны им самим. Прямых преемников у него не было. Вряд ли знали сначала и «батиньольцы», чьим заветам они следуют. К тому же исходили они в своем дивизионизме не столько от чувства цвета, как великий их предшественник, сколько от теории света. «Il faut peindre comme peint un rayon de soleil»[177], — говорил Моне. Он остался верен этому принципу до самой смерти. Каждый этап его творчества — развитие той же темы: ворожба солнца. Вначале был свет, и свет — красота природы, и природа — свет… говорят пейзажные серии неутомимого мастера, создавшего в 65 лет чуть ли не самые трепетно-светные из своих пейзажей, между которыми невольно вспоминаются его «Чайки над Темзой» из московского собрания Щукина. В импрессионизме свет и им порожденный цвет побеждают линию, которую Энгр считал «всем». Разве линия не только граница между разноокрашенными поверхностями? Разве можно рисовать и писать отдельно? И разве перспектива что-нибудь другое, как постепенное ослабление этих поверхностей-пятен, по мере удаления в пространство, по мере сгущения воздуха, обволакивающего предметы своими спектральными дымами? И чтобы лучше передать этот воздух, «в котором все тонет», художники отказываются от определенности и законченности. В картинах маслом карандаш и угол отменяются. В жертву солнцу приносятся и подробности красоты, и красота подробностей. Забывая, что природа удивительно нарисована (это и японцы доказали) — до мельчайшего зубчика на линии горизонта, до самого крошечного древесного листика, — импрессионисты поступают, как близорукие люди, для которых все на расстоянии двух шагов плывет в красочном полутумане.
 П. Гоген.
Материнство. 1899.
П. Гоген.
Материнство. 1899.
Импрессионистская нечеткость объясняется не только дивизионизмом и «философией пятна», но также и тем, что было названо исканием характера (recherche du caractère). Характерное заменяет и la Vérité vraie и le Beau[178]. Художник из ста линий выделяет одну линию, из тысячи мелочей одну мелочь, и облюбовывает эту линию, эту мелочь, преувеличивает, заостряет, подчеркивает. Конечно, искусство — всегда выбор, выискивание более важного. Однако прежде художники старались произвести этот выбор незаметно; так, чтобы изображение действовало в желаемом направлении, но употребленный прием оставался скрытым. Умение заключалось в том, чтобы направить внимание зрителя, внушить ему то или другое впечатление, внешне не выдавая предварительной работы глаза и технических ухищрений. Напротив, со времени импрессионизма художники все более обнаруживают свои чисто живописные намерения, обнажают живописную форму. Это и естественно, раз один смысл у картины — форма. Если только форма существует, если форма не средство, а цель — то не к чему и прятать, так сказать, ее анатомию. Пусть выступит наружу каждый мускул, каждый нерв живописной плоти! Таким образом, анатомия формы, препарат формы, оттесняет в конце концов самую форму. Остаются мускулы и нервы, а живое тело природы куда-то исчезает под скальпелем вивисектора…
 П. Сезанн.
Натюрморт с драпировкой.
П. Сезанн.
Натюрморт с драпировкой.
Дальнейшим весьма примечательным превращением световой формы является так называемый хромолюминаризм, о котором апостол его, Синьяк, написал книгу. Эта книга, не меньше чем картины, красноречивый документ импрессионистской поглощенности формой в погоне за солнцем. Батиньольцы прибегали для достижения тона чистыми красками к мельчанию и расщеплению мазка, легким слоем накладываемого на неподготовленный, местами просвечивающий холст (например, в серии «Руанский собор» — 1897 г.). Сёра, Синьяк и их последователи (Гильомен, Кросс, Люс, Рейссельберг и др.) стали придавать мазку характер элементарной «точки», красочного атома. Этим приемом закреплялся «лишний шаг к солнцу». Разложение спектра на простейшие атомы-точки давало как бы световую вибрацию. Картины хромолюминаристов — мозаика разноцветных пятнышек, которая превращается на расстоянии в образные гармонии самосветящихся красок{12}. Солнцепоклонство, доведенное до «точки», привело импрессионизм к естественному концу. От природы осталась одна краска-свет, одно спектральное мерцание. Объем, тяжесть, плотность вещества растворились в солнечном луче. Дальше по этому пути эмпирического развеществления идти было некуда. Постимпрессионизм начал поиски иного пути. Его нашел Поль Сезанн. Я помню изумление, которое вызвала посмертная выставка Сезанна в Осеннем Салоне 1906 года. Тогда никто, кроме нескольких почитателей, не понимал. Доказательство тому: почти все произведения отшельника из Экса, при жизни никем не приобретавшиеся, были скуплены задаром одним торговцем картин с rue Lafitte[179]. Разумеется, торговец тоже не понимал, но, будучи ловок, смекнул, что товар может пригодиться «на всякий случай». Восемью годами позже он с тем же успехом скупал кубистику Пикассо… Итак, в 1906 году никто еще не видел того, что увидел Сезанн. А нынче… кто не восторгается Сезанном? Его оспаривают друг у друга музеи. И заслуженно: как бы ни оценивать роль, которую сыграл Сезанн в истории живописи, несомненно: после него современники стали смотреть на природу по-новому. Сезанн — подлинный сын века. Всю жизнь он прожил в деревне, в провинциальной глуши Aix en Provance[180], а природу воспринимал как истый горожанин: одними глазами. Природа не вызывала в нем иных эмоций, кроме эмоций зрелища, «панорамы, которая развертывается перед нашим взором» (из письма его к Э. Бернару). Глубже, интимнее, органичнее он не переживал. Поэтому ничего, кроме вещества и формы, не дают его холсты — будь то изображение дерева, камня или человека. «Избыток материи» Делакруа, принципиальный «материализм» Курбе, «светящаяся материя» Моне, «материя-свет» Синьяка, «материя-плотность» и «материя-объем» Сезанна… В итоге полувековой эволюции в одном направлении живопись, отвергнув дух, сотворила себе кумир из вещественности мира… Горе нам. В косном веществе таятся демонические силы и чары. Горе людям, променявшим Бога на демонов! Пусть это только метафора. В ней глубокий смысл. Нет основания не доверять Г. И. Чулкову, когда в статье «Демоны и современность» он утверждает:
«Сезанном завладел демон косности. Никто не умел так трактовать плотности вещей. Он с гениальной наивностью как бы верил в то, что плотность и вес каждой вещи не относительны, а абсолютны. Он обоготворил материю».Когда В. А. Серов впервые увидел в московском собрании С. И. Щукина «Арлекина и Пьеро» («Mardis Gras»[181]) Сезанна, он отозвался об них: «деревянные болваны». «Прошли годы, — вспоминает об этом эпизоде Я. А. Тугендхольд в интереснейшем своем описании щукинской галереи, — и тот же Серов со свойственной ему искренностью признавался, что эти деревянные болваны не выходят у него из головы»{13}. Еще бы! Серов был достаточно искушен эстетизмом конца века, чтобы оценить «красоту Сезанна». И все-таки первое впечатление не обмануло его. Ибо — разве эти сезанновские Арлекин и Пьеро и впрямь не куклы, не «деревянные болваны»… Живые? По рисунку угадываемых под маскарадными тряпками упругих мышц, по движению ловких, подчеркнуто-стойких ног — как будто точно: живые (у кукол не бывает этой упругости форм). Но почему же в подлинность их, героев Итальянской комедии, ни секунды не веришь? Почему до жути не похожи они на людей? Не потому ли, что художник, одержимый «демоном косности», отнял от них все, кроме материальных оболочек, все, кроме вещественного механизма? Поистине так: не куклы, но и не одухотворенные существа перед нами, а два человекоподобных автомата, два гальванизованных трупа в движении. Оттого и жутко. Плотная, объемно прочувствованная и проверенная форма Сезанна, после расплывчатой и мерцающей плоти импрессионистов, кажется тяжелым погружением в вещество, в самые недра материи. Здесь живописная форма, очищенная, отцеженная от всего не чисто зрительного, приобретает уж какой-то метафизический оттенок (критики так и называли натюрморты Сезанна «метафизическими»), как бы хочет стать «вещью в себе», утрачивает характер обычной предметности, перестает быть похожей на наш земной прах. Свое искусство Сезанн упорно называл «подражанием природы». Так оно и было, конечно, если называть подражанием природе не «обман глаза» (trompe l’oeil), а стремление подсмотреть тайные пружины ее, незыблемые законы, по которым строятся в трехмерном пространстве ее формы и, построенные плотно и крепко, становятся краской и отношением красок. Приемы, которыми он пользовался, чтобы достигнуть этого «подражания», значительно отличаются от импрессионистских приемов, хотя преемственно связаны с ними, — ведь Сезанн прошел весь путь от правоверного импрессионизма, и ранние его пейзажи не отличишь от Писсарро. В позднейших работах он изменил основным колористическим началам Батиньольской школы. Черный цвет (асфальт) был исключен этой школой из живописного обихода как «не существующий в природе» (что, кстати, подтверждали открытия Шеврейля по спектральному анализу). Впечатление мрака и черноты в случаях надобности достигалось различными сочетаниями, например, индиго и кармина (в ренуаровских «Jeunes filles en noir»[182]), соединениями иссиня-лиловых и зеленых отсветов, контрастами тщательно подобранных valeur’ов[183]. Сезанн не только опять узаконил цвет сажи, но он вводится им сплошь да рядом, как тональная основа: картины кажутся покрытыми налетом копоти, прозрачно-нежная эмалевость импрессионистских красок уступает место сухой какой-то «угольной матовости» колорита. Этот специфический «мат» Сезанна делается позже характернейшей особенностью новой живописи. Кто-то из критиков верно подметил, что чернота сезаннистов наводит мысль на «фабричную копоть, которой насыщен воздух больших промышленных центров».
 П. Сезанн.
Курильщик.
П. Сезанн.
Курильщик.
Измена импрессионизму еще нагляднее в рисунке Сезанна. После художников пятна из рассыпчатых или тающих очертаний он, напротив, замыкает форму в строго и резко очерченные границы. Это не прежний рисунок, не обводка старых мастеров, не предварительный контур тонко отточенным карандашом, углем, иглою, но — контур тем более: темная и даже черная, отделяющая и завершающая грань, почти графический прием уточнения массы… Не линия, — у Сезанна нет линий в обычном смысле, — и все же иначе никак не назовешь эти черные рубцы на сезанновской живописи. Сам художник утверждал, «стараясь сделать нечто крепкое и прочное из импрессионизма», в письме к Бернару:
«Нет линии, нет моделировки, нет контрастов… Моделировка — результат верного соотношения тонов: когда они гармонируют друг с другом и когда они все выражены — картина моделируется сама собой. Собственно, следовало бы говорить — не моделировка, а модулировка — „pas modeler, mais moduler“[184]. Рисунок и краска одно и то же. По мере того как пишешь, рисуешь: чем совершеннее согласие красок, тем лучше нарисовано».Действительно, в живописной форме Сезанна и краска и рисунок служат, в полном неразрывном согласии, главной цели: пространственному построению картины. Значение, которое он придавал перспективе, науке живописца о пространстве, можно сравнить только с отношением к «божественной перспективе» Леонардо да Винчи. Великий маг Возрождения любил пространство, как, может быть, никто ни до, ни после него. Сезанн разделяет эту любовь — на рубеже XX века, века, одержавшего ту победу над пространством, о которой так упорно мечтал мудрый маг Rinascimento. Мудрость Леонардо да Винчи вылилась, между прочим, в теорию живописи, которая сделала из его картин какие-то ребусы гения, до сих пор не разгаданные. Своя теория живописи была и у Сезанна, и от этой теории ведет свое происхождение эстетическая схоластика кубизма и экспрессионизма.
 П. Сезанн.
Гора Сен-Виктуар. 1885–1895.
П. Сезанн.
Гора Сен-Виктуар. 1885–1895.
В одном из писем к Эмилю Бернару Сезанн излагает свою теорию следующим образом:
«Трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса, причем все должно быть приведено в перспективу, чтобы каждая сторона всякого плана была направлена к центральной точке. Линии, параллельные горизонту, передают пространство, другими словами, выделяют кусок из природы… Линии, перпендикулярные к горизонту, сообщают картине глубину: а в восприятии природы для нас важнее глубина, чем плоскость; отсюда происходит необходимость в наши световые ощущения, передаваемые красными и желтыми цветами, ввести достаточное количество голубого для того, чтобы чувствовался воздух»{14}.Глубина, воздух, голубой тон, с одной стороны, и геометрическое упрощение, схематизация — с другой, отличительные черты сезанновских произведений позднейшего периода, которыми он «открыл дорогу» кубизму. Но кубисты не воспользовались ни «воздухом», ни «голубым тоном». Они оставили себе только «глубину» и «геометрию». Творчество Дерена и Брака, первых насколько мне известно) пошедших этой дорогой, довольно мрачно по краскам. Впрочем, и эти мрачные, жухлые краски взяты у Сезанна. Все кубистические произведения, написанные вчера и позавчера, происходят от той сезанновской природы, что не выкристаллизовалась еще в октаэдры и трапецаэдры, но отчасти утратила уже свойства живого, конкретного изображения. Недаром один из авторов нашумевшей в свое время книги «Du cubisme» заявляет: «Сезанн принадлежит к самым великим творцам, определяющим собою историю, и неприлично его сравнивать с Ван Гогом или Гогеном». Генетически это совершенно справедливо. Ни Гоген, нитем менее Ван Гог не сыграли заметной, направляющей роли в живописи нового века. Сезанн — ее родоначальник. Если живописная форма, после ряда превращений в его творчестве (от ранних подражаний Курбе до последних «голубых» пейзажей, геометризованных натурщиц и natures mortes), выродилась в кубистику ближайших его преемников, то потому, что он, Сезанн, сообщил ей, живописной форме, болезненную устремленность к пространственному схематизму. Пытливое, неутомимое, всегда неудовлетворенное, фанатическое вглядывание в «законы вещества», пренебрежение ко всему, что «не вещество» в искусстве, желание исчерпать найденное формой весь смысл живописи, этот вдохновенно-упрямый подвиг Сезанна, одержимого в угрюмом одиночестве своем «тремя измерениями», привел живопись к небывалому еще в летописях кризису… Хотя творчество самого Сезанна — кто будет спорить с этим? — одно из самых волнующих проявлений современного гения. Но, конечно, виновник не один Сезанн, как бы ярка ни была его индивидуальность (о роли индивидуальностей в истории искусства достаточно сказано). Теоретические заветы Сезанна были поддержаны извне очень серьезными «общими причинами». Этим причинам обязан успех кубистики. Я имею в виду прежде всего урбанизацию и механизацию всей современной культуры. Человеческий глаз в XX веке, глаз горожанина, приобрел привычку и вкус (одно с другим таинственно связано!) к не существующим в природе, подобно черному цвету, прямым линиям, к резко очерченным углам и объемам. Торжество машины, механики, изменив лик цивилизации, отразилось и на эстетике новых поколений. Город, казармы, фабрики, трубы, могучие котлы, колеса, винты, математически рассчитанные фигуры сложных, подчас чудовищных орудий производства и разрушения (мы насмотрелись на них за последние войны!), гигантские инженерные сооружения, режущая четкость стальных линий, железная плоть слепых сил и чисел — как было не отлинять этим формам покоренной человеком материи на живописной форме, свободной от необходимости реалистически «передразнивать природу», как говорят нынче! Мы видели, что называл Сезанн «подражанием природе». Оно привело Сезанна к пространственному отвлечению. Его преемники, под влиянием все большей урбанизации вкуса, не боясь насмешек толпы (над чем толпа не смеялась и к чему не привыкала!), стали упрощать, обострять, гранить форму, придавая, вероятно бессознательно, картинам своим сходство с очертаниями тех казарм, фабрик и труб, которые глаз замечал на каждом шагу. После головокружительных завоеваний механики в области жизни произошла под конец механизация живописной формы. К геометрическим приемам построения формы художники прибегали и прежде. Всякий, кто учился рисовать, это знает. Во всех академиях при рисовании с гипсов учили и учат строить пластическую форму, схватывая ее геометрической схемой. Но эта вспомогательная рисовальная геометрия для установления соразмерности и характера форм так же мало похожа на кубистику, как не похожи леса строящегося здания на перпендикуляры и вертикали его каменной обработки. Я уже говорил: в кубизме отвлеченная форма получила самостоятельное, автономное бытие. Природа, натура, в сущности, не нужна больше. Если художники еще вспоминают о натуре (обозначая названиями картины), то скорее по застарелой привычке. Во всяком случае, ничто не удерживает больше станковую живопись от беспредметности, от фактурных абстракций, от замены кистей и красок любым материалом, до кусков проволоки и трамвайных билетов включительно. Такова логика упадка. Искусство, которое не становится богаче, становится беднее. Когда разрушен фундамент, валится все здание. Духовность, вдохновенная человечность — вот фундамент, на котором воздвиглось здание европейской живописи. Художники, заменившие душу механизмом, механизованной формой, произнесли приговор живописи. Ничто уж не могло удержать ее от стремительного упадка. Однако кубизм не оказался бы, вероятно, явлением столь мощным, если бы не наличие других, в ту же сторону направляющих искусство сил. Дело в том, что почти одновременно с пришествием кубизма, параллельно ему, благодаря тем же «общим причинам», начались два не менее знаменательных процесса в живописи. Во-первых — то отчасти декоративное, под влиянием бежавшего от цивилизации на острова Таити Гогена, огрубение формы, которое питалось заимствованиями у народного лубка, у детского рисунка, у вывески, у скульптуры дикарей и т. д. А во-вторых, современное, сверхсовременное цивилизованное варварство, теорию и практику коего сами изобретатели назвали футуризмом. Передовая живопись к концу первого десятилетия нашего века теряет чувство традиции. Вражда к прошлому переходит в открытый мятеж… Зачинщиками явились итальянцы. В Италии футуристы объявляют войну сокровищам дней минувших, красоте веков. Новые вандалы «в мечтах», они не стыдясь проповедуют разрушение исторических памятников и городов-музеев во имя будущей культуры на развалинах, во имя культуры без «предрассудков пассеизма», культуры нового hominis sapientis[185], поработителя сил природы, гордого своим электричеством и беспроволочным телеграфом, дредноутами, аэропланами и фонографами, всей Шехеразадой американских чудес… Они издают манифесты, сочиняют стихи, состоящие из голых звукоподражаний, устраивают выставки… Живопись впервые разнуздалась до потеря всякого… стыда. Футуристской живописной формой мы займемся дальше. Сейчас заметим только, что главный ее признак есть ультрадинамизм, который явился как бы дальнейшим развитием импрессионистской динамики, перерождением ее, если можно так выразиться: обратным перерождению статическому, т. е. кубизму. Если последний весь вышел из проблемы пространства, трехмерного построения формы, то футуризм возник из проблемы движения и времени в картине. Кубизм — развеществление живописной плоти для торжества пространственных абстракций, футуризм — дематериализация и разложение формы на элементы для выражения текучести вещества во времени и в движении. Вскоре то и другое встретилось и объединилось. Из кубизма и футуризма получился кубофутуризм: между прочим — характернейший период в творчестве знаменитого Пабло Пикассо. Говоря об отвлечении живописи от природы, я буду иметь в виду главным образом этого необыкновенного художника, явление бесспорно наиболее значительное в области экстремизма.
III Отвлечение живописи от природы: схематизация и разложение формы
Удивительны противоречия современности! С одной стороны, ни одна эпоха, кажется, неповиннее в «семи смертных грехах», а с другой — живопись словно «аскетизируется», отрешается от чувственного мира, от языческих радостей плоти. Хоть и не во имя Христа, но в рубище оделась живопись и занялась самоистязанием каким-то, стала мучительным подвигом отречения. Целый ряд художников решил — под влиянием и впрямь неевропейской, неарийской потребности — уйти от живописных образов, согретых любовью к жизни, в область холодного, формального умозрения и не менее формальной «выразительности» (expressio[186]). Дух пустыни, дух пустынный вселился в живопись с тех пор, как Андре Дерен, Брак, Пикассо, Леже, Глэз, Метценже и другие парижане и не совсем парижане, развивая некоторые намеки сезанновской манеры, принялись за кубистику… «Угольная матовость» живописного тона, которую я отметил в картинах Сезанна, переходит в красочный аскетизм у его продолжателей. Андре Дерен еще не разрывает с природой, но граненые окаменелости на его холстах утратили «цвет жизни» и только затушеванно отливают металлическими и минеральными блесками. У Брака краски погасают вовсе, живопись становится тусклой, полубесцветной (моделировка светотенью опять заменяет модулировку цветом, которую рекомендовал Сезанн). По первому впечатлению — перед вами внутренние стороны каких-то коробок, входящих друг в друга ребрами и гранями, слегка окрашенными в коричневатый тон, или еще — пустые неправильных очертаний соты, смутно намекающие на формы, что послужили для них образцом… Жизнь улетучилась. Красок почти нет. Одни аналитически добытые элементы трехмерного бытия. Элементы, соединенные в нечто целое, в самостоятельный организм, в некое пластическое равновесие. Тут погашенность цвета, сведение его к светотени имеет целью ничем не нарушить «чистоту» задания. Уклон к бесцветности (характерный также и для одного из периодов Пикассо) не мешает кубистам разрешать по-своему проблему красочных valeur’ов. Но как преобразились сами краски! Яркие, прозрачные, влажные импрессионистские тона, которыми подчас так великолепно сверкают и холсты Сезанна небесно-синие, малахитно-зеленые, пурпуровые, фиолетовые, оранжевые, розовые — заменены блеклыми, сухими, мутными, сине-серыми, серо-желтыми, землисто-рыжими, тускло-лиловыми, переходящими в цвет ртути и пыльной ржавчины. Эта замена — результат общей переоценки живописи. От кубистской «сверхформы» родились и соответственные «сверхкраски». Для них нет образцов в природе, как нет их для пространственных элементов картины. Красочную концепцию этого порядка можно назвать монохромией, так же как новое постижение перспективы — глубинно-плоскостным. Цвет участвует в выражении пространства, не неся изобразительных функций: соотносительно окрашенные плоскости (грани предметов и сечения предметов) выражают перспективное строение тел, независимо от «подражания природе». Вот — пример. Кубистом изображен человек, играющий на кларнете. Так называется известная картина Пикассо в парижском собрании Уде… На холсте, в сущности, нет ни человека, ни кларнета, ни вообще подобия жизни. Если вглядеться — что-то отдаленно напомнит очертания мужской фигуры… Но сколь отдаленно! Картина с тем же успехом как будто могла бы называться иначе, и тогда мерещилось бы другое. Но это — «как будто». На самом деле здесь нет и произвольной выдумки. Сочетанием смутно окрашенных «кубов» художником передана реальность: некий вещественный пространственный феномен, который представился ему под видом человека с кларнетом. Этот феномен схематизован и разложен на систему скрещивающихся под разными углами плоскостей-сечений, причем ребра, образованные ими, словно свидетельствуют о незыблемой твердости пространственных отношений, а тщательно выисканные оттенки красок дают призрачную плоть всей этой геометрической системе. Чтобы почувствовать эстетику такой картины, надо отрешиться от обычных требований изобразительности: иначе «подойти» к произведению искусства, захотеть увидеть в нем не подобие, а новое осознание формы, чистой формы, выраженной перекрещивающимися плоскостями… Но позвольте предоставить слово одному из ревностных в России почитателей Пикассо, художнику А. Грищенко, немало писавшему по вопросам новейшей эстетики{15}. Следующий отрывок, как раз о «Человеке с кларнетом», очертит круг идей и ощущений, в котором обретается современное ультрановаторство.«В картине „Человек с кларнетом“,Как бы ни доказывал, однако, автор приведенных строк, что образ «Человека с кларнетом» «входит в нас не схемой ad hōc[187] придуманной, а творческим произведением», — эту подмену настоящего человеческого образа «заостренными гранями и плоскостями», хотя бы и написанными с огромным «чувством валеров», не назвать иначе, как схемой, схематизацией формы. Подобными же схемами являются почти все творения Пикассо после 1907 года, когда по примеру Брака он сделался убежденным кубистом, фанатиком пространственных отвлеченностей. В «пояснении» А. Грищенко любопытны особенно слова, подчеркнутые мною, — о том, что кисть художника работала «под интуитивным натиском воли и сознания». На интуицию то и дело ссылаются нынче в пояснение новой живописи. Интуитивность творчества и восприятия творчества стала очень удобной формулой ответа на все вопросы и недоумения. Наитием, вдохновением, бессознательным выбором определяется работа художника: тот или другой уклон формы, оттенок, характер мазка, кажущийся произвол рисунка. Наитие, бессознательное угадывание, должно помочь и зрителю войти в хрупкий мир картины. Картину нельзя «читать», она познается «в интуитивном процессе». Нельзя спрашивать, желая понять, почувствовать красоту картины: «Что это значит?» Надо вызвать в себе, внушить себе сочувственный картине творческий трепет, принять, как подвиг самоуглубления, приближение к личности мастера[188].— говорит А. Грищенко, —колебанием форм, одна за другую цепляющихся, одна из другой вырастающих, удивительно реально передан образ… Опытная и живая кисть художника, углубляя (по-своему понятой перспективой) пространство картины, уплотняя и разрежая массы (фактура), координируя крупные магистральные формы с элементарными и малыми (композиция), — работала под интуитивным натиском воли и сознания художника(курсив{16} мой. — С. М.)…Нас мало интересует в этой картине личность изображенного человека: его быт, костюм; нас захватывает комбинация форм… нас увлекает строй и лад живописный, в котором сказалась личность художника, его мастерство и искусство нашего времени. Написан „Человек с кларнетом“, как и другие произведения этого цикла картин, монохромной гаммой красок. Почти одним цветом серовато-желтоватых оттенков, через весь холст проведенных с огромным чувством „валеров“, их ритмического стремления и бега по силовым направлениям и линиям, на вид небогатыми средствами дано богатство тона, вибрации света, богатство фактурных возможностей».
 П. Пикассо.
Жизнь. 1903.
П. Пикассо.
Жизнь. 1903.
Все это отлично… Красота непостижима рассудком от века, и сотворчество зрителя с художником всегда было условием полного познания красоты. Но чем же объясняется огромная разница между усилием воображения, необходимым, чтобы приобщиться произведению прежнего самого гениального мастера, и тем психологическим «подвигом», которого требует от зрителя художник-экстремист? Допустим, что эта разница количественная. И все-таки, если она и заключается лишь в степени требуемой чуткости, то где доказательство, что, перейдя известный предел субъективизма, «интуиция» не обращается в жалкий, безответственный самогипноз — как для художника, так и для зрителя? Внушить себе можно ведь что угодно. Оттого и дан разум человеку: дабы проверять и ограничивать полусознательные процессы духа. В искусстве больше, чем где-нибудь, нужен ясный отбор средств и целей. Творческая интуиция выше разума, но не есть неразумие, — высшее сознание, но не бессознательность. Вот почему совершенно необходим объективный критерий. Есть целая область подсознательных переживаний, которую никоим образом не следует смешивать с областью над сознательных эстетических провидений. Я нисколько не заподозриваю искренность людей, уверяющих, что они испытывают наслаждение, созерцая «Человека с кларнетом» Пикассо. Тем паче не сомневаюсь я в правдивости художника-экспрессиониста, который внушил себе, что рукой его, живописующей плоскости сечения, водит гениальная интуиция… Но что это доказывает? Что эти наслаждающиеся и дающие наслаждение не различают чувства красоты от… чего-то другого, произвольно самовнушенного. Ничего больше!
 П. Пикассо.
Странствующие гимнасты (Комедианты). 1905.
П. Пикассо.
Странствующие гимнасты (Комедианты). 1905.
Я бы не стал касаться этого тонкого вопроса о ценности художественных эмоций, если бы сами экстремисты не дали мне повода усомниться — опять-таки не в их чистосердечии, нет! — а в умении разграничивать искусство и не искусство. Я читал книги по новой эстетике, в которых проводилась мысль, что вовсе не нужно акта творчества человеческого, чтобы создать произведение живописи. Пятна сырости на бумаге сочетаются в разводы, которые стоят всех пейзажей мира. Случайные борозды и брызги красок от упавшей на холст палитры могут оказаться действеннее долгой работы кистью. И так далее. Эпизод с ослиным хвостом, которым был написан «ландшафт» для Salon des Indèpendants[189], так понравился молодым русским эстетам, что много лет передовая выставка картин называлась: «Ослиный хвост». Конечно, это было гаерством. Но в нем сказались пристрастья «левых». Все как-то опрокинулось в представлении художников. Гипертрофией живописной формы была изгнана из живописи природа, ее заменила абстракция. Но природа вернулась в живопись, как реальнейшая и конкретнейшая реальность, как вещь, которой и «подражать» не надо, ибо она гама заменила свое изображение. Художники стали вклеивать в картины куски газетной бумаги, фольги, дерева и других «материалов»… Все опрокинулось. Извратился в корне взгляд живописца на то, что есть живопись и что не живопись, а случайный эффект природы, вызывающий смутные наши ассоциации, вроде пятен сырости на бумаге), или случайный обрывок ее, сам по себе безобразный и недопустимый, как живописный материал (лоскут газеты, фольги или еще что-нибудь). Потеряло смысл понятие краски как условного живописного материала (говоря о новом толковании фактуры, я вернусь к этому вопросу), отпали признаки, отличительные для ремесла живописи, и признаки, полагающие границу между объектом изображения и самим изображением. Удивляться ли после того, что извратилось отношение художников к художественной эмоции? То, что тысячелетия называлось искусством и давало неизреченную радость: закрепление навеки образов быстротечной жизни больше не радует, кажется наивным, скучным, не доходит до эстетического сознания. Зато болезненно завлекают эмоции, может быть и похожие на чувство красоты, но гораздо более зыбкие и слабые, задевающие только одну какую-то струну воображения, одну чисто отвлеченную способность ума: творить из призраков кумиры. Вернемся к Пикассо. Судьба его творчества мучительна во всех отношениях. Необыкновенное влияние, оказанное им на современников, говорит за себя. Когда-нибудь будут начинать именем Пикассо историю живописи XX века, как именем Давида начинают историю XIX… Живописная форма Пикассо прошла ряд своеобразных превращений раньше, чем выродилась в кубофутуризм. Испанец по происхождению, он юношей перебрался в Париж (1901 год). К тому времени уже была написана им знаменитая «голубая серия», отчасти под влиянием старых испанцев. В «голубизне» Пикассо раннего периода несомненно есть что-то общее с «голубым тоном» в композициях престарелого Сезанна. Последние, конечно, не могли быть до 1901 года известны Пикассо, но «идеи носятся в воздухе»; к тому же у них общий наставник — Теотокопули. Ренессанс толедского мастера, знаменательный для XX века{17}, вдохновил юношу Пикассо на ряд картин, овеянных мрачной мистикой. Сезанн взял от Греко самое внешнее: холодную, терпкую гамму, угловатые складки тканей, скульптурную тяжесть формы. Пикассо проникся аскетическим духом Греко. Скорбные, согбенные фигуры в хламидах, словно исполняющие мистические обряды, чередуются в «голубой серии» с портретами «старых евреев» и нищих, напоминающих изможденной худобой своей «распятия» Теотокопули и «пытки» Рибейры.
 П. Пикассо.
Авиньонские девицы. 1907.
П. Пикассо.
Авиньонские девицы. 1907.
Очутившись в Париже, на внешних бульварах, в кабачках Монтмартра, ученик Эль Греко заражается карикатурным пафосом Домье и Тулуз-Лотрека. Сначала он пишет резко, подчеркивая уличный натурализм формы. Его рисунок, намеренно небрежный в масляных картинах этой эпохи (впечатляющих суровой силой красок), жутко заостряется и твердеет, когда художник ведет линию иглой (цикл превосходных офортов), изображая порок и сладострастье парижских низов. Он работает также пастелью, и дымчатая нежность этих пастелей передается новой масляной серии под названием «Série rose»[190], картинам, вдохновленным романской скульптурой юга Франции. Скульптура с этих пор заметно влияет на живопись Пикассо; проблема «третьего измерения» все более овладевает его фантазией. Стереометрическая пластика природы, открытая в конце жизни Сезанном, является ему внезапно «сезамом» живописи. По примеру Брака и Дерена, он делается кубистом. Его форма каменеет. Краски обретают суровость. Схемы тел и предметов, как в броню, облекаются в серо-зеленые и буро-серые тона; чудовищные нагие женщины, словно высеченные из первозданных глыб, вислогрудые праматери доскифских времен, заполняют холсты землистыми охрами разных оттенков; садовые фрукты — яблоки, груши, лимоны и апельсины — верные заветам Сезанна, преображаются в голые «перспективно» изуродованные объемы, еще менее живые, еще менее похожие, чем у Сезанна, на подлинные «плоды земные». И неудивительно! В своем желании «преодолеть» природу, дабы глубже выразить таинственную трехмерность вещества, в своем обоготворении чистой живописной формы, Пикассо сразу опередил учителя и пошел по пути опытов, благодаря которым было заподозрено состояние его умственных способностей. Один из таких опытов заключался в том, что художник перестал писать свои фрукты с натуры, а сначала выделывал модели их из картона, которые затем переносил на холст. Многие думали: сумасшествие? Но это был лишь первый шаг к коллективному безумию наших дней, к тому, что так звучно зовется экспрессионизмом. «Опыт» Пикассо в конце концов логичен. Если природа не подлежит более изображению, а только формальному выявлению, то лучше художнику и не иметь ее перед глазами, лучше заменить ее картонным чучелом: проще и спокойнее. Ведь модели можно придать именно тот характер формы, который в данном случае нужен. Когда мастерская живописца сделалась научной лабораторией, неуместной оказалась в ней прежняя натура.
«Я не могу забыть моего посещения его мастерской, — пишет о Пикассо Тугендхольд. — Признаюсь, я увидел там обстановку, довольно неожиданную для живописца: в углу — черные идолы Конго и дагомейские маски, на столе — бутылки, куски обоев и газет, в качестве natures mortes, по стенам — странные модели музыкальных инструментов, вырезанные из картона самим Пикассо; на всем отпечаток суровости, и нигде ни одного радующего живописного пятна. И однако, в этом кабинете черной магии чувствовалась атмосфера творчества, труда — хотя бы и заблуждающегося, но серьезного, не знающего меры отдыха в своем пытливом напряжении. И это не было смешно»{18}.
Критик сравнил удачно. «Черная магия», пожалуй, верно передает ощущение холодно-острой, неблагостной отчужденности от мира сего, которое производит «кубизм». И конечно, тут не до смеха. Умственная пытка века отразилась в этой неулыбающейся живописи. Утратив вкус к доверчивому созерцанию творения Божьего, — после скольких столетий веры! — художники обрекли себя на опасные волхвования. Разучившись любить явь, они стали пытать форму с каким-то жестоким, инквизиторским любопытством: резать на части, дробить, вытягивать, распластывать, искажать в кривых зеркалах, выворачивать наизнанку, разлагать, обращать в колючие «системы» геометрических фигур и красочных иероглифов.
 П. Пикассо.
Фабрика в селении Хорта де Эбро. 1909.
П. Пикассо.
Фабрика в селении Хорта де Эбро. 1909.
Все это, разумеется, из соображений эстетических, но результат получился и впрямь очень жуткий… Каковы были эти «соображения», я уже отчасти указал. В своем стремлении сделать из импрессионизма искусство «прочное», «музейное», «классическое» Сезанн прибегает к деформации природы. Будучи еще близок к ней (ведь он не работал иначе, как с натуры), он сознательно от нее отступает для… «композиционного преображения». Трудно определить точнее сезанновскую борьбу с данностью природы во имя формальных целей. Здесь срезать, там прибавить, укоротить, сузить, расплющить объем, скривить, сломать, выпрямить линию, поверхность, ракурс, — совершенно независимо от изображения, имея в виду исключительно ту живописную архитектонику равновесия, которой он восхищался у Пуссена, — мы знаем, именно этого преображения зрительного «мотива» в «высший порядок» добивался Сезанн с упорством подвижника, хоть и называл живопись «подражанием природе» и объяснял подчас «кривизну» своей формы «недостатком зрения». В действительности дело тот, конечно, не в качестве зрения, а в рассудочном преодолении видимости видимости… правда, ощупью. Ощупью еще во власти природы, но на путях к ее отрицанию, к самому радикальному их всех когда-либо мерещившихся отрицаний. Не отсюда ли — мученичество Сезанна? Его неудовлетворенность собой, нескончаемое перекраивание обретенных частностей картины и вечные жалобы на неумение реализовать кистью то, что представлялось уму как непререкаемый, классический абсолют? В нем боролись живописец пламенного темперамента, не умевший отрешиться от красочных чар «впечатления», возведенного в культ предшественниками-импрессионистами, и теоретик-схоласт формальных взаимодействий. Кубисты покончили с этой двойственностью отшельника из Экса. Совершилось то, что я назвал полным отвлечением живописи от природы. В этом процессе сыграл свою роль и антипод Сезанна — Гоген (хотя нынче в передовых кругах принято отвергать безусловно его таитийский урок), и еще несомненнее повлиял Матисс (многим обязанный тому же Гогену). Красочная отвлеченность и орнаментальная деформация Матисса, в угоду плоскостной архитектонике, обращающие его «сумасшедшие» панно в беспредметные арабески, научили молодых художников такой свободе обхождения с формой, после которой сделались логически допустимыми все дальнейшие кубистические опыты. Совершилось не только отвлечение, но и разложение формы. «Мотив» утратил всякую raison d’étre. Элементы, разрозненные функции трехмерной вещественности стали переходить с холста на холст без всякого отношения к восприятию действительности, заполняя их «психологическим», более или менее геометризованным узором. Разложение формы… Надо вдуматься в это явление, чтобы понять «упадок» экстремизма. Не дробление (прием футуристический), а именно разложение, распад… Любой объект природы, объект художественного созерцания, заключает в себе множество мыслимых зрительно элементов: и физических — цвет, материал, твердость, вес, и математических — точка, линия, объем, плоскость-грань, плоскость-сечение, и пр. Однако природой мы называем не элементы в отдельности, а их совокупность. Живопись в течение веков закрепляла эту таинственную, эту радующую наше чувство жизни, чувство яви цельность объекта. Конечно, не одинаково полно и равномерно, отдавая предпочтение то одному, то другому элементу, изображали художники то, что видели, но где-то, в каком-то мысленном плане изображение и изображаемое совпадали. Живопись давала характеристику, подчас весьма одностороннюю, случайную, незаконченную или намеренно извращенную, но характеристику чего-то цельного (сущего или воображаемого), с чем можно сравнивать. Самое невероятное анатомически чудовище и самый графически сокращенный набросок, созданные рукой живописца, соответствовали некоей подразумеваемой реальности или вызывали ее образ. А теперь: разлагая живописную форму на составные физические и математические элементы, перенося на холст только рационализованные ее отдельности, художники извращают природу человеческой апперцепции и нарушают основной догмат живописи: приятие мира. Калеча природу в «кабинетах черной магии», они поистине… вводят в живопись демоническое, бесовское, т. е. разрушительное, испепеляющее начало… Я не совсем согласен с оценкой Пикассо, сделанной в 1913 Бердяевым в журнале «София»{19} да и не все внятно в этой оценке. Но почтенный философ высказал ряд мыслей о разложении формы, к которым стоит прислушаться, хотя бы мы и были чужды его подчас теософической терминологии. У Пикассо «все аналитически распластывается и распыляется. Таким аналитическим распылением хочет художник добраться до скелета вещей, до твердых форм, скрытых за размягченными покровами. Материальные покровы мира начали разлагаться и распыляться и стали искать твердых субстанций, скрытых за этим размягчением». «Но прозрениям художника не открывается субстанциональность материального мира — этот мир оказывается не субстанциональным. Пикассо беспощадный разоблачатель иллюзий воплощенной, материально синтезированной красоты». «Как ясновидящий, он смотрит через все покровы, одежды напластования, и там, в глубине материального мира, видит свои складные чудовища». «Это демонические гримасы скованных духов природы… Еще дальше пойти вглубь, и не будет уже никакой материальности, — там будет внутренний строй природы, иерархия духов». «Можно сказать, что эта живопись переходит от тел физических к телам эфирным и астральным…» «Уже у импрессионистов начался какой-то разлагающий процесс. И это не от погружения в духовность происходит, а от погружения в материальность». Не одним Бердяевым разоблачен в русской литературе этот «процесс»{20}. Остается лишь горько пожалеть, что предостерегающие голоса не были услышаны молодыми нашими художниками, которые поняли смысл живописи, по Сезанну и Пикассо, как «погружение в материальность». Великой бедой было это для русского искусства… «Магизм» Пикассо, как мы убедились, углубленно материалистического происхождения. Восприняв уроки Сезанна, Пикассо, будучи прямолинейным и пылким талантом, «отравился» веществом, вернее — одним из атрибутов вещества: пространственностью предметов. После 1907 года, после увлечения плотностью материи и уплотнением формы, после периода фигур-монолитов, «каменных баб», он переходит к форме, окончательно отвлеченной, пространственно разложенной, выражающей не предмет, а его плоскую проекцию, «с различных точек зрения», — к форме, напоминающей не то инженерные чертежи, не то и впрямь заклинательные криптограммы «черной магии».
 Ж. Брак.
Кларнет и бутылка рома на камине. 1911.
Ж. Брак.
Кларнет и бутылка рома на камине. 1911.
Об одной картине этой эпохи, «Horta de Ebro» (1909), Тугенхольд замечает:
«Присмотритесь к его „Фабрике“, присмотритесь к этой комбинации геометрических каменных плоскостей с зеркальными гранями. Здесь — начало последнего периода Пикассо, здесь дальнейший вывод из кубизма… Линии стен и крыш „Фабрики“ не сходятся по направлению к горизонту, как требовал Сезанн, а расходятся вширь, разбегаются в бесконечность. Здесь уже нет мысленной точки общего схода, нет горизонта, нет оптики человеческого глаза, нет начала и конца, — здесь холод и безумие абсолютного пространства. И даже отсветы зеркальных стен этой „Фабрики“ играют бесчисленными повторениями, отражаются в небе, делают „Фабрику“ заколдованным лабиринтом зеркал, наваждением бреда»…Ибо, действительно, можно сойти с ума от этой идеи и соблазна, достойных Ивана Карамазова: нет конца, нет единства нет человека, как меры вещей — есть только космос, только бесконечное дробление объемов в бесконечном пространстве! Линии вещей расходятся в безмерную даль, формы вещей дробятся на бесчисленные составные элементы. Отсюда — искание пластичного динамизма в противоположность пластической статике, занимавшей Пикассо в его «каменных бабах»; отсюда — искание четвертого измерения, «измерения бесконечности», «во имя которого Пикассо забывает о третьем измерении, о сезанновской „глубине“». Ибо Сезанн говорил о сведении мира к шару, конусу и цилиндру, а для Пикассо отныне существует только круг, треугольник и параллелограмм, как геометрический чертеж. Теперь его пленяет не массивное бытие вещей, как в каменных женщинах, но их динамическое становление. Не предмет, как таковой, но закон образования этого предмета из малых величин. Все части предмета равны перед его объективным взором — он обходит их со всех сторон, перечисляет и повторяет до бесконечности их лики, изучает предметы, «как хирург, вскрывающий труп» (Аполлинер), разлагает музыкальные инструменты, как часовой механизм… Одержимый фетишизмом количественной множественности, он уже не замечает, что его картины — лишь механический чертеж, лишь каталог. Ибо он изображает «динамику вещей не как художник, но описывает различные перемещения вещей одно за другим, как литератор — во времени»… «Здесь то же отсутствие организующего начала, органического чутья», — говорит далее Тугенхольд и, назвав гераклитовское πάντα ρέι{21} «первой формулой футуризма», добавляет: «Разве не относимы эти слова к овальным изображениям „Скрипок“ Пикассо, где самая форма овала, намекающая на возможность повесить картину и так и этак, символизует вечное вращение. Это последнее слово Пикассо, и поистине дальше идти уже некуда, в смысле развеществления и раздробления мира». В этой точке методы кубизма и футуризма соприкоснулись, слились. Но кубистское разложение и футуристское дробление формы — только одна сторона дела. Другая сторона — приведение картины к художественному единству: построение картины (устойчивое размещение масс в границах холста), зрительный ритм в ней и, наконец, «поверхность» картины — фактура.
IV Вопросы построения, ритма и фактуры в картине
Когда в первый раз, чуть ли не у того же Пикассо, появилась картина с написанными кусками газет, все решили, что это шутка. Но «шутка» обернулась прилипчивой модой. Внедрение в живопись печатного станка — явление знаменательное для целой полосы кубизма. Достаточно было кому-то из законодателей нововведений начертать черным шрифтом в углу холста «REPO», чтобы немедленно в остальной кубистике зачернели эти «REPO» и другие типографские случайности — отдельные буквы, цифры, знаки препинания. Теоретическое объяснение давалось следующее: контраст машинной графики оттеняет фактуру живописи; выразительность трехмерной формы выигрывает от соседства с плоскостью печатного обрывка, каких-то вульгарных букв и цифр, выскочивших из газеты. Один шаг отсюда, от написанных типографских знаков, до замены их настоящими кусками печатной бумаги, наклеенными на холст для вящего фактурного контраста. И этот шаг, мы знаем, давно сделан. Кто из экстремистов не вклеивал в картины газетных клочков? Ведь и это устареть успело… Выродившейся духовно живописи оставалось окончательно умереть, так сказать, физически, как ремеслу, как живописной технике. На последних крайних выставках и это видишь. Видишь то, или почти то, что в России показал впервые футурист Татлин: «картины», составленные целиком из дерева, жести, слюды, проволоки, кусков картона, мочалы, веревок и других «материалов»… Как характерен подбор этого живописного вещества! В старину художники любили обрабатывать серебро и золото, слоновую кость, драгоценные камни. Сами краски подбирались — прочные, созданные для вечности, блистающие благородной роскошью. Теперь для создания картины выискиваются жалкие обломки земного праха: внутреннее ничтожество соответствует нищенским одеждам… Не все экстремисты, конечно, бросили кисти и принялись за склейку картин из разной ветоши (по примеру хотя бы молодого немца Курта Швитерса, выставлявшегося недавно в берлинском обществе «Der Sturm»[191], или парижанина Лорана{22}), но все в увлечении фактурными новшествами потеряли уважение к ремеслу живописи, забыли о том, что французы назвали belle peinture[192]. Точнее сказать, отрешились от изысканностей и очарований письма во имя нового технического варварства. Искусство огрубело сознательно и методично. Спустилось в низины «лапидарного» стиля, где нет места ни световому нюансу, ни воздушной краске, ни прекрасной линии, ни грации мазка так же, как нет в этом стиле повода для живой образности, для чувственной гармонии, для религиозно-одухотворенной разумности человеческой. И живописная форма, ничем не ограничиваемая больше в своем самодержавном праве, одичала до уродств, каких не было никогда, ни в одну эпоху варварства, хотя никогда (и тем паче в варварские эпохи) не выдвигались так исключительно именно права красоты. Противоречие? Нет — диалектический вывод. Дж. Де Кирико.
Переменчивость поэта. 1913.
Дж. Де Кирико.
Переменчивость поэта. 1913.
Когда лет пятнадцать-двадцать назад художник, прошедший передовую мюнхенскую школу, «объяснял» вам ландшафт, написанный приятелем, ми говорил о «колорите» и о «настроении». Колоритные пейзажи с настроением были тогда в моде. Бёклин и Штук прославлялись на страницах «Мира искусства», и фототипии с «Острова мертвых»[193] в декадентских рамках украшали гостиные эстетов. Теперешние новаторы так же убежденно «объясняют» экспрессионизм, ссылаясь на построение, ритм и фактуру. Картина не пишется больше. Она строится. Главная основа ее — конструктивность. Композиция есть распределение на холсте масс, безотносительно к предмету изображения (если такой имеется), а ритм — взаимодействие этих беспредметных частей композиции. Иначе говоря: живопись приближается к архитектуре и музыке. Делаясь беспредметной, как эти искусства, живопись становится игрой пространственными отношениями на плоскости холста и «радостью глаза» от ритмического их взаимодействия. Предмет только повод для деления холста. Самостоятельный организм картины может быть создан и без предмета{23}. В предшествующий период живопись, в сущности, была уже полупредметной: внимание постепенно переносилось от предмета на форму. Новейшая же живопись, даже если она «что-нибудь изображает», всегда полубеспредметна, ибо внимание с предмета-повода перенеслось целиком на разрешение конструктивно-ритмических задач. Конструктивность не новый принцип, но он до неузнаваемости извращен экстремизмом. Живописная композиция непременно конструктивна. Расположением фигур и групп в картине относительно друг друга и стаффажа[194] (независимо от содержания) управляют неписаные законы гармонии и симметрии, слишком хорошо знакомые всем академиям. Напоминать ли, что старые мастера, в особенности итальянцы, были превосходными знатоками этого «живописного зодчества», и только натурализм нового века (отчасти под влиянием фотографической «естественности») перестал считаться с конструктивностью? «Искусственность» композиции никого не смущала прежде. Нисколько не соревнуясь с архитекторами, распределяли художники живописные массы, сообразно с эстетическим равновесием частей, с требованиями архитектоники в расположении фигур, в беге линий, в колебании движений, в чередовании тонов и пр. Будучи элементом живописной формы, конструктивность присуща флорентинцам Высокого Возрождения не меньше, чем нидерландским примитивам. Бесспорно также, что этим принципом напрасно пренебрегали импрессионисты в угоду живописи «впечатления». Оттого-то большинство импрессионистских картин ничем не отличаются от этюдов, т. е. от более или менее быстрых памяток художника с натуры. Импрессионисты в нелюбви своей к чопорности композиции, возлюбленном академиями, стали стремиться, если можно так выразиться, к «обратной композиции» (как есть обратная перспектива), т. е. к тому, чтобы части картины были расположены отнюдь не архитектонично, без намека на симметрию, без композиционного центра, обрывками действительности. Например, на полотнах одного из сильнейших импрессионистов (стоящего, впрочем, особняком), Эдгара Дега, несмотря на классическую мощь его рисунка, на удивительную анатомическую построенность фигур, расположены они всегда ацентрично и сплошь да рядом намеренно обрезаны самым неожиданным образом, краями холста. Приближение фигур к краям холста — как бы центробежная композиция — вообще характерная особенность импрессионизма, возникшая из протеста против центростремительности классиков. Новейшие живописцы, в свою очередь, вернулись к центризму и к продуманной архитектонике. Отсюда ссылки их на Пуссена и на Энгра, и даже ренессанс Энгра в «левом» лагере. Давно слышно: «Пикассо стал писать, как Энгр»… Современнейшие теоретики экстремизма Виктор Баш, Морис Раэналь, Джино Северини и другие настойчиво провозглашают, ополчаясь на эстетику импрессионизма, основным принципом живописи конструктивность, «построение и композицию, в том классическом смысле, какой придавал этим словам Пуссен»{24}… Но, разумеется, и в данном случае, как всегда в искусстве, вопрос не столько в принципе, сколько в его применении. Что бы ни говорили апологеты кубофутуризма, какими бы точными измерениями своих «беспредметных равновесий» ни доказывали родство свое с автором «Et in Arcadia ego»[195], им, отказавшимся от природы во имя идеала «голой конструктивности», так же не дано «продолжить» Пуссена, как и родоначальнику их, Сезанну, «faire de Poussin, sur nature»[196]. Композиция действительно целая сложная наука у таких великих живописцев-ученых, как этот неподражаемый мастер героического пейзажа, но секрет их творчества все-таки — не наука, а живопись, живопись большого и глубокого духовного синтеза. Современный аналитизм формы, хотя бы во всеоружии цифр и геометрии, останется бесплоднейшей попыткой строить «из ничего» до тех пор, пока снова не исполнится искусство духом животворящим и художники не возлюбят снова поруганной полноты Божьего мира. Самая верная мысль, приложенная к «пустому месту», ничего не может дать, кроме пустоты. То же и с конструктивностью в приложении к кубофутуризму. Из старого служебного принципа последователи Сезанна и Пикассо сделали нечто самодовлеющее, извратив его смысл. Свободная, живая соразмерность частей (в прежней живописи) уступила место архитектонической схоластике, настолько сведенной к личному усмотрению, что законы ее как бы совпали с самым прихотливым беззаконием. Почему эта система перекрещивающихся плоскостей, кругов, треугольников и каких-то зубчатыхкривых является хорошо «построенной» картиной, а другая, несколько иная система — картиной плохо построенной, установить хоть сколько-нибудь объективно нет возможности.
 Дж. Балла.
Полет ласточек. 1913.
Дж. Балла.
Полет ласточек. 1913.
Мерила тут отсутствуют. Автор может доказывать все, что ему угодно. Искренен он или нет, дело от того не меняется. Я по опыту знаю. Я пробовал анализировать картины крайнего толка с несколькими единомышленниками-художниками (того же толка) поочередно. Ни разу на мои вопросы не получалось общего ответа. Каждый утверждал свое, одному ему понятное, интуитивно-близкое в картине; вернее — каждый по-своему фантазировал о мнимых красотах ее архитектоники, о необычайных тонкостях ее пространственного ритма… Конечно, разногласия в искусстве неизбежны. Двух одинаковых мнений о красивом не бывает. Но здесь речь не о мнениях, а о понимании формального смысла. Беда в том, что этот смысл, в большинстве экстремистских произведений, исчезает среди лабиринтов бездоказательно-личной «интуиции». Вы должны внушить себе, что художественное откровение таит именно эта комбинация плоских или выпуклых форм; что прекрасно именно это деление холста предметом; что выбор гаммы именно этих, ничего не изображающих красок (если художник еще пользуется красками) соответствует некоему ритму начертательной гармонии избранных мастером плоскостей и граней, контрапункту угаданных им пространственных модальностей… Я прошу извинения за ряд музыкальных метафор: ритм, гамма, модальность, гармония, контрапункт. Но в данном случае менее всего подобает забывать о музыке. Не только кубистическая ритмика, — все развитие экстремизма связано с музыкой, с музыкальным «подходом» к живописи. Не есть ли музыка наиболее современное из искусств?
 У. Боччиони.
Голова + свет + окружающая среда. 1912.
У. Боччиони.
Голова + свет + окружающая среда. 1912.
Понятие ритма, в частности, все чаще стало применяться к живописи с тех пор, что она потеряла изобразительный характер. К этому вопросу я вернусь в следующей главе. Сейчас замечу только, что и тут пуризм, доведенный до крайнего предела, обратился против себя, приблизив до такой степени красочный и линейный ритмизм «картины» к музыке, с одной стороны, и к архитектуре — с другой, что всякая «живописная эмоция» от картины окончательно испарилась. Музыкальное и архитектурное восприятие иных кубофутуристских систем, хотя занятие бесплодное, но все же, после некоторого упражнения, не недоступное любителю цвето-гамм, звуко-линии или объемо-звуков. Я готов признать, что подлинно ритмичны комбинации вот этих ярко окрашенных, словно мерцающих, граней и безупречно «уравновешены» вот эти, напоминающие карточные домики, нагромождения плоскостей и эти расцветающие полупрозрачными кристаллами конусообразные «чистые формы»… Но при чем тут живопись, живописный ритм, как служебный опять-таки элемент изображения? Ритм складок на ризах джорджоновской Богоматери из Кастель-Франко так завораживает внимание не потому ли, что гениальный сын Возрождения вдохнул в них невольно всю мечту своей влюбленной веры в Деву непорочную? Эти складки прекрасны — слов нет, и мы готовы поклясться: прекрасно-безотносительно к религиозному сюжету картины-иконы… Но оставьте только складки, линии складок, уничтожьте зависимость их от вдохновившего их образа, отвлеките от одежды, которыми они созданы, от материала волнистой ткани, от всего, что говорило бы об изобразительной природе их, — вместе с этой природой разве не улетучилось бы и нетленное их очарование? Чтобы наслаждаться «чистым ритмом» (если это дает наслаждение), вовсе не нужна живопись. Не потому ли, отчасти, так легко и отказываются от живописи proprio sensu[197] наиболее «конструктивно» и «ритмично» настроенные экстремисты? Что же заменяет ее? Фактура и фактуры. Это понятие тоже приобрело новый смысл. Прежде фактурой картины называли природу живописного материала (акварельная, темперная, масляная фактура), а также манеру художника накладывать краски: в масляной живописи — жидким или густым слоем, мелкими или широкими мазками, тонкой или толстой кистью, мастихином и т. д. Поэтому прежде никому не приходило в голову сравнивать, например, фактуру рубенсовского портрета с фактурой… отполированного куска дерева или клочка газеты! Никто тем более не требовал от мастера «разнообразия фактур» в одном и том же произведении, т. е. разнообразия характера поверхности (исполнения одной части картины масляной фактурой, другой части «газетно-бумажной», «полированно-деревянной» или еще какой). Напротив, от поверхности холста требовалось возможного единообразия. Каждый квадратный дюйм картины, запечатленный рукой художника, должен был гармонировать с остальной поверхностью как частица единой драгоценной ткани. Ныне же, напротив, различие фактур в одном и том же произведении сплошь да рядом рассматривается как достоинство, а фактурой называется характер всякой поверхности, хотя бы нисколько не обязанной своим бытием руке художника: «фактура газетного листа», «фактура куска дерева». Уничтожив различие этих двух понятий — одушевленной, художественной и неодушевленной, предметной фактуры, экстремизм, как было уже упомянуто, стал смешивать неодушевленное с одушевленным, соединяя в одно живописное целое несколько фактур для контраста, для усиления воздействия каждой из них, для остроты впечатления от цвета и материала. Масляная фактура будто бы острее «действует» рядом с наклеенным клочком бумаги, «фактура» подкрашенного картона — рядом с «фактурой» жестяного круга или шерстяной тряпки. На крайних выставках, как все помнят, дело доходило до втыкания в холсты столовых вилок… из тех же фактурных соображений. Это было дилетантизмом дурного тона, но разве не последовательно! Лишь только обозначилось вторжение в живопись посторонних физических тел, как бы ни казались они безобидны вначале (лоскуты газетной бумаги, обоев и пр.); лишь только нарушен был принцип одухотворения рукою художника каждого дюйма холста; лишь только были допущены в живопись, в заповедную область изобразительных ее средств какие-то обрывки вещей — все стало дозволенным: и втыкание вилок в картины, и выход картины из плоскости «в три измерения», и окончательное самоубийство живописи, картина, составленная из обрезков трамвайных билетов.
 М. Шагал.
Зеркало. 1915.
М. Шагал.
Зеркало. 1915.
Между тем в основе этого фактурного безумия тот же упадочный пуризм: желание видеть в искусстве одну форму и тешиться игрой ее элементов безотносительно к Человеку и к образам Природы. В основе — своего рода утонченность одичания. В самом деле, до необыкновенной, до чудовищной «тонкости» надо «доразвиться» для сведения живописи к гаммам фактурных раздражений! Подумать только, какой изощренной организацией, какой небывалой артистической восприимчивостью должно обладать, чтобы ничего большего не требовать от искусства: посмотрел на клочок обоев рядом с «куском живописи», ощутил остроту сопоставления двух «фактур», двух разнородных материалов, и полное испытал удовлетворение! Только не вяжется что-то эта гипертрофия эстетической чувствительности в одном направлении с огрубелостью, доходящей до заскорузлой бесчувственности, — в других. Полно, можно ли называть утонченностью (если даже абсолютно верить в искренность экстремических «переживаний») эту неуловимость самовнушенных эмоций? Можно ли называть чувством красоты это психологическое «удовлетворение малым»? Фактурный пуризм не является ли скорее доказательством поразительного обеднения, бессилия художественной эмоции? Доказательством подмены искусства, от которого вчера еще веяло воздухом вершин, тусклыми ощущеньицами из эстетического подполья? Неверно было бы умалять значение фактуры. И все-таки: фактура всегда играла служебную роль в живописи. Экстремисты, извратив понятие фактуры в распространительном смысле, обратили ее в опаснейший довод против живописи. Чувство живописного материала обернулось эмоцией вещности. Цвет, плотность, структура вещи (бумаги, жести, дерева и т. д.), став элементами живописи, вытеснили живопись. Из вещей начали художники «стряпать» картины и рабски подражать вещам, изображая их на холсте с протокольной, намеренно антихудожественной точностью, не как натуру, а как вещи, как Trompe-l’oeil[198]. Таковы, например, последние работы итальянцев Гарра, Мартини, Кирико и немца Отто Дикса (у которого рядом с тщательно выписанными предметами наклеены подлинные домашние вещи: кружево, позумент и пр., — дальше, кажется, некуда!). Иные картины упомянутых итальянцев, оставаясь совершенно беспредметными по концепции (у Мартини всюду какие-то человекоподобные фигуры, составленные из геометрических приборов), в то же время передразнивают отдельные предметы так перспективно-выпукло, так до обмана глаза похоже, что их хочется взять в руки. Я читал где-то замечание психиатра, что подобное вещепоклонство в изображении есть характерный признак душевной болезни. Я не берусь утверждать, что это именно так, но несомненно: вещный протоколизм новейшей отвлеченной живописи (мы наблюдаем его подчас и у Пикассо) производит резко отталкивающее действие, напоминающее чувство жути и отвращения, какое внушают иные «художественные» работы сумасшедших и преступников. Упадок, регресс, атавизм современного человечества нигде не выступает нагляднее, чем в живописи.
V Чистый эстетизм и гносеология Приближение к музыке, волшебства «четвертого измерения»
Самым веским размышлением по этому поводу я считаю то, что написал Н. Радлов в статье «Футуризм и „Мир искусства“»{25}. Я приведу страницу из этой статьи, чтобы не повторять мыслей Радлова не его словами:«Пользование красочной гаммой, как воздействующей непосредственно на чувство, открыло искусству новые пути. Живописное содержание, т. е. та красочная идея, которая ставится в центре художественного замысла, сначала оттеснило, а затем и уничтожило иное содержание картины. Явления стали равноценны для искусства, ибо каждое могло стать источником известной красочной идеи… В этом виде искусство живописи вливалось в систему, имевшую несомненно глубоко идущие аналогии с музыкой. Слово гамма употребляется в живописи не только как метафора; краска, как и звук, подчиняется тону, рисунок аналогичен ритму; мы можем уподоблять мелодии живописное изображение чего-либо; понятие фактуры вполне точно отвечает тембру. Это искусство-понимание испытало дальнейшие превращения, которые являются логическим выводом из одной ложной посылки. Этой посылкой был принцип полной аналогичности двух искусств. Каждая краска в отдельности и каждая красочная комбинация раздражают нас специфическим образом; мы переживаем при созерцании их эстетическое впечатление того же характера, как и при восприятии звуков. Возможна подобная чисто музыкальная живопись. Художественное творчество сводится в таком случае к отвлеченному сочетанию красок, к „божественной игре“ красками. Живопись эволюционирует, подобно музыке, отказываясь от изобразительности… Но теми же свойствами, что краска, лишь в меньшей степени, обладает и линия. Эстетические эмоции, вызываемые в нас созерцанием законченной красивой линии или комбинациями изломанных, оборванных, пересекающихся или параллельных линий, быть может, менее остры, но так же несомненны, как и эстетические переживания красочной гаммы. И эти эмоции могут стать материалом художественного творчества: последнее сводится тогда к отвлеченной игре линиями. Линейный орнамент — один из примеров подобного искусства, весьма отдалившегося от искусства живописи. Однако в линейной орнаментике мы имеем еще, так сказать, элементарную ступень этой линейной музыки. Симметрия, повторность, ритм в чередовании частей — все это элементы чисто мелодичные. Легко представляю себе искусство, отошедшее от них в сторону большей углубленности и свободы пользования многоголосием для возбуждения более сложных и тонких эмоций. Орнаментика — это чисто декорационное ответвление особого искусства линий… Однако линией и краской не исчерпываются элементы воздействия на зрителя; искусство с этой целью может воспользоваться и формой, — отвлеченной трехмерной формой. Оно сделало это, все с тою же последовательностью, сначала изображая ее и оставаясь на плоскости, затем вынеся в пространство. Искусство живописи последовательно выродилось в свободную игру отвлеченными пространственными формами. Это — тот футуризм, примеры которого мы видим в достаточном количестве… Его легко обозначить, по аналогии с живописью, термином станковая архитектура. Через музыку живопись приходит к архитектуре — еще одно, быть может лишнее, доказательство близости первого и последнего из этих искусств».
 Э. Хеккель.
Ветряная мельница. Дангаст. 1909.
Э. Хеккель.
Ветряная мельница. Дангаст. 1909.
Вынесение «игры формами» из плоскости холста в пространство, станковая архитектура (сам изобретатель ее в России, Татлин, называет свои произведения «рельефами» и «контррельефами»), разумеется, абсурдная крайность: глухой тупик, «не очень чистый, но прямой и вымощенный», как говорит Радлов, откуда нет дорог{26}. Но, в сущности, когда освоишься с теориями чистого эстетизма, на которых основан экстремизм, убеждаешься, что весь он состоит из тупиков. И уж поистине духом смерти веет от этих унылых трущоб красоты. Ложная посылка… роковые выводы! Мы видели, как разрешает свои пространственные задачи Пикассо, про которого Тугенхольд говорит: «одержимый фетишизмом количественной множественности». Ведь что такое эта множественность, результат разложения формы, как не вывод из той же ложной «музыкальной» посылки? Ибо множественность, повторность не есть ли необходимейшее условие музыки, искусства временного, такое же условие, каким в искусствах пространственных является единство, неповторимость?
 Э. Л. Кирхнер.
Автопортрет с моделью. 1910.
Э. Л. Кирхнер.
Автопортрет с моделью. 1910.
Поучительны эти выскакивания живописи в четвертое измерение — время, вследствие внутренней логики ее развития за последние полвека если не больше). Живописная форма перерождалась и вырождалась, вместе с культурой вообще, отравляясь ее отравами, поддаваясь натиску ее психологических течений, подчиняясь страсти века к знанию, к философской дерзости и к парадоксам мечты. Непосредственное влияние оказало здесь и то направление современной сверхнаучной мысли, что привело к теориям Минковского, Римана, Эйнштейна и других пророков новейшей математической гносеологии. Даже больше, чем влияние. Многие критики почитают гносеологию, метафизичность существеннейшим признаком пришедшей на смену импрессионизма экспрессионистской живописи. Вильгельм Гаузенштейн, например, на протяжении всей своей, уже названной, увлекательно написанной книжки «Über Expressionismus in der Malerei» отстаивает эту мысль: «Es wild die Metaphysik der Dingegesucht»[199].
 В. Кандинский.
Дамы в кринолинах. 1909.
В. Кандинский.
Дамы в кринолинах. 1909.
Да, как ни странно, но именно так: живопись чистой формы, живопись беспримесных эстетических эмоций, живопись, отряхнувшая прах веры, идеализации, повествования, наконец, всякого сходства с жизнью, живопись, зачаровавшая себя «божественной игрой» отвлеченными элементами, как музыка, — эта живопись дошла путем болезненной пытливости, вольной и невольной, к запечатанной семью печатями теории познания, к «четвертому измерению», к «вещи в себе», к «теории относительности» и к прочим головоломным проблемам высших наук, которые, казалось бы, отстоят дальше всего от живописи. Но… что близко, что далеко в наш век смятенный? Не было группы новаторов за последнее десятилетие, которая не считала бы долгом своим, оповещая мир о своем возникновении, сослаться на «четвертое измерение». Новизна, фантастичность этих ультрасовременных проблем увлекли молодых художников, увлекли до степени какого-то умственного затмения (ибо кто же сомневается, что эти сложные проблемы, требующие основательной философской и математической подготовки, менее всего могли осилить они, художники!). Сколько раз мне лично приходилось сталкиваться в кругах художественной молодежи с фанатиками теории Римана, которые, конечно, никогда не читали и не могли прочесть трудов знаменитого американца, зато самоотверженно пытались изобразить на своих холстах тела в «четвертом измерении» путем рассечения, дробления и всякого поругания живописной формы. Когда-нибудь забавнейшим недоразумением покажется эта устремленность кубофутуристского варварства навстречу глубочайшим и тончайшим вопросам разума. Но исторически эта устремленность так же естественна и понятна, как, скажем, символизм средневековых иконописцев, употреблявших краски по мистической их градации, или, в разгар XIX века, «безбожный» позитивизм Курбе с его несколько комичным «искоренением ангелов». Уклон экстремизма в сторону вещной метафизики (die Metaphysik der Dinge) после провозглашения формы единственной ценностью живописи является, бесспорно, глубоко знаменательным.
 В. Кандинский.
Прогулка в лодках. 1910.
В. Кандинский.
Прогулка в лодках. 1910.
«Метафизика вещи» — не только метафора в устах экстремистов. Тяготение к науке, к философии, к умозрительному содержанию, даже к своеобразному мистицизму познавательного пафоса — явление в высшей степени характерное для новейшей живописи. Отбросив эмпирику природы, которой вдохновлялся XIX век, эта искалеченная, варваризованная, абстрактная живопись XX века не могла пребывать в безвоздушном пространстве чистой формы. Искусство вообще не может долго оставаться беспредметной «игрой». Оно заражается страстями мысли и сердца человеческого. Так или иначе — непременно наполняется каким-нибудь высшим смыслом, хотя бы это и было, как в данном случае, следствием опасных недоразумений.
 Ф. Марк.
Желтые лошадки. 1912.
Ф. Марк.
Желтые лошадки. 1912.
Первое из этих недоразумений — увлечение художников наукой, или Наукой, все равно — с маленькой или большой буквы: техническими изобретениями и теорией познания, машинами, пожирающими пространство, и волшебствами четвертого измерения, победами Эдиссона и кантовской «вещью в себе». Нельзя оспаривать могущества современной науки, но общего языка с искусством у нее нет и быть не может. Художественный «подход» к научным проблемам — посягательство с негодными средствами, или средство, не оправдывающее высоких целей. Немощным лепетом звучат «новые слова» художников, что пытаются выразить чистою живописью тайноведения чистой науки. Правда красоты, всегда иррациональная, всегда «по ту сторону» рассудочной необходимости, так мимолетно соприкасается с правдой бесстрастных чисел и формул, что лучше не пытаться соединять их или подчинять одну другой. Ибо тут две правды, а не одна. Отсюда и второе недоразумение: будто бы религиозность, будто бы богоискательство этого искусства, «погруженного в вещество» и соблазненного дерзаниями математической мысли.
 К. Малевич.
Супрематизм. 1915.
К. Малевич.
Супрематизм. 1915.
Автор названной книги «Об экспрессионизме в живописи», Гаузенштейн, все время возвращается к утверждению, что именно здесь, на границах сознания и подсознательности, в заостренном анализе художественной структуры вещей, в творческом порыве к незримому сквозь зримое, и таится познание Божества. Он пишет:
«Естествознание и религия. Вторая стала нашей проблемой — первая была проблемой истекшего столетия». «Все созданное экспрессионистами, что ни говорить… сознательный или бессознательный мост к метафизическому». «Потому что Бога ищут они, веяние Бога наполняет и сжигает им мозг». «Gott wird wíeder genant», «In béiden, im Künstler und in der Dingform, ist der Gott»{27}[200].Мне кажется, однако, что и это сближение художественной метафизики с религией и кубофутуризма с богоискательством — не более как фраза. Во всяком случае дозволительно усомниться: какой это Бог? Бог бывает ведь и у «черных магов»… Нет, кроме шуток, как бы ни декламировали новаторы, мы чувствуем, мы знаем, что мистика эйнштейновской «относительности» и волшебства римановского «четвертого измерения» в картинах экспрессионистов — не весть о Боге живом любви и света, о Боге просветленной человечности. Чьими улыбками озарено европейское искусство, и потому лучше не смешивать несоизмеримых понятий и не играть словами. Бердяев, говорящий о демонах и об астральном мире в искусстве Пикассо, куда ближе к жуткой сущности нынешнего художественного упадка. Третье недоразумение — культ произвола, анархического произвола формы, в котором личность творца якобы раскрывается шире и глубже, чем формой, подчиненной вековым условностям изображения. Нет ничего ошибочнее. Оторванная от взлелеянных веками норм, отданная всем прихотям и фантазиям «господина автора» (как говорил Флобер), всем хитростям одинокого бреда, всем насилиям эстетского авантюризма, форма стремительно разрушается, а вместе с нею и личность творящего: его перестают понимать те, к которым он обращается. Крайний субъективизм формы и отрешенных от «видимости мира» переживаний приводит живопись к самоуничтожению. Нельзя назвать иначе, как самоуничтожением, тот футуризм, которому мы обязаны самой невероятной переоценкой изобразительных приемов. А. Грищенко, на которого я ссылался, определяет так: «С футуризмом ворвался в живопись целый строй новых побуждений, стремлений и замыслов (у итальянцев с оттенком литературности), связанных с современной действительностью… Футуризм стремится ввести в картину реалистическое изображение движения в его динамически-развертывающейся форме. Он стремится внешней спутанностью форм, их нагромождением, гротескностью, неожиданным сцеплением и разрешением вызвать образ некоторых черт современности: ее ускоренный темп движения, ее механическую сложность и переплетенность жизненных форм и ритмов, захватывающих своим вихревым потоком и быстрой неожиданной сменой».
 В. Татлин.
Башня III Интернационала. 1919.
В. Татлин.
Башня III Интернационала. 1919.
Всем памятны трескучие манифесты футуристов, в которых они учили новым приемам живописи. Картины затмили слова. «Реалистическое изображение движения в его динамически-развертывающейся форме» достигалось в этих картинах соединением в одном образе различных фаз «объекта в движении». Так получились пресловутые «лошади о десяти ногах». Далее, следуя своему упрощенному сверхдинамизму, футуристы, вопреки человеческой физике, объявили вещество проницаемым… И на самом деле, разве оно не проницаемо? Посмотрите: вон на углу — прохожий. Он сдвинулся с места, и уж там — автомобиль. Мелькнул, и возникли другие фигуры, собака, лошадь, мальчик с лотком: на том же месте. На том же клочке пространства совмещается бесчисленное множество тел во времени. Стоит отвлечься от времени, представить себе временную последовательность отпавшей (иллюзорной), и тела сделаются проницаемыми, одно тело войдет в другое, в третье, в четвертое, до бесконечности. Иначе говоря: трансцендентально материя не обладает плотностью, является как бы абсолютно призрачной, прозрачной. Какой простор для фантазии при переводе всего этого на язык живописи, новой живописи, возвысившейся до подобной концепции! Для живописи не существует больше перегородок времени. «Развертывающаяся» в картине форма «выражает» тело в движении или же в покое — с разных точек зрения. При этом степень материальной прозрачности зависит исключительно от художника. Так же как все отклонения от правдоподобия! Нет в живописи ни большого, ни малого, ни верха, ни низа, ни естественного, ни противоестественного, ни красоты, ни уродства. Мир картины — сплошная фантасмагория обрывков бытия, выхваченных художником из потока действительности… Тут уже не беспредметность «чистой формы», а хаос деформированных предметов, смешение трансцендентального с гротеском, случайного с символическим, обыденщины с «эзотеризмом». Футуристом последней формации является нынче живописец-самородок, прославившийся в Берлине, русский еврей по происхождению: Марк Шагал. Художник отнюдь не беспредметный, хотя немецкая критика и определяет его как «ungégenständlich»[201]. Шагал — поэт, фантаст, визионер. Герварт Вальден, один из виднейших вождей экспрессионизма, называет его лиризм гениальным{28}. Но лучше всего дает понятие о своеобразной манере Шагала критическая проза о нем Теодора Дейблера{29}. Вот как он описывает произведения этого молодого гения. Надо признать, что описания критика вполне отвечают самим картинам…
«У Шагала романтизм Степки-Растрепки. Синий юноша кичится пуговицей своего пиджака: он принимает ее за орден… Голова „Синего“ отделена от туловища. На этот раз она не более чем толчок к бутылке. Последняя несется навстречу летящей голове. Клецки на столе… тоже стремятся ко рту, за бутылкой. На столе к тому же еще лежит чудовище: полусобака-полурыба».Этим «своим совсем особым» стилем Теодор Дейблер в том же essai[202] описывает еще картины немецкого экспрессиониста Франца Марка… Но я воздержусь от дальнейших цитат: и картины, и критика друг друга стоят. Жестоко поглупеть должен был современный художник (а вместе с ним и критик), чтобы находить удовлетворение в этих бредовых ассоциациях, в сумбуре этих синих коров, «беременных ночей» и «полусобак-полурыб». О творчестве экспрессионистов, вроде Шагала, все же не хочется говорить несерьезно. Шагал талантлив. У него какая-то подкупающая, детская искренность в бессмыслице. Но у большинства экспрессионистов, особенно германских, и этого нет. За редчайшими исключениями — перед нами произведения беспомощные и бесплодные, вымученные и мучающие. Все красивое и здоровое, радостное, солнечное изгнано из этой живописи хаоса и недоброй усмешки. Немудрено, что философы опять заговорили о демонах и демонистах. Искусством и впрямь завладела «сила нечестивая»… Не потому ли, что уж очень неблагостно и неблагополучно вообще в нашей цивилизации? Чудовищными письменами начертано на знамени, прикрывающем современные живописные «крайности», приближающиеся то к музыке, то к станковой архитектуре, то к клиническому бреду, то к метафизическому умозрению и к теориям «четвертого измерения», страшное слово «Insānitās»[203].Или:«Два солнца в ночи. Телегу тянет белая лошадь… Ее жеребенок уже виден в материнском чреве, синяя корова лежит в желто-окаймленной телеге и прижимается к черно-синей ночи. Может быть, и сама ночь беременна? Наверное, животное должно быть зарезано, чтобы выйти в вышнюю ночь».Или:«Шагал показывает нам себя, как человека в луне. Патиновато-зеленый, носится он с лейкой и с звездообразными глазами на платье над куполами православных церквей. Как знамение более кротких будущих времен, стоит виденная во сне ослица».Или:«Шагал написал сотворение Евы из Адамова ребра. Он сведущ в удвоениях. Золотые станьоловые солнца восходят за четверными пурпуровыми горизонтами. Деревья из лунного света выцвечивают в ночь лиловые тайны. Они понесут синие плоды спокойствия. У Шагала своя, совсем особая ночь»{30}.
VI Художественный интернационал
Самое знаменательное — это то, что на целом свете с мрачным единообразием повторяются те же приемы, те же аберрации, те же построения more geometrico[204], те же гносеологические потуги, те же гротески во вкусе цивилизованных папуасов… Зараза обошла все страны. И везде итог один. Ничего в этой живописи не осталось ни от отечественной преемственности, ни от народного колорита. В ней как бы осуществился космополитизм сознательного дикарства. Языки смешались, национальные особенности сгладились. Все племена залепетали на одичалом воляпюке. Международная мода была и прежде законом живописи. Можно сказать, что история ее состоит из смены властных мод, более или менее общих всем европейцам, но разница та, что прежде, заимствуя формы, художники как-то претворяли, преображали образы в духе народном. Теперь же, в новейшем творчестве, сохранившем одну голую форму, национальный отпечаток исчез почти бесследно. Бельгийского или румынского кубофутуриста от русского или немецкого, право же, не отличишь. Вот, например, Кандинский. В пору своих дебютов он писал картинки «в русском стиле» иллюстративного характера. Эти картинки никто не замечал, потому что в них отсутствовало дарование. Тогда Кандинский преобразился: он стал «выражаться» на экспрессионистском воляпюке. Таланта ему не прибавилось, но среди доверчивых теоретиков новизны il passa maître[205] и, уж, конечно, в разноцветных иероглифах, коими усердно заполняет теперь холсты Кандинский, нет ни черточки русской. Очевидно, воляпюк много выгоднее родного языка в наше время «интернационалов». Как все космополитное, сугубо монотонна и эта живопись, несмотря на свои «интуиции» и «дерзания». Она сразу обратилась в какое-то нудное эпигонство. Она нисколько не индивидуалистична, хотя каждый автор почитает долгом изобрести собственный «трюк». Я бы сказал, до ужаса безлична эта живопись международного огрубения, хотя дело еще и не дошло до потери индивидуального акцента, о чем, вероятно, мечтают насадители Третьего Интернационала в несчастной России{31}. Индивидуальный акцент в трюке. Как известно, в России за последние годы кубофутуризм распространился было победоносно под красным флагом уравнительного, коллективистского, «пролетарского искусства». Это уже, большею частью, не искание новой формы, а изобретение отличительного, так сказать, патентованного пошиба. Упомянутый выше Кандинский специализовался на каких-то хаотических цветных «импровизациях» трепаными линиями и кляксами; Фернан Леже множит усеченные конусы и цилиндры, тщательно раскрашенные, подчас весьма нарядно; Альбер Глэз предпочитает остро отточенные сечения; Робет Долонэ громоздит на своих холстах кривые, разваливающиеся объемы домов-башен; Маке и Франц Марк (умершие оба на войне) — первый как бы продолжатель дивизионизма Сёра и Синьяка на экспрессионистский лад, второй — фантаст, более близкий к Гогену, прославившийся чудовищными, идолоподобными яркоцветными зверями; тоже «идолов», но овеянных жутью скандинавского Севера, пишет Нольде; чертовщиной Брегеля Старшего вдохновляется Энзор; Клее выражает кубистикой «промежуточное мгновение между двумя кристаллизованными состояниями объекта»; у Рудольфа Бауера — жуткие, перекрученные осьминогообразные разводы-щупальца, подписанные: Prèsto, Symphonie, Furióso[206] и т. д.; у Джино Северини — намеченные цветными точками футуристические ребусы; у Мартини — тщательно выписанные манекены, состоящие сплошь из геометрических приборов — циркулей, треугольников, линеек и пр. Сотни акцентов у этого воляпюка, с таким фанатизмом преподносимого нам в качестве художественного откровения. Меценже, Гри, Гайден, Жаннере, Лаго, Ламбер, Озенфан, Мондриан, Лоран, Вальмье, Гебрен, Ксаки, Роже де ла Франэ, Паула Модерзон, Пехштейн, Хекель, Мейднер, Кубин, Кирико, Боччони, Якоб ван Хемскерк, Кампедонк, Муке, Бауман… Называю наудачу французские, немецкие, итальянские, бельгийские, голландские имена. Все они искали и нашли, надо полагать, свою «форму»: кто прибегая к контрастной светотени граней, кто к хаотическим расплывам, кто живописуя радужно-резко, кто смутно и тускло, кто рисуя короткими пучками линий, кто кругами и зигзагами, кто кудреватой штриховкой, кто детскими «мушиными лапками»… Но в общем, как я сказал, экстремизм до унылости однообразен — однообразием болезни; одинаковой во всех странах, не имеющей родины. Живопись экстремистов — бессодержательная, бездуховная, бестрадиционная, всенациональная — действительно предостерегает нас о новой наступающей эре интернационала: бестрадиционного и бездуховного… Есть ли большая опасность на пути европейской культуры? Технический ее прогресс, головокружительный, всемирнодейственный, утопический, не подлежит сомнению, но разве не дает поводов самый этот прогресс для серьезнейших опасений? Разве отвечает ему, техническому прогрессу, совершенствование иного порядка, совершенствование внутреннего человека, прогресс благородства, великодушия, ума, гения, нравственности, святости? Не замечаем ли мы скорее обратного явления: регресса, атавизма, растраты духовного имущества и возвращения вспять, к далеким временам праотцов — в жизни, так же как в живописи? Не задаваясь обобщениями, выходящими из моей темы, я скажу только, что нет ничего более развращающего искусство, чем «художественный интернационал», чем духовная оторванность художников от родных мест, от земли, с детства неизъяснимо привычной и любимой. Явление это для живописи прямо-таки трагическое. Современный «левый» живописец сплошь да рядом не чувствует себя сыном родной природы, и нет у него ни общих идей, ни общего языка с народом своим. Он — гражданин, обыватель огромного, в значительной мере утратившего самобытные черты полумеждународного центра, отщепенец-мечтатель, потерявший связь с национальным прошлым, малообразованный, по общему правилу, а только глотнувший модных теорий — из вторых рук. В большинстве случаев он — то, что называется интеллигент-пролетарий, в самом печальном смысле этого слова, духовный босяк, без роду, без племени, занимающийся искусством потому только, что на другое дело не способен и ни в какой другой области не «притворишься» столь безнаказанно гением, оставаясь зауряднейшим дилетантом, а то и круглым ничтожеством. Мне бы хотелось быть точно понятым… Что такое родина в искусстве, если не любовь к своему прошлому, если не чувство традиции, вдохновительницы поколений, если не спасительное самоограничение от сознания великой «круговой поруки», что связывает живых и мертвых, и еще не родившихся художников одной страны? По самой «сути» своего творчества кубофутурист лишен этого сознания даже тогда, когда ему кажется, что он не разрывает с нацией, а только устремляется вместе с нею к неведомым парадизам будущего. Презрение к прошлому — презрение к нации. Вседозволенность, анархия художественных средств, право на произвол — последствие эстетской безгражданственности и безрелигиозности. Ведь эти понятия тоже связаны друг с другом. Великая живопись, как доказывает история, создавалась по преимуществу обособленными очагами культуры. Всего пышнее расцветала она в малых центрах, в атмосфере местной природы и местных пристрастий. Искусство средневековья, начиная с XIII века, искусство провинций-государств Италии не доказательство ли того, что высокому творчеству нужна известная замкнутость обстановки? Так было и в Греции, и в Нидерландах, и в Бургундии, и в древних русских княжествах. Универсализм Рима — причина в значительной мере римского упадка, так же как и всеевропейское величие Короля-Солнца — упадочных шаблонов искусства его времени. Нынешний интернациональный город-гигант — губитель живописи, что бы ни говорили экспрессионисты о «пафосе урбанизма». Живопись задыхается в каменных тисках города, беспомощно цепляясь за призраки и увлекаясь целями, ей чуждыми, методами, заранее обреченными, свободой всеразрушительного варварства, жалкими заимствованиями у полинезийских и африканских дикарей, жалкими ссылками на новейшие «открытия науки» и на новые «социальные идеалы»… Мне кажется, что все еще недостаточно продуман этот парадокс истории (парадокс ли?): влияние на современный художественный интернационал скульптуры дагомейцев и папуасов. Разве не символ это, не знамение? После Египта, Вавилона, Персии, Греции, Китая, Индии, Рима, после почти двух тысячелетий христианства, после всех «святых чудес» Запада и самоцветных сказок Востока, после всех вершин и очарований боговдохновенной красоты, после Византии, готики. Ренессанса, барокко, рококо, ампира и стремительных превращений в XIX веке — искусство возвращается к бормотанию первобытных племен, к архаическим идолам-чурбанам предков-дикарей, к заклинательным рисункам каменного периода, к экспрессионистским иероглифам, подражающим татуировке чернокожих. Какой страшный конец — этот поворот назад, в доисторическую ночь полузвериного прошлого, в докультурные пещеры человека на заре его инстинкта, страха, жадности и суеверия. Крут замкнулся. Искусство вернулось к исходной точке. Над поверженным Аполлоном торжествует готтентотская Венера, обросший шерстью человекоподобный пращур выглянул из мглы столетий, и его хитрый, полуобезьяний глаз злорадно усмехнулся…VII Почему варварство экспрессионизма — не примитив
Как всякое вырождение (атавизм), и современное эстетическое одичание означает конец, а не начало, не детский лепет, а старческое косноязычие. И этим существенно отличается оно от искусства дикарей, которому внешне подражает, но от которого внутренне отстоит дальше всего. Искусство дикарей — примитив. Этим не вполне точным термином мы называем такое состояние искусства, когда, еще не развитое и даже зачаточное, оно заключает в себе некую недифференцированную полноту духовной выразительности. Религия, мораль, быт, все чувство жизни и мира наивно претворяются примитивом в наивную художественную форму, полную, как сосуд священный, творческих недосказанностей. Примитивное искусство всегда глубоко содержательно. Чем примитивнее, тем содержательнее. Вот почему в этом первоначальном искусстве собственно искусства как намерения, если угодно, и нет. Есть предмет культа, фетиш, магия, суеверие, ворожба — не эстетика. Икона, а не картина; не статуя, а идол. Но именно в отсутствии эстетического намерения — неподражаемая сила. Именно в этой, не формальной, а внутренней иносказательной значительности — обаяние примитива. В нем все строго, последовательно, иератично. Ничего от прихоти, ничего «для красоты». И вместе с тем отсюда — та красота, которой любуемся мы, праправнуки. Потому что дух человеческий, воплотившийся в образ, в изобразительную форму, наполнивший форму своим восторгом, своим страданием, своими надеждами, своим богопознанием, — дух творца, замкнувший себя навеки в глину, камень, дерево, звук, краску, живет в веках и обращает в красоту: глину, камень, дерево, звук и краску. Примитив насыщен духовностью, забытой правдой о древнем человеке и древнем его мире: все особые черты примитива, все странности и уродства имеют глубокий смысл. Когда дикарь изображает богиню плодородия в виде женщины с огромным животом и отвислыми грудями, это его космогоническая правда. Когда дикарь приделывает непомерно большие головы фетишам-демонам, это его правда: размером головы подчеркнуто преобладание духовных, сверхъестественных сил над плотскими, физическими. Когда дикарь, стараясь вызвать изображением чувство ужаса (настоящего, нужного ему ужаса), придумывает фантастические военные маски, это его правда. Когда дикарь, религиозное чувство которого все основано на суеверном страхе и на колдовстве-шаманстве, вырезает из дерева и высекает из камня гримасничающих уродов, многоруких страшилищ, рогатых оскаленных карлов и великанов, демонообразных зверей и зверообразных демонов — это его правда, это примитив. Но когда те же формы, те же большие головы и устрашающие подробности бессмысленно заимствуются современным художником, ни чуточки не верящим ни в шаманство, ни в первобытные космогонии, заимствуются лишь потому, что он, современный художник, пресытился более развитой формой, что чернокожая экзотика и грубость — те сильные средства, которые нужны ему для возбуждения художественного аппетита, что нравится ему эта прямолинейная грубость, как грубость, и уродство, как уродство, как найденная «простота формы», тогда все становится ложью, извращением, старческим слабоумием. Тогда получается упадок, эстетское кривляние, гроб повапленный. Не примитив, а, наоборот, ультиматив, самое крайнее эпигонство. Изображая своих каменных и деревянных баб-чудовищ, проповедуя огрубление и упрощение формы, по образцам, созданным в ту пору человечества, когда оно еще жило больше инстинктом, чем разумом, экстремисты творят искусство, за которым, дальше которого, из которого может быть только гибель искусства, отказ от искусства, самоубийство искусства.VIII Вечна ли живопись?
Есть варварство и варварство. Одно — зерно живое, другое — махровое отцветание. В экспрессионизме живого зерна я не вижу. И если бы вся современная живопись, отказавшись навсегда от других путей, сделалась экспрессионистской, это несомненно означало бы, что европейской живописи настал конец, приблизились ее последние сроки, что человечество перешло в ту фазу бытия своего, когда изобретательное искусство ему не нужно, когда потребность в зрительной эстетике ушла из обихода. Ничего невозможного нет в этом допущении. Вся логика эволюции художественных идей в XX веке, в связи с общим социальным кризисом наших пронзенных большевизмом дней, скорее за то, что такая угроза живописи есть. Разве с каждым годом у нас на глазах не уменьшается значение живописи, не слабеет ее влияние на общество? Разве хула на живопись, на искусство не раздается все громче — хотя бы из лагеря тех «реформаторов жизни», которые считают себя выразителями нового «классового сознания»? Чтобы не быть голословным, я приведу цитату из книжки, изданной в советской России{32}. Она принадлежит небезызвестному критику, дошедшему в увлечении своемидеей коммуны (как передавали мне приехавшие недавно «оттуда» художники) до последовательного антиэстетизма и даже полнейшего, в конце концов, отрицания живописи. Правда, в цитируемой статье Н. Пунина отрицается только красота, «эта бессмысленнейшая из всех фикций человечества» — искусство прошлых эпох, изжитое, буржуазное, которому противополагаются «рельефы» Татлина (штукатурка, стекло и железо), «пространственная живопись» Митурича, «живописная работа материалов» Бруни, супрематическая живопись Малевича и пр., но на этой последней ступеньке удержаться трудно, и Пунин, по словам очевидцев, давно уже требует «пресечения» художеств как совершенно не нужных для процветания рабоче-крестьянского рая. После слов, приводимых выше, это нас не удивит.
«Художественное произведение в лучшем случае, — заявляет Пунин, — коэффициент эстетического вкуса эпохи, и пролетариат прав, не интересуясь вкусами своих угнетателей. Их наслаждения — не его наслаждения, и красоту, которую они создавали, он не повторит и не может повторить, если бы даже хотел. Какое, в самом деле, дело рабочему до какой-нибудь Мадонны (!), статичной в своем замкнутом рамой пространстве, с непонятной умильной улыбкой и всеми этими атрибутами мертвой и к тому же враждебной ему клерикальной цивилизации? Он, привыкший измерять пространство приводными ремнями, знающий материал, со всеми его богатствами, скрытыми, требующими напряженного внимания свойствами, разве захочет или сможет оценить эту дребезжащую живопись с ее нехитрыми, хотя бы ловкими приемами, живопись, не требующую даже настоящей силы и того векового голодного напряжения, с которым он, пролетарий, ковал свое право на класс? Разумеется нет, и это „нет“ звучит гордо; не следует его пугаться, как не следует пугаться ни одного „нет“, исходящего из этого многомиллионного сердца, так равномерно бьющегося накануне великой эры… В упорном нежелании пролетариата принять европейское искусство — железная, неумолимая последовательность, и те, которые вместе с ним этого искусства не принимают, — те гораздо ближе к подлинной пролетарской идеологии, чем те, которые во что бы то ни стало хотят всучить пролетариату это искусство. В этом отношении — и не только в этом — идеологи социализма, отрицающие искусство, всегда, по нашему мнению, правы. Пролетариату действительно не нужно и чуждо все европейское, классовое, индивидуалистическое и теперь мертвое искусство; он его отрицает, в этом отрицании мощь удивительная, цельная, обновляющая последовательность пролетариата».
Итак, по мнению Н. Пунина (а ему и книги в руки), пролетариат упорно не желает «принять» европейское искусство, и всегда правы идеологи социализма, отрицающие это искусство. Новому «классовому сознанию» может ответить лишь то искусство, которое, в свою очередь, является отрицанием «каких-нибудь Мадонн», «статичных в замкнутом рамой пространстве» и прочих картин «клерикальной цивилизации». То есть вместо живописи предлагается татлинская станковая архитектура… тупик, «не очень чистый, но прямой и вымощенный».
Мне кажется, что в этой мысли Пунина есть правда. Коммунистское устроение жизни и то, что мы называем искусством, — понятия несовместимые. Живопись должна погибнуть, если осуществится Третий Интернационал. Называйте как угодно цивилизацию христианских веков, хотя бы и «клерикальной», — дело не в названии, — но если она не вечная, если человечеству предстоит «великая эра» безбожного коллективизма после неудавшейся христианской культуры личности, то нет основания считать вечной и живопись… Современный демократический ее упадок всюду вопиет в Европе, а современное «социалистическое» ее умирание в Советской России, надо сознаться, плохое, очень плохое предзнаменование…
Или все это временно? и еще возродится старый дух европейства? и живопись, переболев экстремизмом, вернется на славные пути свои, чтобы идти дальше к неведомой красоте? Или предстоит еще Европе новое Возрождение, новые победы национального гения, новые боговдохновенные подвиги живописи? Это уже область социологических догадок и пророчеств.
Но если предстоит — тогда с каким воодушевлением должны мы бороться, не скрывая от себя опасности, с заразой большевиствующего антиискусства и эстетического дикарства, которой охвачена нынче живопись и от которой живопись погибает на наших глазах.
МСТИСЛАВ ДОБУЖИНСКИЙ — ГРАФИК[207]
 Мстислав Валерианович Добужинский — его творчество, да и весь облик, стройный, по-европейски сдержанный, чуть насмешливый — может быть, самое петербургское из всех воспоминаний моих о Петербурге…
Странный, необыкновенный город Петербург. Автор «Преступления и наказания» называл его самым фантастическим на земном шаре, оттеняя какой-то особый прозаизм Петербурга, его миражную будничность, его посюстороннюю жуть. «Умышленный» город — сказал еще Достоевский и выразил некую сущность Петровой столицы, призрачной Северной Пальмиры, с ее сумасшедшей историей, с ее великодержавным лоском и провинциализмом, с ее особняками и промозглыми питейными заведениями — рядом с ее проспектами, чугуннорешетчатыми набережными, рынками, пустынными площадями и захолустными переулками, и вечной слякотью, и гнетущим мраком зимой, и летнею пылью, и сумеречными весенними ночами, и неизбежными наводнениями осенью, когда палит пушка Петропавловской крепости, сотрясая стены политических казематов, и ветер, петербургский, ни с каким другим не сравнимый, «отовсюду дующий» ветер обдает лица прохожих колючей изморозью…
Но не таким только вспоминается мне Петербург, город Раскольникова, и злополучного Акакия Акакиевича, и Аполлона Аполлоновича (из романа Андрея Белого)[208]. Я вижу и тот, другой, «Старый Петербург», величественно-строгий, но почти ласково выплывающий из туманов прошлого, Петербург братьев Трезини, Растрелли, Тома де Томона, Воронихина, Баженова, Захарова, — Петербург, каким Достоевский его не видел, но видел Пушкин, каким представляется он на литографиях начала XIX века и каким полюбили его художники в начале XX… И мерещится еще третий, мой собственный Петербург, до боли памятный, — Петербург неизгладимых детских впечатлений, оттеснивших все остальные, Петербург, с которым смешиваются воспоминания о первых печалях и восторгах сердца: о беготне на горке у памятника Петра, о балаганах на Царицыном лугу, о первых рождественских елках, об откидных ступеньках кареты, доставившей меня в первый раз в Большой театр, и обо всем таинственном игрушечном мире детской, прекрасном, как позже не бывает ничто и никогда.
Можно ли примирить между собою эти три столь разных Петербурга: полубред «Записок из подполья», мечту ретроспективистов «Мира искусства» и сон-воспоминание младенческих лет? Примирить так, чтобы не каждый Петербург волновал отдельно, а все вместе — дополняя друг друга, сливаясь в художественное целое? Примирение я нахожу в графике Добужинского. Для меня волнующая прелесть этой графики в «петербургскости» одинаково близкой и Достоевскому, и Пушкину, и… Андерсену. Положительно не знаю, какая нота звучит у него сильнее. Они созвучны в его искусстве, соединяющем элегичность, навеянную альманахами 30-х годов и панорамами «Санктпетербурха», и лукавую романтику по детским воспоминаниям, и поэзию неизъяснимой городской жути. Я имею в виду не один петербургский пейзаж Добужинского, но весь аромат его графической лирики: какую-то насыщенность «Петербургом» в кавычках этих рисунков, отдающих но большей части старинкой и в то же время заостренных иронией современника, чтущего детские сны и от снов переходящего так естественно к сказкам-будням города. Добужинский всегда грезит и всегда наблюдает, любит и посмеивается, оплакивает дни минувшие и связан с явью, жестокой, мучительной, подчас безотрадной, подчас увлекающей терпким волшебством. В Добужинском отлично уживаются эстет, забавник и психолог: эстет, сентиментально оглядывающийся назад на милые петербургские могилы, на милую русскую провинцию времен очаковских, забавник, умеющий, как никто, очаровать игрушечной чертовщиной, психолог, более глубокий, чем это кажется на первый взгляд, знающий цену искушениям и призракам жизни.
Мстислав Валерианович Добужинский — его творчество, да и весь облик, стройный, по-европейски сдержанный, чуть насмешливый — может быть, самое петербургское из всех воспоминаний моих о Петербурге…
Странный, необыкновенный город Петербург. Автор «Преступления и наказания» называл его самым фантастическим на земном шаре, оттеняя какой-то особый прозаизм Петербурга, его миражную будничность, его посюстороннюю жуть. «Умышленный» город — сказал еще Достоевский и выразил некую сущность Петровой столицы, призрачной Северной Пальмиры, с ее сумасшедшей историей, с ее великодержавным лоском и провинциализмом, с ее особняками и промозглыми питейными заведениями — рядом с ее проспектами, чугуннорешетчатыми набережными, рынками, пустынными площадями и захолустными переулками, и вечной слякотью, и гнетущим мраком зимой, и летнею пылью, и сумеречными весенними ночами, и неизбежными наводнениями осенью, когда палит пушка Петропавловской крепости, сотрясая стены политических казематов, и ветер, петербургский, ни с каким другим не сравнимый, «отовсюду дующий» ветер обдает лица прохожих колючей изморозью…
Но не таким только вспоминается мне Петербург, город Раскольникова, и злополучного Акакия Акакиевича, и Аполлона Аполлоновича (из романа Андрея Белого)[208]. Я вижу и тот, другой, «Старый Петербург», величественно-строгий, но почти ласково выплывающий из туманов прошлого, Петербург братьев Трезини, Растрелли, Тома де Томона, Воронихина, Баженова, Захарова, — Петербург, каким Достоевский его не видел, но видел Пушкин, каким представляется он на литографиях начала XIX века и каким полюбили его художники в начале XX… И мерещится еще третий, мой собственный Петербург, до боли памятный, — Петербург неизгладимых детских впечатлений, оттеснивших все остальные, Петербург, с которым смешиваются воспоминания о первых печалях и восторгах сердца: о беготне на горке у памятника Петра, о балаганах на Царицыном лугу, о первых рождественских елках, об откидных ступеньках кареты, доставившей меня в первый раз в Большой театр, и обо всем таинственном игрушечном мире детской, прекрасном, как позже не бывает ничто и никогда.
Можно ли примирить между собою эти три столь разных Петербурга: полубред «Записок из подполья», мечту ретроспективистов «Мира искусства» и сон-воспоминание младенческих лет? Примирить так, чтобы не каждый Петербург волновал отдельно, а все вместе — дополняя друг друга, сливаясь в художественное целое? Примирение я нахожу в графике Добужинского. Для меня волнующая прелесть этой графики в «петербургскости» одинаково близкой и Достоевскому, и Пушкину, и… Андерсену. Положительно не знаю, какая нота звучит у него сильнее. Они созвучны в его искусстве, соединяющем элегичность, навеянную альманахами 30-х годов и панорамами «Санктпетербурха», и лукавую романтику по детским воспоминаниям, и поэзию неизъяснимой городской жути. Я имею в виду не один петербургский пейзаж Добужинского, но весь аромат его графической лирики: какую-то насыщенность «Петербургом» в кавычках этих рисунков, отдающих но большей части старинкой и в то же время заостренных иронией современника, чтущего детские сны и от снов переходящего так естественно к сказкам-будням города. Добужинский всегда грезит и всегда наблюдает, любит и посмеивается, оплакивает дни минувшие и связан с явью, жестокой, мучительной, подчас безотрадной, подчас увлекающей терпким волшебством. В Добужинском отлично уживаются эстет, забавник и психолог: эстет, сентиментально оглядывающийся назад на милые петербургские могилы, на милую русскую провинцию времен очаковских, забавник, умеющий, как никто, очаровать игрушечной чертовщиной, психолог, более глубокий, чем это кажется на первый взгляд, знающий цену искушениям и призракам жизни.
 К. Сомов.
Портрет М. В. Добужинского. 1910.
К. Сомов.
Портрет М. В. Добужинского. 1910.
Так я ощущаю индивидуальность Добужинского, сквозящую в каждом его рисунке, в каждом штрихе, и это ощущение воскрешает во мне Петербург, оставшийся где-то позади, щемяще-близкий и далекий, — самый русский и самый нерусский город в России, поистине фантастический и умышленный город, прекрасный и уродливый, хмурый и ласковый, просторный и тесный, юноша-город в сравнении с другими европейскими центрами, и до чего дряхлый, до чего веющий неизбывною грустью исторических реминисценций… Добужинский — весь от Петербурга и от эстетической культуры «Мира искусства», такой типично петербургской. Конечно, только в Петербурге, духовной и физической родине европеизованной России, и могла сложиться или, точнее, окристаллизоваться эта культура дилетантствующего европейства, которой как бы подведены итоги художествам и бытовым очарованиям послепетровских веков. «Мир искусства» — целая эпоха, и теперь еще не вовсе закончившаяся как будто, невзирая на художественные сдвиги десятилетий: эпоха декоративной выдумки, стилизма и лирического гротеска. Я подразумеваю прежде всего живопись и графику, но это определение можно отнести с оговоркой и к литературе, и даже к музыке… «Мир искусства» ретроспективен, мирискусники — энтузиасты старины. Но в то же время, мы знаем, мирискусничество как мировоззрение — отнюдь не уклон к художественной консервативности, а, напротив, последовательное принятие всех находок и соблазнов новаторства. Влюбленность в прошлое никогда не мешала мирискусникам увлекаться, хоть и не заразиться, «современностью», вплоть до крайностей самой злободневной моды. Не сказалось ли тут влияние все того же Петербурга, влияние антиномий, столь национальных, свойственных этому странному, необыкновенному городу? Двойственность художественной идеологии, унаследованная Добужинским, как и многое другое, от старших друзей по «Миру искусства», достигает в его творчестве своеобразной остроты. Больше, чем кто-нибудь, он всегда в двух мирах: в очарованной стране мертвых и на земле живых. Константин Сомов — тот, кажется, ни разу не изменил возлюбленным своим призракам, не изменил просто потому, что не мог не дышать воздухом отчизны «сто лет тому назад». Александр Бенуа усиленно рвался прочь, на свободу, из колдующей тишины осеннего Версаля и написал этюды в Бретани, в Лугано, в Крыму, чтобы почувствовать себя современным пейзажистом; Стеллецкий давно сделался неуклонным стилистом, воспринимающим все и вся по древнеиконописному; Судейкин был и остался пленником кукольных фигурок, соскочивших со старинных лубков и дедовского фарфора; Лансере, Билибин, покойный Нарбут, Чехонин, Митрохин и другие стилисты, к ним примыкающие, если и не лишены сознания реальности, то во всяком случае чужды тому, что французы называют: «peinture de chevalet»[209]. У многих это чувство как бы атрофировалось под влиянием непрерывного стилистического искуса. Мы знаем, тут-то и обозначилась демаркационная линия между старыми мирискусниками и младшим поколением, тяготеющим к экспрессионистской «актуальности» (хотя и не преодолевшим, на мой взгляд, привычки стилизовать). Младшее поколение упрекает «старших» в подражательности, в творчестве из вторых рук, в пренебрежении жизнью, вот этой, мимо текущей, изломанной, лихорадочной, трамвайной и автомобильной жизнью улицы, динамизмом своим и угловатостью изгоняющей все хитрые красивости старого искусства… Короче говоря, двойственность мирискуснической идеологии, нашедшая красноречивого защитника в лице Александра Бенуа, двойственность вкуса, которому нравится и то и то, и стилистическая реминисценция, и революционное «все по-новому», привела к расколу в среде самого «Мира искусства», наблюдаемому не со вчерашнего дня. Добужинский, конечно, стилист, но он не пленник прошлого. Он неугомонный перебежчик из страны мертвых в «актуальность» нашего бесстильного бытия, наших городских будней, волнующих подчас перспективами футуристского эйнштейновского царства. Если он большею частью и ретроспективен, то скорее по техническому навыку, а не от связанности воображения. Одновременно его тянуло, и властно тянуло, в другую сторону, и не составляло для него никакого труда, стряхнув старокнижность, подойти к теме без призмы стиля. В особенности — когда дело касалось городского пейзажа. Недаром его назвали «художником города». Он умеет с глазу на глаз с каким-нибудь излюбленным мотивом передать внимательным штрихом не столько формальную структуру, сколько линейную выразительность городского куска, — одушевленность кирпичных и бетонных громад с трубами, оконными дырами и гримасничающими вывесками, с заборами в афишах, сонными фонарями и провинциальными тумбами вдоль тротуаров. Такие мотивы избирал он часто: монументальное нищенство домов-ульев, убогую фантастику дома-тюрьмы, стены, облупленные дождевыми потоками, прокопченные фабричным дымом, углы столичных окраин и жалкие захолустья с подслеповатыми, сгорбленными лачугами и вековой грязью и глухонемой провинции, каких немало было в мое время чуть ли не в центре Его Величества Петербурга…
 М. Добужинский.
Окно парикмахерской. 1906.
М. Добужинский.
Окно парикмахерской. 1906.
Не только у развалин, поросших мхами, не только у переживших столетия зданий-мавзолеев своя душа, нелюдимая и настороженная; у домов и домиков и у небоскребов, громоздящих к небу узкие этажи, почернелых от житейского смрада, изъеденных приливами и отливами людского потока, тоже душа, бередящая мысль жалобой одушевленных неодушевленностей. И чем неказистее наполняющая их жизнь, тем иногда фантастичнее их молчание. Пещерами троглодитов кажутся вдавленные в землю подвалы, зубцами первобытных кремлей — мансарды и слуховые окна над крышами; как сигнальные башни торчат дымоотводы, а телефонные столбы с перекладинами похожи на виселицы. Неугомонно копошится, стонет и ропщет за их стенами озабоченный, усталый человек… Но бывают минуты, когда даже вблизи они кажутся необитаемыми, отошедшими в вечность руинами, и тогда их затишье — как тишина кладбищ. Бывают и другие минуты, когда от их недвижимости исходит странное напряжение. Они напоминают притаившихся чудовищ; вот-вот зашевелятся спины крыш и, как щупальца, расправятся коленчатые водостоки, и зевнут ворота, и засверкают хищными зрачками ряды окон… Такие минуты бывают часто в глуши петербургских закоулков — ведь они любят сумрак, а есть ли город сумеречнее Петербурга? И есть ли город, где около парадных господских улиц, на которых не позволялось, еще на моей памяти, лавки открыть и прогромыхать ломовику, были такие безнадежные закоулки, вопиющие к небу о нищете, такие непроездные мостовые в аршинных выбоинах и деревянные дома-карлики, и заваленные мусором дворики, и огороженные пустыри, и тупики с подкравшимися друг к другу, словно заговорщики, крылечками, и с помойками на самом виду, и с какими-то неизвестно для чего поставленными будками, и с канавами, заросшими репьем и ромашкой. Не о таких ли местах размышление Достоевского в его «Белых ночах» — помните?
«В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным, особенным светом. В этих углах выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в тридесятом неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо идеального <…> чтоб не сказать: до невероятности пошлого».Сколько раз страсть к бродяжничеству заводила и меня в эти столичные углы, — уж я не говорю о Гавани, о Петербургской стороне, о Песках, — совсем поблизости от улицы Ивановской, на которой я жил, и всегда мерещились мне в этих углах, как издали и сейчас, подкрашенные акварелью или пастельными карандашами рисунки Добужинского: задумчивая исповедь петербуржца, умеющего подстеречь говорящее безмолвие и многолюдное безлюдие притаившихся домов-логовищ. В этой графической исповеди Добужинского много и других страниц, совсем не «от Достоевского», а посвященных Петербургу прошлых царствований и русской ампиро-николаевской провинции, старой Вильне и старинным кварталам Лондона, так удивительно напоминающим именно Петербург, как заявил мне Добужинский, возвратясь из этого города городов с пачкой путевых зарисовок… Наконец, один из последних его трудов — литографии, навеянные пейзажем Петербурга в годы революции. Естественно, что я не могу судить, не видав его в эти годы, о проникновении художника в меланхолию столицы, обреченной событиями на временное запустение. Знаю только, что очень печален и красив, по-новому красив и печален и по-прежнему обворожительно необыкновенен и жуток город Петра на этих литографиях Добужинского. Еще дряхлей его недревняя дряхлость, уводящая мысль к дням первых императоров, строителей его европейского великодержавия; еще строже силуэт Петропавловской крепости, этот герб Петербурга прокалывающий золотым шпилем ладожские воды Невы; еще угрюмей колоннада зимнего Исаакия о котором кто-то из поэтов (не помню кто) сказал: «На нем трех царств изображенье — гранит, кирпич и разрушенье»; еще загадочнее сфинксы около кокориновской Академии, задумчивее «Львиный мост», липы Летнего сада, аристократическая панорама Английской набережной и ряд других пейзажей столицы, словно обезлюдевшей навсегда, приобщенной суровому безмолвию всеуравнивающей земной вечности… Как бы в подтверждение этим мыслям, появилась в Петербурге своеобразная декоративность смерти, никак не свойственная его возрасту, — картина, полная гибели и разрушения, развалины заглохших или выгоревших домов, до которых никому нет больше дела, почти такие же руины, поросшие «мхом забвения», каким завораживает Рим Пиранезе. Прежде в Петербурге не было руин, не могло быть, но «настроение развалин» всегда в нем было, я уверен — даже во время цветущей его молодости. Иначе… не написал бы Пушкин «Медного всадника», не так бы написал, словно ноябрьское наводнение 1824 года — для него (в 1830 году) событие — легенда давно минувших лет. Иначе не был бы так дряхл Петербург и у другого певца его, Достоевского, так призрачно-дряхл, будто бы наваждение — весь этот гигант всероссийский и суждено ему сгинуть столь же внезапно, как он возник из мглы финского приморья «на берегу пустынных волн». Иначе не полюбили бы его «любовью старины» художники «Мира искусства» и не окрасили бы этой щемящей любовью своего творчества, и не стал бы Старый Петербург излюбленной темой модернистов, воспитавших свой вкус в свободных мастерских Парижа и Мюнхена.
«Старому Петербургу» главным образом посвящена и собственно книжная городская графика Добужинского. Пейзажи современного города, о которых я сейчас говорил (включая и литографии), графичны по манере, но многое в них относится к «живописному рисунку»; обнаруживая графический навык автора, они остаются трехмерным изображением. Переходя к плоскому изображению пером, т. е. рассчитанному на украшение книжной страницы и, во всяком случае, приближающемуся к виньетке, Добужинский предпочитает строгие линии старинной архитектуры чудовищностям современной улицы. По нескольку раз стилизованы им такие мотивы Петербурга, как старый «Чернышев мост», «Фонтанка», «Александринский театр», «Новое Адмиралтейство» и т. д. В этих работах заметно влияние Лансере, Остроумовой-Лебедевой, от которых унаследована им отчасти манера: тонко стилизующий обводящий контур — от первого, пейзажная старогравюрность — от второй. Но стилизация Добужинского менее строга. Рядом с зодчеством для него никогда не утрачивает занимательности человек; осколок архитектурной красоты не заслоняет окружающих анахронизмов: замысел строителя, имярек, поэзия старинного городского «ансамбля» заколдовывают, но не убивают живой жизни вокруг с ее произволом, бытовыми черточками и гримасами. Это особенно чувствуется в больших стилизованных композициях, например в «Провинции» из Русского музея. Тут «страна мертвых» неожиданно превращается в страну курьезов, в смешной и трогательный гротеск, жуть прошлого застывает улыбкой настоящего. Стилист Добужинский становится рассказчиком, насмешливым иллюстратором, подмечающим какую-то игрушечность всего ненужного больше, всего случайно уцелевшего. Восковой куклой кажется мертвец в гробу, когда мы смотрим со стороны, забыв о чувстве утраты, и столь же кукольны памятники прошлого: здания и сады за ампирными решетками и маскарадные пышности мавзолеев или когда-то грозные, а теперь столь невинные пушки на древних кремлях, и старомодные кареты, и ридикюли прабабушек. Эти реликвии обращаются в игрушки для взрослых, когда иссякают элегические слезы и хочется смеяться от грусти над «слезами вещей» и над собственными слезами. Добужинский знает, что игрушечность как-то особенно присуща Петербургу, его старине и бесчисленным чертам его быта, от которого еще недавно веяло забавным пережитком прошлого (теперь — не знаю). Его оштукатуренные и раскрашенные в разные цвета кирпичные здания с колоннами и лепными карнизами, — белые на охре, точно склеенные из картона, — его булыжные мостовые горошинами и покривившиеся тумбы, давно отслужившие свою службу и существующие для того, чтобы на них наезжали экипажи; его выбегающие на панель подъезды с декоративными швейцарами; полосатые будки и прохаживающиеся возле них столетние заводные гренадеры в чудовищных меховых киверах башней (я вспоминаю то, что было тогда, когда еще не было петербургских развалин); его извилистые канавки, по которым снуют пыхтящие финляндские пароходики, царапая вздутые свои бока о столбы пристаней то на правом, то на левом берегу; горбатые каменные мостики и деревянные мосты на барках через Неву, напоминающие исполинских сороконожек, протянувшихся от Зимнего дворца к Бирже и от Патронного завода к клинике Виллье; водосточные трубы, льющие фонтаны дождевой воды, и зеленые кадки, откуда вода выплескивается на тротуары; дворники с бляхами у гостеприимно отпертых ворот; извозчики, неистово машущие вожжами, понукая пузатых лошадок-лилипутов с длинной шерстью и спутанными гривками; городовые, вооруженные огромными шашками и прозванные «фараонами», вероятно за недоступность чувству жалости; пестрые вывески с золотыми коврами и сахарными головами, булочные крендели, ялики, черные шары на пожарных каланчах, ползущие «кукушки», надутые «собственные» кучера, не терпящие, чтобы их перегоняли, и сколько еще всяких общероссийских и чисто петербургских достопримечательностей, — разве не просится все это в окно игрушечного магазина, разве все это «всерьез», разве это не выдумка Щелкунчика детям на елку? Иронизировать над пережитком — такая же потребность человеческой души, как гадать о будущем и мечтательно хоронить счастливое прошлое. Ретроспективное искусство склонно к иронии. Вот почему иронисты — и Бирдслей, и Теодор Гейне, и Сомов, и Бенуа, и Бакст, и Судейкин, и Билибин… Ирония, смешок (сквозь слезы, как у Сомова, а то и без тени сентиментализма) над всем ушедшим и уходящим в даль времени, характерная черта петербургской графики этого столетия. Александр Бенуа заразил ее «скурильностью», лукавой улыбкой над прошлым, придал театральную кукольность графическим призракам, повествующим о жеманстве и роскоши версальского «большого» века и блестящих петербургских монплезиров. Он же указал новый путь издателям книг для детей, ограничивавшимся прежде подражаниями немецкой романтике. В Петербурге под влиянием Бенуа создалась школа иллюстраторов, в творчестве которых старопетербургские мотивы переплетаются с образами из королевств сказочника Андерсена. Все эти по-николаевски марширующие «оловянные солдатики» и «городки в табакерках», стилизованные под александровский ампир, и принцессы в елизаветинских робронах — улыбка взрослых, столько же играющих в старинные игрушки, сколь забавляющих ими ребят. Кустарная игрушка позавчерашнего Петербурга (ее традиция не вовсе умерла до последнего времени) сама по себе повлияла на графику. Иллюстрации Нарбута, например, пропитаны ее влиянием. Немногим меньше Нарбута обязаны этому источнику сказочник Билибин, юморист Чехонин, кукольник Бенуа и «детский» Добужинский. Не только детский… Дух русской игрушки, отразивший исторические маскарады Петербурга, вселился и в графику для взрослых, игрушка приобщилась всему фантастическому ладу художников, иронизующих влюбленно над прошлым «самого умышленного города на земном шаре». И несомненно, что-то сближает эту петербургскую «мечту в двух измерениях» с литературной традицией, определенно выраженной в русской литературе от времен Пушкина: мотив городского волшебства, заостренного грустью и насмешкой, мотив невероятного и будничного, нелепого и вещего, забавного и жуткого, как городские сказки современника Пушкина… Гофмана. Я не уверен, можно ли говорить о влиянии берлинского фантаста на автора «Медного всадника» и «Пиковой дамы», но влияние на Лермонтова последнего периода («Сказка для детей», «Неоконченная повесть»), Гоголя («Невский проспект», «Нос», «Портрет») и уж конечно на Достоевского, не говоря о многих других, не подлежит сомнению. Из писателей тот же Гофман, как и близкие им писатели — Блок, Кузмин, Ауслендер, Сологуб, Андрей Белый, а заодно и новый «театральный театр», летосчисление которого Мейерхольд начинает с блоковского «Балаганчика». Эта любопытная связь «Мира искусства» с литературной пушкинско-гоголевской традицией, мне кажется, недостаточно отмечена. Недостаточно освещена и роль Гофмана в истории русской литературы… Но я не хочу отвлекаться в сторону. Гофманщина присуща почти всей графике Добужинского, хотя прямых совпадений его графических образов с образами автора «Кремонской скрипки» и немного. Я называю в этом случае гофманщиной не романтику Гофмана и не повествовательную театральность (которая так чувствуется у Достоевского!), а колдовство Гофмана-Щелкунчика, лукавую чертовщину, поминутно вспыхивающую фосфорическим огоньком в рассказах, где ирония перепутана со всамделишной жутью, так что не знаешь, верить ли автору или не верить, улыбнуться или отдаться сладостному литературному испугу…
Добужинский начал украшать детские книжки в 1908 году (первая его графика появилась в «Мире искусства» в 1902 году). Вскоре нарисованы иллюстрации к столь гофманскому «Ночному принцу» Ауслендера (в «Аполлоне»). Из собственно иллюстраций литературных произведений, исполненных до того, я вспоминаю лишь несколько малозначительных рисунков к «Станционному смотрителю» Пушкина и к крыловским басням (в хрестоматии «Живое слово»). С тех пор иллюстрационный труд Добужинского значительно возрос, особенно за последние годы, хотя и не идет в сравнение по количеству с фейерверком его виньеток, обложек, фронтисписов, надписей, книжных знаков, эмблем, проспектов, заглавных букв, издательских марок и других декоративных работ, давших ему славу лучшего нашего «книжника». Неутомимый художник наложил печать своего вкуса, и прямо и косвенно, на большинство художественно изданных в России за четверть века книжек…
«Ночной принц» Добужинского (четыре страничных иллюстрации, заглавный лист, концовка) — типичный петербургский blanc et noir, рисунки пером, с четкой, упорной обводящей линией, местами подправленной гуашью — в оригинале, и с ярким противоположением черных и белых пятен. Композиция свободна, не следует никакому старому образцу, но плоскостная стилизация, с уклоном к гротеску, определенно «ретроспективна», как и весь дух ауслендеровского рассказа, а шрифт и виньетки заглавной страницы напоминают о николаевском бидермейере. Для Добужинского особенно характерна именно русская готика, больше, чем ампир или какой-нибудь другой стиль, хотя стилизовал он одинаково мастерски в любом стиле. Не случайно, конечно, проникновение в Петербург готики только при Николае Павловиче, вместе с усилившимся влиянием немцев. Стиль империи, несколько запоздавший в России, как и многое другое, был последним отблеском античного идеала строгой простоты и равновесия. Западным романтикам в ампире стало тесно, совершенно естественным явилось в посленаполеоновскую эпоху возрождение готики, которую «открыл» еще в молодости Гете. Но готика не имела корней в России, ампир продолжал цвести до самых последних дней александровского царствования. Возлюбив «Старый Петербург», мирискусники влюбились в александровский ампир. И тем не менее русским романтикам двадцатого столетия готика духовно ближе. Готические ноты нет-нет проскальзывают и у Бенуа, и у Лансере, и у Нарбута. Они звучат постоянно в графике Добужинского. Узор многих его обложек можно назвать модернизованной готикой: заостренный, стрельчатый орнамент, колющие линии, зигзагами рассыпающиеся рамки, узкие шрифты, обилие эмблем, напоминающих геральдические знаки тайных рыцарских орденов. Мне вспоминаются, например, фронтиспис лермонтовской «Казначейши» (1912) и по стилю похожий на него, но значительно упрощенный, доведенный до линейного лаконизма заглавный лист «Культуры театра» (1921). В этой «колючести» Добужинского есть что-то исключительно присущее ему, забавнику и психологу, иллюстратору Пушкина («Барышня-крестьянка», «Скупой рыцарь»), Карамзина («Бедная Лиза»), Лермонтова («Казначейша»), Гоголя («Портрет»), Лескова («Тупейный художник»), Достоевского («Белые ночи»), Андерсена («Свинопас»). Какой многозначительный подбор имен (следует добавить и имя Гофмана, которого Добужинский неоднократно принимался иллюстрировать), и как вскрывает их сопоставление пристрастие художника, переводящего на язык плоского рисунка свое, современное, ущемленное прошлым мироощущение…
 М. Добужинский.
Гримасы города. 1908.
М. Добужинский.
Гримасы города. 1908.
Различно подходит Добужинский и к каждой из перечисленных тем, но в чем-то главном всегда «совпадает с самим собой», даже в тех случаях, когда ограничивает себя рамками много раз использованного шаблона. Можно не быть в восторге от «силуэтов» Добужинского, уступающих в грации китайским теням Сомова и Нарбута, но шутливая романтика его «Барышни-крестьянки» все же отнюдь не стилистическое упражнение во вкусе силуэтистов-бидермейер, а признание современника, долго плутавшего в стране мертвых и обращающего к живым меланхолическую и усмешливую улыбку петербуржца. И карамзинская «Бедная Лиза», и «Казначейша», и «Тупейный художник» не только обретают в рисунках Добужинского образный колорит эпохи: они уязвляют мысль трепетом призрачной жизни, жизни кукол, подобранных художником среди хлама того театра марионеток, который называется История. Меньше всего в них антикварного педантства: они такие, а не другие, потому что он — такой, а не другой. И тем же останется он, переходя от «Бедной Лизы», выцветшей и невесомой, как цветок, долгие годы хранившийся в семейном альбоме, к видениям «неромантического романтика» петербургских закоулков Достоевского, чтобы погрузиться и погрузить нас в больные сумерки его «Белых ночей». А дальше? Дальше так естественно уйти с головой в детский мир Андерсена. Разве есть что-нибудь мудрее детского мира для того, кто не потерял способности любить эту мудрость? В книжках для детей иллюстрации Добужинского — обычно сдержанные, скупые на цвет, чаще черно-белые или слегка подкрашенные в два-три тона — становятся цветистыми, занятно пестрыми, волшебствующими и гротескно шутливыми. Но они сохраняют все ту же колючесть линии, все то же «готическое настроение» узора. Разговаривая с детьми, Добужинский остается Добужинским, не притворяется ребячливее, чем он есть, так же как, общаясь со взрослыми, не боится графических ребячеств. Ни притворяться, ни быть равнодушным он не умеет и не хочет. Как бы ни казалась проста, а то и незначительна графическая задача, он вкладывает в нее всего себя, свои раздумья и выдумки. Еще недавно я любовался его «Свинопасом» в издании Гржебина (1917). Это очень сказочно, очень уводит от действительности… т. е., вернее, от миража, который современным человеком зовется действительностью, будто достоверно лишь то, что видят люди, лишенные фантазии… Ведь кто знает, сказки не действительнее ли жалкого опыта глаз, ослепших для чуда? Во всяком случае, сказки долговечнее. Веками и тысячелетиями мерещатся человечеству, живут в образах красоты все те же волнующие «небылицы», и бесследно исчезает воистину призрачный мир так называемой реальности, всегда иной, текучий, меняющийся, зыбкий, ибо не сыскать двух душ, которые бы воспринимали его одинаково… Да правда ли, что рядом с явью телесного опыта нет другой яви, прозреваемой вдохновением? Мне иногда кажется, что, если бы люди серьезно, без малейшего колебания ответили утвердительно на этот вопрос, искусство перестало бы существовать. Оно продолжается, потому что самые трезвые разумники на белом свете втайне колеблются: а вдруг правда не «это», а «то»? Добужинский, я убежден, никогда не сомневался, что правда — именно «то». Отсюда заразительность его фантазии. Он из породы мудрецов, умеющих обращать жезлы в змей. Недаром вдохновитель его — Гофман, художник, всем воображением ощущавший, что невероятное «то» всегда сторожит неверное «это» и стоит только преодолеть банальную косность рассудка, чтобы уйти в другое бытие и выпить на брудершафт с самим чертом. Ощущал это как известно, и величайший реалист Достоевский. Ощущал и антипод его, Тургенев, удививший под конец жизни трезвенную интеллигенцию «Кларой Милич»… Надо сознаться, меньше всего была задета правдой чуда русская живопись XIX века. Не потому ли так долго не было в России ни детских иллюстраций, хоть сколько-нибудь не ремесленных, ни вообще книжного искусства? Графика не может обойтись без «чудес» — такова ее природа. Самый скромный украшатель книги, если он график, а не попиратель «законов книги» (хотя, может быть, и отличный рисовальщик, гравер, офортист), должен почувствовать себя немного магом, чтобы слить с поверхностью книжной страницы художественный образ. Почему? Может быть, стоит несколько пояснить мою мысль, дабы стало понятным, что я называю «магией» Добужинского. Слово это к искусству применяется обычно в метафорическом смысле. Мне бы хотелось дать ему несколько иной оттенок. Конечно, нельзя, не впадая в шарж, восстанавливать чернокнижничество по поводу книжной виньетки, но и безответственная метафора здесь тоже вряд ли достаточна. Книжная графика — искусство в двух измерениях. Это существенное отличие ее от «живописного рисунка» (термин Н. Радлова, см. книгу «О современной русской графике», 1916 г.) вызвано не только тем, что графический рисунок, украшая страницу, должен сливаться с нею, а не прорывать ее «третьим измерением», но тем, что третье измерение не нужно графике, в то время как нужно живописи, что, напротив, особенная выразительность графизма — в плоском изображении. Вот эту выразительность я и называю «магической». Отказ от пространственной глубины, подмена перспективного изображения плоскостным превращают линию в условное начертание. С точки зрения декоративной целесообразности плоскостность приближает рисунок к шрифтам набора и ко всему двухмерному организму страницы. А с точки зрения выразительности? Мне кажется, не так уж неуместно сказать, что графика сродни… заклинательному знаку. Графический рисунок (в идеале) как бы утрачивает изобразительный смысл, становится средством прямого художнического внушения. Правда, внушение обращено не к злым или добрым гениям, а всегда лишь к тому злому и доброму гению, каким является для художника читатель иллюстрированной им книги, но все-таки график гораздо откровеннее и хитрее, чем живописец, заклинает, не только изображает. И я говорю: магия. Чтобы признать это, вовсе не необходимо вернуться к вере в пентаграммы средневековых каббалистов… Но в «эстетическом» плане что-то от пентаграммы, без сомнения, унаследовано графикой: некое колдовство. Оно есть, конечно, в любом украшении искусства, и все же графика ближе к древнему источнику. Магический элемент совсем было улетучился из графики в эпоху ее «медного» расцвета (гравюры на меди), в эпоху не друживших ни с какой мистикой энциклопедистов, а позитивный XIX век почти не делал различия между книжной иллюстрацией и «картинкой» в книге, — догмат натурализма исключал эстетику «магического» начертания. Лишь при наступлении новейшей эпохи книжное искусство заострилось снова подлинным духом графизма. Вместе с гравюрой на дереве возродилась средневековая мистика. Самое старое сделалось самым новым. Достаточно вспомнить столь впечатляющие иллюстрации Дудле к Метерлинку. Конгениальность поэта-мистика и иллюстратора обнаруживается в них с убедительностью почти беспримерной. Людям, не взволнованным этой страницей начертательной магии (иначе никак не скажешь), лучше и не браться за анализ художественных явлений. Изумительно выражают потустороннего Метерлинка, углубляя иррациональность слова иррациональностью черно-белых штрихов, эти рисунки во вкусе готических ксилографий, насыщенные полуверой современника в правду непознаваемого. Чем графичнее графика, тем естественнее ее тяготение к мистике. Чем больше удаляется она от живописного рисунка, тем резче показывает оккультность своей природы. Я отметил уже стилистический «готизм» Добужинского, связанный с его литературными пристрастиями, с пристрастиями художника, живущего одновременно в двух мирах… Отсюда — магия Добужинского. Не столько даже в иллюстрациях, как в виньетках, в орнаментальных излишествах и недоговоренностях пера. Но это не магия Дудле, неулыбающаяся, неуклонная, суровая и страдальческая, — магия Добужинского усмехается и шутит, как болотный огонек, перескакивая с предмета на предмет, заводит в лабиринты карликовых цветников, рассыпается точками, разбрызгивается лучиками, завитыми змейками, щетинистыми волютами, заинтриговывает эмблемами, дразнит эротическим намеком. Он любит повествовательный узор, вскрывающий какую-то суть литературного произведения и словно усмехающийся над обвороженным читателем: фейерверки извилистых пятен и зубчатых линий, звезды, полумесяцы, арабески, светильники, копья, стрелы, проколотые сердца, шпаги, маски, мальтийские кресты, знаки зодиака, ключи Соломона… осколки романтических волшебств, которыми он пользуется как начертательным алфавитом, выбирая отдельные его буквы и сочетая их всегда по-новому. Со стороны техники это типичная графика пера, не резьбы по дереву. Линия Добужинского по большей части выцарапана, закреплена нервным и неглубоким нажимом; она шершавит, цепляется за бумагу, то и дело обрастает зубчиками и выпускает шипы, лапки, усики… Художник ни разу не испытал свои силы в деревянной гравюре, но занимался офортом, а в последние годы пристрастился к литографии и восстановил полузабытую технику, как он назвал, «гратографии», т. е. рисунка, выскобленного иглой или пером на черной, асфальтовой бумаге. Иллюстрации его (1922) к «Леску» М. Кузмина (в особенности «Гофманский лесок»: окно с серпом луны и горбатый кот) подлинно волшебны. Техника Добужинского менялась с годами, как у всякого художника, и заметно совершенствовалась. От первых опытов в юмористическом журнале «Шут» до последних иллюстраций к «Петербургу» Достоевского пройден длинный путь всяческих преодолений. Путь постепенного овладения ремеслом и последовательного претворения многих влияний. У Добужинского можно учиться тому, как вырабатывается художник, мастер не по наитию, а вследствие упорного развития своего дара. Он не талант только, но и труженик. В течение почти полувека он шел неуклонно вперед, не успокаиваясь самодовольно на найденном приеме, искал новых и новых способов уточнения и упрощения графической мысли.
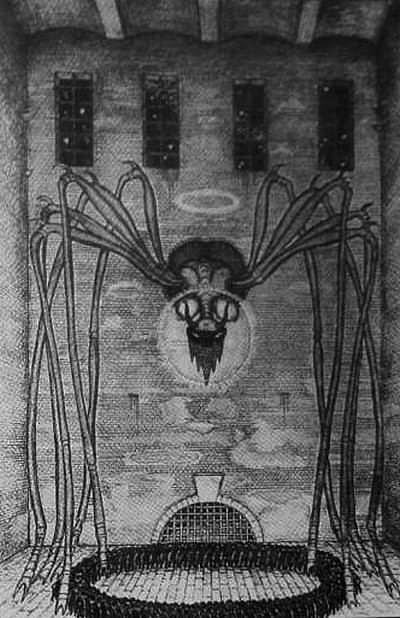 М. Добужинский.
Дьявол. 1907.
М. Добужинский.
Дьявол. 1907.
Примкнув к «Миру искусства» и занявшись книжной стилизацией, он естественно подчинился влиянию старших стилистов «Мира искусства», Бенуа, Сомова, Лансере и общего их наставника — Обри Бирдслея. Увлекся тонким филигранным штрихом: тем, что сам назвал впоследствии «вытачиванием линии». Можно сказать, что в первые десять лет, приблизительно, эстетика этой выточенной линии, унаследованной от иллюстратора уайльдовской «Саломеи», явилась для него главным содержанием графики. Он добивался, сосредоточенно, не щадя усилий, изысканной декоративности книжного узора, действительно «филигранил» его как ажурную драгоценность. Это был культ ювелирной стилистики пером. Исключительно — пером. К литографскому карандашу он почти не прикасался еще (известна только одна случайная юношеская его литография 1898 года). Чуждой осталась для него и техника кисти, доведенная до такой маэстрии японскими каллиграфами и воспринятая, например, Александром Бенуа. Японцы его восхищали, однако подражать им он не хотел. Не поддался он и очарованию «живого рисунка», которым тот же Бенуа любил щегольнуть на страницах «Мира искусства». От XVIII века Добужинский унаследовал пристрастие к силуэту, но страстью его была именно выточенная линия. «Сухая» техника пера, в противоположность «жирной» каллиграфии кистью, более всего отвечала графическому его мышлению. Он работал настойчиво, облюбовывая подробности, хотя, как мне думается, филигранная стилистика уже в то время его не удовлетворяла, он искал выхода из заколдованного крута «бирдслеевщины»… Сразу определившемуся предпочтению к технике пера Добужинский остался верен и позже, но его отношение к линии, к филигранной свободе с годами заметно изменилось, отчасти под влиянием той идеологии формотворчества, которую принято называть кубизмом. Да, кубизм «задел» Добужинского еще в эпоху, когда казался враждебным всему, что поощрялось «Миром искусства». Ни в чем,может быть, не проявилась так «вторая природа» Добужинского, тяготение к правде сегодняшнего дня, невзирая на любовь к стилям минувшего и к декоративной стилизации: лишнее подтверждение той двойственности (отнюдь не разлада), которую я отметил вначале как лейтмотив его творчества. Современные акценты искусства дороги Добужинскому не меньше, чем воскрешенная традиция. И доказывают это не одни его позднейшие рисунки. Так, будучи преподавателем в школе Званцевой (я хорошо помню выставки этой школы), он прививал ученикам никак не ретроспективность, а внимание к природе, я бы сказал, под сезанновским углом зрения. Из первой поездки в Лондон в 1906 году он вернулся уже в достаточной степени «революционизованным». Дальше — больше. «Геометрия» Добужинского не случайная прихоть, он пришел к ней исподволь, изучая систематически искусство Запада. Пришел, однако, не с тем, чтобы отречься от прежних кумиров. Старый Петербург и новая Европа как-то неожиданно уместились на кончике его пера. В особенности обнаружилось это после вторичной поездки в Париж и Лондон (в 1914 году). Влияние кубизма на Добужинского тем интереснее, что выразилось не в каких-нибудь внешних заимствованиях у последователей, а, так сказать, во внутренней структуре его рисунка. Он вовсе не сделался кубистом, не изменил навыкам молодости, но по-своему претворил графическую суть кубизма: упрощая линию, подчиняя ее творческой воле не декоративным «вытачиванием» только, а геометризацией, доводя подчас книжный рисунок до кубистского схематизма. Это не все. Надо помнить, изучая манеру Добужинского, что одновременно с выработкой упрощенной, послушной сознанию линии, прихотливо выточенной или геометрически заостряющейся, одновременно с претворением ксилографической тенденции и внушением кубизма его влекло и в «противоположную» сторону: от мастерства, от формы, закаленной в графическом горне, к свободной скорописи пером. Свидетельствуют об этом и ранние его работы, но художник в период первоначального своего книжного искуса еще слишком ограничивал себя, добиваясь «техничности», чтобы давать волю беглому штриху. Лишь со временем, пройдя долгий путь самопреодоления, он разрешил себе манеру, я бы сказал, «эмоциональную», непроизвольную, в отличие от того, что является сознательно-волевым графическим умением. И тут, если угодно, признак той же «двойственности». В иных иллюстрациях Добужинского строгая линейная ритмика вдруг сменяется быстрыми рисуночными росчерками, мельканием коротких черточек, нервными «загогулинами», безусловно выпадающими из рамок собственно графики, приближающими ее к живописному скэчу «по впечатлению». Несомненно: на свободном штрихе Добужинского отразилось его увлечение рисованием с натуры. Он много рисовал с натуры в годы войны. Я видел, еще в 1914 году, его альбомы путевых набросков с фронта, куда он ездил в качестве художника Красного Креста вместе с бароном Н. Н. Врангелем, — в них отпечатлелся Добужинский-зарисовщик, остроумный наблюдатель-экспромтист, каким я не знал его прежде. Этот военный опыт определенно повлиял на многие последующие иллюстрации художника — «Свинопас» и «Принцесса на горошине», «Калиостро» — и побудил приняться опять за офорт 1918 год. С тех пор чаще и чаще «двоится» его манера. Ксилографические прямые и параболы чередуются с импрессионистской штриховкой: четкая петербургская стилизация, более или менее заостренная колючими, «готическими» мотивами и кубическими «углами», переходит в живой, легкий набросок. Я сожалею, что у меня нет перед глазами всей графики Добужинского (хотя бы и в приблизительных репродукциях). Лишь тогда я взялся бы проследить, шаг за шагом, этап за этапом, это восхождение художника от подражательного очерка пером к завершенному стилю. Не располагая таким материалом, я принужден довольствоваться тем, который сохранился в моей памяти «от петербургских дней» и дополнен попавшими мне на глаза книжками, выпущенными позже в России, да несколькими оригиналами у берлинских издателей. Быть может, я и упущу кое-что существенное в огромном графическом наследстве Добужинского, которым долго не перестанут интересоваться любители книжного украшения и начертательного волшебства.
Я помню дебюты Добужинского в «Мире искусства» (1901–1902). Ему исполнилось уже двадцать шесть лет (он родился в 1875 году). Сначала поместил он несколько виньеток. В них явно сказывалось, помню, влияние Лансере, успевшего выработаться к тому времени в блестящего мастера-«ампириста». Но индивидуальность Добужинского обнаружилась сразу — в усмешке, которой не знал всегда задумчивый и пластически строгий Лансере. Усмехался Александр Бенуа, да иначе. Не надо забывать, что Добужинский начал карьеру рисовальщика и сатиры. В том же 1902 году были напечатаны в «Шуте» его злободневные карикатуры. Я представляю их себе смутно, но осталось впечатление едкости, не слишком злой, скорее — шаловливой. Первый «Петербург» художника появился тогда на открытых письмах Общины св. Евгении[210]. Технически робки еще эти тщательные миниатюры, щеголявшие суховатой обводкой пером и цветными гравюрными заливками, и все же свой стилистический пошиб так им присущ, что со времени их издания можно говорить скорее о подражании Добужинскому, чем о подражании самого Добужинского. Он не заимствовал, он учился у старших товарищей и пробовал силы. Когда карикатура была заброшена, началось серьезное изучение старопетербургских стилей, шрифтов, книжной каллиграфии. Любовь к декоративной букве, вытекающей из орнамента, спаянной с орнаментом в графическое целое, сразу определила характер его книжного творчества. В то время как Сомов, импровизуя свои прелестные черные или подкрашенные узоры, менее всего заботился о буквах и шрифтах, а Бенуа и подавно, Добужинский под влиянием Лансере захотел специализоваться в области собственно прикладной графики и быстро достиг отличных результатов. В «Мире искусства» 1903 и 1904 годов появились уже многочисленные его надписи с росчерками и без росчерков, косыми и прямыми шрифтами, тщательно вырисованные, вдумчиво вкомпонованные в страницу. Мастерски исполнены заголовки и фронтиспис в «Русской школе живописи» А. Бенуа; титул, заставки, архитектурные силуэты в Музее Александра III (барона Н. Н. Врангеля), фронтиспис «Архангельское» в «Мире искусства». Из открыток Общины св. Евгении этого года почему-то всего отчетливее запомнились «Ворота Камероновой галереи» Царского Села. Значительно самостоятельнее стали и виньетки — они связаны школьной стилистикой, но уже обольщают подчас неожиданным оборотом графической мысли. Но главное внимание художника отдано букве, замене типографского знака рисунком от руки, четким и точным, однако не механически правильным, с едва уловимыми неровностями, утолщениями и кривизной, «приятной для глаза». Впрочем, тут, может быть, необходима оговорка. Увлечение «Мира искусства» нарисованными заголовками (и виньетками!) если и оправдывается эстетически (можно сказать, что художественно нарисованный шрифт красивее наборного, так же, как ручной набор красивее машинного), то с точки зрения книжной тектоники — еще большой вопрос: в какой степени допустим чисто рисуночный элемент не в рукописном, а в самом обыкновенном печатном издании? Как бы хитро ни приноравливал художник рисунок своих букв к типографской странице, — заголовки, титульный лист, надписи на обложке набором, если красив набор, лучше «вяжутся» с книгой, чем графика… Очередная задача графиков не вставлять рисунки в набор, а создавать новые прекрасные шрифты (русский шрифт, кстати сказать, после изъятия твердого знака требует реформы: иные согласные «убегают» из слова без замыкающей его закорючки твердого знака). «Мир искусства» украсил русскую книгу и осмыслил прикладную суть графики, но вызвал и злоупотребление книжной декоративностью. С легкой руки Лансере и Добужинского вдруг показалось, что достаточно расцветить книгу заставками, виньетками, надписями и нарядить в оригинальную обложку для того, чтобы книга стала «художественной». Еще недавно сам украшатель ведь и не знал часто, что он украшает, и не принимал ни малейшего участия в типографском построении книги. С тех пор значительно утончилось отношение к делу, и эта новая утонченность уводит прочь от художественной каллиграфии и виньетки к изысканному наборному стилю обложки, фронтисписа и т. д. Есть предметы, которые нельзя украшать, не нарушая некстати роскошью их структуры. Современная книга становится одним из таких предметов. Декоративные мотивы на ее обложке и страницах кажутся навязчивыми. Особенно если сама книга издана не по типу роскошных изданий, а рассчитана на широкий спрос и должна быть общедоступной. Главной областью графики всегда останется иллюстрация. Поскольку иллюстрированная страница книгу украшает, и книга будет украшена. Но «виньетизм» и заглавная каллиграфия отойдут, пожалуй, в область предания. «Мир искусства», а затем «Аполлон» характерны тем, что придали русской заботливо изданной книге не всегда ярко выраженный, но всегда присутствующий, ретроспективный отпечаток, повернули ее к XVIII веку, к ампиру, к 30-м годам. Вероятно, это было нужно для восстановления графической традиции, утерянной в предшествующие десятилетия, но, с другой стороны, современный протест против книжных декоративных излишеств во имя конструктивности — законен. Добужинский-график нарисовал около восьмидесяти обложек и ни разу, ни единственного разу, не повторился! Каждая обложка Добужинского своеобразный графический микрокосм и новая идея декоративного заполнения прямоугольной поверхности.
Вспоминаются обложки Добужинского, очень пышные, — использован каждый дюйм бумажного листа, до краев его доходит орнамент, обрамляющий заглавие, ветвясь в стороны густыми арабесками. Вспоминаются другие, состоящие почти из одной надписи в медальоне разнообразнейших очертаний: ромба, многоугольника, овала и т. д. Есть с иллюстрационным содержанием и есть геометрически беспредметные; выдержанные в каноне определенного стиля и являющие фантастику чистейшей воды; в несколько цветов и однотонные; с рисунком, ярко выпирающим наружу, и, наоборот, с рисунком, оттененным, как нежная вышивка. У одних надпись композиционно подчеркнута (что как будто и вызывается прямой задачей обложки: громко называть книгу и автора), у других — буквы заглавия запутались в узоре и читаются с трудом. Одни замысловаты, как умеет быть замысловат Добужинский, выдумщик бесподобный, к услугам которого неиссякаемый графический рог изобилия, другие щеголяют простотой, пластическим лаконизмом, как, например, столь мне памятная обложка. «Аполлоны»… Словом, почти о всякой обложке можно написать отдельное исследование, разобрать ее стилистические частности, ее композиционный лад, ее связь с текстом книги и т. д. Добужинский всегда блещет новым приемом, умело избегает и ремесленничества, чего никак не скажешь об очень многих графиках, «успокаивающихся» на какой-нибудь из своих удач. Первые обложки Добужинского появились в том же, отмеченном уже 1904 году: к «Уставу Кружка любителей изящных изданий» и к «Намекам и обликам» Ходыревой. В следующем, 1905 году он отвлекается опять в сторону сатиры — с политическим привкусом (рисунки в журнале «Жупел»). Но затем наступают годы, особенно щедрые на обложки. Создается «Шиповник» во главе с Копельманом и Гржебиным, и художник, нарисовавший популярную марку этого издательства, дает графические фантазии на тему «Город» в первый альманах «Шиповника» (под заглавиями «Будни» и «Праздник») и фронтиспис «Смерть» — во второй альманах, украшает аллегорическими композициями «Март», «Ноябрь», «Декабрь», Революционный календарь Бурцева[211], и обложками — серию книг, выпущенных тем же издательством: «Политические сказочки», «Мелкий бес» и «Тяжелые сны» Ф. Сологуба, «Рассказы» Б. Зайцева, «О мистическом анархизме» Г. Чулкова, «Гойя» Бенуа, «Морщинка» А. Ремизова, Собрание сочинений Кнута Гамсуна и др. Четвертый и седьмой альманахи «Шиповника» выходят тоже в его обложках. Это было время зарождения новых издательств в Петербурге и Москве, с уклоном к изощрениям модернизма. Для издательства «Факелы»[212] Добужинский рисует обложки к «Победе смерти» Сологуба, к «Стихам» Верлена в переводе Сологуба и к «Весной на Север» Г. Чулкова; для «Эона» — к «Часам» и «Чертову логу» А. Ремизова; для «Оры» к «Трагическому зверинцу» Зиновьевой-Аннибал, к сборнику стихов «По звездам» Вячеслава Иванова и к альманаху «Цветник Ор». Одновременно в эти 1905–1908 годы он сотрудничает в сатирических журналах «Адская почта» и «Сатирикон»[213], а также в «Золотом руне» Н. Рябушинского. Работает и для ряда других издательств: для Евгениевской общины, «Пантеона» (фронтиспис к «Зовам древности» Бальмонта), «Сириуса» («Пруд» А. Ремизова), «Ежегодника императорских театров» (инициалы), для журналов «Парижанка»[214] (заглавный лист первого номера) и «В мире искусств»[215], выходившем в Киеве, и выполняет ряд графических работ для московского издательства «Мир»[216].
 М. Добужинский.
Иллюстрация к повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи». 1922.
М. Добужинский.
Иллюстрация к повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи». 1922.
Со времени поселения обложки «Намеков» Ходыревой прошло четыре года. Художник успел завоевать себе славу изысканнейшего каллиграфа и виньетиста. Его штрих стал уверенным, и заметно улучшился самый рисунок: силуэт анатомической и предметной формы, несколько вялый в ранних работах. Орнаментовка некоторых обложек этой поры уже выдает будущего «готического» Добужинского, гофманиста и игрушечника, а в виньетках, например, к «Царскому Селу» А. Бенуа и в заставках «Золотого руна» стилистическое его мастерство достигает полной убедительности. Он еще скуп на книжные иллюстрации (несколько рисунков к Пушкину, Крылову, Метерлинку), но темперамент иллюстратора ярко вспыхивает хотя бы в таких революционных рисунках, как «Октябрьская идиллия» в журнале «Жупел» (улица, следы крови, забытая на мостовой детская кукла).
Годы 1909-й и 1910-й являются для меня каким-то водоразделом в творчестве Добужинского, может быть, потому что с этого времени он стал близким другом издававшегося мною «Аполлона». Однако этот период, думается мне, отражает и некий перелом в графической деятельности художника. С одной стороны, он забрасывает первоначальный петербургский свой ампир и все чаще заглядывает из пушкинского «Старопетербурга» в страну детских воспоминаний, а с другой — переходит от декоративной стилистики чисто виньеточного характера к литературной иллюстрации. После «Ночного принца» Ауслендера (в «Аполлоне») появились его цветные рисунки к стихотворным аллегориям С. Рафаловича в книжке, изданной «Шиповником» (Злоба, Ревность, Скупость, Нежность), и ряд иллюстраций в «Детском альманахе». Немного позже он иллюстрирует рассказ Саши Черного в сборнике «Жар-птица», украшает игрушечной фантазией первый номер «Галчонка»[217], импровизирует длинные серии рисунков для «Азбуки „Мира искусства“» и для «Азбуки» своих детей, и, наконец, пленяется андерсеновской «Девочкой с серными спичками». Иллюстративнее становятся и его виньетки: например, к стихам Бородаевского и к «Месяцу в деревне» Тургенева в «Аполлоне». Эти виньетки, так же как у Сомова и зачастую у Александра Бенуа, представляют сами по себе занимательные миниатюрные повествования. Обложки Добужинского сравнительно редки в эти годы, он рисует их неохотно. Я помню, каких уговоров стоило мне добиться обложки для «Аполлона». Вспоминаются при этом и его слова, что обложки «до смерти надоели» ему, и уж если делать, то не по-обычному, а чтобы «в середине ничего не было: пусть весь узор растекается по краям и на корешке». Он так и нарисовал, создав, по общему признанию, одну из удачнейших своих книжных рамок. Аполлоновской рамке неоднократно подражали другие, менее изобретательные художники; еще не так давно вышел в Петербурге журнал «Аргонавты» в обложке, до обмана, что называется, под аполлоновскую Добужинского. Такая живучесть декоративной частности (пятьдесят лет исполнилось аполлоновской обложке!) сама по себе доказывает дарование мастера: найденная им графическая композиция выдержала многолетнее испытание и все еще находит подражателей. Добужинского никак не упрекнешь в однообразии. Он может быть более или менее силен как рисовальщик; случается, что рисунок его сух, но индивидуальной выдумки от него не отнимешь. Это обстоятельство объясняется и обычно серьезным его отношением к искусству книги. Я уже сказал: книжный узор для него магический микрокосм. Он умеет уместить на одном квадратном сантиметре целую «повесть без лиц», заставить мельчайшие подробности говорить на языке эмблематических намеков. При этом всякая деталь, попав на его перо, становится эмблемой, почти всегда полушутливой, но не шуточной, не юмористической, а волшебствующей не совсем всерьез (вот почему и не вышло из него юмориста; для страниц «Сатирикона» рисунки его были тяжелы). Вообще трудно и представить себе Добужинского не улыбающимся, но улыбка его немного «с того света». Я помню, как высоко ценил его Иннокентий Анненский. Поэт «Кипарисового ларца» понимал тяжесть этой улыбки. Среди книжных украшений Добужинского за первые годы «Аполлона» выделяются: обложка с портретным медальоном посреди, для «Мемуаров Вагнера», изданных «Грядущим днем», и заглавный лист к «Тимму» В. А. Верещагина. Очень красив также проспект «Истории русского искусства» под редакцией Грабаря. В то время «Грядущий день» пригласил Добужинского на роль художественного редактора: решено было издать перевод гриммовского «Микеланджело»; художнику была поручена вся декоративная и тектоническая часть книги, печатавшейся отдельными иллюстрированными выпусками. Вначале Добужинский горячо принялся было за этот кропотливый труд виньетиста. Его увлекли узоры Ренессанса, увлекло и право делать все так, как он находил нужным, не считаясь с соображениями издательской экономии. И получилось очень красиво, хоть и перегружено графической роскошью. Но ренессансная стилистика скоро ему наскучила, работа потеряла интерес после напечатания первых же выпусков. Творческая задача была разрешена, оставался дальнейший полуремесленный «контрапункт узора» на те же ренессансные темы. Для продолжения этой работы нашелся другой редактор. Независимо от «Микеланджело», Добужинского, видимо, уже утомила книжная каллиграфия, тянуло к менее связанному искусству. Между тем заказы на иллюстрации были редки. Все издатели хотели обложку от Добужинского, — это стоило недорого и придавало книжке нарядную внешность, но немногие издатели шли на расходы, неизбежные для образцового воспроизведения иллюстраций. Добужинский ушел от книги к декоративной живописи, к театральной постановке. Восторг, вызванный его «Месяцем в деревне» в Московском Художественном театре, должен был, конечно, повлиять на его деятельность графика. Он погружается в театр и охотно уступает права на графическое первенство младшим специалистам-книжникам: Нарбуту, Чехонину, Левитскому, Митрохину, но если рисует и меньше, то не менее успешно; напротив, перо не поглощает его трудового дня, зато теперь, берясь за перо, он легко и уверенно создает красивейшие из своих обложек: к «Памятникам живописи» А. Бенуа, к журналу «Музыка»[218] (все четыре обложки, к 1913–1916 годам, прелестны) и ряд других. Мастерски скомпонованы обложки Собрания сочинений Лермонтова и «Книги масок» Реми де Гурмона в издании «Грядущего дня», обложка «Истории Смольного института», «Невского альманаха», «Красного Креста в международных отношениях», каталога Третьяковской галереи. И все-таки наиболее выразителен, пожалуй, уже упоминавшийся фронтиспис к «Казначейше» Лермонтова. Красивы и три иллюстрации Добужинского к этой книге, тщательно изданной «Кружком любителей изящных изданий», а также иные иллюстрации лермонтовских стихотворений (для «Грядущего дня»). И фронтиспис «Казначейши», со сложной тонко-узорной рамкой, выпускающей во все стороны иглы, стрелы и полумесяцы, представляется мне на редкость красноречивым «Добужинским». То, что я называл его гофманизмом, вылилось тут в шаловливую фантастику, царапающую воображение знакомыми призраками лермонтовской России. Тяжелая усмешка русского Байрона, в юношеской сентиментальности которого такая дряхлая и, может быть, нерусская тоска и столь неподражаемо-русская жизнь, окружавшая поэта, отразились, как в магическом зеркале, в этом узоре-иллюстрации, сквозящем старинной и современной иронией. Подобная графика еще не символична, — символизации, в строгом смысле, Добужинский вообще довольно чужд, хотя некоторые городские его образы и достигают напряженности символа (например, вспоминается Диавол в «Золотом руне», чудовищный паук, повисший над тюремным двором, по которому бредут заключенные), но в этой игре подробностями есть иносказательный задор, который и тревожит и тешит вместе… Этот задор окрыляет большинство издательских и других «знаков» Добужинского. По части знаков, или марок, вряд ли превзошел его кто-нибудь из теперешних графиков. Вспоминаются: после знака «Шиповника» — марки издательств «Оры», П. Сойкина и Юргенсона[219], концертов С. Кусевицкого, «Новой художественной мастерской», бюро путешествий «Путник», учрежденного бароном Н. В. Дризен, Художественного бюро Добычиной, кабаре «Привал комедиантов», «Кукольного театра»… Затем, уже не на моей памяти, нарисованы Добужинским марки «Архитектурной мастерской», Комитета популяризации художественных изданий[220], «Дома искусств», Петербургской филармонии, Студии еврейского камерного театра, книгоиздательств «Странствующий энтузиаст»[221], «Начала»[222], «Аквилон»[223], «Колос»[224], «Эпоха»[225]. Каждая из этих графических миниатюр выражает стилизованно-сжато общий дух, вдохновительную суть предприятия, издательства, учреждения, которому служит гербом, не будучи сплошь да рядом не чем иным, как декоративной разработкой случайной эмблемы. Марка Добужинского почти всегда — остроумная кристаллизация «насыщенного раствора» мыслей «по поводу»… Вообще способность думать о многом, рисуя малое, и заставлять видеть в малом большое — отличительная черта его графики. Это дает простор критическим размышлениям и убеждает лишний раз, что нет мелочи в искусстве, которая не обретала бы загадочной силы внушения, когда художник хочет и умеет намагнитить эту мелочь своей фантазией.
Самому Добужинскому, как большинству графиков не по исключительной специальности, часто казалось, вероятно, что он разменивается на пустяки, обогащая теплицы «бухшмука»[226]. Известно, с какой обидной снисходительностью относятся к «бухшмуку» живописцы, не желающие ничего видеть дальше станкового своего мастерства: графикомания — ведь это главное обвинение против «Мира искусства» со стороны нынешних поборников «чистой живописи», всегда готовых отмести то, чего они не понимают. Заблуждение! Большой вопрос еще, многое ли из того, что дали эти «чистые живописцы», останется в назидание векам, между тем бесспорно остались уже, не потеряли свойства волновать воображение и будут долго еще волновать иные виньетки Сомова, Лансере, Добужинского, как волнуют и теперь книжные ксилографии Грина или медные гравюрки Гравело. Большой вопрос, кто долговечнее из художников недавнего прошлого: Алексей Егоров или Галактионов, Монтичелли или Бирдслей (я беру крайности), Слефогт или Теодор Гейне и т. д. В области чистой живописи мы, современные русские, не можем, пожалуй, похвастать непререкаемыми образцами, но графика теперь, как и древнеиконописная изография, — цветущая ветвь русского искусства. Многое в графике Добужинского, особенно среди работ последних нескольких лет, когда с новой силой загорелась в нем любовь к городу (под влиянием петербургских «развалин»?) останется светлым лучом в темном царстве российских экспрессионистов, имажинистов и прочих максималистов от живописи. Добужинский вырос за это время, вернувшись к графике, которой начал было тяготиться, увлеченный театральными постановками и вообще декораторством большого масштаба. «Малое искусство» книги снова обрело в нем незадолго до его смерти (в 1953 году) разностороннего и незаменимого мастера, фантаста и насмешника с налетом «старопетербургской» грусти. Круг его графических интересов заметно расширился. Он не довольствуется больше техникой пера (надо признать, пером злоупотребляли мирискусники, забывая иглу, резец и литографский карандаш). Он делается литографом и «гратографом». И раньше уже граверное мастерство ему было знакомо: первая автолитография «Звезда Вечерняя» относится к первому году его выступлений на страницах «Шута» в его студенческие годы (1898), затем ряд офортов исполнен в 1901 году в мастерской проф. Матэ, литография к «Казначейше» — в 1913-м, и т. д. Но только с 1921 года литографский камень получил в его мастерской прочные права гражданства. Я придаю большое значение этому уклону Добужинского, ясно выраженному в конце его жизни, к непосредственной графической технике — от техники, рассчитанной на фотомеханическое воспроизведение. Мне кажется, что здесь сказался дух времени не меньше, чем зрелость самого художника. По всему, что довелось видеть мне из русских изданий за последние годы, я заключаю, что гораздо сознательнее стало в России отношение к искусству книги и значительно углубилось внимание к самому материалу графической фактуры. Целая школа ксилографов в Москве (во главе с Фаворским), обилие автолитографий, принадлежащих художникам, прежде не имевшим понятия об этом искусстве, прекрасная внешность ряда книг, любовно изданных по-новому — без дешевого излишества цинковых клише, но с соблюдением книжной архитектоники вплоть до малейших деталей верстки, т. е. того, что можно назвать «страничной композицией», — все свидетельствует о новом этапе русского художественно-издательского дела. Вчерашний виньетизм, — техника пера по преимуществу, — уступает место конструктивизму, с использованием, для иллюстраций, всех видов графической техники. Это еще первые шаги, вероятно, но они обещают увлекательнейшее книгостроительство, которым достойно завершатся усилия мирискусников (ведь результаты, достигавшиеся ими уже в ту «первую пору», бывали иногда поразительны: например, «Д. Левицкий» С. П. Дягилева или «Царское Село» Александра Бенуа). Немного вышло художественных книг в России за 1918–1920 годы. Было не до того. А Петербургу пришлось особенно тяжко. Но политическая и бытовая трагедия столицы не ослабила энергии таланта у таких характеров, как Добужинский. Лишившись поддержки издательств, которые закрывались одно за другим, терпя вместе со всеми петербуржцами грозный петербургский голод, он находил время на книжную работу и выполнял ее с прежней принципиальной добросовестностью, не поступаясь ничем, в ужасающих условиях борьбы за существование. В 1918 году исполнены Добужинским на редкость занятные иллюстрации к «Новому Плутарху» Кузмина. Подробное заглавие — «Чудесные приключения Иосифа Бальзамо, графа Калиостро». Книга вышла годом позже в издании «Странствующего энтузиаста»: в ней свыше двадцати пяти рисунков различными манерами blanc et noir: сочным штрихом и густой заливкой, черным и белым силуэтом или импрессионистским наброском. Я уже говорил о «Барышне-крестьянке», созданной в 1919 году, выпущенной в свет в 1923 году (Госиздатом). Но этим и ограничиваются иллюстрации художника за голодный период. Нарисовал он также несколько марок и обложки: к стихотворениям Эрберга «Плен», к «Санктпитербурху» Столпянского (изд. «Колос»), к Известиям Высшего института фотографии и фототехники; кроме того, виньетку для первого номера и прелестную обложку журнала «Дом искусств», знак Эрмитажа (для наклейки), два плаката тушью, «Будочник» и «Городовой», и форзац для издания Гржебина «Весь мир». С 1920 года количество работ сразу возрастает. Начинаются новые городские циклы художника (серия «Городских снов», 1918–1921). Запустелый, разваливающийся Петербург овладевает его воображением. Снова он бродит по нему, наблюдая и зарисовывая, переживая по-новому пророческую жуть Достоевского. Мало-помалу восстанавливается быт, а с ним оживает и художественная книга. Много работает он также для «Петрополиса»[227]. Им украшен сборник стихов Анны Ахматовой «Подорожник» (обложка, фронтиспис); в его обложках выходят книги Кузмина «Вторник Мэри» и «Нездешние вечера» и стихотворения Георгия Иванова «Сады», его виньетками иллюстрированы поэма Одоевцевой и «Петербург» Блока во втором номере журнала «Дом искусств». Наконец, филармония выпустила в его обложке «Жизнь и творчество Глазунова». В 1921 году он иллюстрирует «Бедную Лизу», «Скупого рыцаря» и в 1922 году «Тупейного художника» Лескова, исполняя одновременно всю мелкую работу по украшению этих книг, изданных с большим вкусом издательством «Аквилон». Когда, после долгой разобщенности с художественным Петербургом, я в первый раз раскрывал некоторые из перечисленных изданий, я был взволнован вопросом: что Добужинский? За рубежом ходили слухи, будто он «совсем уж не тот», увлекся кубистикой, отрекся от Старопетербурга, словом — не узнать. Что-то из этих слухов проскользнуло и в мои «Силуэты русских художников», написанные тогда, когда из России почти никаких книг не проникало в Прагу. Но слухи оказались, как очень многое еще, очередным измышлением эмиграции. Добужинский ничуть не изменил Добужинскому. Я не скажу, что он остался тем же, — талант не топчется на месте: или вперед, или назад, но он все сохранил, что было в нем лучшего. Сохранить лучшее, преодолевая ошибки прошлого, значит идти вперед для художника с определившейся индивидуальностью. Это поступательное движение обнаруживает и позднейшая графика Добужинского, по крайней мере то, что я видел, но видел я, конечно, не все. Начну с подробности. Превосходны заглавные буквы «Тупейного художника». Они лучше — строже, графичнее и содержательнее — прежних инициалов Добужинского, хотя отличны были его красные буквы и в «Аполлоне», и в «Ежегоднике императорских театров». Также и упоминавшаяся заглавная виньетка для «Культуры театра» — завершеннее, бесспорнее, чем начертательный стиль прежних колючих узоров Добужинского. Такой простоты, такого лаконизма не было у него раньше, не было приближения к нему и в обложках «Музыки», и в ряде других работ. Этот лаконизм — результат предшествующих поисков. Если же в иных случаях художник действительно как бы стремился «уйти в себя», от старой симметричности, от исторических воспоминаний, уйти в область графических построений на «современнейший» лад, то это лишь кажущееся противоречие. Взять хотя бы обложку «Нездешних вечеров» Кузмина. Колючесть рисунка доведена до тонкого ломающегося зигзага, рамка разорвана, надпись «мушиными лапками» неправильно разбросана вкривь, вся изобразительность — только намек на пейзаж с морем, пальмами и занимающей полнеба скобкой полумесяца. И все же этот модернизм, несомненно отвечающий какой-то жеманной призрачности Кузмина, не имеет ничего общего с экспрессионистскими построениями «левых» художников. Обложка Добужинского лишь дальнейший уклон его «готики». Композиция остается живописной, декоративной, веющей теми же старопетербургскими реликвиями, каким-то отдаленным воспоминанием об екатерининской китайщине. Впрочем, — «екатерининской» тут, пожалуй, и натяжка (хотя на обложке к стихам Кузмина что может быть естественнее налета chinoiserie[228] XVIII века), но о «китайщине» думаешь невольно, разглядывая обложки Добужинского в этой манере заостренного упрощения. В самом штрихе — что-то от иероглифа тушью. Контур, намечающий фигуры и предметы, совершенно теряет характер обводящей линии, а состоит сплошь из штрихов-скобок, с утолщением посредине, то вытянутых обрывком параболы, то мелко закрученных змейкой, то заостряющихся волоском. Этим контуром исполнен «Свинопас» Андерсена, да и большинство послереволюционных работ художника. Рисунок его все более и более «разрывается» на графические элементы, действительно напоминающие какие-то восточные иероглифы, и в этом — своеобразное очарование краткости и легкости… Так уточнилась стрельчатая готика Добужинского, потеряв свою предметность: тонкая летящая стрела становится эмблемой его улыбчивой магии (обложки «Подорожника», «Вторника Мэри», марка «Странствующего энтузиаста»).
Чуть ли не самым плодовитым годом по части графики за всю жизнь Добужинского сказался 1922 год. Он делает сериями иллюстрации для «Петрополиса» («Лески» Кузмина), для «Аквилона» («Белые ночи»), иллюстрирует свои «Воспоминания об Италии», «Разбойников» Шиллера, рисует автолитографии для «Розы и креста» Блока (иллюстрация и обложка), «Развалин Петербурга», «Станции Дно» и др., а также цикл из десяти листов для альбома «Петербург 1921 года». Помимо того, рисует заставку и виньетку к рассказу А. Ремизова, пять иллюстраций чернилами «Фонтанка белой ночью», четыре заставки к «Орфею» Глюка, иллюстрации к рассказам «Пых» и «Амуры и бесенята», плакат литографией для кабаре «Странствующий энтузиаст» и ряд обложек: для книги Петрушевского «Средневековое общество и государство», для «Поэм» Верхарна, для «Эстетических фрагментов» Шпета, «Переписки Скрябина» (изд. филармонии), театрального журнала «Зеленая птичка» (изд. «Петрополис») и др. Наконец, к следующему году принадлежат: обложка «Огней Св. Доминика» Замятина, серия рисунков для «Западни» Эмиля Золя, обложка «Белых ночей», «Блок и театр» (изд. «Новая Москва»[229]), «гратография» — «Виленский дворник», иллюстрация к «Петербургу Достоевского» Анциферова изд. Брокгауза и Эфрона), фронтиспис и обложка для «Рисунков М. Добужинского» в издании Госиздата…
Графика Добужинского — явление сложное и многовыражающее… Но для меня, повторяю, она выражает прежде всего то, что навсегда останется в моей душе от души Петербурга… Петербурга старых годов, открытого на моих глазах художниками «Мира искусства», «прекраснейшей столицы в мире», как говорили когда-то иностранцы, Петербурга — призрака времен минувших и Петербурга действительного, реального, того вчерашнего Петербурга, каким знал его поэт «Белых ночей», будничного и фантастического в этой своей особой будничности, странного, умышленного города, и, наконец, — моего, детского Петербурга, обласканного светом первых, незабываемых впечатлений. Вот это петербургское наваждение — графика Добужинского, оглядывающаяся назад, современная до грусти, волшебная, как игрушки, ирония-печаль, жуть-насмешка, улыбчивое волшебство. Она очень литературна, эта графика, насквозь пропитана ароматом тех книг, которые украшает. Но иногда кажется, что вся она, от начала до конца, ни о каких книгах ничего и знать не хочет, а только пользуется ими как поводом чтобы рассказывать нам одну-единственную мечтательную и лукавую думу своего создателя, художника-Калиостро, превращающего в графический узор странную душу Петербурга.
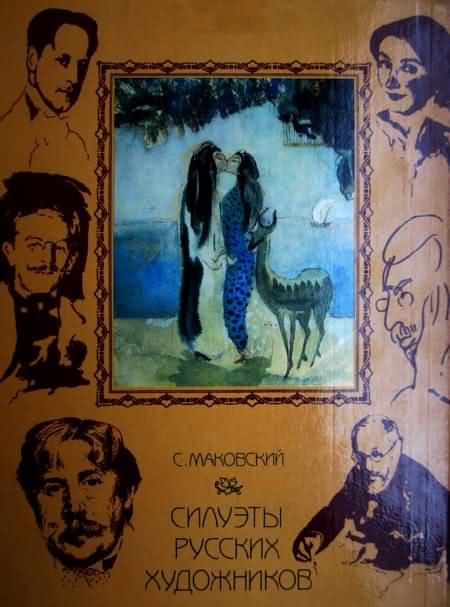
В. М. Толмачев РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ (О жизни и творчестве С. К. Маковского)
На рубеже веков самосознание русской культуры в корне изменилось. Не в последнюю очередь это было связано с таким взглядом на предмет творчества, который позволял бы воспринимать национальную традицию как неотъемлемую часть европейской культуры. Сближение родного и вселенского под знаком особой эстетической взыскательности предполагало появление своего рода универсалистов и просветителей вкуса. Одним из самых ярких «русских европейцев» — художественным критиком, организатором выставок, поэтом, издателем, мемуаристом, наконец, русским денди, был С. К. Маковский (1877–1962). Сергей Константинович Маковский родился 15(27) августа 1877 года в Санкт-Петербурге в семье академика живописи Константина Егоровича Маковского (1839–1915), известнейшего передвижника, автора многочисленных жанрово-бытовых картин, исторических полотен, портретов (он, в частности начиная с 1862 года создал несколько портретов Александра II, в том числе и его посмертное изображение). Дед Маковского по отцу, Егор Иванович, предки которого восходили к давно обрусевшему, еще при Екатерине II, польскому корню, — также художник, входил в число основателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Мать Маковского, Юлия Павловна (урожденная Леткова, 1858–1954), была, по свидетельству современников, редкой красавицей и познакомилась со своим будущим мужем, когда, мечтая о карьере оперной певицы, приехала в Петербург из родной Москвы для поступления в консерваторию. С детства Сергей Константинович жил в мире искусства. В доме Маковских бывал весь цвет петербургского артистического общества. Ребенком он не раз позировал отцу («Маленький антиквар», «Боярский сын», «Семейный портрет», «Маленький вор» и др.). В 1885 году Маковский впервые оказался за границей (Франция, Швейцария). Поездки в Европу повторялись из года в год, и, как вспоминал Маковский, ему посчастливилось застать еще бальзаковский Париж. Тяжелая болезнь матери в 1888–1889 годах изменила отношения в семье; в 1893 году К. Е. Маковский оставил жену. Хотя после этого Маковский виделся с ним очень редко, он, судя по всему, сохранил к нему уважение и где-то напоминал его как душевно (барство, сибаритство, страсть к коллекционерству, непроизвольное умение настроить окружающих против себя), так и профессионально (интерес к национальному началу в живописи). Вместе с тем именно работы Маковского-отца оказались тем типом творчества, который со временем стад олицетворять для Маковского-сына провинциализм русского искусства. Закончив в 1896 году реальное училище Гуревича, Маковский в 1897-м был принят на физико-математический факультет Петербургского университета и по его окончании поступил на службу в Государственную канцелярию. Еще в университетские годы он сблизился с кружком А. Н. Бенуа и по выходе первого номера литературно-художественного журнала «Мир искусства» (ноябрь 1898 г.) стал членом сложившегося вокруг него объединения, которое заявило о себе петербургской «Выставкой русских и финляндских художников», устроенной С. П. Дягилевым в январе 1898 года. Эстетическая программа фактически первого в России символистского иллюстрированного журнала, издававшегося на средства княгини М. К. Тенишевой и С. И. Мамонтова, оказала сильное воздействие на Маковского. Речь идет о требованиях художественной политики «Мира искусства», направлявшейся Бенуа и Дягилевым: отказ от идейного утилитаризма живописи и, как правило, сопутствующей ему стилистической небрежности ради творчества, назначение которого — поиск формы, максимально точно соответствующей оригинальному художническому видению; отрицание «застывших» канонов живописи (академизм XIX века, передвижничество), обрекающих русских мастеров на провинциализм; важность иронической стилизации, или особой разновидности декоративистского ретроспективизма, который позволяет увидеть настоящее сквозь оптику как бы наново просмотренных стилей прошлого (например, ампира); пропаганда эстетической привлекательности русской старины и в особенности тех ее проявлений, что возникли в «имперском» примирении Запада и Востока, Севера и Юга; знакомство читателей с новейшим европейским искусством (французские импрессионизм и символизм, немецкий модерн, английские прерафаэлиты); формирование среды профессиональной художественной критики и нового типа критической оценки; отношение к выставке или книжной графике как возможной сфере реализации синтеза искусств и т. д. Молодой Маковский сполна разделял позиции Бенуа (в свою очередь вдохновлявшегося сочинениями Дж. Раскина, Ш. Морриса, О. Уайлда, Т. Готье, А. Ригля, Г. Вельфлина, К. Фидлера, А. фон Хильдебрандта и в особенности книгой австрийца Р. Мутера «История живописи в XIX столетии») и его интерес к исторической роли художника в «общеевропейском духовном концерте». Как и у Бенуа, внимание к западному искусству никогда не было у него самоцелью, а служило инструментом борьбы за новую русскую школу живописи и даже (как и у других символистов) шире — частью «широкой, всеохватывающей, базировавшейся на известной гуманитарной утопии — идеи…»{33}. Утопизм нарождавшегося умонастроения, по Бенуа, разумеется, связан с преодолением «позитивистского» представления об искусстве и главным мифом символистской эпохи — верой в преобразование мира посредством артистизма, в предельно взятом выражении претендовавшего на роль «третьего завета». Парадоксальное сближение между культурой и культом под знаком самоопределения искусства стирало грани между «циниками» и «идеалистами», литераторами и художниками, каждый из которых в сфере своей специализации был вовлечен в поиск универсальной матрицы эстетического жизнестроительства. В этом смысле деятельность мирискусников стала одним из главных бродильных начал культурной среды, которую позже окрестили серебряным веком. Точнее сказать, деятельность именно этого кружка сообщила русскому символизму, изначально заявившему о себе в 1890-е годы в эстетике и поэзии, художнический импульс. Переиначивая знаменитую фразу, произнесенную в конце столетия английским художником М. Бирбомом по поводу движения прерафаэлитов, можно сказать, что весь русский символизм хотя и не был напрямую связан с художественным стилем, реализовавшимся в работах «кружка Бенуа», но переболел мирискусничеством «как неизбежной детской болезнью кори»{34}. Однако Маковский, разделявший эстетический настрой своих старших знакомых и регулярно, с осени 1898 года, посещавший мирискуснические «среды» (где, помимо основателей журнала, среди немногочисленного круга приглашенных бывали, к примеру, З. Гиппиус, Д. Мережковский, Н. Минский, Ф. Сологуб, В. Розанов), едва ли могпретендовать на роль идеолога. К тому же по темпераменту ему скорее была ближе роль импресарио нового творческого мироощущения. Быть может, поэтому его вдохновил жанр деятельности, избранный «самим» С. П. Дягилевым, — щеголем, эстетом до мозга костей. Дягилев, как известно, в своем «искусстве жизни» нередко разбрасывался на многие начинания, не любил письменного самовыражения и где-то чуждался общения с философами и литераторами. В чем-то основополагающем Маковский до конца жизни остался «дягилевцем». И эта печать эпохи, бесспорно лежащая на его стилизме, нередко вызывала к нему нерасположение («сноб», «оппортунист по натуре», «эстетствующий редактор»). Отсюда и нелестный оттенок его прозвища — Papa Мако. Вместе с тем, благодаря любви к поэзии и переносу атрибутов религиозно-философского способа мышления в сферу художественной критики, Маковский оказался на равных принятым в той писательской среде, которая к другим представителям мира «мазил» относилась по преимуществу не очень благожелательно. В 1898 году в журнале «Мир Божий» (№ 3) вышла первая статья Маковского «В. М. Васнецов и Владимирский собор», тема которой была подсказана мирискусническим представлением о национальном элементе в живописи и влиянием высоко ценившего васнецовское творчество Дягилева. Отметим, что в начале 1910-х годов Маковский пересмотрел свое ранее восторженное отношение к декоратору Владимирского собора, автору «Сестрицы Аленушки» и «Снегурки» как «возвестителю русской самобытности», «вдохновенному мистику», «художнику национальных откровений». Точнее, он по-прежнему считал, что интуитивно открытый Васнецовым путь к «народной красоте» верен, но его воплощение из-за весьма условного колорита и слабого рисунка обернулось манерностью и едва ли выдерживает критику. Подобная переоценка (по-своему коснувшаяся и характеристик, данных в разное время М. В. Нестерову) объяснялась не только охлаждением символистского интереса к модернизированному, на прерафаэлитский манер, византизму или поэзии древней национальной красочности, но и тяготением эстетического крыла русского символизма к решению «собственно» художнических задач. Однако перемена отношения к Васнецову или Нестерову у Маковского не сводилась к идейной эволюции. Критиком он был увлекающимся, спешащим выразить непосредственное впечатление, не однажды менявшим отношение к одному и тому же предмету. В то же время эта импрессионистичность не всеядна, не переливчато-капризна, а знает мерку личного вкуса, для которого главное — классичное, формоемкое напряжение в индивидуальном творческом усилии. Как художник. Васнецов должен быть воспринят, с точки зрения Маковского, в соединении силы и слабости. Он многое сделал для пересмотра канона русской живописи, но и сам должен быть пройден другими. Став поклонником внутренней формы. Маковский, наверное, не всегда находил нужным отстаивать свои позиции в споре. Временами казалось, что, как не очень стойкого полемиста, его даже можно «переубедить»… Этапом в постижении своих творческих возможностей стала для Маковского публикация «Собрания стихов» (СПб., 1905). В какой-то степени это современная интерпретация классицистической поэзии, упражнение на сложность, в какой-то — следование символистскому представлению о «безличной» музыкальности и стихах, тронутых холодком рассудочности. В центре этой безвоздушной лирики — образ природы, то красочной, то несущей в переливах звуков и умолчаний весть о смертном. На фоне сходной французской поэзии (П. Верлен) или стихотворений Ф. Сологуба и В. Брюсова книга дебютанта едва ли казалась оригинальной и, несмотря на метрическую тщательность, несла отпечаток безжизненности. Скепсис рецензентов, не разглядевших за эстетическим природолюбием книги лирическое лицо автора, на долгие годы сделал Маковского скорее арбитром вкуса в поэзии, нежели собственно поэтом. В 1900-е годы Маковский становится известным. Он заявляет о себе как художественный критик («Мир Божий», «Журнал для всех», «Искусство», «Страна» и др.), лектор (в 1906–1908 годах преподавал всеобщую историю искусств в петербургском Императорском обществе поощрения художеств), издатель. В 1907 году в сотрудничестве с бароном Н. Н. Врангелем, сотрудником Эрмитажа и искусствоведом А. А. Трубниковым, критиком В. А. Верещагиным Маковский основал журнал «Старые годы» (СПб., 1907–1917), который в своем ретроспективизме и пропаганде красоты «забытого» русского прошлого XVIII–XIX веков возобновил усилия «Мира искусства», а также трехтомного издания «Художественные сокровища России» (1901–1903). Но если для Бенуа (выпустившего в свет первые два тома) символом национальной русской самобытности был прежде всего Петербург и его пригороды, то редакционный комитет нового журнала влекла к себе красота европеизированного имперского прошлого в более объемном виде. Разумеется, оно было представлено в фондах музеев, дворцовых коллекциях, архитектуре и интерьере помещичьих усадеб, коллекциях меценатов, но требовало не только пропаганды в качестве целостного и оригинального стиля (что для многих было весьма спорным), но и общественной защиты: многие памятники варварски перестраивались, а иногда в угоду утилитарным запросам века и гибли. Успеху «Старых годов» способствовали знаменательные события — открытие Русского музея (1898), празднование 200-летия Санкт-Петербурга (1903), учреждение под предводительством великого князя Николая Михайловича Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины (в котором Маковский занял пост секретаря). «Старые годы» были изданием необычного типа — журналом не научным, а просветительским, предназначенным для коллекционеров-любителей, стремящихся отвоевать у времени гибнущую у них на глазах старину в виде как бесспорных экспонатов, так и милых сердцу бытовых подробностей. «Старые годы», собравшие за десятилетие своего существования исключительно ценный иллюстративный и архивный материал (живопись, скульптура, графика, зодчество, прикладное искусство, костюм, художественная промышленность), стали подобием любовно собранного музея, умещающегося в домашней библиотеке. Кроме того, к сотрудничеству Маковский привлек новое поколение критиков и историков искусства (С. Глаголь, И. Грабарь, Вс. Дмитриев, А. Койранский, П. Муратов, Н. Пунин, Н. Радлов, Н. Ростиславлев, Я. Тугендхольд и др.), для которых приоритетным было эстетическое представление о предмете своего интереса. Опыт издания «Старых годов» способствовал раскрытию таланта Маковского в организации художественных экспозиций (тем более что интересы Дягилева с конца 1900-х годов смещались в сторону театра и балета — организации в Париже «Русских сезонов»). В 1908 году он заведовал русским отделом на выставке, устроенной в Петербурге «Старыми годами». В 1909-м наступил черед «Салона» — устроенной в помещении музея и «меншиковских комнатах» Первого кадетского корпуса «Выставки живописи, графики, скульптуры и архитектуры», на которой было выставлено около 600 произведений русских мастеров рубежа XIX–XX веков (от В. А. Серова, И. И. Левитана, М. В. Нестерова до Л. С. Бакста, К. А. Сомова, М. А. Врубеля, Н. К. Рериха) — уже целого поколения, которое решительно пренебрегло бытописательством и сформировалось под влиянием мирискуснических идей. С некоторыми из живописцев — В. В. Кандинским, К. С. Петровым-Водкиным, Н. К. Чюрлёнисом — широкая публика знакомилась впервые. Успех «Салона» способствовал возрождению в 1910 году «Мира искусства» как художественного объединения (с 1903 по 1910 год группа художников формально не существовала). В том же 1910 году Маковский организовал выставку «Мира искусства» в Париже в зале Бернгейма-младшего, а также по поручению Петербургской академии художеств отвечал за художественную экспозицию русского отдела на Международной выставке в Брюсселе. Наконец, под эгидой «Общества защиты памятников и старины» и совместно с Французским институтом Санкт-Петербурга в 1912 году Маковский устроил юбилейную выставку «Сто лет французской живописи (1812–1912)», где было представлено более 900 экспонатов из различных иностранных и отечественных собраний. Разнообразная деятельность Маковского не могла не привести к кристаллизации его художественно-эстетических пристрастий, после конца 1900-х годов уже фактически не менявшихся. Наиболее выпуклое представление о них дают три выпуска его «Страниц художественной критики» (СПб., 1906, 1909, 1913). Первый из них, как это значилось в подзаголовке, посвящен «художественному творчеству современного Запада» и состоит из эссе разных лет о А. Бёклине, Ф. Штуке, М. Клингере, Дж. Сегантини, Э. Карьере, К. Менье, О. Бердслея, а также японском искусстве и ряде международных выставок. Выбор в качестве масштаба «европеизма» (прежде всего немецких художников) определен влиянием «кружка Бенуа». В восприятии Маковского Мюнхен — не иначе как «современные Афины». Соответственно в первом выпуске почти ничего не говорится о французских импрессионистах и постимпрессионистах, в сопоставлении с которыми некоторые из звезд немецкого Сецессиона 1890-х годов в начале столетия уже кажутся живым анахронизмом. Общая установка книги также едва ли оригинальна. Введение к ней можно принять за лексикон прописных истин эпохи декаданса. Но несмотря на заимствования и определенную претенциозность (в духе афоризмов уайлдовского романа), к общепринятому пониманию эстетизма Маковскому удается добавить нечто такое, что выделяет его среди русских критиков. Данное им определение красоты не имеет мистического характера, хотя он и прибегает к фразеологии, свойственной для Д. Мережковского или Вяч. Иванова. Идеал искусства для Маковского — «классичность», постижение «недвижного» в вечно движущемся. И только в этом смысле, говоря о «высвобождении формы», он готов признать религиозность новейшего творчества: «храмы и кумиры бессмертнее богов»{35}. Связывая стремление к формовыражению с чувствованием небытия («Красота — для созерцаний. Но вершина созерцаний — смерть»{36}), Маковский где-то вторит Ницше и ратует за сдержанную простоту искусства и истинность той реальности, которая противопоставляет себя «фальши» как «ложноклассицизма», так и «ложнореализма». Видимо, поэтому в эссе «Японцы» Маковский обращается к опыту идеограммы — опыту, рожденному не духом музыки, а магией зрительных постижений, «плоскостной мистикой», в своих двух графических измерениях вызывающей к бытию удивительную верность рисунка и букет выразительнейших намеков. Согласно этому представлению формулируется главный тезис всей книги:«Поэзией картины я называю интимное чувство художника, его духовное проникновение „по ту сторону“ изображенных реальностей, выявленное на холсте в образах, в рисунке, в тонах, во всей неопределенной цельности воздействия»{37}.Намечая бессознательное сходство между скорбной музыкой Брамса, поэзией вкрадчивой грусти Верлена, драмами Ибсена, философией Ницше, офортами М. Клингера («О смерти»), пластическим ритмом Родена и маскарадом противоестественной красоты Бердслея, Маковский дает суммарный образ художника конца века, который влеком открывшимся ему змеением красоты и который дерзновенно пытается преодолеть в творчестве различаемый им всюду неизбывный трагизм существования: «Он ужасается и позирует, бичует, молится и развратничает…»{38}. Вторая книга «Страниц художественной критики» (1909) имела подзаголовок «Современные русские художники». Это уже зрелое и оригинальное произведение Маковского, хотя и в нем различимо влияние «Истории русской живописи в XIX веке» (1902) Бенуа. В центр книги поставлен вопрос о смысле русского национального искусства, что говорило о внимании автора к принципиальному спору между Бенуа и Д. Философовым по поводу живописи А. Иванова и В. Васнецова, а также его верности любимой теме Дягилева, впервые заявленной в нашумевшей статье «Сложные вопросы», публиковавшейся в первых номерах «Мира искусства». Противопоставление России Европе, считает Маковский, привело к заведомо ложному выбору — либо к отречению от всего западного (в соединении с некритичной идеализацией допетровской Руси и всех проявлений «византинизма»), либо от всего национального. Развитие же русской идеи как живого и развивающегося в веках начала можно понять, лишь преодолев роковое идеологическое противопоставление:
«Наши крылья — та живая культурная идея, которая еще так плохо понята, идея, соединяющая „Россию и Запад“, идея новой России, благоговейной к своим старым корням, потому что они создали ее прошлое и еще питают великую темную душу народа, и — России, устремленной к будущему, приобщившейся к культурному строительству Европы — „нашей второй родины“, как говорит Достоевский»{39}.Иными словами, отзывчивость русской культуры в силу известной неравномерности развития всегда делала ее открытой влияниям (византийским, скандинавским, монгольским), которые на русской почве постепенно делались национально-творческой силой. Познавая других, познаешь себя — таков лозунг Маковского, позволяющий ему видеть в выпячивании лишь одной составной части русской самобытности только «псевдорусский ренессанс». Отсюда и его парадокс: «…мы плохие европейцы оттого, что недостаточно русские»{40}. Переосмысляя тезис Бенуа о «двух реализмах» в живописи («натуральная школа передвижников», идеореализм нового поколения), Маковский предлагает обобщенный образ двух основных типов современного национального живописца — тенденциозного «народника» (видящего в российской древности и вековых святынях прежде всего проявление отсталости и компенсирующего этот «обскурантизм» гражданской тенденцией сюжета), с одной стороны, и мастера, для которого прошлое имеет длящийся характер, — с другой. Этот «русский европеец», настойчиво постигая секреты иностранных художников, углубляет свою национальную самобытность, поскольку утончившееся эстетическое зрение дает ему все шансы заново открыть красоту елисаветинского или екатерининского времени. Уже И. Суриков, В. Васнецов, А. Рябушкин ослабили пренебрежительное отношение к былому и привили любовь к народной красоте, что в оценке Маковского стало залогом преодоления кризиса в русском изобразительном искусстве. Вместе с тем их восприятие поэзии прошлого показало, что если оно не подкреплено взыскательным усвоением западных достижений (на Васнецова, по предположению Маковского, повлияли прерафаэлиты), то способно породить шаткую комбинацию непродуманных влияний, передвижнических штампов, сентиментальной модернизации византийских образцов. Так, Васнецов со временем «опошлил» великолепную условность древнего иератизма, а Суриков к середине 1900-х годов («Стенька Разин») стал пренебрегать собственно живописными принципами ради пусть по-визионерски сильных, но но сути грубо-натуралистических эффектов. Это не близко Маковскому. Тем не менее в натурализации национальной идеи он видит особую силу Сурикова — его бессознательную причастность к стихийному и даже в чем-то демоническому свойству народной души, взрывчатому соединению первобытного варварства, «татарщины» и религиозной экзальтации. Но самой главной слабостью натуралистической тенденции в национальном русском искусстве (Иванов, Поленов, Ге, Репин) Маковский считает претензию живописи на идейное откровение и учительство. Прежде всего это связано с решением непосильной задачи — изображением Христа. Маковский берется утверждать, что идеология православия нанесла непоправимый вред многим крупным художникам, а их произведения страдают от разрыва между формой (гибкой «правдой» культурно-эстетического европеизма) и содержанием — неизменными шаблонами византийствующей эстетики. Итак, Маковскому национальное начало в творчестве важно не как продолжение народного понимания веры (где, в его оценке, соседствуют христианское и языческое, миф и фольклор) и тем более не государственно-православная точка зрения, а как что-то очень личное, живописно-декоративное. С этой позиции Маковский противопоставляет Нестерову Рериха, у которого «национально-историческая» тема является лишь декорацией для выражения индивидуального религиозного символа, берущего начало от первобытного варварства. И все же, как и следовало ожидать, центральное место в книге отводилось не противопоставлению примитивизма архаизму и не отдельно взятым выдающимся художникам, наподобие Рериха и Врубеля (оба несколько смущают Маковского демоничностью и эстетичностью своего фаустианства), а творческому объединению, названному автором «ретроспективными мечтателями». А. Бенуа, К. Сомов, Е. Лансере, Л. Бакст, В. Борисов-Мусатов, М. Добужинский и другие мирискусники раскрыли богатые возможности стилизма, сочетающего изощренность рисунка, нервичность линии, остроту графических приемов и дающего шанс интуитивного проникновения в душу прошлых столетий. Соединение культурного европеизма с вполне самобытным переживанием русского прошлого дало урок «хорошего вкуса» — исторической грезы, остроумия, живописного новаторства. Мирискусники, как их видит Маковский, стали романтиками нового типа. Их символизм, в сравнении с рериховским и врубелевским, далеко не дионисичен, дорожит штрихами рационально прочувствованной изысканности, не проходит мимо иронии и приглушенного лиризма. Самым законченным мастером этой плеяды Маковский склонен признать Сомова, создавшего образ осени империи — в чем-то уже не жизнеспособной belle epoque, тронутой бликами особой предзакатной красоты. На фоне достижений автора «Дамы в голубом платье» (1900) принципы мастерства некогда восхищавших его Клингера и Штука уже кажутся Маковскому музейными. Его начинают интересовать импрессионисты и постимпрессионисты, которые постепенно преодолели натурализм не посредством «одухотворения» косной реальности и «дематериализации природы», а благодаря символизации непосредственного впечатления:
«Возникший на наших глазах неоимпрессионизм превращает самое впечатление в длящееся знание и в нем открывает элементы вечного — симфонии цвета, красоту, отвлеченную от вещества»{41}.Восприятие опыта импрессионистического солнцепоклонничества и неоклассической устремленности постимпрессионизма было осуществлено в России не ранними мирискусниками, но следующим поколением художников, которые добились равновесия между стилизмом и пластическим культом мгновенного впечатления. Смену знака в художественном символизме с «германского» на «романский» Маковский проницательно связывает с явлением декоративистского примитивизма — деятельностью московской группы «Голубая роза» (Н. Крымов, П. Кузнецов, Н. Милиоти, Н. Сапунов, С. Сарьян, С. Судейкин и др.), по поводу прогремевшей выставки которой (1907) остроумно выразился И. Грабарь: «Отдайте „дьяволов“ Мережковскому, „ангелов“ — Розанову, и символику — Метерлинку, и не верьте, что есть „увядающее солнце“»{42}. Воздействие картин голуборозовцев, по мнению Маковского, не внешнее, а, так сказать, психофизическое. За их интимным лиризмом всегда просматриваются глубокий душевный опыт и острые признания. Если второй книге «Страниц художественной критики» суждено было стать лучшей дореволюционной книгой Маковского, то его самым заметным антрепренерским замыслом оказалось издание ежемесячного литературно-художественного журнала «Аполлон», выходившего в Петербурге в 1909–1918 годах (№ 1–82){43}. «Аполлон» был не первым литературным журналом эпохи русского символизма и поэтому обладал определенным общеродовым сходством как с «Миром искусства», так и с прекратившими существование к концу 1900-х годов московскими «Весами» и «Золотым руном». В то же время концепция нового издания указывала на то, что оно увидело свет в тот момент, когда заветы символизма, сформулированные в 1890-е — начале 1900-х годов, явно нуждались в обновлении. Первое учредительное собрание ежемесячника состоялось 9 мая 1909 года, а 24 октября напечатан первый его номер. Платформа журнала во многом определена И. Анненским (в обсуждении идеи нового начинания приняли участие А. Бенуа, А. Волынский, Вяч. Иванов), с которым Маковский познакомился в начале марта благодаря посредничеству Н. Гумилева. Именно Анненский в последний год жизни (поэт скончался 13 декабря 1909 года) заинтересовал Маковского проектом журнала, который бы утверждал ценности «вневременного и непроходящего» — ценности мастерства, а не идеологии. В письме к секретарю редакции Е. А. Зноско-Боровскому сам Маковский выразился по этому поводу следующим образом:
«Кому нужны эти русские вещания, эти доморощенные рацеи интеллигентского направленства? Разве искусство, хорошее подлинное искусство, само по себе — не достаточно объединяющая идея для журнала? Символизм, неореализм, кларизм и т. д. — все эти французско-нижегородские жупелы, право же, приелись и публике, и нам, писателям. Вкус, выбор, общий тон — вот что создает „физиономию“»…{44}.На торжественном банкете по поводу публикации первой книжки журнала Анненский с воодушевлением говорил о новой интеллигенции, сплотившейся вокруг «Аполлона», — творческих натурах, которые соединяют в себе культурный традиционализм с прогрессивностью. Синтез традиции и новаторства многие аполлоновцы ассоциировали с образом неоклассики. «Нео-античная» (выражение Бакста) точка зрения предполагала как максимально точное соответствие между глубинным образом и его предметным (словесным) выражением, так и «прокультуриванием» русского быта — включение домашних мелочей в своего рода универсальную, от Гомера до Пушкина, традицию. Посюсторонний, вещный, любовно схваченный символ, как оказалось, стал не только темой программных статей в первых номерах «Аполлона» (коллективно написанная вступительная заметка; «В ожидании гимна Аполлону» Бенуа; «О современном лиризме» Анненского; «Пути классицизма в искусстве» Бакста), не только показателем необычно тесного параллелизма между поэзией и живописью, но и одним из поводов для «великого раскола» (статьи Иванова, Блока, Брюсова, Белого в № 7–11 за 1910 год), в результате которого русские символисты разделились на «кларистов» и «мистиков», а также заявил о своих правах акмеизм. Маковскому удалось привлечь к участию в журнале практически весь цвет русского писательского, художнического и театрального мира начала столетия. В его оформлении приняли участие Бакст (титульная виньетка в течение первого года издания), Добужинский (обложка), Бенуа, Сомов и другие художники, на его страницах печатались черно-белые и цветные репродукции новейшего русского искусства. Редакция устраивала у себя музыкальные вечера с участием А. Скрябина, И. Стравинского, С. Кусевицкого, совсем еще юного С. Прокофьева. Под эгидой журнала Маковский устроил экспозицию «Сатирикона» (Ре-ми, А. Яковлев, А. Радаков, А. Юнгер и др.), а также выставку «Сто лет французской живописи». Осенью 1909 года «Поэтическая академия», собиравшаяся на «башне» у Вяч. Иванова, была преобразована в Общество ревнителей художественного слова и переехала в редакцию «Аполлона», в результате чего Маковский стал администратором Общества и одним из шести членов его президиума (Иванов, Блок, Гумилев, Кузмин, а также введенный в него после смерти Анненского Ф. Зелинский).
«Короче говоря, в очень быстрый срок все авангардное русское искусство объединилось вокруг „Аполлона“, ставшего подлинным центром художественной жизни, художественной мысли»{45}.Редакционная политика Маковского со стороны казалась ускользающей, а подчас и «неприятной» (М. Волошин). В чем-то современники были справедливы. Ради тактических соображений Маковский, к примеру, привлек к сотрудничеству Вяч. Иванова (взгляды которого на искусство совершенно не согласовались со вкусами редактора), но затем сделал все возможное, чтобы тот разорвал с журналом, а в 1915 году отказался напечатать ивановскую мелопею «Человек». Ранее был обижен на Маковского и близкий ему Анненский, так и не дождавшийся публикации своих стихов во второй книжке «Аполлона» за 1909 год. В свою очередь, А. Блок оказался задет критикой «Итальянских стихов», данной Маковским во время обсуждения цикла в Обществе ревнителей художественного слова, и отказался от каких-либо поправок, предложенных тем для публикации его в «Аполлоне». Вряд ли был благосклонен к Маковскому и А. Белый, прокомментировавший женитьбу Маковского на одной из первых красавиц своего времени, М. Рындиной, так:
«В. Ф. Ходасевича бросила его жена, богачка, плененная тем, что из Питера к ней прилетел херувимом Сергей Константинович Маковский; не знаю, за кем прилетел: не за сотнями ль тысяч ее? Вскоре основал он „Аполлон“, — может быть, на „Маринины“ деньги?»{46}.Впрочем, как редактор Маковский критиковался не только теми, кто видел в нем плохого поэта и интригана, но и принципиальными противниками феноменально импрессионистического образа «самой в себе» культуры, с которым ассоциировались и поэзия Анненского, и общая линия журнала.
«По-видимому, у нас образовалась новая секта, возродился старый языческий культ Аполлона, — писал Д. Философов. — […] Явно, что время литургии красоты, истерических попыток сделать театр храмом, а балет — пляской Давида перед ковчегом, вообще время дешевого угара и всяческих декадентских „швыркулей“ (так называли русские рабочие XVIII века штукатурные завитки) прошло безвозвратно…»{47}.
Несколько позже тот же Философов, отказываясь видеть в символистской неоклассике что-то принципиально новое, настаивал, что акмеизм — не что иное, как «декадентство сезона 1912–1913 года»{48}.
И все же, несмотря на различные обвинения в свой адрес, Маковскому удалось многое. Благодаря чутью на новое, большой энергии, несомненной последовательности вкуса ему удалось усовершенствовать издание «дягилевского» типа, долгое время находить для этого надежную поддержку меценатов, а также сбалансировать в журнале писательское, художническое и «музейно-просветительское» начала. Маковский публиковался в «Аполлоне» преимущественно как художественный критик, печатавший обзоры выставок (к примеру, «Выставка „Мира искусства“». 1911. № 2), статьи о новейших русских художниках (в частности, «Н. А. Тархов». 1910. № 2; «Женские портреты современников». 1910. № 5), о зарубежном искусстве («Французские художники из собрания И. А. Морозова». 1912. № 3–4). Публикации из «Аполлона» вошли в третью книгу «Страниц художественной критики» (1913), к моменту выхода которой ее автор не мог не считаться с весьма важным обстоятельством. За десятилетие мирискусники образовали школу, но в то же время пережили пору своего расцвета, и их живописные принципы постепенно эволюционировали в сторону отказа от стилизма ради чисто красочной фактуры письма. Это вызвало протест молодежи (общество «Бубновый валет», группа «Ослиный хвост»), которая эстетству, решению подчеркнуто формальных задач и ретроспективизму противопоставила экспрессивную выразительность момента, переданную грубовато, гротескно и даже нарочито неряшливо посредством той техники, которая ассоциировалась с постсезаннизмом (французскими фовизмом и кубизмом). Если, скажем, последователей А. Дерена Маковский принимал еще в какой-то степени сдержанно, то к другим проявлениям авангарда относился резко отрицательно. Заключительная часть «Страниц художественной критики» поэтому защищает «вкус» и «эстетику» пассеизма от «модной грубости» футуристов, появление которых Маковский считает прямым следствием «демократического варварства».
В начале 1910-х годов в российском обществе обострился интерес к иконописи. Выставка древнерусского искусства в Москве (1913), устроенная С. П. Рябушинским и И. С. Остроуховым, рост реставрационных мастерских, расчистка древних икон в Кремлевских соборах, научная систематизация иконографического материала, а также интерес к древнерусскому «примитиву», вспыхнувший в художнической среде под влиянием А. Матисса, — все это вдохновило Маковского на то, чтобы затеять при Обществе изучения русской иконописи журнал «Русская икона». Этот двухмесячник задумывался скорее как специальное издание — разновидность каталога богатых собраний. Однако жизнь журнала (в № 1 появились статьи «Ближайшие задачи в деле изучения иконописи» П. Муратова, «Заметки об иконах из собрания Н. П. Лихачева» Н. Пунина), который соперничал с где-то аналогичной московской «Софией» (издававшейся К. Ф. Некрасовым), оказалась недолгой. В 1914 году успело выйти три тетради.
Начало войны вызвало у Маковского, как и у большинства аполлоновцев, прилив патриотических чувств, что отражено в его «панславистских» стихотворениях «Война», «Болгарам». Но его надеждам на водружение креста над константинопольской святыней не суждено было сбыться. Падение империи не нашло у него никакой поддержки: «Тотчас после Февральской, в апреле 1917 года, я уехал из Петербурга в Крым, будучи уверен, что никогда не вернусь…»{49}. В 1918 году Маковский печатался в ялтинских газетах. В 1920-м осуществил краткий наезд в Петроград, убедился в гибели своего архива.
После падения Крыма Маковский эмигрировал. До 1925 года жил в Праге, там расстался с М. Рындиной, которая уехала с сыновьями на Ривьеру к Ю. П. Маковской. Начало 1920-х годов стало для него временем интенсивного труда. Помимо публикаций в различных эмигрантских изданиях («Воля России», «Записки наблюдателя», «Русская мысль», «Веретено», «Сполохи», «Жар-птица») одна за другой выходят книги: «Силуэты русских художников» (Прага, 1922), «Последние итоги живописи» (Берлин, 1922), «Графика М. В. Добужинского» (в соавторстве с Ф. Ф. Нотгафтом; Берлин, 1922).
«Силуэты русских художников» — итоговое сочинение Маковского о русской живописи, которая, по его мнению, за несколько десятилетий заново оценила свои возможности и в этом акте отрицания и утверждения стала принадлежать, перефразируя известное название брюсовской книги стихов, не только городу, но и миру. Оценивая деятельность мирискусников, Маковский придает ей общекультурный характер. Не все в направленном ими взрыве эстетизма для автора «Силуэтов» бесспорно. Нередкое дилетантство, чрезмерность в отрицании ближайших предшественников, снобизм привели к самоопьянению успехом, в результате чего творческие задачи общеевропейского уровня, поставленные эпохой, оказались не вполне выполненными: масштаб личности многих ее деятелей так и не позволил возвысить «игру» и «эстетическое барство» до «профессионального подвига». Не освятив, таким образом, красоты и тем самым не вняв сполна предостережениям Пушкина и Гоголя, Достоевского и Александра Иванова, художники рубежа столетий сумели тем не менее, полюбив прошлое, проникнуть в сущность русского гения, некогда воспринявшего наряду с христианской идеей творческой личности и эллинистическое чувствование формы.
По сравнению с предыдущими искусствоведческими работами Маковский уточнил ряд своих прежних оценок. Он еще более решительно, чем раньше, отрицает достоинства Васнецова и Нестерова, но за счет этого укрупняет смысл достижений Сурикова и в особенности Серова — главного, в его понимании, новатора эпохи. Соответственно Левитан — открыватель не только русского импрессионистического пленэра, но и особого стиля в пейзаже, а Бенуа — центральная фигура русского стилизма. Гений своего времени — Врубель. В 1900-е годы Маковскому казалось, что по уровню таланта с ним можно сравнить Рериха. В своей новой книге он вынужден отказаться от подобного сопоставления. Рерих, по его мнению, не оправдал возлагавшихся на него надежд. Былая изысканность цвета сменилась иллюстрационным холодом, он стал повторяться, но главное, как утверждал Маковский, и это бросалось в глаза рядом с хрупкой человечностью творческой манеры Врубеля, он перестал быть иконологичным:
«Далеким, до-христианским, доевропейским язычеством веет от его образов, нечеловеческих, не тронутых ни мыслью, ни чувством горения личного. Не потому ли даже не пытался он никогда написать портрета?»{50}.«Последние итоги живописи» (1922) являются фактически прощанием Маковского с ремеслом художественного критика. В отличие от других его работ о живописи эта небольшая книжка написана в жанре публицистического памфлета. Кризис искусств России обозначен в ней в связи как с «левыми» и «экстремистскими» течениями (кубизм, футуризм, экспрессионизм), так и с политическими изменениями в России и общим «закатом Европы». В основных акцентах Маковский не изменяет своему уже традиционному подходу — рассмотрению живописи с точки зрения живописной формы и одновременно солидаризуется с теми, кто с разных позиций критикует современную дегуманизацию искусства («Кубизм или кукишизм», 1912, «О вандализмах», 1914, А. Бенуа; «Труп красоты: по поводу картин Пикассо», 1915, С. Булгакова; «Футуризм и „Мир искусства“», 1917, Н. Радлова; «Кризис искусства», 1918, Н. Бердяева). По мнению Маковского, упадок новейшего искусства связан с крайней рационализацией представления о художественной форме. Если мирискусники не ставили под сомнение «живописную плоть» формы и онтологическую реальность образа, то, к примеру, в кубизме форма, получив самостоятельное, автономное бытие, отделила себя от природы, «теплого». «Сверхнатуралистическая» беспредметность реализовалась благодаря механизации бессознательно и согласно последним достижениям науки и техники:
«Кубизм — развеществление живописной плоти для торжества пространственных абстракций, футуризм — дематериализация и разложение формы для выражения текучести вещества во времени и движении»{51}.Маковский не согласен с теми, кто ассоциирует живопись авангарда с представлением о «примитиве». Подлинный примитивизм, на его вкус это просвечивание вечного в преходящем, связанное со стихийным ощущением канона и народного колорита. В экспрессионизме же заявляет о себе «не детский лепет, а старческое косноязычие»{52}, экспрессионистское презрение к прошлому неизбежно ведет к вырождению (атавизму), к «космополитизму сознательного варварства», к разложению формы как идеализирующего начала:
«Над поверженным Аполлоном торжествует готтентотская Венера, обросший шерстью человекоподобный пращур выглянул из мглы столетий, и его хитрый, полуобезьяний глаз злорадно усмехнулся…»{53}.«Художественному интернационалу» модернизма Маковскому в начале 1920-х годов остается противопоставить только народное искусство, в котором он, как и в прошлом{54}, находит совмещение коллективного навыка с неповторимостью оригинального воплощения. В 1924 году Маковский был привлечен в качестве эксперта по народному искусству организаторами пражской выставки «Искусство и быт Подкарпатской Руси». Собирая экспонаты для выставки (костюмы, вышивки, ткани, резьба, керамика и т. д.), он пешком обошел села Верховины и Гуцульщины. Изучение ремесел вновь убедило его, что «у красоты есть своя логика, связывающая искусство с материалом, с прочностью и с назначением, — красивое должно отвечать своему назначению. Народное искусство и в этом отношении почти всегда урок вкуса. Формы его отвечают жизненному смыслу»{55}. В 1925 году Маковский перебрался из Праги в Париж и в 1926–1932 годах был одним из редакторов (и заведующим литературно-художественным отделом) парижской газеты «Возрождение», издававшейся нефтяным промышленником А. О. Гукасовым с лета 1925 года. Деятельность Маковского в газете пришлась на то время, когда на посту главного редактора П. Б. Струве сменил в 1927 году Ю. Ф. Семенов, а в состав редакции входили А. Бажанов (автор «Воспоминаний бывшего секретаря Сталина»), Б. Зайцев, П. Муратов, С. Ольденбург, И. Сургучев, Тэффи, В. Ходасевич, И. Шмелев, А. Яблоновский и др. С точки зрения «эсеровской» и «кадетской» части эмиграции «Возрождение» было изданием «реакционным», но в действительности являлось газетой либерально-правой (в отличие от своего главного оппонента и конкурента — выпускавшихся П. Н. Милюковым либерально-левых «Последних новостей»). Политическая и публицистическая полемика между этими двумя лучшими довоенными газетами эмиграции долгое время была неотделимой чертой жизни русского Парижа. После ухода из «Возрождения» Маковский практически не принимал участия в общественно-литературных событиях (и до этого он, к примеру, редко бывал на собраниях «Зеленой лампы» у Мережковских). Публичному обсуждению «проклятых вопросов» он, как оказалось, предпочел поэтическое самовыражение. Одна за другой стали появляться его книги поэзии: «Вечер» (Париж, 1941), «Somnium breve» (Париж, 1948), «Год в усадьбе» (Париж, 1949), «Круг и тени» (Париж, 1951), «На пути земном» (Париж, 1953), «В лесу» (Мюнхен, 1956), «Еще страница» (Париж, 1957), «Requiem» (Париж, 1963). С момента выхода в свет дореволюционной книжки стихов отношение к поэтическим опытам Маковского{56} в целом не изменилось, и они, как правило, ассоциировались с «безжизненностью», «пуризмом» и даже «риторикой». Тем не менее, если в наиболее известной довоенной поэтической антологии эмиграции («Якорь», 1936) стихи Маковского вовсе не представлены, то в послевоенных собраниях поэзии («Эстафета», 1948; «На Западе», 1953; «Муза диаспоры», 1960) их количество неизменно возрастало. Это объяснялось не только личной благосклонностью составителей (в частности, Ю. Иваска, ценителя поэзии, впрочем, весьма строгого) или немногочисленных рецензентов новых сборников (Ю. Терапиано, Я. Горбов), но и тем, что как поэт Маковский все же менялся. С одной стороны, в его вещах по-прежнему напоминала о себе школа царскосельских парнасцев (элементы близости со стихами В. Комаровского и Дм. Кленовского), — «языческое» постижение декоративистски выраженной красоты природы, сдержанная печаль по поводу иллюзорности всего земного. С другой стороны, свойственное для поэзии Маковского переживание «бытия небытия» (постигаемого в безмолвном созерцании вод, облаков, открывающихся с холма далей) делалось все более острым. «Лирическая прелесть» этой «сенилии» (Ю. Иваск) иногда намекала на образ, позволяющий вспомнить о чем-то сходном у поэта, авторитет которого для Маковского непререкаем:
«Испуг, даже ужас Анненского […] другого, метафизического, порядка и звучит скорее как страх жизни, а не страх смерти. Этот ужас роднит его со многими поэтами позднего девятнадцатого века, потерявшими, из сердца изгнавшими Бога…»{57}.Лирический герой Маковского пытается уйти от преследующего его «мистического безбожия», правда, как ни настраивает он себя религиозно (что особенно заметно в стихах 1950-х годов), это чувство не отпускает его, хотя и дарит минуты вдохновения. Рисунок аполлонического («белый полог зим», «сухая серебристость света», «блеск золотоперых рыб») у Маковского особо четок тогда, когда отражен в зеркалах темных дионисических вод и лирического страха, для тайны которых у поэта «нет названья». Так и поэзия подобна «сну… человеческому о Боге». Однако чем ярче этот сон, этот пронизывающий бездну «луч сознания», тем звезда поэзии становится непризрачней:
На память древнюю ты наложил печать,
ты заклинал тоску: «Учись молчать, молчать,
для тайны все равно признанья не найдешь,
словами сон развеешь и — солжешь».
Но память древняя ответила: «Поэт,
не говори, что слов тайноречивых нет,
дремучую тоску молчанью не учи,
в подземной тишине поют ключи».
«Его почему-то недостаточно ценили по достоинству, не прочь были над ним исподтишка подсмеиваться, не всегда принимали всерьез… потому, что даже в его высокой и худощавой фигуре было что-то донкихотское. Между тем это был человек не только с огромным культурным багажом и необъятным грузом воспоминаний, но и с тонким вкусом и большим личным обаянием. Он нередко увлекался, что-то недооценивал, что-то переоценивал, но отчасти в этом и заключалось его своеобразие»{60}.Эстетизм «1912 года», который во многом воплощал Маковский и который отверг Диониса ради поклонения Аполлону, проявился и в его понимании религии. Хотя в образном ряду послевоенных произведений Маковского (как стихов, так и прозы) религиозная тема занимает существенное место и его даже порой можно принять за идеалиста соловьевского призыва, реально ему, позитивисту по натуре и естественнику по образованию, ближе замысловатые изгибы скепсиса, в иронической манере А. Франса одновременно и утверждающие и отрицающие. Между тем, по наблюдению поэта Ю. Терапиано, «с годами… он очень спокойно и трезво принял смерть и начал прозревать даже некую форму инобытия, хотя и не мог представить ее себе согласно православной или даже оккультной ортодоксии»{61}. В послевоенные годы Маковский вернулся к поэзии не только как поэт, но и как издатель. Он нашел мецената, ньюйоркца А. И. Чеквера, жена которого Ирина Яссен (псевдоним Рахили Самойловны Чеквер, 1893?-1957) была автором ряда поэтических книжек, а также увлекалась новой эмигрантской поэзией. На средства Чеквера в 1949 году было организовано парижское стихотворное издательство «Рифма» (в редколлегию которого вошли помимо Маковского и Яссен, Г. Адамович, Г. Раевский, П. Ставров, Ю. Терапиано, А. Элькан), где в сложных послевоенных условиях были опубликованы около двадцати авторских книг поэзии, в том числе и две книги Маковского. Несмотря на преклонный возраст, Маковский оставался энергичен, с юношеской страстью вникал во все подробности литературной жизни. Для молодого поколения русских парижан он был как бы живой памятью о легендарных временах начала века. С течением времени в редакторской («Встреча: сборник объединения русских писателей во Франции» — 1945. № 1–2) и литературной («Новоселье», «Русский сборник», «Новый журнал», «Опыты», «Мосты», «Грани», «Русская мысль» и др.) деятельности Маковского наметился мемуарный крен. Публикации разных лет — к примеру, «Из воспоминаний об Иннокентии Анненском» (1949), «Максимилиан Волошин. Из литературных воспоминаний» (1949), «Вячеслав Иванов в России» (1952), «Вячеслав Иванов в эмиграции» (1952), «Иван Коневской» (1954), «Н. С. Гумилев» (1957), «Константин Случевский, предтеча символизма» (1960) — стали этапами в создании двух томов мемуаристики: «Портреты современников» (Нью-Йорк, 1955), «На Парнасе „Серебряного века“» (Мюнхен, 1962). К большому удовлетворению автора, ему довелось дожить до выхода «Парнаса» и он даже задумывал третью книгу о былом, но этому намерению уже не суждено было сбыться. 13 мая 1962 года в возрасте восьмидесяти пяти лет Сергей Константинович Маковский скоропостижно скончался в своей парижской квартире и был похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. Оба тома мемуарных очерков, по определению Маковского, являются как книгами «личных воспоминаний», так и «критических разборов». При сравнении с другими многочисленными мемуарами эмигрантов обращает на себя внимание их тон. Они одинаково далеки от частых для воспоминаний крайностей — суховатой «документальности» или не знающей меры мифологизации. Маковский, рассказывая о «милых моих современниках» (выражение Ф. Сологуба), едва ли впадает в своего рода восторженность. Написанное им, пожалуй, — и не версия личных отношений с людьми, которых он хорошо знал. Более того, это «бытовое» знание словно вынесено повествователем «за скобки» сюжета и он заново, как чистый психолог, пытается раскрыть загадку издавна интересовавших его лиц и через это открытие, разумеется, прояснить нечто весьма важное и для себя самого. Подобная разреженность наделяет острую субъективность Маковского особой убедительностью, а также указывает на то, сколь важен для него урок «Книг отражений» И. Анненского, которому в каждом из томов посвящено по эссе и как поэту, и как критику. Маковского сближает с Анненским и где-то сходное понимание поэзии (отметим здесь сдержанное отношение автора «Кипарисового ларца» к поэзии Блока), и стойкая верность Мнемозине. Вместе с Анненским и другими символистами Маковский склонен различать в творчестве того типа художнической личности, которую сформировал романтизм в целом и эпоха серебряного века в частности, трагедию, вытекающую из неразрешимого конфликта между «жизнью» и «творчеством», «творчеством» и «судьбой». Эту трагическую двойственность своего поколения Маковский, как видно из его книг, ощущал сполна и связывал переживание такого двойничества с роковыми поисками красоты. Различая в казалось бы неверующем Анненском непроизвольное стремление к вечности и, следовательно, непроизвольно мистическую натуру, Маковский склонен и в русском символизме видеть прежде всего религиозный порыв, какие бы неожиданные — вплоть до богоборчества — формы он ни принимал. Практически в каждом из очерков заявляет о себе это намерение Маковского: найти в творческой психее «другого» непроизвольные следы чего-то очень важного, важного, в том числе, и для себя. Это растворение «я» в другом сходно, по замыслу Маковского, с задачей Анненского в «Первой книге отражений»: «Я же писал здесь только о том, что мной владело, за чем я следовал, чему я отдавался, что я хотел сберечь в себе, сделав собою»{62}. За сходством двух творческих душ, таким образом, стоит лирическая тревога, не только особая уязвимость и одиночество современного Орфея, но и оправдание творчества перед лицом «великого небытия» (выражение Ш. Бодлера). Лучшие страницы у Маковского посвящены именно страшному счастью поэзии и преображению «действительности» в «символы». Маковский не случайно подчеркивал, что драма человека как творца иллюзий привлекает его больше, чем сама творимая им легенда. Именно угадывание бытийно-наиглавнейшего, прикосновение к лику и душе творца моментами наделяет Маковского особой проницательностью. Маковский со всей очевидностью трактует символизм не как школу или направление, а целую эпоху в русской культуре, включающую в себя явления словесности, живописи, театра, декоративного искусства, издательского дела, саму физиогномику этого «бредящего красотой времени». Русский символизм, что подчеркнуто Маковским, имел значительные точки соприкосновения с европейским символизмом, но несомненно обладал и оригинальностью — особой религиозностью, иррационально обретенной мудростью. Прямо или от противного сделав христианство основной метафорой творчества, а Христа — «художником», приносящим себя в жертву ради высшего искупления Своего творения, русские символисты сумели уйти от декадентских искусов западного символизма, и серебряный век стал поэтому пусть непоследовательно, но последним взлетом христианского искусства. Далеко не все из сказанного Маковским в своих воспоминаниях вызвало сочувственное восприятие, что, надо полагать, и не предполагалось автором. Однако вне зависимости от трактовки того или иного события в творческой биографии Анненского, Гумилева или Ахматовой, обо всех трех поэтах, как убедится читатель, он пишет с тем объемом понимания, которое даруется не столько наблюдательностью, не столько цепкостью памяти или богатством жизненного опыта, сколько, рискнем сказать, любовью. Жизненное и творческое постижение ее былым денди и автором «холодных стихов» (А. Блок) было достаточно долгим и трудным, а порой воспринималось лишенным каких бы то ни было надежд на успех. Вместе с тем едва ли подлежит сомнению, что только в ее золотых лучах смогло со временем снова засиять, казалось бы, навсегда закатившееся солнце серебряного века.
Именной указатель
Адамович Г. В. — 343, 344. Айвазовский (Гайвазовский) Иван Константинович (1817–1900), живописец, маринист — 11, 12, 126. Аладжалов Мануил (Манук) Христофорович (1862–1934) армянский живописец — 58, 62. Александр Арсен (Arsene Alexandre) (1859–1937), французский художественный критик — 242. Александр I Павлович (Благословенный) (1777–1825), российский император с 1801 — 23, 31, 140, 188, 204, 205, 309, 310. Александр II Николаевич (Освободитель) (1818–1881), российский император с 1855 — 9, 21, 138, 328. Александр III Александрович (1845–1894), российский император с 1881 — 47, 55, 165. Алексеев Федор Яковлевич (1753 или 1755–1824), живописец, пейзажист — 188. Алексей Михайлович (1629–1676), русский царь с 1645 — 44, 140. Алимпий (?-114), киево-печерский чудотворец и древнейший русский иконописец —148. Альперин А. С. — 343. Альтман Натан Исаевич (1889–1970), живописец, график — 111. Андерсен Ханс Кристиан (1805–1875), датский писатель-сказочник — 76, 303, 309, 310, 312, 326. Андреев Леонид Николаевич (1871–1919), писатель — 203. Анжелико Фра (Фра Джованни да Фьезоле; прозвище Иль Беато Анджелико) (ок. 1400–1455), итальянский живописец — 186. Анисфельд Борис (Бер) Израилевич (1879–1973), живописец, театральный художник — 118, 223, 225, 226. Анна Австрийская (1601–1666), королева Франции, мать Людовика XIV — 65. Анненков Ю. П. — 327. Анненский Иннокентий Федорович (1855–1909)5 поэт, переводчик, литературный критик — 322, 336–338, 342, 344–346. Антокольская В. П. - 156. Антокольский Марк Матвеевич (1843–1902), скульптор — 139. Анциферов Николай Павлович (1889–1958), литературовед, знаток истории Петербурга-Ленинграда — 327. Аполлинер Гийом (наст. имя Вильгельм Аполлинарий Костровицкий) (1880–1918), французский поэт, по происхождению поляк — 268. Аполлодор Афинский (поел, треть V в. до н. э.), древнегреческий живописец — 229. Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834), генерал, государственный деятель — 23. Арапов Анатолий Афанасьевич (1876–1949), живописец, театральный художник — 217. Аргунов Иван Петрович (1729–1802), живописец, портретист — 141. Аронсон Наум Львович (1872–1943), скульптор — 132. Арцыбушев Константин Дмитриевич (1849–1901), железнодорожный инженер, родственник С. И. Мамонтова, изображен на портрете работы М. Врубеля — 85. Ауслендер Сергей Абрамович (1880–1943), прозаик — 309, 321. Афанасьев Алексей Федорович (1850–1920), живописец, график — 160. Ахенбах Андреас (1815–1910), немецкий живописец, пейзажист — 13. Ахенбах Освальд (1827–1905), немецкий живописец, пейзажист — 13. Ахматова (Горенко) Анна Андреевна (1889–1966), поэт —325, 346.Бажанов А. — 341. Баженов Василий Иванович (1737 или 1738–1799), архитектор, один из основоположников русского классицизма — 301. Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт-романтик — 141, 177, 323. Баклунд Э. О. — 132. Бакст (наст. фам. Розенберг) Лев Самойлович (1866–1924), театральный художник, график, живописец — 67, 69, 76, 77, 80, 106, 118, 188, 209–211, 307, 332, 335, 337. Балобанова (Балабанова) Елизавета Вячеславовна (1844 или 1847–1927), фольклористка, переводчица, исследовательница и собирательница сказок, легенд и преданий народов Европы — 203. Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942), поэт, переводчик, критик — 26, 203, 320. Бауер Рудольф (1889–1954), немецкий и американский художник, кубист — 292. Бауман, кубист — 292. Бахрах А. В. — 343. Баш Виктор, французский анархист-синдикалист, художественный критик, публицист — 272. Бёклин Арнольд (1827–1901), швейцарский живописец — 23, 27, 271, 332. Беллини Джованни (ок. 1430–1356), итальянский живописец — 82. Белый Андрей (наст. имя Бугаев Борис Николаевич) (1880–1934), поэт, прозаик, философ — 301, 309, 337, 338. Беляев Василий Васильевич (1867–1928), живописец, иконописец — 138. Беляницкий-Бируля (Бялыницкий-Бируля) Витольд Каэтанович (1872–1957), живописец — 58. Бенар Поль Альбер (1849–1934), французский художник — 27, 177, 214. Бенуа Александр Николаевич (1870–1960), художник, историк искусства — 22, 24, 27, 29, 35, 48, 67, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 87, 106, 141, 184, 188–191, 202, 203, 205, 211, 304, 307, 309, 310, 314, 315, 317–319, 321, 322, 324, 329–337, 340. Берберова Н. Н. — 343. Бердслей (Бёрдсли, Бирдслей) Обри Винсент (1872–1898), английский рисовальщик, гравер — 21, 23, 27. 76, 77, 209, 211, 216, 307, 315, 316, 324, 332, 333. Бердяев Николай Александрович (1874–1948), философ — 226, 287, 340. Бернар Эмиль (1868–1941), французский живописец, импрессионист — 249, 251–253. Бернгеймы-младшие Г. и Ж. — 333. Берн-Джонс Эдуард Коли (1833–1898), английский живописец, рисовальщик, мастер декоративно-прикладного искусства — 191. Бернини Лоренцо (1598–1680), итальянский архитектор и скульптор — 24, 66. Билибин Иван Яковлевич (1876–1942), график и театральный художник — 39, 69, 76, 118, 149, 158–160, 173, 304, 307, 309. Бирбом М. — 330. Блок Александр Александрович (1880–1921), поэт — 77, 79, 192, 309, 325, 326, 337, 346. Блох (по мужу Горлина) Р. Н. — 328. Блуа де (Mademoiselle de Blois), Франсуаза Мария де Бурбон (1677–1749), незаконнорожденная дочь Людовика XIV и мадам де Монтеспан — 67. Богаевский Константин Федорович (1872–1943), живописец, график — 62, 63, 133, 185, 226. Богданов-Бельский Николай Петрович (1868–1945), живописец, жанрист и портретист — 128, 212. Богомолов А. Е. — 343. Богомолов Н. А. — 336. Богуславская (Пуни) Ксения Леонидовна, театральный художник — 238. Бодаревский Николай Корнильевич (1850–1921), живописец, иконописец — 18, 128, 139. Бодлер Шарль (1821–1867), французский поэт — 218, 345. Бодри Поль, французский живописец, академист — 240. Бонингтон Ричард Паркс (1801 или 1802–1828), английский живописец и график — 231. Бонна Леон Жозеф Флорантен (1833–1922), французский художник-академист, портретист — 212. Боннар Пьер (1867–1947), французский живописец — 214. Борис (?-1015), святой, князь ростовский — 148. Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870–1905), живописец — 67, 100–103, 105, 141, 217, 218, 226, 335. Боровиковский Владимир Лукич (1757–1825), живописец, портретист — 141, 188. Бородаевский Валериан Валерианович (1874–1923), поэт — 321. Бородин Александр Порфирьевич (1833–1887), композитор и ученый-химик — 98, 141. Боттичелли Сандро (Алессандро ди Мариано Филипепи) (1445–1510), итальянский живописец раннего Возрождения — 126. Боччони Умберто (1882–1916), итальянский художник, кубист — 274, 292. Браиловский Семен Осипович, театральный художник — 118. Брак Жорж (1882–1963), французский живописец, кубист — 253, 256, 262, 267. Браунинг Роберт (1812–1889), английский поэт — 152. Брейгель Старший («Мужицкий») Питер (между 1525 и 1530–1569), голландский живописец и рисовальщик — 292. Бродский Исаак Израилевич (1883/84–1939), живописец и график — 130. Брокгауз Ф. А. (1772–1823), основатель немецкой издательской фирмы «Брокгауз», которая явилась соучредителем акционерного издательского общества «Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон», выпустившего в 1890–1907 русскую универсальную энциклопедию в 82 основных и 4 дополнительных томах «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» — 327. Бруни Лев Александрович (1893–1948), живописец, монументалист — 297. Брюанде Лазар (1755–1804), французский живописец — 242. Брюллов Карл Павлович (1799–1852)> живописец — 140, 141. Брюмель (Браммел Джордж Бриан) (1778–1840), известный в Англии начала XIX в. денди — 23. Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924)> поэт — 88, 331, 337. Буанарот (Буонарроти) — см. Микеланджело. Бугро Адольф Вильям (1825–1905), французский живописец — 240. Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944), экономист, философ, богослов — 266, 340. Бунин И. А. — 343. Бургундская, герцогиня — 66. Бурцев Владимир Львович (1862–1942), публицист, издатель — 319. Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707–1788), французский естествоиспытатель — 48.
Вагнер Рихард (1813–1883), немецкий композитор, дирижер, музыкальный деятель — 322. Вальден Герварт (наст. имя Георг Левин) (1878–1941), немецкий писатель, композитор и художественный критик, искусствовед; с 1932 жил в СССР — 289. Вальмье Жорж (1885–1937), французский художник, кубист — 292. Ван Гог Винсент (1853–1890), голландский живописец — 107, 244, 253. Вандомский, герцог — 66. Ван Донген Кеес (1877–1968), датский живописец и скульптор, жил и работал в основном в Париже — 118. Ван Эйк Ян (ок. 1390–1441), голландский живописец — 177. Варфоломей — см. Сергий Радонежский Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856–1933), живописец и график, брат В. М. Васнецова — 143, 149. Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926), живописец — 22, 34, 35, 38, 39, 41, 80, 85, 129, 141, 144–149, 152, 153, 156, 159, 165, 168, 169, 171–173, 177, 184, 187, 226, 330, 331, 333, 334, 340. Ватто Антуан (1684–1721), французский живописец и рисовальщик — 73. Веласкес (Родригес де Сильва Веласкес) Диего (1599–1660), испанский живописец — 12, 47, 212, 213, 233. Вёльфлин Г. — 329. Венецианов Алексей Гаврилович (1780–1847), живописец — 15, 54, 79, 41, 193. Вердеревский Д. И. — 343. Веревкина Марианна (Мариамна) Владимировна (1870–1938), художница, жена А. Г. Явленского — 226. Верещагин Василий Андреевич, редактор, критик — 322, 331. Верещагин Василий Васильевич (1842–1904), живописец, баталист — 11, 18, 19, 51, 52, 126. Верлен Поль (1844–1896), французский поэт — 319, 331, 333. Вёрман Карл, автор «Истории искусства всех времен и народов» — 234. Верхарн Эмиль (1855–1916), бельгийский поэт — 327. Вестрис Гаэтано Аполлино Бальтазаре (1729–1808), итальянский артист балета, балетмейстер — 66. Вещилов Константин Александрович (1877-?), живописец — 130. Виллье, владелец клиники — 308. Винкельмаи Иоганн Иоахим (1717–1768), немецкий историк искусства, основоположник эстетики классицизма — 240, 341. Виноградов Сергей Арсеньевич (1869–1938), живописец — 58, 62. Винчи — см. Леонардо да Винчи. Владимир I (?-1015), князь новгородский (с 969), великий князь киевский (с 980), ввел в качестве государственной религии христианство (988–989), русский святой — 148. Владимир Александрович (1847–1909), великий князь, президент Академии художеств (с 1876), государственный и военный деятель — 35. Волков Ефим Ефимович (1844–1920). живописец, пейзажист — 19, 126, 128. Волконский Сергей Михайлович (1860–1937), князь, художественный деятель, директор императорских театров в 1899–1902 гг., автор работ по искусству — 29. Волошин (Кириенко-Волошин) Максимилиан Александрович (1877–1932), поэт, критик, художник — 8, 62, 337, 344. Волынский (наст. фам. Флексер) А. Л. — 336. Воробьев Максим Никифорович (1787–1855), живописец — 54. Воронихин Андрей Никифорович (1759–1814), архитектор — 32, 188, 301. Врангель Николай Николаевич (1880–1915), историк искусства и художественный критик — 31, 317, 318, 331. Врубель Михаил Александрович (1856–1910), живописец — 22–24, 27, 38, 39, 41, 47, 48, 50, 79–92, 97, 100, 103, 127, 141, 166, 177, 178, 226, 332, 335, 340. Вюйар (Вюйяр, Вюльяр) Эдуар (1868–1940), французский живописец — 61, 214.
Гайден, кубист — 292. Галактионов Степан Филиппович (1779–1854), живописец и рисовальщик — 324. Галлен-Каллела Аксели (1865–1931), финский живописец и график 177. Гальберг Санунл (Фридрих) Иванович (1787–1839), скульптор — 139. Гамсун (наст. фам. Педерсен) Кнут (1859–1952), норвежский писатель — 319. Гарра, итальянский художник-кубист — 277. Гаузенштейн Вильгельм, немецкий художественный критик, искусствовед — 261, 281, 287. Гауш Александр Федорович (1873–1947), живописец, график — 132, 225, 226. Гауш, г-жа, изображена на портрете работы Н. Милиоти — 218. Гварди Франческо (1712–1793), итальянский живописец — 73. Гваренги — см. Кваренги. Ге Николай Николаевич (1831–1894), живописец — 9, 16–18, 26, 51, 52, 82, 168, 169, 335. Гебрен Опост (1882–1960) — французский художник, кубист — 292. Гейне (Хейне) Томас Теодор (1867–1948), немецкий график, мастер декоративного искусства — 76, 308, 324. Генриетта Анна Английская (1644–1670), жена Филиппа I, герцога Орлеанского, брата Людовика XIV — 65. Герберштейн Сигизмунд фон (1486–1566), немецкий дипломат, автор «Записок о московитских делах» — 41, 76. Герен Пьер Нарцисс (1774–1833), французский художник-академист — 214, 240, 241. Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий писатель, мыслитель и ученый — 310. Гильомен Арман Батист (1841–1927), французский живописец, пейзажист — 249. Гинтон, немецкий математик — 113. Гиппиус-Мережковская Зинаида Николаевна (1869–1945), поэт, прозаик, критик — 26, 330. Гиршман Владимир Осипович (1867–1936), московский фабрикант, коллекционер — 47, 103. Гитлер А. — 343. Глаголь Сергей (наст. имя Голоушев Сергей Сергеевич) (1855–1920), искусствовед, критик — 257, 332. Глазунов Александр Константинович (1865–1936), композитор, дирижер — 325. Глеб (?-1015), святой, князь муромский — 148. Глинка Михаил Иванович (1804–1857), композитор, родоначальник русской классической музыки — 141. Глэз (Глез) Альбер (1881–1953)), французский художник, кубист — 110–112, 256, 292. Глюк Кристоф Виллибальд (1714–1787)) австрийский композитор, работал в Вене и Париже — 327. Гоббема (Хоббема) Мейндерт (1638–1709), голландский живописец — 62, 242. Гоген Поль (1848–1903), французский живописец — 28, 92, 107, 110, 117, 177, 214, 225, 247, 253, 254, 265, 292. Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель — 33, 68, 77, 309, 310, 340. Годунов Борис Федорович (ок. 1552–1605), фактический правитель Русского государства в 1584–1598) русский царь с 1598 (избран Земским собором) — 17, 80. Головин Александр Яковлевич (1863–1930), театральный художник — 27, 61, 62, 74, 80, 133, 141, 149, 226. Голубев В. В., владелец имения Пархомовка — 97. Голубев Василий Захарович, искусствовед — 186. Гомер — 337. Гончарова Наталья Сергеевна (1881–1962), живописец — 111, 114, 115, 118. Гоппе Герман, издатель, специализировался на богато иллюстрированных книгах, в том числе каталогах выставок — 157, 169. Горации, три брата-близнеца из древнеримского патрицианского рода — 240. Горбов Я. Н. — 342. Горбунов Иван Федорович (1831–1895/96), писатель, актер — 165. Горелов Гавриил Никитич (1880–1966), живописец — 130. Готье Теофиль (1811–1872), французский поэт, прозаик и критик — 80, 329. Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776–1822), немецкий писатель, композитор — 76, 77, 309, 310, 312, 321, 323. Гоццоли Беноццо (1420–1497), итальянский живописец — 92, 186. Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960), живописец и искусствовед — 27, 45, 48–50, 60, 80, 226, 322, 332, 336. Гравело (наст. имя Бургиньон Хуберт Франсуа) (1669–1743), французский гравер и иллюстратор — 324. Гречишкин С. С. — 336. Гржебин Зиновий Исаевич (1869–1929), художник, издатель, совладелец издательства «Шиповник» — 312, 319, 325. Гри Хуан Викториано (1887–1927), французский живописец-кубист, по происхождению испанец; в 1922–1923 оформлял Дягилевские балеты — 292. Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864), поэт и литературный критик — 169. Григорьев Борис Дмитриевич (1886–1939), живописец и график — 114, 117, 118. Грин, ксилограф — 324. Грищенко А., художник-кубист — 257, 258, 287. Гро Антуан Жан (1771–1835). французский живописец — 240. Гукасов А. О. — 341. Гуль Р. Б. — 343. Гумилев Н. С. — 336, 337, 344, 346. Гуревич А. — 329. Гурмон Реми де (1858–1915), французский писатель и критик — 322. Гюйсманс Шарль Мари Жорж (1848–1907), французский писатель — 233.
Давид Жак Луи (1748–1825), французский живописец — 231, 239–242, 261. Давыдова Наталья Яковлевна (1873–1926), художница, мастер прикладного искусства — 149. Дагер Луи Жак Манде (1787–1851), французский художник и изобретатель, один из создателей фотографии — 245. Даль Юхан Кристиан (1788–1857), норвежский живописец, основоположник норвежского национального пейзажа — 138. Д’Аменьи Карюэль, французский художник-академист — 242. Данте (Дант) Алигьери (1265–1321), итальянский поэт — 229. Девериа Ашиль, французский живописец, ученик П. Делароша — 233. Дега Эдгар (1834–1917), французский живописец-импрессионист, график и скульптор — 13, 27, 236, 272. Дёйблер Теодор (1876–1934), немецкий художественный критик, искусствовед — 289, 290. Делакруа Эжен (1798–1863), французский живописец и график — 110, 231, 232, 240–243, 246, 249. Деларош Поль (наст. имя Ипполит) (1797–1856), французский живописец — 233, 240. Делеклюз Э., автор книги о Ж. Л. Давиде — 231. Делиль Жак (1738–1813), французский поэт и переводчик, автор поэмы «Сады» (Les Jardins, 1782) — 72. Делоне Робер (1885–1941), французский художник-кубист — 292. Демут-Малиновский Василий Иванович (1779–1846), скульптор — 139. Дени Морис (1870–1943), французский живописец — 99, 213, 217, 218, 233. Деоденк, художник-ориенталист — 241. Дерен Андре (1880–1954), французский живописец, кубист — 253, 256, 262, 339. Дефреггер Франц фон (1835–1921), немецкий живописец, австриец по происхождению — 24. Джорджоне (наст. имя Джорджо Барбарелли да Кастельфраико) (1476 или 1477–1510), итальянский живописец — 191, 275. Джотто ди Бондоне (1266 или 1267–1337), итальянский живописец — 169, 172, 186, 229. Диаз (Диас де ла Пенья) Нарцис Виржиль (1808–1876), французский живописец, пейзажист — 13, 932, 242, 243. Дикс Отто (1891–1969), немецкий живописец и график — 277. Диллон Мария Львовна (1858–1932), скульптор — 130. Диц Юлиус (1870–1957), немецкий живописец — 76. Дмитриев Вс. — 332. Добиньи Шарль Франсуа (1817–1878), французский живописец и график — 13, 52, 232, 242, 343. Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957), живописец, график, театральный художник — 68, 69, 76, 79, 188, 205, 206, 208, 300–327, 335, 337, 339. Добычина Надежда Евсеевна, художественный деятель — 323. Домье Оноре (1808–1879), французский график, живописец и скульптор — 262. Досекин Николай Васильевич (1863–1935), живописец — 58, 87. Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель и мыслитель — 9, 10, 23, 33, 39, 153, 183, 205, 301, 303, 306, 307, 309, 310, 312, 313, 320, 325, 334, 340. Дризен (Остен-Дризен) Николай Васильевич (1868–1935), театральный деятель, предприниматель — 97, 323. Дриттенпрейс, живописец, член «Голубой розы» — 217. Дубовской Николай Никанорович (1859–1918), живописец, передвижник — 51. Дудле, иллюстратор — 314. Дурнов Модест Александрович (1868–1928), художник — 226. Дуччио (Дуччо ди Буонинсенья) (ок. 1255–1319), итальянский живописец — 186. Дюпре Жюль (18 11–1889), французский живописец — 13, 52, 233, 242, 243. Дюрер Альбрехт (1471–1528), немецкий живописец и график — 115. Дягилев Сергей Павлович (1872–1929), театральный деятель и художественный критик, один из создателей «Мира искусства» — 23, 26, 29–31, 38, 93, 98, 203, 324, 329, 330, 333.
Евсеев, художник — 226. Егоров Алексей Егорович (1776_ 1851), живописец и рисовальщик — 324. Егоров Владимир Евгеньевич (1878–1960), театральный художник, живописец — 226. Екатерина II (1729–1796), российская императрица с 1762 — 23, 24, 47, 105, 188, 328. Елизавета Петровна (1709–1761/62), российская императрица с 1741 — 24, 188, 309. Елизавета (1646–1696), дочь Гастона, герцога Орлеанского — 65. Ендогуров Иван Иванович (1861–1899), живописец, пейзажист — 19. Ефрон (Эфрон) Ильи Абрамович (1847–1917), издатель, соучредитель акционерного издательского общества «Ф. А. Брокгауз И. А. Ефрон» — 327.
Жаннере — см. Ле Корбюзье. Жерар Франсуа (1770–1837), французский живописец и рисовальщик — 240. Жерико Теодор (1791–1824), французский живописец, рисовальщик и гравер — 240, 241. Жилирди Дементий (Доменико) Иванович (1788–1845), русский архитектор, по происхождению итальянец — 68. Жирардон Франсуа (1628–1715), французский скульптор, классицист — 66, 67. Жироде де Руси-Триозон Анн Луи (1767–1824), французский живописец и график — 240. Жуковский В., художник — 226. Жуковский Станислав Юлианович (1873–1944), живописец — 61.
Забела-Врубель Надежда Ивановна (1868–1913), певица — 97. Забелин Иван Егорович (1820–1908/09), историк, археолог — 41. Зайцев Борис Константинович (1881–1972), писатель — 319, 341. Закревский Арсений Андреевич (1783–1865), граф, государственный деятель (в 1828–1831 министр внутренних дел, в 1848–1859 московский генерал-губернатор) — 138. Замятии Евгений Иванович (1884–1937), писатель — 337. Зарубин Виктор Иванович (1866–1928), живописец — 129. Заттелер, немецкий живописец — 76. Зауервейд Александр Иванович (1783–1844), живописец и рисовальщик, баталист — 138. Захаров Андреян Дмитриевич (1761–1811), архитектор — 33, 301. Званцева Елизавета Николаевна (1864–1933), живописец, владелица частной студии-школы в Москве (1899–1905) и Петербурге (1906–1916) — 316. Зевксис (кон. V нач. IV в. до н. э.), древнегреческий художник — 15. Зедделер Николай Николаевич, художник, член выставок «Союза русских худож-ников» и «Нового общества» — 226. Зелинский Ф. Ф. — 337. Зиновьева-Аннибал (наст. фам. Зиновьева, в 1-м браке Шварсалон, во 2-м браке Иванова) Лидия Дмитриевна (1865 или 1866–1907), прозаик, драматург, хозяйка литературного салона, вторая жена Вяч. Иванова — 319. Злобин Н А. — 343. Зноско-Боровский Е.А. — 336. Золя Эмиль (1840–1902), французский писатель — 327.
Ибсен Генрик (1828–1906), норвежский драматург — 97, 333. Иванов Александр Андреевич (1806–1858), живописец — 33, 51, 82, 129, 141, 168, 333, 335, 340. Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949), поэт, критик, теоретик символизма — 319, 333, 336, 337, 344. Иванов Георгий Владимирович (1894–1958), поэт — 325, 343. Иваск Ю.П. — 342. Иоанн IV Васильевич Грозный (1530–1584), первый русский царь (с 1547) — 18.
Кабанель Александр (1823–1889), французский художник, портретист и исторический живописец — 340. Казаков Матвей Федорович (1738–1813), архитектор, классицист — 32, 68. Казанова Франческо Джузеппе (1727–1802), итальянский пейзажист — 34. Кайлик Лин Клод Филипп де (1693–1765), французский историк искусства, коллекционер — 340. Калам Александр (1810–1864), швейцарский живописец и график — 13. Калло Жак (1592/93–1635), французский художник и гравер — 73. Калмаков Николай Константинович, живописец — 226. Кальф (Калф) Виллем (1619–1693), голландский живописец, автор натюрмортов и пейзажей — 235. Камерон Чарлз (1730-е — 1812), русский архитектор, по происхождению щотландец — 318. Кампедонк, кубист — 292. Кандинский Василий Васильевич (1866–1944), живописец и график, абстракционист — 226, 283, 284, 291, 292, 332. Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), писатель, историк — 310, 312. Кардовский Дмитрий Николаевич (1866–1943), живописец и график — 132, 205, 226. Карев А., живописец, член выставки «Венок» — 223. Карьер (Карриер) Э. — 332. Касаткин Николай Алексеевич (1859–1930), живописец — 22. Кастаньо Андреа дель (ок. 1421–1457), итальянский живописец — 230. Катрмер-де-Кэнси (Кенси) А.К., французский архитектор — 240. Кваренги (Гваренги) Джакомо (1744–1817), русский архитектор, итальянец по происхождению — 188. Кедров М. А. — 343. Кирико (Де Кирико) Джорджо де (1888–1978), итальянский живописец, пейзажист — 270, 277, 292. Киселев Александр Александрович (1838–1911), живописец, пейзажист — 11, 19, 128, 131. Киселева, живописец, передвижница — 130. Клее Пауль (1879–1940), немецкий художник-кубист, жил и работал во Франции и Швейцарии — 292. Кленовский (наст. фам. Крачковский) Д. И. — 342. Клингер Макс (1857–1920), немецкий живописец, график, скульптор — 23, 197, 200, 332, 333, 335. Клодель Поль (1868–1955), французский поэт и драматург — 8. Клокачева (по нек. источникам Клакачева) Елена Никандровна (1871-?), живописец — 130. Кнаус Людвиг (1829–1910), немецкий живописец-жанрист — 13, 24. Кнопф Фернан (1858–1921), бельгийский художник — 20, 233. Козловский Михаил Иванович (1753–1802), скульптор и рисовальщик — 141, 188, 301. Койранский А. — 332. Кокоринов Александр Филиппович (1726–1772), архитектор, автор здания Академии художеств — 14, 307. Колесников Степан Федорович (1879–1955), русский и украинский живописец-передвижник — 130. Колесниковы, живописцы-передвижники, братья — 58, 61. Комаровский В. А. — 342. Каневской И. (наст. фам. Ореус П. П.) — 344. Константин I Великий (ок. 285–337), римский император с 306; основатель Константинополя — 78. Констебль (Констебл) Джон (1776–1837), английский живописец, пейзажист — 231, 240, 241, 242. Кончаловский Петр Петрович (1876–1956), живописец — 111, 114, 226, 253. Копельман С. Ю., издатель — 319. Корецкая И. В. — 336. Корзухин Алексей Иванович (1835–1894), живописец-жанрист — 18. Кормон Фернан (1845–1924), французский живописец, педагог — 93, 102. Коро Камиль (1796–1875), французский живописец, пейзажист — 13, 52, 232, 242. Коровин А. А., коллекционер — 77. Коровин Константин Алексеевич (1861–1939), живописец — 22, 38, 40, 45, 47, 52, 56, 59, 61, 141, 149, 226. Кошелев Николай Андреевич (1840–1918), живописец, иконописец — 138. Крамской Иван Николаевич (1837–1887), живописец, рисовальщик и художественный критик — 10, 11, 17, 168. Крейд В. — 342, 343. Кросс (Делакруа) Анри Эдмон (1856–1910), французский живописец, пейзажист — 214, 249. Крыжицкий Константин Яковлевич (1858–1911), живописец, пейзажист — 19, 130. Крылов Иван Андреевич (1769–1844), писатель-баснописец — 321. Крымов Николай Петрович (1884–1958), живописец, пейзажист — 62, 99, 105, 217, 226, 336. Ксаки Жозеф (1888–1971), французский скульптор и живописец, кубист, по происхождению венгр — 292. Куазво (Куазевокс) Антуан (1640–1720), французский скульптор — 66. Куапель Ноэль (1628–1707), французский живописец, монументалист — 66. Кубасов, живописец, член выставки «Венок» — 223. Кубин Альфред (1877–1959), бельгийский живописец-кубист — 292. Кузмин Михаил Алексеевич (1875–1936), писатель, переводчик — 80, 309, 314, 325, 326, 337. Кузнецов В., живописец — 226. Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878–1968), живописец — 99, 103, 105, 215, 217, 218, 336. Кузнецова О. А. — 336. Куинджи Архип Иванович (1841–1910), живописец, пейзажист — 10–12, 22, 51, 52, 55, 62, 93, 177, 185, 187. Куликов Иван Семенович (1875–1941), живописец, ученик И. Репина — 129. Курбе Жан Дезире Гюстав (1819–1877), французский живописец, график, скульптор, общественный деятель — 52, 110, 230, 232, 233, 243, 245, 249, 253. Кусевицкий Сергей Александрович (1874–1951), русский дирижер и контрабасист-виртуоз, основатель симфонического оркестра и «Российского музыкального издательства» (1909) — 323, 337. Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927), живописец — 36, 66, 112, 132, 226. Кусту Никола (1658–1733) и Гийом (1677–1746), французские скульпторы, братья — 66. Кутепов Николай Иванович (1851-?), гвардии полковник, заведующий хозяйством императорской охоты, автор издания «Царская и императорская охота на Руси» — 165. Кутюр Тома (1815–1879), французский живописец — 233, 240. Кушелев-Безбородко Николай Александрович, граф, коллекционер — 13.
Лавальер Луиза Франсуаза Лабом де (Mademoiselle de Lavalliere) (1644–1710), герцогиня, фаворитка Людовика XVI, с 1674 г. монахиня — 66. Лаго, французский художник-кубист — 292. Ламбер, художник-кубист — 292. Лампи Иоганн Батист (1751–1830), австрийский живописец, работавший в России в 1792–1797 гг. — 77. Лансере Евгений Евгеньевич (1875–1946), график и живописец — 27, 67–69, 76, 79, 133, 141, 188, 200, 203–205, 208, 209, 304, 307, 315, 317, 324, 335. Ларильер (Ларжильер) Никола де (1656–1746), французский живописец, портретист — 77. Ларионов Михаил Федорович (1881–1964), живописец — 111, 114, 118, 226. Латри Михаил Пелапидович (1875–1944), живописец, маринист — 55, 185, 226. Лафайет Мари Мадлен де (1634–1693), французская писательница и мемуаристка — 67. Лаховский Арнольд Борисович (1882–1937), живописец — 130. Ла Шез Франсуа (1624–1709), французский иезуит — 66. Лебедев Александр Игнатьевич (1830–1898), рисовальщик, литограф — 128, 139, 156. Лебрен Шарль (1619–1690), французский живописец — 66, 67. Левитан Исаак Ильич (1860–1900), живописец, пейзажист — 22–24, 47, 51–58, 61, 129, 141, 166, 195, 332, 340. Левитский, график — 322. Левицкий Дмитрий Григорьевич (1735–1822), живописец, портретист — 77, 141, 188. Леже Фернан (1881–1955), французский живописец и график — 256, 292. Лейбль Вильгельм (1844–1900), немецкий живописец — 13. Ле Корбюзье (наст. фам. Жаннере) Шарль Эдуар (1887–1965), французский архитектор и художник — 292. Лемох Кирилл (Карл) Викентьевич (1841–1910), живописец-жанрист — 18. Лемуан Франсуа (1688–1737), французский живописец, монументалист — 66. Ленотр Андре (1613–1700), французским архитектор, мастер садово-паркового искусства, создатель регулярного («французского») типа парка — 66, 73. Леонардо да Винчи (1452–1519), итальянский художник, архитектор, ученый, инженер — 240, 252. Ле Пюже, французский скульптор — 66. Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт и прозаик — 47, 80, 87, 309, 310, 322, 323. Лесков Николай Семенович (1831–1895), писатель — 310, 325. Ле Телье (Летелье) Мишель (1603–1685), французский государственный деятель, канцлер Франции при Людовике XIV — 66. Либерман Макс (1847–1935), немецкий живописец и график — 27. Лидваль, владелец дома на Большой Конюшенной, где в 1907 г. происходила выставка М. В. Нестерова — 35. Линдеман Агнесса Эдуардовна, график и художница-вышивальщица — 149. Литовченко Александр Дмитриевич (1835–1890), живописец — 18, 139. Лонги Пьетро (1702–1785), итальянский живописец — 24, 73. Лопе де Вега (Вега Карпьо Лопе Феликс де) (1562–1635), испанский драматург — 97. Лоран Анри (1881–1954), французский художник-футурист — 269, 292. Лоррэн (Лоррен, наст. фам. Желле) Клод (1600–1682), французский живописец и график — 62. Лукомский Георгий Крескентьевич (1884–1940), график, искусствовед — 118. Лукш-Маковская Елена Константиновна, художник, скульптор, сестра С. К. Маковского — 226. Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933), критик, публицист, искусствовед, советский государственный деятель — 257. Людовик XIV (Король-Солнце) (1638–1715), французский король с 1643 г. — 65, 70, 72, 77, 189. Людовики, французские короли (по контексту: период от Людовика XIII до Людовика XVI) — 23, 70, 80. Люс Максимилиан (1858–1941), французский живописец, близкий к неоимпрессионистам — 249.
Мазаччио (Мазаччо) (наст. имя Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи) (1401–1428), итальянский живописец — 229, 231. Мазини Анджело (1844–1926), итальянский певец, тенор — 47. Маке Август (1887–1914), немецкий живописец-экспрессионист — 292. Маклаков В.А. — 343. Маковская (урожд. Леткова) Ю.П. — 328, 339. Маковские Владимир Егорович (1846–1920) и Константин Егорович, живописцы-передвижники, братья — 17. Маковский Е.И. — 328. Маковский Константин Егорович (1839–1915), живописец, отец С. К. Маковского — 11, 18, 51, 52, 139, 328. Маковский С. К. — 328–346. Максимов Василий Максимович (1844–1911), живописец — 18. Малевич Казимир Северинович (1878–1935), живописец — 286, 297. Малютин Сергей Васильевич (1859–1937), живописец и график — 23, 27, 38, 149, 157–159, 173. Малявин Филипп Андреевич (1869–1940), живописец — 23, 27, 34, 36, 44, 45, 128, 226. Мамонтов Савва Иванович (1841–1918), промышленник и меценат, художник-дилетант, владелец имения Абрамцево, в 1870–1890-х гг. бывшего крупным центром художественной жизни России — 22, 149, 329. Мамонтова Александра Саввишна (1878–1952), дочь С. И. Мамонтова; изображена на картине В. Серова «Девочка с персиками» — 45. Мамонтова Елизавета Григорьевна (1847–1908), жена С. И. Мамонтова, активная участница Абрамцевского художественного кружка — 157. Мане Эдуар (1832–1883), французский живописец — 13, 51, 53, 61, 230, 233, 235, 245. Мансар Франсуа (1598–1666), французский архитектор, представитель классицизма — 66. Маргарита Луиза (1645–1701), дочь Гастона, герцога Орлеанского — 65. Маринетти Филиппо Томмазо (1876–1944), итальянский поэт-футурист — 112. Мария Антуанетта Австрийская (1755–1793), французская королева, жена Людовика XVI — 76. Мария-Терезия (Мария Тереза) Испанская (1638–1683), французская королева, жена Людовика XIV — 65. Марк М., немецкий живописец — 292. Марк Франц (1880–1916), немецкий живописец, экспрессионист — 285, 290, 292. Маркс Карл (1818–1883), немецкий теоретик, экономист, основоположник коммунистического движения — 32. Мартини Артуро (1889–1947), итальянский скульптор и художник — 277, 292. Мартос Иван Петрович (1754–1835), скульптор — 141. Мартэн Анри, французский живописец-пуантеллист — 214. Матвеев Андрей Матвеевич (между 1701 и 1704–1739), живописец — 141. Матисс Анри (1869–1954), французский живописец — 49, 107, 109–111, 214, 265, 339. Матэ Василий Васильевич (1856–1917), гравер, педагог — 324. Машков Илья Иванович (1881–1944), живописец — 111. Мейер-Грефе Юлиус (1867–1935), немецкий художественный критик, автор работ об импрессионизме — 27. Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940), режиссер, театральный деятель — 309. Мейзнер Людвиг (1884–1966), немецкий живописец и поэт, экспрессионист — 292. Мекк Владимир Владимирович фон (1877–1932), московский промышленник, меценат — 203. Мемлинг Ханс (ок. 1440–1494), голландский живописец — 177. Ментенон Франсуаза де, маркиза д’ Обинье (1635–1719), фаворитка Людовика XIV — 67, 72. Менцель Адольф фон (1815–1905), немецкий живописец и график — 13, 27, 73, 76. Менье Константен (1831–1905), бельгийский скульптор и живописец — 209, 332. Мережковские — 341. Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941), поэт, романист, драматург, религиозный философ — 26, 330, 333, 336. Мериме Проспер (1803–1870), французский писатель — 80. Мерсье (Mercier) Луи Себастьен (1740–1814), французский писатель, автор очерков «Картины Парижа» — 240. Метерлинк Морис (1862–1949), бельгийский драматург и эссеист — 23, 97, 99, 177, 188, 217, 314, 321, 336. Метценже (Меценже) Жан (1883–1956), французский живописец-кубист — 88, 110–112, 229, 256, 292. Микеланджело Буонарроти (1475–1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт — 240. Милиоти Василий Дмитриевич (1875–1945), художник, график — 226. Милиоти Николай Дмитриевич (1874–1950), живописец, график-акварелист — 99, 217, 218, 226, 336. Милле Жан Франсуа (1814–1875), французский живописец — 242. Милюков П.Н. — 341. Минковский Герман (1864–1909), немецкий математик и физик — 281. Минский (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1855–1937), поэт, критик, философ — 26, 330. Митрохин Дмитрий Исидорович (1883–1973), художник — 304, 322. Митурич Петр Васильевич (1887–1956), живописец — 297. Михаил Александрович (1333–1399), князь тверской — 148. Михаил Всеволодович (1179–1246), князь черниговский, замучен в Золотой Орде, причислен к лику святых — 148. Михаил Федорович (1596–1645), первый русский царь из династии Романовых (с 1613) — 165. Мишель Жорж (1763–1843), французский живописец, пейзажист — 240. Модерзон-Беккер Паула (1876–1907), живописец — 292. Мольер (наст. имя Поклен Жан Батист) (1622–1673), французский комедиограф — 66. Мондриан Пит (1872–1944), нидерландский живописец, создатель неопластицизма — 292. Моне Клод Оскар (1840–1926), французский живописец-импрессионист — 13, 52, 54, 245, 246, 249. Монигетти Ипполит Антонович (1819–1878), архитектор — 138. Монпансье Анна Мария Луиза Орлеанская, герцогиня де (1627–1693), дочь Гастона Орлеанского, мемуаристка — 65. Монтозье Жюли Люсиния Анженская, герцогиня де (1606–1671), жена воспитателя дофина Людовика — 67. Монтеспан Франсуаза Атенаиса де Рошешуар де Мортемар, маркиза де (1641–1707), фаворитка Людовика XIV — 66. Монтичелли Адольф Жозеф Тома (1824–1886), французский живописец — 324. Моризо Берта (Morisot Berthe) (1841–1895), французский живописец, импрессионистка — 61. Моро Гюстав (1826–1898), французский живописец и график — 25, 233. Морозов Иван Абрамович (1871–1921), фабрикант, коллекционер — 61, 338. Морозова (Соковнина) Феодосия Прокопиевна (1632–1675), боярыня, раскольница — 17, 45. Морозовы, меценаты — 85. Моррис Ш. — 329. Муратов П. П. — 332, 338, 341. Мурашко Николай Иванович (1844–1909), живописец — 133. Мурильо Бартоломе Эстебан (1618–1682), испанский живописец — 191. Мусоргский Модест Петрович (1839–1881), композитор — 160. Мюссар Е. Н., основатель художественного кружка — 22. Мясоедов Григорий Григорьевич (1834–1911), живописец — 22, 156.
Наполеон I Бонапарт (1769–1821), французскийгосударственный деятель, полководец, император в 1804–1814, 1815 — 240, 310. Наполеон III (Шарль Луи Наполеон Бонапарт) (1808–1873), французский император в 1852–1870 — 72. Нарбут Георгий Иванович (1886–1920), график — 304, 309, 310, 312, 322. Натье (Наттье) Жан Марк (1685–1766), французский живописец, портретист — 77, 141. Наумов Н., живописец, участник выставки «Венок» — 223. Неврев Николай Васильевич (1830–1904), живописец — 18. Некрасов К. Ф. — 339. Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/78), поэт — 9. Некрасова Е. А. — 330. Нерадовский Петр Иванович (1875–1962), живописец — 133. Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942), живописец — 22, 23, 34, 35, 39, 41, 42, 45, 52, 56, 129, 143, 153, 166–169, 171, 172, 330, 332, 340. Нивинский Игнатий Игнатьевич (1880/81–1933), театральный художник — 226. Ниепс (Ньепс) Жозеф Нисефор (1765–1833), французский изобретатель, один из создателей фотографии — 245. Никитин Иван Никитич (ок. 1690–1742), живописец, портретист — 141. Никифоров Петр Максимович (1885–1958), живописец — 58, 61. Николай (IV в.), архиепископ Мирликийский, великий христианский святой и чудотворец — 15. Николай I Павлович (1796–1855), российский император с 1825 — 23, 138, 310. Николай II Александрович (1868–1918), российский император в 1894–1917 — 109. Николай Михайлович — 331. Никон (Минов Никита) (1605–1681), русский патриарх в 1652–1657; провел церковные реформы, вызвавшие раскол — 79. Ниттис де Джузеппе (1846–1884), французский живописец, импрессионист — 245. Ницше Фридрих (1844–1900), немецкий философ — 23, 333. Нольде (наст. фам. Хансен) Эмиль (1867–1956)) немецкий живописец и график, экспрессионист — 292. Нотгафт Ф. Ф. — 339.
Одинец Д. М. — 343. Одоевцева Ирина Владимировна (наст. фам. и имя Гейнике Ираида Густавовна, по мужу Иванова) (1901–1990), поэт, романистка, мемуаристка — 325. Озенфан (Озанфан) Амеде (1886–1966), французский живописец-кубист и писатель — 292. Олеарий Адам (1603–1671), немецкий путешественник, оставивший «Описание путешествия в Московию…» — 41, 76. Ольденбург С. — 341. Орлова (урожд. княжна Белосельская-Белозерская) Ольга Константиновна (1872–1923), княгиня, изображена на портрете работы В. Серова — 47. Орловский Александр Осипович (1777–1832), польский и русский живописец и график — 19. Островский Александр Николаевич (1823–1886), драматург — 24, 80. Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871–1955), гравер и акварелист — 67, 188, 205, 226, 307. Остроухов Илья Семенович (1858–1929), живописец, художественный деятель, коллекционер — 17, 56, 218, 339.
Павел I Петрович (1754–1801), российский император с 1796 — 79. Палеологи, династия византийских императоров XIII–XV вв. — 70. Парланд Альфред Александрович (1842–1920), архитектор — 138. Парни Эварист (1753–1814), французский поэт — 141. Парразий (Паррасий из Эфеса) (2-я пол. V в. до н. э.), древнегреческий живописец — 15. Пастернак Леонид Осипович (1862–1945), живописец, член «Союза русских художников» — 226. Перов Василий Григорьевич (1833/34–1882), живописец — 17. Перро Клод (ок. 1613–1688), французский архитектор — 66. Петр I Алексеевич (Великий) (1672–1725) — русский царь с 1682 (правил с 1689), первый российский император (с 1721) — 21, 23, 31–33, 76, 78, 79, 135, 136, 170, 204, 205, 301, 306. Петров М., издатель, редактор — 157. Петров Н. Ф., художник, мастер интерьера — 226. Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878–1939), живописец — 49, 50, 114, 115, 117, 119, 219, 226, 332. Петровичев Петр Иванович (1874–1947), живописец — 226. Петрункевич (по мужу Конисская) Наталия Ивановна, изображена на картине работы Н. Ге (1893) — 52. Петрушевский Дмитрий Моисеевич (1863–1942), русский историк — 327. Пехштейн Макс (1881–1955). немецкий живописец, экспрессионист — 292. Пикассо Пабло (1881–1973), французский живописец, график, скульптор, керамист; испанец по происхождению — 95, 112, 120, 229, 231, 235, 249, 255–264, 266, 268, 269, 277, 281, 340. Пимоненко Николай Корнильевич (1862–1912), украинский живописец — 128. Пиранези Джованни Баттиста (1720–1778), итальянский гравер и архитектор — 73, 307. Пирогов Николай Васильевич (1872–1913), график — 133. Писсаро Камиль (1831–1903), французский живописец — 13, 48, 51, 56, 245, 250. Плеханов И., художник — 223. Плешанов Павел Федорович (1829–1882), живописец — 139. Плиний Старший (ок. 24–79), римский писатель, ученый-энциклопедист, историк — 229. Поленов Василий Дмитриевич (1844–1927), живописец — 51, 55, 168, 169, 335. Поленова Елена Дмитриевна (1850–1898), живописец и график, сестра В. Д. Поленова — 38, 87, 149, 156, 158, 159, 173. Полигнот (ок. 510 до н. э. — ?), древнегреческий живописец — 229. Попов А. Г., производитель фарфора — 80. Пракситель (ок. 390 — ок. 330 г. до н. э.), древнегреческий скульптор — 106, 241. Прахов Адриан Викторович (1846–1916), искусствовед, историк искусства, профессор Академии художеств — 29, 84, 85. Прокофьев Иван Прокофьевич (1758–1828), скульптор — 141, 188. Прокофьев С. С. — 357. Прудон (Прюдон) Пьер-Поль (1758–1823), французский живописец — 240. Прянишников Илларион Михайлович (1840–1894), живописец — 18. Пуаре Поль (1879–1944}, французский модельер и декоратор — 77. Пуни Иван (Жан) Альбертович (1894–1961), живописец, театральный художник — 238, 271. Пунин Николай Николаевич (1888–1953), искусствовед — 297, 298, 332, 339. Пурвит (Пурвитис) Вильгельм Карлис (1872–1945), латышский живописец, пейзажист — 55, 185, 226. Пуссен Никола (1594–1665), французский живописец 67, 120, 264, 272. Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) 24, 33, 57, 67, 68, 71, 87, 141, 143, 204, 205, 301, 303, 307, 309, 310, 321, 337, 340. Пюви де Шаванм Пьер (1824–1898), французский живописец, мастер монументально-декоративной живописи — 27, 85, 96, 103, 105, 233.
Радаков А. Л. — 337. Радлов Николай Эрнестович (1889–1942), художник — 278, 281, 313, 332, 340. Раевский (наст. фам. Оцуп) Г.А. — 344. Расин Жан (1639–1699), французский драматург, классицист — 66. Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (Бартоломео Франческо) (1700–1771), русский архитектор, итальянец по происхождению — 188, 301. Рафалович Сергей Львович (1875–19?), поэт, беллетрист, драматург — 321. Рафаэль Санти (1483–1520), итальянский живописец и архитектор — 191, 232, 240. Рафаэлли Жан Франсуа, французский живописец — 61. Раэналь Морис — 272. Рейсбрук Удивительный (1293–1381), нидерландский писатель и теолог — 178. Рейсдаль (Рёйсдал), семья голландских живописцев: Саломон ван (1600–1670), пейзажист; Якоб Изакс ван (1628/29–1682), пейзажист и маринист; Якоб Саломоне ван (1629/30–1681), пейзажист — 242. Рейссельберг Тео ван, живописец, последователь Сёра и Синьяка — 249. Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669), голландский живописец, рисовальщик и офортист — 12, 14, 127, 230, 233. Ре-ми (Ремизов Н. В.) — 337. Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957), писатель — 319, 320, 327. Ренуар Огюст (1841–1919), французский живописец, график и скульптор — 13, 48, 230, 233, 235. Репин Илья Ефимович (1844–1930), живописец — 10, 11, 13–15, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 29, 34–36, 44, 45, 47, 49–51, 129, 131, 141, 153–156, 168, 169, 226, 335. Рерих Николай Константинович (1874–1947), живописец и театральный художник, археолог, писатель — 39, 50, 69, 80, 81, 90–98, 118, 141, 173–182, 184–187, 332, 335, 340. Рескин (Раскин) Джон (1819–1900), английский писатель, искусствовед, историк, публицист — 230, 329. Рибера (Рибейра) Хусепе (1591–1652), испанский живописец и гравер 261. Ригль А. — 329. Рикарди, флорентийский род — 186. Риман Бернхард (1826–1866), немецкий математик, заложил основы римановой геометрии, изучающей свойства многомерных пространств — 113, 281, 284. Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908), композитор, дирижер — 87, 141. Робеспьер Максимильен (1758–1794), один из вождей Великой французской революции, лидер якобинцев — 240. Роден О. — 333. Розанов Василий Васильевич (1856–1919), писатель, философ, публицист — 26, 330, 336. Розанов Николай Васильевич (1869–1940), живописец — 130. Рокотов Федор Степанович (1735?-1808), живописец, портретист — 141, 188. Ропет Иван Павлович (наст. фам. и имя Петров Иван Николаевич) (1845–1908), архитектор — 9, 138. Росси Карл Иванович (1775–1849), архитектор — 188. Ростиславлев Н. — 332. Рубенс Питер Пауль (1577–1640), фламандский живописец — 12. Рубинштейн Ида Львовна (1880–1960), танцовщица; изображена на портрете работы В. Серова — 36, 47, 49. Рубо Франц Алексеевич (1856–1928), живописец, баталист, создатель панорам — 131. Руссо Теодор (1812–1867), французский живописец, глава барбизонской школы — 13, 232, 242, 243. Рущиц Фердинанд Эдуардович (1870–1936), польский и русский живописец и график — 55, 185. Рылов Аркадий Александрович (1870–1939), живописец, пейзажист — 55, 185, 226. Рындина М.Э. — 338, 339, 343. Рюисберг, французский живописец, пейзажист — 214. Рябушинский Николай Павлович (1876–1951), потомок богатого купеческого рода, художник и поэт-дилетант, редактор-издатель журнала «Золотое руно» — 99, 320, 339. Рябушкин Андрей Петрович (1861–1904), живописец — 33, 34, 39, 41, 44, 45, 77, 129, 141, 160–166, 168, 169, 173, 334.
Сабашникова Маргарита Васильевна (1882–1973), художница, поэтесса, первая жена М. Волошина — 226. Савинов Алексей Николаевич, живописец — 130. Савицкий Константин Аполлонович (1844–1905), живописец — 12, 18. Саврасов Алексей Кондратьевич (1830–1897), живописец — 55. Сазонов Василий Кондратьевич (1789–1870), живописец — 139. Сапунов Николай Николаевич (1880–1912), живописец — 67, 70, 77, 78, 80, 99, 105, 217, 221, 226, 336. Сарджант (Сарджент) Джон Сингер (1856–1925), американский живописец, портретист — 48, 49. Сарьян Мартирос Сергеевич (1880–1972), армянский и русский живописец — 99, 104, 105, 217, 224, 336. Сассаниды (Сасаниды), персидская династия в 224–651 — 24. Северини Джино (1883–1966), итальянский живописец, кубист; с 1906 жил во Франции — 272, 292. Сегантини Джованни (1858–1899), итальянский живописец-неоимпрессионист — 177, 233, 332. Седов Григорий Семенович (1836–1884), живописец — 139. Сезанн Поль (1839–1906), французский живописец — 49, 90, 94, 106, 107, 109–111, 214, 225, 235, 241, 242, 248–252, 256, 261, 264–266, 268. Семенов Ю. Ф. — 341. Семирадский Генрих (Хенрык) Ипполитович (1843–1902), польский и русский живописец-академист — 11, 126, 130. Сёра Жорж (1859–1891), французский живописец — 107, 241, 249, 292. Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) (ок.1321–1391), святой, преобразователь монашества в Северной Руси, подвижник, основатель и первый игумен Троице-Сергиева монастыря — 41. Серов Валентин Александрович (1865–1911), живописец и график — 22, 24, 27, 34. 36–38, 40, 45, 47, 49, 50, 52, 56, 58, 61, 74, 85, 129, 141, 155, 194, 226, 249, 250, 332, 340. Сильвестр Теофиль (Theophile Silvestre), французский критик — 239. Симонович (по мужу Львова) Мария Яковлевна (1864–1955), скульптор, двоюродная сестра В. Серова, изображена на картине «Девушка, освещенная солнцем» — 45. Синьяк Поль (1863–1935), французский живописец, теоретик неоимпрессионизма— 108, 214, 248, 249, 292. Скрябин Александр Николаевич (1871/72–1915), композитор и пианист — 327, 337. Скюдери (Mademoiselle Scuderi) Мадлен де (1607–1701), французская писательница — 67. Слефогт Макс (1868–1932), немецкий живописец — 324. Случевский К. К. — 344. Собко Николай Петрович (1851–1906), редактор журнала «Искусство и художественная промышленность» — 29. Сойкин Петр Петрович (1862–1938), издатель, книгопродавец — 323. Солнцев Федор Григорьевич (1801–1892), живописец — 139. Сологуб (наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863–1927), писатель, поэт — 26, 79, 309, 319, 330, 331, 344. Сологуб Федор Львович (?-1890), граф, иллюстратор и театральный художник — 149. Сомов Андрей Иванович (1830–1909), художественный деятель, старший хранитель Эрмитажа, редактор «Вестника изящных искусств», отец К. А. Сомова — 23. Сомов Константин Андреевич (1869–1939), живописец и график — 23, 67–71, 73, 76, 77, 79, 127, 133, 141, 188–193, 195–198, 200–204, 208, 209, 211, 302, 303, 307, 310, 312, 315, 317, 321, 324, 332, 335, 337. Средин Александр Валентинович (1872–1934), художник по интерьеру — 226. Ставров П. С. — 344. Старов Иван Егорович (1745–1808), архитектор — 32. Стасов Владимир Васильевич (1824–1906), художественный и музыкальный критик, историк искусства — 9, 35, 49, 157. Стеллецкий Дмитрий Семенович (1875–1947), живописец, график — 70, 77, 78, 304. Столица Евгений Иванович (1870–1929), живописец — 129. Столпянский Николай Петрович — 325. Стравинский Игорь Федорович (1882–1971), композитор, дирижер — 98, 337. Строганов Сергей Григорьевич (1794–1882), граф, русский государственный деятель; основатель Строгановского училища и Археологической комиссии — 41. Струве П. Б. — 341. Судейкин Сергей Юрьевич (1884–1946), живописец, театральный художник — 67, 70, 76, 77, 79, 80, 99, 105, 118, 217, 218, 222, 304, 307, 336. Сургучев И. Д. — 341. Суриков Василий Иванович (1848–1916), живописец, мастер исторической картины — 17, 26, 34, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 129, 141, 149–153, 166, 173, 187, 226, 334, 340. Сычков Федот Васильевич (1870–1958), живописец, исследователь художественной культуры Мордовии — 130.
Таманьо Франческо (1850–1905), итальянский оперный певец, тенор; в 1891 г. выступал в России; изображен на портрете работы В. Серова — 47. Тароватый Николай Яковлевич (1876–1906), редактор-издатель журнала «Искусство» (1905), заведующий художественным отделом «Золотого руна» — 99. Тарханов Иван Рамазович (1846–1908), профессор, физиолог; изображен на двух портретах И. Репина — 156. Тархов Николай Александрович (1871–1930), художник — 226, 338. Татаринов В. Е. — 343. Татлин Владимир Евграфович (1885–1953), живописец-конструктивист, театральный художник, автор «контррельефов» — 50, 110, 113, 269, 281, 288, 297. Тенишева Мария Клавдиевна (1867–1928), меценатка, коллекционер, организатор художественных мастерских в имении «Талашкино», певица — 23, 38, 97, 149, 157, 329. Теотокопули — см. Эль Греко. Терапиано Ю. К. — 342, 344. Терещенко Иван Николаевич (1857–1903), киевский сахарозаводчик, коллекционер — 82, 84. Тимм Василий Федорович (Георг Вильгельм) (1820–1895), живописец и график — 138. Тициан (Тициано Вечеллио) (1476/77 или 1489/90–1576), итальянский живописец — 47, 191. Токке Луи (1696–1772), французский живописец, портретист, работал в России в 1756–1758 — 141. Толстой Иван Иванович (1858–1916), граф, нумизмат, археолог, вице-президент Академии художеств (1898–1905), государственный деятель — 132. Толстой Лев Николаевич (1828–1910), писатель, мыслитель — 9, 45, 68, 183. Тома де Томмон Жан (1760–1813), русский архитектор, по происхождению француз — 204, 301. Тон Константин Андреевич (1794–1881), архитектор — 138. Трезини Доменико (ок. 1670–1714) и Пьетро, русские архитекторы, уроженцы итальянской Швейцарии — 301. Третьяков Павел Михайлович (1832–1898), художественный деятель, основатель Третьяковской галереи, предприниматель из богатого купеческого рода — 35, 55, 93, 94, 185. Труайон (Тройон) Констан (1810–1865), французский живописец, пейзажист — 13, 242. Трубников Александр Александрович, историк искусства, хранитель Эрмитажа, художественный критик — 204, 331. Тугендхольд Яков Александрович (1882–1928), историк искусства, художественный критик — 249–250, 257, 262, 268, 281, 332. Тулуз-Лотрек Анри де (1864–1901), французский график и живописец — 118, 262. Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель — 313, 321. Туржанский Леонард Викторович (1875–1945), живописец — 58, 61. Тэффи (наст. фам. Лохвицкая, по мужу Бунинская Н. А.) — 341. Тюменев Илья Федорович, автор статьи о Рябушкине в «Историческом вестнике» — 162.
Уайльд Оскар (1854–1900), английский писатель — 21, 23, 152, 217, 315, 329. Угрюмов Григорий Иванович (1764–1823), живописец — 139. Уде, парижский коллекционер — 257. Уистлер Джеймс Эббот Макнил (1834–1903), американский живописец и график, жил и работал в Европе — 230. Усольцев Федор Арсеньевич (1863–1947), врач-психиатр, владелец клиники для душевнобольных — 88, 91. Успенский Александр Иванович (1873–1938), художественный критик, источниковед — 144. Уткин Петр Саввич (1877–1934), живописец — 99, 218.
Фаворский Владимир Андреевич (1886–1964), живописец — 324. Федотов Павел Андреевич (1815–1852), живописец и график — 141. Феофилактов Николай Петрович (1878–1941), художник, известен по работам в издательстве «Скорпион» — 99, 216, 217. Фешин Николай Иванович (1881–1955), живописец, жанрист и портретист; педагог — 130. Фидий (нач. V в. до н. э. — ок. 432–431 гг. до н. э.), древнегреческий скульптор — 241. Фидлер К. — 329. Философов Д. В. — 333, 338. Флери Робер, французский живописец — 233, 240. Флобер Гюстав (1821–1880), французский писатель — 287. Фогелер Генрих (1872–1942), немецкий и русский художник — 76. Фокин Николай Михайлович (1869–1908), живописец — 132. Фортуни (Фортуни-и-Карбо) Мариано (1838–1874), испанский живописец и график — 14. Фрагонар Жан Оноре (1732–1806), французский живописец и график — 73. Франс А. (наст. имя Тибо А. Ф.) —343. Франциск Ассизский (1181 или 1182–1226), католический святой, итальянский проповедник, писатель, основатель ордена францисканцев — 169. Франциска Орлеанская (1648–1664), дочь Гастона, герцога Орлеанского — 65. Франэ Роже де ла (1885–1925), французский художник-кубист — 292. Фрина (IV в. до н. э.), древнегреческая гетера, служила моделью для двух статуй Афродиты — 11, 70.
Хаджи-Мурат (кон. 1790-х гг. — 1852), один из главных предводителей горцев в кавказской войне — 68. Ханенко Богдан Иванович (1848–1917) коллекционер — 18. Харламов Алексей Алексеевич (1840–1922?), живописец — 138. Хеккель Эрих (1883–1944), немецкий художник, экспрессионист — 279, 292. Хемскерк Якоб ван — 292. Хильдебрандт А. фон — 329. Химона Николай Петрович (1865–1920), художник и педагог — 55, 185. Хирошиге (Хиросиге) Андо (1797–1858), японский график, ксилограф — 245. Ходасевич В. Ф. — 338, 341. Ходлер Фердинанд (1853–1918), швейцарский живописец — 233. Хокусай Кацусика (1760–1849), японский живописец и рисовальщик, ксилограф — 245. Хомяков Алексей Степанович (1804–1860), философ, писатель, поэт — 31.
Ционглинский Ян Францевич (1858–1912), живописец — 22. Цорн Андерс Леонард (1860–1920), шведский живописец, график, скульптор — 27, 61.
Чайковский Петр Ильич (1840–1893), композитор — 141. Чеквер Л. И. — 344. Чемберс Владимир Яковлевич, художник — 226. Чернецовы, братья: Григорий Григорьевич (1802–1865) и Никанор Григорьевич (1805–1879)5 живописцы, пейзажисты — 54. Черный Саша (наст. фам. и имя Гликберг Александр Михайлович) (1880–1932), поэт — 321. Чернышев, художник, участник выставки «Венок» — 223. Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889), писатель, литературный критик — 9. Чехонин Сергей Васильевич (1878–1937), график — 304, 309, 322. Чима да Конельяно Джованни Баттиста (ок. 1459 — ок. 1517), итальянский живописец — 82. Чистяков Павел Петрович (1832–1919), живописец, педагог — 22, 24, 84. Чулков Георгий Иванович (1879–1939), поэт, прозаик — 249, 319. Чюрленис М К — 332.
Шаврин Федор Владимирович (нач. 80-х гт. XIX в. — 1915), живописец, график — 223. Шагал Марк Захарович (1887–1985), российский и французский живописец — 276, 289, 290. Швитерс Курт, немецкий художник-футурист — 269. Шекспир Уильям (1564–1616), английский драматург и поэт — 231. Шемякин Михаил Федорович (1875–1944), живописец — 58, 61, 226. Шервашидзе (Чачба) Александр Константинович, князь (1867–1968), театральный художник, сотрудник «Аполлона» — 226, 234, 239, 241. Шервуд Владимир Осипович (1833–1897), скульптор, архитектор, живописец — 133. Шибанов Михаил (отчество и год рожд. неизв. — умер после 1789), живописец — 141. Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства — 326. Шитов М., художник — 223. Шишкин Иван Иванович (1832–1898), живописец, пейзажист — 11, 12, 19, 51, 52, 55, 126. Шмаров Павел Дмитриевич (1874-?), живописец — 129. Шмелев И. С. — 341. Шницлер Артур (1862–1931), австрийский драматург и прозаик — 77, 78. Шпет Густав Густавович (1879–1940), философ — 327. Штук Франц фон (1863–1928), немецкий живописец и скульптор — 23, 27, 271, 332, 335. Шубин Федот Иванович (1740–1805), скульптор — 141. Шуман Роберт (1810–1836), немецкий композитор — 242. Шухаев Василий Иванович (1887–1973), живописец — 114, 118, 119.
Щедрин Семен Федорович (1745–1804), живописец, пейзажист — 54. Щербатов Сергей Александрович (1875–1962), московский меценат, художник — 80, 203. Щукин Сергей Иванович (1875–1962), фабрикант, коллекционер — 112. Щукин Степан Семенович (1758–1828), живописец, портретист — 141, 246, 249. Щусев Алексей Викторович (1873–1949), архитектор — 173, 174.
Эберлинг Альфред Рудольфович (1852–1951), живописец, иллюстратор — 130. Эдельфельт Альберт (1854–1905), финский живописец — 177. Эдисон Томас Алва (1847–1931), американский изобретатель и предприниматель — 68, 285. Эйнштейн Альберт (1879–1955), немецкий и американский физик-теоретик — 281, 287, 304. Эйфель Александр Гюстав (1832–1923), французский инженер — 52. Эль Греко (наст, имя Теотокопули Доменико) (1541–1614), испанский живописец, грек по происхождению — 261, 262. Элькан А. — 344. Энгр Жан Огюст Доминик (1780–1867), французский живописец, рисовальщик и музыкант — 120, 232, 241, 246, 272. Энзор (Энсор) Бэрон Джеймс (1860–1949), австрийский живописец и график, по происхождению бельгиец — 292. Эрберг (наст. фам. Сюннерберг) Константин Александрович (1871–1942), поэт, писатель, художественный критик — 206, 325.
Юнгер А. — 337. Юон Константин Федорович (1875–1958), живописец — 58, 62, 226. Юргенсон, издатель — 323.
Яблоновский А. А. — 341. Явленский Алексей Георгиевич (1864–1941), художник — 225. Якоби (Якобий) Валерий Иванович (1834–1902), живописец — 139. Яковлев Александр Евгеньевич (1887–1938), живописец, график — 114, 118, 119, 337. Яковлев М., художник — 223, 225. Якулов Георгий Богданович (1884–1928), живописец, художник театра — 99, 226. Якунчикова-Вебер Мария Васильевна (1870–1902), живописец, пейзажист — 38, 46, 87, 149, 157, 159, 226. Яремич Степан Петрович (1869–1939), живописец, график, историк искусства, художественный критик — 226. Ярошенко Николай Алексеевич (1846–1898), живописец — 18, 126. Яссен И. (наст. фам. и имя Чеквер Р. С.) — 344.
Составила Т. Воронцова
Примечания Т. Воронцовой
1
Впервые: Прага: Наша речь, 1922. Текст печатается по первому изданию. (обратно)2
…той музы, чей образ воспел Поль Клодель — имеется в виду ода «Музы», перевод которой со статьей М. Волошина «Предисловие к „Музам“ Поля Клоделя» был опубликован в журнале «Аполлон» (1910. № 9). (обратно)3
…Alea jacta (лат.) — жребий брошен. (обратно)4
…«Фрина» — полное название картины: «Фрина на празднике бога морей Посейдона в Элевзине». (обратно)5
…барбизонцы — группа французских живописцев-пейзажистов (Т. Руссо, Ш. Ф. Добиньи и др.), обратившихся к непосредственному изображению природы, света и воздуха, работавших в 1830–60-х годах в деревне Барбизон близ Парижа. (обратно)6
…Салоны — Салонами традиционно называли во Франции выставки современного искусства. Первоначально они устраивались в Квадратном салоне (Salon carré) Лувра, откуда и получили свое название. Со временем название «Салоны» распространилось и на другие выставочные организации современного искусства. Так во второй половине XIX — начале XX века были основаны «Салон независимых», «Салон Марсова поля», «Осенний салон» и т. д. (обратно)7
…rēs realissima (лат.) — реальнейшая вещь. (обратно)8
…визионер — наблюдатель. (обратно)9
…plein air (фр.) — пленэр (букв.: свежий воздух) как понятие в живописи ассоциируется прежде всего с французским импрессионизмом и творчеством К. Моне. (обратно)10
…Мюссаровские «понедельники» — художественный кружок, возникший в 1881 году по инициативе тайного советника Е. Н. Мюссара и просуществовавший до 1917 года. Объединял преимущественно акварелистов академической ориентации, а позже художников других стилей, направлений и объединений, собиравшихся по понедельникам для чаепития, товарищеской беседы и совместного рисования натуры или эскизов. Работы, сделанные на «понедельниках», продавались, а вырученные деньги поступали для помощи бедным семьям и сиротам художников. С 1891 года кружок устраивал периодические выставки акварелей, эскизов, картин и рисунков, собиравшие широкую публику. (обратно)11
…столбцы дягилевской «хроники» — раздел в журнале «Мир искусства». (обратно)12
…«умышленный город» — из романа Ф. Достоевского «Подросток» (1875). (обратно)13
…прерафаэлиты — английские художники и писатели романтики XIX века (Д. Г. Россетти, Х. Хант, Дж. Э. Миллес, У. Моррис и др.), избравшие своим идеалом «наивное» искусство средних веков и раннего (дорафаэлевского) Возрождения. (обратно)14
…парнасцы — группа французских поэтов (Ш. Леконт де Аиль, Сюлли-Прюдом, Т. Готье и др.), сложившаяся в 1866 году после выхода альманаха «Современный Парнас». (обратно)15
…à outrance (фр.) — до крайности. (обратно)16
…«Мир искусства» — русское художественное объединение (1898–1924), созданное в Петербурге А. Н. Бенуа и С. П. Дягилевым, и одноименный ежемесячный иллюстрированный литературно-художественный журнал (1899–1904) — См.: Соколова Н. И. Мир искусства. М.; Л., 1934; Лапшина Н. П. «Мир искусства»: очерки истории и творческой практики. М., 1977. (обратно)17
…«Союз русских художников» — объединение художников (1903–1923), основанное бывшими передвижниками и членами «Мира искусства» (среди членов А. Е. Архипов, С. И. Иванов, К. А. Коровин, К. Ф. Юон, С. В. Малютин). См.: Лапшин В. П. Союз русских художников. Л., 1974. С. 27. (обратно)18
…pur sang (фр.) — чистокровный. (обратно)19
…после реформы Высшего художественного училища — имеется в виду реорганизация Академии художеств. В апреле 1890 года была учреждена комиссия во главе с И. И. Толстым для выработки нового устава Академии. Устав был утвержден 15 октября 1893 года и вошел в действие в 1894 году. По нему Академией художеств стало называться собрание членов Академии, а бывшая учебная Академия была преобразована в Высшее художественное училище, куда в качестве профессоров были приглашены и крупные передвижники: И. Репин, А. Куинджи, И. Шишкин и др. (обратно)20
…arbiter ēlegantiarum (лат.) — законодатель хорошего вкуса. (обратно)21
…«Искусство и художественная промышленность» — ежемесячный иллюстрированный журнал, издававшийся в Петербурге в 1898–1902 годах Обществом поощрения художеств под редакцией Н. П. Собко. (обратно)22
…«Общество поощрения художеств» — речь идет об «Императорском Обществе поощрения художеств»; основано в 1820 году, просуществовало до 1929 года (в 1917–1929 годах — «Всероссийское общество поощрения художеств»). Ежегодно устраивало выставки художников — членов общества, а также учеников рисовальной школы, находящейся в его ведении. (обратно)23
…деятельность Волконского и Дягилева в Мариинском театре — в 1899–1901 годах князь С. М. Волконский был директором императорских театров; С. П. Дягилев с 1899 года был чиновником особых поручений при директоре императорских театров и в качестве такового стремился обновить устаревшую, на его взгляд, систему постановки и оформления спектаклей. С 1901 года обострился конфликт между кн. С. М. Волконским и С. П. Дягилевым, в результате которого последовало увольнение последнего. (обратно)24
…«Художественные сокровища России» — ежемесячный иллюстрированный сборник, издававшийся Обществом поощрения художеств в 1901–1907 годах в Петербурге под редакцией А. Н. Бенуа (до мая 1903 года), позже А. В. Прахова. (обратно)25
…«Старые годы» — ежемесячный иллюстрированный журнал для любителей искусства и старины, издававшийся в 1907–1916 годах в Петербурге. (обратно)26
…«страна святых чудес» — из стихотворения А. С. Хомякова «Мечта» (1835). (обратно)27
…«наша вторая родина» — традиционная мысль Достоевского, высказанная им в «Дневнике писателя» (1876, 1877) и в Пушкинской речи (1880). (обратно)28
…соблазн хлыстовских богородиц — хлысты (христововеры) — секта духовных христиан, возникшая в России в XVII веке и исповедующая возможность прямого общения со Святым Духом через воплощение Бога в «праведных сектантах» («христах» и «богородицах») во время религиозных радений, внешне напоминающих непосвященным оргии. Хлысты вызывали большой интерес в культуре начала XX века (в частности, у В. В. Розанова, Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус и др.). (обратно)29
…«Нива» — иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни, издавался в Петербурге в 1870–1918 годах. (обратно)30
…«Всемирная иллюстрация» — журнал, литературно-иллюстрированное приложение к газете «Московский листок», издавался в Москве в 1899–1918 годах. (обратно)31
…«Живописное обозрение» — еженедельный иллюстрированный журнал, выходивший с 1872 по 1905 год в Петербурге. Выпускался со множеством приложений (среди них бесплатный ежемесячный журнал «Живописное обозрение для детей» (1904–1905), «Моды», собрания сочинений, альбомы, гравюры на отдельных листах и т. д. (обратно)32
…Игорь Грабарь в известной монографии — имеется в виду книга И. Грабаря «В. А. Серов», вышедшая 3-м выпуском собрания иллюстрированных монографий «Русские художники» под общей редакцией И. Грабаря. (обратно)33
…every inch an artist (англ.) — художник до мозга костей. (обратно)34
…батиньольцы — импрессионисты, от «Батиньоль» — один из северных кварталов Парижа, где жили Сезанн, Золя и др. (обратно)35
…de la vérité vraie (фр.) — истинной правды. (обратно)36
…arrangements (фр.) — аранжировки, размещения. (обратно)37
…Lago di Сото (итал.) — Лаго ди Комо. (обратно)38
…Berthe Morisot (фр.) — Берта Моризо. (обратно)39
…древняя Киммерия, впоследствии воспетая Волошиным — Киммерия — древнее название Восточного Крыма (район Керченского пролива) по имени киммерийцев, древнейшего из известных науке племен, населявших Северное Причерноморье. «Киммерийские сумерки» — цикл в книге М. Волошина «Стихотворения, 1900–1910» М., 1910), содержащий в основном пейзажную лирику. (обратно)40
…«Новое общество художников» — основано в конце 1903 года выпускниками Академии художеств (преимущественно учениками И. Репина и А. Куинджи) под руководством Д. Кардовского. Под эгидой общества прошло десять выставок в Петербурге и Москве, на которых экспонировались живопись, графика, скульптура, архитектурные проекты, предметы прикладного искусства, детские рисунки; были проведены две посмертные выставки Н. М. Фокина (6-я, 1909) и М. Врубеля (8-я, 1912–1913). См.: Устав нового общества художников. СПб., 1904, 1912. (обратно)41
…Mademoiselle de Montpensier (фр.) — мадемуазель де Монпансье. (обратно)42
…Monsieur (фр.) — Месье (титул старшего брата французского короля). (обратно)43
…Rēgia Versaliarum (лат.) — царственный Версаль. (обратно)44
…Venez, suivez топ vol аи pays desprestiges, A son pompeau Versailles (фр.) — Приди, следуй за мной в полете в очаровательную страну, в ее пышный Версаль. (обратно)45
…Faecundis ignibus ardet (лат.) — горит благородным пламенем. (обратно)46
…Oeil-de-Boeuf (фр.) — Глаз быка, одна из комнат Версальского дворца. (обратно)47
…justaucorps (фр.) — камзолах. (обратно)48
…Mademoiselle de Lavallière (фр.) — мадемуазель де Лавальер. (обратно)49
…Madame de Montespan (фр.) — мадам де Монтеспан. (обратно)50
…Mademoiselle de Blois (фр.) — мадемуазель де Блуа. (обратно)51
…Mademoiselle Scuderi (фр.) — мадемуазель Скюдери. (обратно)52
…Chef d’oeuvre d’un grand roi, de Le Nostre et des ans, Que Louis, la nature et l’art ont embelli (фр.) — Шедевр великого короля, Господа и лет, Который создали Луи, природа и искусство. (обратно)53
…it a la hantise du passé (фр.) — его преследуют мысли о прошлом. (обратно)54
…tempi passati (итал.) — прошлые времена. (обратно)55
…преподавателя в школе живописи — М. Добужинский преподавал в школе Е. Званцевой. (обратно)56
…монография о Бенуа — в 1921 году в петербургском издательстве «Свободное искусство» готовилось издание книги «Александр Бенуа», монографии под редакцией Г. К. Лукомского, составленной в 1916 году, в которую предполагалось включить все вышедшие к тому времени значительные статьи о художнике (среди авторов С. К. Волконский, М. Волошин, А. Я. Левинсон, С. К. Маковский, А. А. Ростиславов, Д. В. Философов и С. П. Яремич), однако книга не была издана. (обратно)57
…rond-points (фр.) — здесь: особые площадки. (обратно)58
…dix-huitième (фр.) — восемнадцатый век. (обратно)59
…«фряжское» — здесь: иностранное. (обратно)60
…Marie Antoinette (фр.) — Мария Антуанетта. (обратно)61
…«Terror Antīquus» (лат.) — «Античный ужас». (обратно)62
…civilisés (фр.) — культурные люди. (обратно)63
…Louis Quatorze (фр.) — Людовик Четырнадцатый. (обратно)64
…Biedermeier (нем.) — бидермейер. (обратно)65
…gothique fleurie (фр.) — цветистая готика. (обратно)66
…«du coloriage» (фр.) — раскрашиванием. (обратно)67
…«belle peinture» (фр.) — превосходная, изысканная живопись. (обратно)68
…intérieur (фр.) — интерьер. (обратно)69
…vice versa (лат.) — наоборот. (обратно)70
…jenseits vom Guten und Bösen (нем.) — «по ту сторону добра и зла» (по названию работы Ф. Ницше, 1885–1886). (обратно)71
…проекты росписи Владимирского собора — эскизы к росписи собора были впервые полностью опубликованы в книге С. Яремича «Михаил Александрович Врубель. Жизнь и творчество» (М., 1911), 1-м выпуске собрания иллюстрированных монографий «Русские художники» под общей редакцией И. Грабаря: это акварели «Надгробный плач» (триптих с фигурами Спасителя и Богоматери посередине и с двумя фигурами в каждой из боковых частей; вариант с пейзажным фоном; второй вариант с фигурой Богоматери на первом плане; третий вариант с фигурой Богоматери на втором плане), «Воскресение» (триптих со спящими воинами внизу; вариант без спящих воинов), «Ангел с кадилом и со свечою» и рисунок карандашом «Сошествие Св. Духа». (обратно)72
…герметист — здесь: обладатель тайных знаний. (обратно)73
…в <…> статьях, на страницах «Мира искусства» 1903 года — двойной номер 10–11 журнала «Мир искусства» за 1903 год, посвященный М. Врубелю, содержал многочисленные репродукции его работ и три статьи о художнике: «Врубель» А. Бенуа (где, наряду с общей характеристикой творчества, автор специально останавливается на «Демоне» и описывает по личным впечатлениям, как Врубель работал над картиной), «Врубель» Н. Ге и «Фрески Врубеля в Кирилловской церкви в Киеве» С. Яремича. (обратно)74
…иератизм — торжественная отвлеченность изображений. (обратно)75
…пилоны — массивные столбы, служащие опорой перекрытий. (обратно)76
…Ормузд и Ариман — в зороастризме два бога-близнеца, олицетворения светлого и темного начал. (обратно)77
…гностик — представитель одного из религиозных движений поздней античности — раннего христианства, притязавших на обладание знанием тайного смысла Библии, часто противоположного прямому. Для культуры начала XX века характерен интерес к гностическим учениям. (обратно)78
…«Салон» русских художников — открытие выставки состоялось 1 января 1909 года. См. ее описание в воспоминаниях «Николай Гумилев» из книги С. К. Маковского «На Парнасе „Серебряного века“» (Мюнхен, 1962). Отзывы об этой выставке: положительные статьи Н. Гумилева «По поводу „Салона“ Маковского» (Журнал театра литературно-художественного общества. 1909. № 6) и А. Бенуа «По поводу „Салона“» (Речь. 1909. № 6, 7 января); отрицательный статья М. Ларионова «Итоги петербургского салона» (Золотое руно. 1909. № 2–3). (обратно)79
…этюды Рериха — речь идет о большой (около 90 произведений) серии архитектурных этюдов, созданной Н. Рерихом в поездках 1905–1904 годов, показанной зимой 1904 года на специальной выставке «Памятники художественной старины». В 1906 году 75 работ Н. Рериха (в основном архитектурные этюды были направлены среди 800 картин известных русских художников на выставку в Америку. Из-за несвоевременной оплаты устроителем русского отдела Гринвальдом одной из пошлин все предоставленные произведения были конфискованы американской таможней и, несмотря на то, что по этому поводу велась дипломатическая переписка, срочно проданы с аукциона. Лишь в 1930-х было выяснено, что 35 произведений Н. Рериха попало в Оклендский художественный музей в Калифорнии. В 1963 году они были переданы в Нью-Йоркский музей имени Н. Рериха. (обратно)80
…quatrocento (итал.) — кватроченто, XV век. (обратно)81
…«Золотое руно» — литературно-художественный журнал, издававшийся в Москве Н. П. Рябушинским (1906–1909). (обратно)82
…«Quand les lilas refleuriront» (фр.) — «Когда вновь зацветут лилии». (обратно)83
…«Треугольник», «Импрессионисты» — художественно-психологическая группа «Треугольник» (СПб., 1908–1910; 1917), в 1917 году общество «Импрессионисты/Треугольник»; проводились выставки в Петербурге и Вильне в 1909-м и др., в 1910-м выпущен сборник «Студия импрессионистов». (обратно)84
…«Бубновый валет» — объединение московских художников (1910–1916), обращавшихся к живописно-пластическим исканиям в духе П. Сезанна, фовизма и кубизма, а также к приемам русского лубка и народной игрушки; среди членов объединения М. Ларионов, Н. Гончарова, П. Кончаловский, А. Лентулов, Р. Фальк, И. Машков и др. (обратно)85
…«Мишень» — выставка группы художников-футуристов по инициативе М. Ларионова (М., 1913) — На ней экспонировалось 152 работы, в том числе Н. Гончаровой, М. Шагала, К. Малевича, К. Зданевича, Нико Пиросманашвили (единственная прижизненная выставка художника) и др., а также детские рисунки и вывески. Был выпущен каталог, предисловием к которому стала декларация М. Ларионова. (обратно)86
…«Ослиный хвост» — группа художников (среди них М. Ларионов, Н. Гончарова, К. Малевич, В. Татлин), организовавших в 1912 году одноименную выставку, возникшая вскоре после выставки «Бубновый валет». Названа в честь нашумевшего случая в 1910 году в парижском «Салоне независимых», когда группа мистификаторов выставила картину, «написанную» ослом при помощи хвоста, и опубликовала соответствующий манифест от имени мифического художника Боронали. (обратно)87
…«Трамвай № 4» — С. Маковский объединяет названия двух выставок: первая футуристическая выставка «Трамвай В» (Пг., 1915) при участии И. Пуни, К. Богуславской, К. Малевича, Л. Поповой, В. Татлина и др. и выставка «№ 4 (футуристы, лучисты, примитивисты)» (М., 1914) — четвертая выставка группы М. Ларионова (ранее были «Бубновый валет», «Ослиный хвост» и«Мишень»). (обратно)88
…по ту сторону Вержболова — т. е. в Западной Европе; Вержболово — официальное название (до 1917) Вирбалис в Литве. (обратно)89
…pittori futuristi (итал.) — художники-футуристы. (обратно)90
…Щукинской галереи — собрание московского коллекционера западного искусства, первого среди собирателей энтузиаста новой французской живописи С. Щукина находилось в Большом Знаменском пер., д. 8. Коллекция картин импрессионистов, Гогена, Матисса, Пикассо, Дерена, Руссо и др. была завещана Москве; позднее составила значительную часть собрания Государственного музея нового западного искусства (ныне ГМИИ им. А. С. Пушкина). (обратно)91
…«Акварелисты» — речь идет об «Обществе русских акварелистов» («Императорском акварельном обществе»), основанном в 1880 году; заседания, получившие название «Пятниц акварелистов», проходили в здании Академии художеств с октября по апрель и носили характер литературно-музыкальных и художественных вечеров. Общество ежегодно (до 1917 года) устраивало выставки в «Обществе поощрения художеств», в здании петербургского Пассажа, в 1896 1900 годах в Академии художеств. (обратно)92
…«Академическая» — проводившиеся обычно весной годичные экспозиции Академии художеств в 1897 году получили официальное название «Весенних выставок». Вновь были утверждены правила выставок, до этого не раз менявшиеся (в 1883, 1885, 1890 годах). С марта 1897 года «Весенние выставки» стали устраиваться на более демократических основаниях, жюри избиралось не собранием Академии, а самими экспонентами, имеющими звание художника, благодаря чему представительство художественных групп на выставках расширилось. (обратно)93
…«Du cubisme» (фр.) — «О кубизме», книга французских художников Ж. Метценже и А. Глеза (Париж, 1912; русский перевод — М., 1913), первая теоретическая работа о концепции и художественном движении кубизма. (обратно)94
…urbi et orbi (лат.) — городу и миру. (обратно)95
…Школа Общества поощрения художеств — в декабре 1852 года Общество поощрения художеств приняло в свое ведение петербургскую рисовальную школу для вольноприходящих (основана в 1839 году). В 1906 году директором школы стал Н. Рерих, которому удалось провести реформу системы преподавания в школе. Так, усилилось преподавание общеобразовательных предметов, особенно истории искусств, организовывались поездки по старинным русским городам, были созданы художественно-промышленные мастерские: рукодельная и ткацкая, иконописная, керамики и живописи по фарфору, чеканки и др. К преподаванию были привлечены И. Билибин, С. Маковский, В. Матэ, А. Линдеман, Н. Химона и др. (обратно)96
…nature morte (фр.) — натюрморт. (обратно)97
…Théâtre du quartier (фр.) — кабаре, театр в квартале. (обратно)98
…hénder inspiré des grands portraitistes de la fin du XVIII siècle (фр.) — вдохновенный наследник великих портретистов конца XVIII века. (обратно)99
Впервые: С.-Петербург: Пантеон, 1909. Текст печатается по первому изданию. (обратно)100
…«слишком ранние предтечи слишком медленной весны» — из стихотворения Д. Мережковского «Дети ночи» (1896). (обратно)101
…олеографическая вульгарность колорита — имеется в виду ограниченность возможностей олеографии, способа многокрасочной литографии для воспроизведения картин масляной живописи, применявшегося в XIX — начале XX века. (обратно)102
…«сецессионская» элегантность — Сецессион (от нем. Sezession — отделение, обособление) название ряда объединений художников эпохи модерна в Мюнхене (1892), Вене (1897), Берлине (1899). (обратно)103
…Alma mater (лат.) — букв.: мать-кормилица об учебном заведении. (обратно)104
…raison d’être (фр.) — право на существование, смысл. (обратно)105
…нужен русский Салон — провозгласив данную идею, С. Маковский сам взялся за организацию такого Салона в Петербурге (см. об этом в ком. к с. 95). Попытку создать русские Салоны предпринял и Н. Рябушинский: в Москве в конце 1908–1911 годов были проведены выставки «Салон „Золотого руна“». (обратно)106
…салоны <…> у других народов Европы — в странах Европы существовали выставки, аналогичные французским Салонам, например, в Великобритании таковой являлась ежегодная Летняя выставка Королевской Академии искусств в Лондоне. (обратно)107
…веленевые книги — книги, отпечатанные на гладкой и плотной бумаге превосходной отделки. (обратно)108
…empire (фр.) — ампир. (обратно)109
…«Северные цветы» 1826 года — цитируется третье письмо из статьи В… «О состоянии художеств в России», опубликованной в петербургском альманахе «Северные цветы на 1826 год», в которой в форме четырех писем к другу представлено развитие русского искусства в период от Петра I до Александра I. (обратно)110
…храм Воскресения в память Александра II — в 1881 году был проведен открытый конкурс на проект храма Воскресения Христова (Спаса на крови), который должен был быть построен на Екатерининском канале (месте смертельного ранения 1 марта 1881 года Александра II), однако первый тур не дал результатов. При повторном конкурсе было оговорено требование строительства храма «в чисто русском вкусе», одобрение получил проект А. Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева). Строительство началось в 1883-м и закончилось в 1907 году. М. Нестеров создал эскизы для Нерукотворного Спаса на Западном и Воскресения на Северном фасаде, В. Васнецов — для мозаик над входами. Храм был закрыт в 1930 году постановлением президиума ВЦИК. (обратно)111
…Rinasciménto (итал.) — Возрождение. (обратно)112
…гофмалеры — придворные художники. (обратно)113
…«Tief ist die Welt und tiefer als der Tag gedacht» (нем.) — слова Ф. Ницше: «Мир глубок, и он глубже, чем это кажется днем». (обратно)114
…«возвышающий обман» — из стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830). (обратно)115
Ранее С. К. Маковским были написаны следующие статьи о В. Васнецове: В. М. Васнецов и Владимирский собор // Мир Божий. 1898. № 3. С. 201–219; Выставка картин В. М. Васнецова // Мир Божий. 1899. № 3. С. 14–16. (обратно)116
…книга А. Успенского — имеется в виду книга: Успенский А. И. Виктор Михайлович Васнецов. М., 1906 (также см. отзыв на нее: Исторический вестник. СПб., 1906. Кн. XI. С. 691–692). (обратно)117
…«Je ne suis pas ип peintre, Monsieur, je suis un artiste» (фр.) — «Я не живописец, месье, я художник». (обратно)118
…эпитрахиль (епитрахиль) — одно из облачений священника, одеваемое на шею и в церковной символике означающее сходящую свыше благодать Св. Духа. (обратно)119
…Farbendichtung (нем.) поэзия цвета. (обратно)120
Ранее С. К. Маковский писал о картине В. Сурикова «Переход Суворова через Альпы» в статье «Наши весенние выставки» (Мир Божий. 1899. № 5. С. 13–16). (обратно)121
…plus artiste que peintre (фр.) — более художник, чем живописец. (обратно)122
…Ыапс et noir (фр.) — графика (букв.: черно-белое). (обратно)123
Ранее об иллюстрациях А. Афанасьева к «Коньку-Горбунку» П. П. Ершова, А. С. Пушкину и о картине «У праздника» С. К. Маковский писал в статье «Петербургские весенние выставки. Выставки: передвижная и академическая» (Журнал для всех. 1904. № 5. С. 291–296). (обратно)124
…«Шут» — художественный журнал с карикатурами, издавался в Петербурге в 1879–1914 годах. (обратно)125
Издание общества любителей древней письменности. 1904–1905. Т. I и II. (обратно)126
Ранее С. К. Маковский писал о картине М. Нестерова «Димитрий, царевич убиенный» в статье «Наши весенние выставки» (Мир Божий. 1899. 5. С. 13–16). (обратно)127
…эпоха trecento (итал.) — эпоха треченто, XIV век. (обратно)128
…decōrum (лат.) — декорум, благопристойность. (обратно)129
…On voit trop les influences (фр.) — это оказывает слишком сильное влияние. (обратно)130
…Victor Vasnetsov et ses principaux émules, Nesterov et Rerich (фр.) — Виктор Васнецов и его основные соперники, Нестеров и Рерих. (обратно)131
…San-Gimignano (итал.) — Сан-Джиминьяно. (обратно)132
…Sturm und Drang (нем.) — Буря и натиск. (обратно)133
…«L’oiseau Ыеи» (фр.) — «Синяя птица». (обратно)134
…baròcco (итал.) — барокко. (обратно)135
…«скурильность» — слово из обихода «мирискусников», обозначавшее нечто острохарактерное для прошлых времен, нередко имеющее оттенок пикантности, хранящее в искусстве аромат эпохи. (обратно)136
…пиччикато (пиццикато, от итал.) — музыкальный термин, обозначающий прием игры на скрипке и других струнных инструментах щипком, задевая струну пальцем. (обратно)137
…lacrima rerum (прав.: lacrimae rerum — лат.) — слезы для бед, слезы сочувствия. (обратно)138
…«Le bain de la marquise» (фр.) — «Купальня маркизы». (обратно)139
…«Conversation galante» (фр.) — «Галантная беседа». (обратно)140
…quand même (фр.) — все-таки, вопреки всему. (обратно)141
…grand art (фр.) — большое искусство. (обратно)142
…«Malerei und Zeichung» (нем.) — «Живопись и рисунок». (обратно)143
…chef-d’oeuvre (фр.) — шедевр. (обратно)144
…rococo (фр.) — рококо. (обратно)145
…«Бретонские легенды» — полное название книги «Легенды о старинных замках Бретани»; вышла в Петербурге в 1899 году. (обратно)146
…на выставке, устроенной Дягилевым в 1898 году — «Выставка русских и финляндских художников», открывшаяся в январе 1898 года в Петербурге, своим направлением определившая платформу будущего «Мира искусства». (обратно)147
…«Современное искусство» — выставка 1902 года в Петербурге на Большой Морской ул., где был представлен ряд обстановок стиля модерн. (обратно)148
…«Жупел» — журнал художественной сатиры, издавался в Петербурге в 1905/06 годах З. Гржебиным. Вышло 3 номера. (обратно)149
…«Адская почта» — журнал политической сатиры, издававшийся Е. Е. Лансере в 1906 году. Вышло 4 номера (дальнейшее издание запрещено цензурой). В журнале активно участвовали многие символисты. (обратно)150
…«Café de France» (фр.) — французское кафе. (обратно)151
…«Шиповник» — книгоиздательство 1906–1918 годов и одноименные литературно-художественные альманахи, выпускавшиеся в 1907–1917 годах. (обратно)152
…«Город пышный, город бедный…» — из одноименного стихотворения А. С. Пушкина (1828). (обратно)153
…«Вот они все кидаются <…> все вдруг исчезнет!» — из романа Ф. М. Достоевского «Подросток» (1875). (обратно)154
…«the scheme and symphony of the colour, the satisfying beauty of the design» (англ.) — схема и симфония цвета, проникновенная красота дизайна. (обратно)155
…in statu nāscenti (лат.) — в стадии рождения. (обратно)156
Впервые: Берлин: Русское Универсальное Издательство, 1922 (серия «Всеобщая библиотека», № 21–23). Текст печатается по данному изданию. (обратно)157
…suî generis (лат.) — особого рода. (обратно)158
…Аполлодор Афинский… по словам Плиния — сведения и цитаты о древнегреческих живописцах Аполлодоре Афинском (посл. треть V в. до н. э.) и Полигноте (ок. 510 до н. э. — ?) С. Маковский приводит по материалам «Естественной истории» Плиния Старшего (ок. 24–79), 33–37-я книги которой посвящены изобразительным искусствам. Перевод этих пяти книг, сделанный Б. Варнике, был издан в 1918 году в Одессе под названием «Плиний. Об искусстве». (обратно)159
…la vérité vrai, le vrai absolu (фр.) — истинная правда, абсолютная правда. (обратно)160
…l’amant de la nature (фр.) — влюбленный в природу. (обратно)161
…art pure (фр.) — чистое искусство. (обратно)162
…fin de siècle (фр.) — конец века. (обратно)163
…L’art actuel, l’art de l’avenir, c’est It naturalisme (фр.) — современное искусство, искусство будущего — это натурализм. (обратно)164
…«morceaux de peinture» (фр.) — куски живописи; по аналогии с известным выражением Э. Золя «кусок жизни». (обратно)165
…дивизионизм — в живописи письмо четко различимыми отдельными мазками, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. (обратно)166
…пуризм — течение в живописи, возникшее во Франции в начале XX века и отличающееся упрощенностью изображения обычных вещей. (обратно)167
…l’école de Batignolles (фр.) — Батиньольская школа. (обратно)168
…modus (лат.) — модус, вид, мера. (обратно)169
…пуантилизм — в живописи письмо раздельными мазками правильной формы наподобие точек, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. (обратно)170
…«Scène de nau frage» (фр.) — «Картина кораблекрушения». (обратно)171
…«La ligne — c’est le dessin, c’est tout» (фр.) — «Линия — вот рисунок, вот всё». (обратно)172
…«agrément négligeable» (фр.) — ничтожное украшательство. (обратно)173
…Fontainebleau (фр.) — Фонтенбло. (обратно)174
…Arsène Alexandre (фр.) — Арсен Александр. (обратно)175
…lūx ex tenebris (лат.) — свет из тьмы. (обратно)176
…imagerie (фр.) — производство картин, гравюр. (обратно)177
…«il faut peindre сотте peint ип rayon de soleil» (фр.) — надо рисовать, как рисует солнечный луч. (обратно)178
…la Vérité vraie и le Beau (фр.) — истинную правду и красоту. (обратно)179
…rue Lafitte (фр.) — улица Лафитт. (обратно)180
…Aix еп Provance (фр.) — Экс в Провансе, родной город Э. Золя и П. Сезанна. (обратно)181
…«Mardis Gras» (фр.) — «Последний день карнавала». (обратно)182
…«James filles еп noir» (фр.) — «Девушки в черном». (обратно)183
…valeur (фр.) — валёр (букв.: ценность), в живописи оттенок тона, выражающий отношение света и тени. (обратно)184
…pas modeler, mais moduler (фр.) — не моделировать, а модулировать. (обратно)185
…hominis sapientis (лат.) — человека разумного. (обратно)186
…expressio (лат.) — выразительность. (обратно)187
…схема ad hōc придуманная (лат.) — специально для этого случая. (обратно)188
В другом месте А. Грищенко говорит: «Картина требует от художника высокого служения, напряжения сил, убеждения, стойкости. Картина для него — Голгофа. Она его вызывает нести едва посильные жертвы, лишения, обрекает на суровое одиночество и подвиги. Но коль скоро создалась, появилась картина, она требует и от зрителя такого же подвига. Чтобы проявился настоящий эффект ее действия, необходимы чуткость, внимание и понимание и не только отдельного зрителя, но и целой группы людей и всего общества, не говоря уже о том, что лишь в такой атмосфере зарождается настоящая картина» (Вопросы живописи. Вып. IV. С. 5). (обратно)189
…«Salon des Indépendants» (фр.) — «Салон независимых», полное название: «Салон независимых художников» («Salon des Artistes Indépendants») основан в 1884 году, положил начало учреждению новых (в противовес официальному Салону Общества французских художников) художественных Салонов. Условия выставок допускали любого записавшегося, жюри отсутствовало, что привлекало художников самых разных направлений, в частности постимпрессионистов, а позже кубистов и др. футуристических течений. (обратно)190
…«Série rose» (фр.) — розовая серия. (обратно)191
…«Der Sturm» — «Буря», немецкий футуристический журнал и галерея при нем; издавался Г. Вальденом в 1910–1932 годах. (обратно)192
…belle peinture (фр.) — превосходная, изысканная живопись. (обратно)193
…«Остров мертвых» — знаменитый пейзаж А. Бёклина (1880). (обратно)194
…стаффаж (от нем.) — добавление, необходимое для полноты художественного впечатления. (обратно)195
…«Et in Arcadia ego» (лат.) — «И я в Аркадии», название картины Н. Пуссена. (обратно)196
…«faire du Poussin, sur nature» (фр.) — «делать по Пуссену, на натуре», т. е. при изображении натуры следовать пуссеновским канонам. (обратно)197
…proprio sensu (лат.) — чистого смысла. (обратно)198
…Trompe-l’oril (фр.) — ошибка зрения, в живописи — «обманка», изображение, создающее иллюзию действительности. (обратно)199
…«Es wild die Metaphysik der Dingegesucht» (нем.) — «Метафизика вещи обретена». (обратно)200
…«Gott wird wieder gennant» (нем.) — «Произошло новое Богоявление». …«In béiden, im Künstler und in der Dingform, ist der Gott» (нем.) — «В обоих, и в художнике, и в модели, виден Бог». (обратно)201
…«ungégenständlich» (нем.) — беспредметный, нереальный. (обратно)202
…essai (фр.) — эссе. (обратно)203
…Īnsānitās (лат.) — болезнь; вероятно, имеется в виду Insania (лат.) — безумие, сумасшествие. (обратно)204
…more (англ.) — более. …geomètrico (итал.) — геометрические. (обратно)205
…il passa maître (фр.) — он прослыл мэтром. (обратно)206
…«Prèsto» (итал.) — скоро (муз.). …«Symphonic» (фр.) — симфония. …«Furióso» (итал.) — неистово (муз.). (обратно)207
Впервые: в книге С. Маковского «На Парнасе „Серебряного века“» (Мюнхен, 1962). Текст печатается по данному изданию. (обратно)208
…город <…> Аполлона Аполлоновича (из романа Андрея Белого) — имеется в виду сенатор А. А. Аблеухов из романа А. Белого «Петербург». (обратно)209
…«peinture de chevalet» (фр.) — станковая живопись. (обратно)210
…община св. Евгении — Комитет попечения о сестрах милосердия (учрежден в 1882 году) основал в 1893 году Общину сестер милосердия Красного Креста. Председателем Общины стала принцесса Евгения Ольденбургская; в честь ее святой и было дано название Общине. При Общине возникло издательство, специализировавшееся на выпуске открыток, выручка от продажи которых шла в кассу Общины. За тридцать лет (с 1896 по 1926 год; издательство существовало и после революции, переименованное в 1920-х годах в Комитет популяризации художественных изданий) оно выпустило 6410 открыток, тиражом от тысячи до десяти тысяч экземпляров. См., например, журнал Общины «Открытое письмо» (СПб., 1904–1906) — иллюстрированную хронику открыток, а также приложение к нему — списки и отдельные листы каталога открыток. На конвертах и поздравительных открытках были опубликованы репродукции работ К. Маковского, М. Нестерова, И. Репина. В Васнецова В Поленова, «мирискусников», представителей «Союза русских художников» и т. д. (обратно)211
…Революционный календарь Бурцева — «Историко-революционный альманах» (СПб., 1907); переиздан под названием «Календарь русской революции» (1917). (обратно)212
…«Факелы» — книгоиздательство и альманахи, выпускавшиеся в Петербурге в 1906–1908 годах. Организатор и официальный издатель Г. И. Чулков. (обратно)213
…«Сатирикон» — еженедельный журнал сатиры и юмора, издававшийся в 1908–1914 годах в Петербурге. (обратно)214
…«Парижанка» — ежемесячный художественный журнал мод, рукоделий и хозяйства, выходивший в Москве (1908–1910). (обратно)215
…«В мире искусств» — журнал, выходивший в Киеве в 1907–1910 годах два в месяц, с 1909 года — ежемесячно. (обратно)216
…«Мир» — московское кооперативное издательское товарищество (1906–1934). (обратно)217
…«Галчонок» — еженедельный детский журнал (СПб., 1911–1913); в 1912–1913 годах выходил с приложениями: детскими книжками со сказками и рассказами. (обратно)218
…«Музыка» — еженедельник, выходивший в Москве в 1910–1917 годах. (обратно)219
…П. Сойкина — издательское товарищество (СПб.; М., 1885–1930), одним из подразделений которого было нотное издательство П. Сойкина и П. Юргенсона. (обратно)220
…Комитет популяризации… — см.: община св. Евгении. (обратно)221
…«Странствующий энтузиаст» — петроградское книгоиздательство 1918–1922 годов и кабаре. (обратно)222
…«Начала» — петроградское книгоиздательство и журнал 1921–1922 годов. (обратно)223
…«Аквилон» — петроградское книгоиздательство 1921–1924 годов. (обратно)224
…«Колос» — петроградское (позже ленинградское) кооперативное книгоиздательское товарищество 1918–1926 годов. (обратно)225
…«Эпоха» — петроградское и берлинское книгоиздательство 1921–1923 годов. (обратно)226
…«бухшмук» (от нем. Buchschmück) — книжные украшательства. (обратно)227
…«Петрополис» (Petropolis) — книгоиздательство Петроград — Берлин (1918–1924 годы). (обратно)228
…chinoiserie (фр.) — китайская безделушка. (обратно)229
…«Новая Москва» — книгоиздательство Управления печати при Московском отделе народного образования Моссовета 1922–1927 годов. (обратно)Комментарии
1
Талашкино. Художественные мастерские кн. М. Кл. Тенишевой. 1905 г. (обратно)2
Исторический вестник. 1904. Октябрь. С. 260. (обратно)3
Старые годы. Июль-сентябрь 1908 г. (обратно)4
E. I. Delécluze. Louis David, son école et son temps. Paris, 1855.Примечание Т. Воронцовой:
…E. I. Delécluze. Louis David… (фр.) — Делеклюз Э. Луи Давид, его школа и его время. Париж, 1855.
(обратно)
5
Вспомним, что в 50-х годах, когда не признанный Салонами Курбе выступал на своих выставках, подписывая под картинами: «C’est moi qui suis Courbet, berger de ce troupeau», — Поль Деларош был еще жив и «Юная мученица» вызывала восторги (так же, как и machines historiques хорошо забытых с тех пор птенцов Делароша — Флери, Девериа, Эсса).Примечание Т. Воронцовой:
…C’est moi qui suis Courbet, berger de ce troupeau (фр.) — это я, Курбе, пастырь сего стада.
…machines historiques (фр.) — картина на историческую тему (букв., историческая машина).
(обратно)
6
Кн. А. К. Шервашидзе. Сто лет французской живописи. Изд. «Аполлон», 1912. (обратно)7
История искусства. Т. III. 692.Примечание Т. Воронцовой:
…История искусства — полное название: «История искусства всех времен и народов» (1900) — труд немецкого исследователя К. Вёрмана.
(обратно)
8
В проспекте к каталогу своей выставки художник Пуни и К. Богуславская так определяют станковую картину: «Картина есть новая концепция абстрагированных реальных элементов, лишенная смысла». Определение, когда освоишься с терминологией авторов, отнюдь не лишенное смысла.Примечание Т. Воронцовой:
…Пуни и К. Богуславская в проспекте к каталогу своей выставки — имеется в виду «Последняя футуристическая выставка картин 0.10 (ноль-десять)», проходившая в декабре 1915 — январе 1916 года в художественном бюро Добычиной по инициативе И. Пуни. На ней распространялись листовки с декларациями К. Малевича, М. Менькова, И. Клюна и совместной декларацией И. Пуни и К. Богуславской.
(обратно)
9
Я уже упомянул о том, какие советы давал Давид своим ученикам. Но властолюбивый учредитель École des Beaux-arts доказал и на деле, что в жилах его — благородная кровь XVIII века. Разве иные портреты Давида не образцы непосредственного наблюдения и красочной правды? Об Энгре и говорить нечего. Не его ли называла критика «китайцем, заблудившимся в Афинах» (Theophile Silvestre) «qui cherhe dans un genre non inoins detestable qu’il est gothique, à faire rélrogader l’art de quatre siècles, a nous reporter à son enfance» (Pausanias français, 1806. Кн. А. К. Шервашидзе. Сто лет французской живописи).Примечание Т. Воронцовой:
…École des Beaux-arts (фр.) — школа изящных искусств.
…Theophile Silvestre (фр.) — Теофиль Сильвестр, автор ряда книг, посвященных творчеству романтиков, в частности труда «Художники наших дней» (1853–1856).
…qui cherche dans ип genre non moins detestable qu’il est gothique, à faire rétrogader l’art de quatre siècles, a nous reporter à son enfance (фр.) — который стремится в жанре, не менее мерзком, чем готика, заставить искусство возвратиться на четыре века назад и перенести нас обратно в свое детство.
(обратно)
10
Mercier. Tableaux de Paris. Amsterdam, 1782–1788.Примечание Т. Воронцовой:
…Mercier. Tableaux de Paris (фр.) — Мерсье. Картины Парижа.
(обратно)
11
В сущности, классицизм искони не переводился в европейском искусстве. Античный мир никогда не умирал совсем. Влияние его лишь затуманивалось или прояснялось больше и меньше. Романское и готическое средневековье и даже Византия испытали его влияние. Со времени же Ренессанса оно только видоизменялось и ослаблялось другими влияниями, но вплоть до нашей эпохи было сильнейшим. Да иначе и не могло быть. Основа европейской культуры, всей культуры белой расы, заложена эллинизмом: преемственность тут безусловна и законна. (обратно)12
Впрочем, больше в теории. На деле, за исключением иных пейзажей Сёра, впечатление однообразного розовато-лилового точечного тумана от большинства картин, иллюстрирующих опыты пуантилизма, не отличается особой убедительностью. (обратно)13
Аполлон. 1914. № 1–2. (обратно)14
Бернар Э. Поль Сезанн. Пер. с фр. П. Кончаловского. М., 1912. С. 61. (обратно)15
См.: Вопросы живописи. Вып. I. Ответ С. Глаголю, А. Луначарскому и Я. Тугендхольду («Аполлону»). Вып. II. Как у нас преподают живопись и что под нею разуметь? Вып. III. Русская икона, как искусство живописи. Вып. IV. Кризис искусства и современная живопись; также О связях русской живописи с Византией и Западом. М., 1915. (обратно)16
В файле: в цитатах — полужирный. (Прим. верст.). (обратно)17
«Der Greco ist und war kéine Mode, begréift man das Eréignis seiner Entdéckung nur wirklich (wie man muß) jénseits aller subjectiven Zufalligkeiten; er wurde für unser Zeitalter éine im dialéktischcn Sinnc objective Notwendigkeit» (W. Hausenstein, über Expressionismus in der Maleréi, 30).Примечание Т. Воронцовой:
…«Der Greco ist und war kéine Mode, begréift man des Eréignis seiner Entdéckung nur wirklich (wie man muss) jénseits aller subjectiven Zufalligkeiten: er wúrde fur únset Zeitalter éine im dialéktischen Sinne objective Nótwendigkeit» (W. Hausenstein. Über Expressionismus in der Maleréi, 30) — «Эль Греко есть и был вне моды; когда постигаешь значение его открытия, только действительно (как это нужно делать), помимо всех субъективных обстоятельств, он становится для наших современников в диалектическом смысле объективной необходимостью» (Гаузенштейн В. Об экспрессионизме в живописи. С. 30).
(обратно)
18
Аполлон. № 1–2. С. 30. (обратно)19
№ 3. С. 58–59.Примечание Т. Воронцовой:
…«София» — ежемесячный журнал искусства и литературы, издававшийся в Москве в 1014 году.
(обратно)
20
См. любопытную статью С. Н. Булгакова о Пикассо: «Труп красоты» (сборник «Тихие Думы». Москва, 1918). (обратно)21
У греческого философа: πάντα χωρέι καί ουδέν μένει. Plat. Cratyl. 402, а. (С. М.).Примечание Т. Воронцовой:
…πάντα ρέι (др.-греч.) — все течет.
…πάντα χωρέι χαί ουδέν μένεί (др.-греч.) — все уходит и ничего не остается.
…Plat. Cratyl (лат.) — Платон. Кратил.
(обратно)
22
Произведения Швитерса — разнородные сочетания грубо подкрашенного холста с печатными лоскутами, обрезками игральных карт, трамвайных билетов, фольги, ситца, войлока и частями каких-то деревянных и железных орудий: рукоять, стамеска, пружина и т. д. Эстремист Laurens называет свои произведения, как и Татлин, по материалам, их составляющим, напр.: Tôle, fer blanc et bois polychrome.Примечание Т. Воронцовой:
…Laurens (фр.) — Лоран.
…Tóle, fer blanc et bois polychrome (фр.) — толь, белое железо и дерево разных цветов.
(обратно)
23
Небезызвестный русский экстремист Ив. Пуни указал недавно в журнальной статье на этот уклон к беспредметности в живописи советской России: «Года 3–4 тому назад в русском искусстве, как и в немецком, как и во французском (отчасти), возымели преобладание тенденции уничтожения „изобразительного“ значения картины. Беспредметная живопись имеет своим фундаментом следующую аксиому: предмет (т. е. изображаемое „нечто“) есть только причина для деления (т. е., значит, написания) картины» (Сполохи. № 1. С. 36). (обратно)24
Gino Severinni «Cèzanne et le Cèzannisme». «L’esprit Nouveau» 1921, № 11–12 и след. Тот же автор посвятил книгу математическому анализу законов живописного равновесия: «Du cubisme au classicisme» (Esthétíque du compas et du nombre). Ed. Povolozky, Paris. См. также книгу Albert Gleizes в том же издательстве: «Du cubisme et moyens de la comprendre» и Ozenfant et Jeanneret: «Après le cubisme».Примечание Т. Воронцовой:
…Gino Severinni «Cezanne et le Cezannisme» (фр.) — Джино Северини «Сезанн и сезанизм».
…«L’esprit Nouveau» (фр.) — «Новый дух».
…«Du cubisme аи classicisme (Ésthetique du compos et du nombre)». Ed. Povolozky. Paris (фр.) — «От кубизма к классицизму (Эстетика компаса и числа)». Изд-во Поволоцкого. Париж.
…Albert Gleizes «Du cubisme et moyens de la comprendre» (фр.) — Альбер Глез «О кубизме и способы его понять».
…Ozenfant et Jeanneret «Après le cubisme» (фр.) — Озанфан и Жаннере «После кубизма»; речь идет о книге (1918) французского художника и писателя, одного из основателей пуризма А. Озанфана и французского художника Жаннере, в которой декларируется идеология пуризма и эстетика машины.
(обратно)
25
Аполлон, 1917. № 1. (обратно)26
Недоставало только вывести эту футуристическую живопись из состояния косности: заставить, с помощью какого-нибудь аппарата, вращаться плоскости этих «контррельефов», дабы освободить живопись, преодолевшую два измерения (плоскость холста), и от «трех измерений» материальной статики, толкнув ее в «четвертое измерение», в движение, во время, в t современных механиков… Это отчасти и сделано Татлиным в недавнем грандиозном проекте его «Памятника Советской республики». (обратно)27
Wilhelm Hausen stein «Über Expressionismus in der Malerei», p. 40, 44, 49, 51, 54, 70. (обратно)28
См. Herwart Walden, «Die néue Malérei». Также «Ein Blick in die Kunst» и «Expressionismus, die Kunstwerke». Verl. «Der Sturm», Berlin.Примечание Т. Воронцовой:
…Herwart Walden «Die Néue Maleréi» (нем.) — Герварт Вальден «Новая живопись».
…«Ein Blick in die Kunst» (нем.) — «Взгляд в искусстве».
…«Expressionismus, die Kúnstwerke». Verl. «Der Sturm», Berlin (нем.) — «Экспрессионизм, художественные произведения». Издательство журнала «Буря», Берлин.
(обратно)
29
См. любопытную книгу «Im Kampf um die modérne Kunst».Примечание Т. Воронцовой:
…«Im Катрf ит die modérne Kunst» (нем.) — «В борьбе за современное искусство».
(обратно)
Последние комментарии
41 минут 35 секунд назад
43 минут 4 секунд назад
7 часов 25 минут назад
7 часов 33 минут назад
13 часов 46 минут назад
13 часов 49 минут назад