Красногубая гостья (Русская вампирическая проза XIX - первой половины ХХ в. Том II) [С Шаргородский] (fb2) читать онлайн
- Красногубая гостья (Русская вампирическая проза XIX - первой половины ХХ в. Том II) (и.с. polaris: Путешествия, приключения, фантастика-242) 1.1 Мб, 168с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - С. Шаргородский
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
КРАСНОГУБАЯ ГОСТЬЯ Русская вампирическая проза XIX — первой половины ХХ в Том II
1819–2019 ВАМПИРСКАЯ СЕРИЯ к 200-летию со дня публикации «Вампира» Д. Полидори
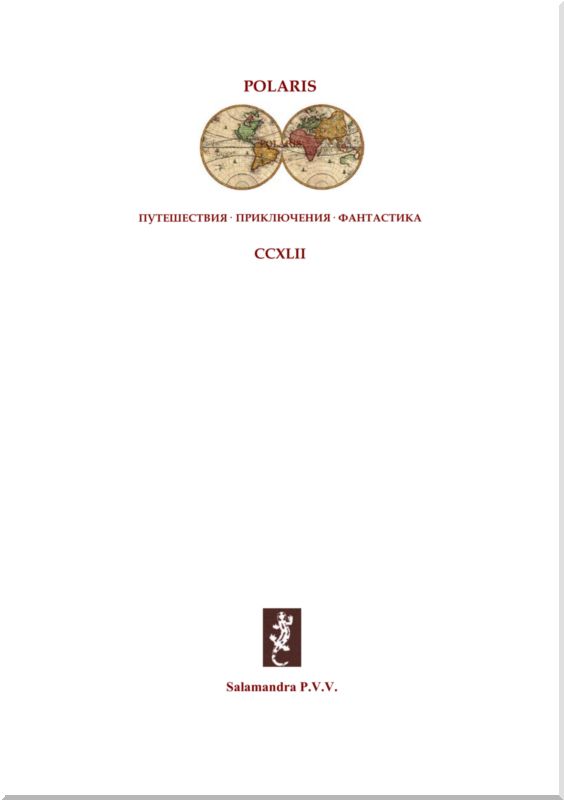


Ю. Ревякин УПЫРЬ Южно-русское предание
I
Поздней осенью, в темную ночь, когда все жители села Червоного, П-ой губернии спали крепчайшим первым сном, в окна хаты сотского начали стучаться десятские Шестопал и Коваленко. — Стучи хорошенько, тяжело дыша от быстрой ходьбы, — заметил Шестопал, — наш сотский, ты знаешь, изрядно глуховат. Десятские ударили своими крепкими ногтями в оконные рамы с такой силой, что стекла задребезжали на все лады. — Дядько Игнат, дядько Игнат, вставайте!.. — вопили они, — несчастие случилось!.. Сотский продолжал бы еще лучше храпеть под шум десятских, если бы жена его не очнулась первой, она не особенно нежно толкнула раза три своего мужа в бок и спину. — Вставай, — крикнула она, — десятские зовут, стучат так, будто хату развалить решили… — Вот оно что, медленно опуская ноги, — хрипло сказал сотский, — а мне, действительно, снилось, будто град идет… И будто уже целую десятину жита выбило… А чего вы там, хлопцы, стучите? Зачем поднимаете такую тревогу?.. — Вставайте, дядько Игнат, возле мельницы человека убито!.. — Из мельницы украдено жито? — недослышав, переспросил сотский. По совету знахарки он затыкал на ночь больные уши паклей, смоченной в конопляном масле, что еще больше ухудшало его тупой слух. — Человека убито, должно быть наш он, Иван Запорожец… — Эт, — возмутился сотский, — жита украли корец… стоит из-за этого ночью тревожить начальство!.. — Да, старый ты глушман, заткнул свои дырки и не слышишь, — поднимаясь к самому уху сотского, крикнула жена, — десятские говорят человека убитого нашли!.. А человек этот, говорят они, наш сосед Иван Запорожец. Тут уже, разобравши в чем дело, сотский проявил необыкновенную быстроту и ловкость. В одну минуту нащупал он свои огромные сапоги, шапку и свиту и выбежал на двор, прячем вынул из ушей паклю и бережно засунул ее в карман. Прийдя на место страшного происшествия, десятские вырубили огонь и, засунув губку в пучок соломы, быстро раздули ее. Красноватое пламя ярко осветило неподвижно распростертого среди грязи человека. Невзирая на густую черную кровь, покрывшую лицо убитого, сотский сейчас же узнал кто это. — Истинная правда, — воскликнул он, — Иван Запорожец это… Вишь догулялся таки, догулялся!.. А ну посвети-ка, Шестопал, ближе. Шестопал, весь дрожа от ужаса, поднес горевшую солому к лицу мертвеца. — Угу-гy, хорошо его ковырнуло, — хладнокровию продолжал сотский, — совсем, можно сказать, мертвое тело, даже, смотрите, добрые люди, мозг ему выпустили наружу!.. — Шли мы обходом, — захлебываясь лепетал десятский Коваленко, — темно, хоть в морду ударь, а тут Шестопал наткнулся из него и чуть не упал… Думали сначала, свинья чья-нибудь пропала… А вот оно что вышло, когда засветили огонь!.. — Скверное дело, — рассуждал сотский, — никогда у нас в Червоном на моей памяти, ничего подобного не случалось!.. Ну, нечего делать, оставайтесь тут, хлопцы, на стороже, возьмите хорошие дрючки в руки и стойте… А чтобы видно было — огонь разложим, потому к мертвому телу никому нельзя подходить. — А Господь, себе с ним, — жалобно возразили в один голос Шестопал и Коваленко, — не останемся мы здесь одни! — Что вы говорите? — переспросил сотский. Десятские повторили свои слова с утроенной силой. — А закон на что? внушительно и строго произнес сотский. — Должны закон исполнять?.. Тут, по закону, до тюрьмы не очень далеко… Приказано стоять — стойте, хоть полопайтесь!.. Вишь какие, уже совсем раздражился сотский, туг мертвое тело лежит, а они еще корчат из себя дурней… Мертвого уже ничего бояться… Распорядившись таким образом, сотский вытащил и себе колок из ближайшей изгороди и, громко чавкая по грязи сапогами, исчез в темноте. Он почел своим долгом доложить обо всем старосте и посоветоваться с ним относительно всех предстоящих мероприятий…II
Убитый неизвестно кем, глухой ночью, Иван Запорожец издавна пользовался в Червоном плохой славой. Явных улик на него не было, хотя все были убеждены, что Запорожец первый мастер на все злое. <…> жил он на маленьком наделе <…>[1] выстроил прекрасную новую хату, молодую жену одевал как куклу — Одарка его даже в будни ходила в красных сафьяновых сапогах и носила шелковые платки. Постоянно гости гуляли у Запорожца и все народ, можно сказать, странный: цыгане не цыгане, кацапы не кацапы… Все молодцы рослые, усатые, брови сросшиеся и носы крючками. Люди часто видели у Ивана золотые деньги, и втихомолку уверяли, что он отлично знается с дьяволом, продал ему душу, а потому и живется ему до поры до времени лучше других. Никто, однако, в глаза Запорожцу не высказывал ничего подобного. Напротив, все боялись его и кланялись ему низко при встрече. Росту он был огромного, красавец писаный, в плечах косая сажень. Лошадь, говорят, одной рукой возьмет за холку, тряхнет и свалит с ног… И вдруг взяло что-то такого человека и убило!.. Покинутые сотским Шестопал и Коваленко дрожали от страха как осиновые листы. Выбивая зубами трели и, призывая на помощь всех святых, десятские вооружились самыми увесистыми колками и присели рядышком, под изгородью. Пучок соломы быстро догорел и потух, кругом воцарилась такая темнота, какой оба они никогда еще не испытывали в жизни. — Святый Боже, — прошептал Коваленко, — и понесло тебя, Шестопал, наткнуться прямо на него… Прошли бы себе мимо, пусть другие его нашли бы!.. — А ты думаешь как? — отрывисто ответил Шестипал, — может быть меня нарочно толкнуло в его сторону… Чувствовал я, что ноги мои будто не сами идут… Хотел я… — продолжал Шестопал и вдруг умолк, крепко уцепившись за рукав свиты своего товарища. Зубы его стучали как в лихорадке. — Чего ты меня держишь? — глухо спросил Коваленко, еле ворочая языком от страха. — Слышишь? — просипел Шестопал. Что-то сунулось медленно к мертвецу, шлепая ногами по грязи. Сунулось, сопело, храпело, как старый кузнечный мех, покрытый со всех сторон заплатами. — Убежим, кум, — хватаясь в свою очередь за рукав Шестопала, простонал Коваленко. Десятские, наверно, невзирая на грозное приказанье сотского, покинули бы свой пост, но ноги у них стали точно деревянные: ни разогнуть их, ни шевельнуть ими не было никакой возможности. — Убежим… — как эхо ответил Шестопал, продолжая сидеть неподвижно под забором. Оба десятские звенели зубами как голодные волки. Барашковые шапки как живые полезли у них с голов и свалились в грязь… Трудно описать, что произошло со сторожами; когда сотский вернулся к трупу вместе со старостой и еще тремя здоровыми мужиками, возле мертвого было тихо и царила непроглядная тьма. — Шестопал, Коваленко! — окликнул сотский, — оглохли вы, или онемели? В стороне послышался жалобный стон. Все новоприбывшие остановились как вкопанные и крякнули. — Хм… — продолжал сотский, — не дай Бог, может и страже свернуло головы! — Кто там стонет? — не двигаясь с места проревел староста. — Да, да, кто стонет? — в один голос подхватили все. Ответа не последовало. — Господь его Святой знает, что тут происходит, — рассуждал сотский, — как вы думаете, староста, что нам нужно сделать? — Побегу я, да ударю в колокол! — торопливо сказал один из мужиков, сопровождавших сельское начальство. — Что ты понимаешь, — недовольным голосом заметил староста, — разве у нас пожар? Полагается по закону звонить только на пожар… Тоже, можно сказать, голова… а еще с советами лезет. — Шестопал, Коваленко, тут вы? — еще окликнул сотский во все горло. Теперь явственно принеслось два стона, один с правой стороны, другой с левой. — Крешите огонь, живо, да надергайте соломы из ближайшей клуни, — приказал староста, — стоим мы точно с завязанными глазами, а какая-нибудь скверная сила может и нам проломить затылки. Осмотревшись при свете огня, Шестопала нашли застрявшим до половины в изгороди, так что голова его была в огороде, а ноги торчали на улице, Коваленко, вытаращивши глаза, сидел по пояс в грязи, наполнившей противоположный ров. — Нечего сказать, хорошо их разбросало в разные стороны, — качая головой заметил сотский, — ну вылезайте уже, чего вы там застряло! Десятских насилу привели в чувство. Убедившись, что кругом стоят свои люди, оба они вдруг странно оживились и начали необычайно быстро молоть языками. — Сидим мы, — рассказывал Коваленко, — вдруг слышим что-то лезет и сопит…. — Совсем не лезло, а ляпало ногами, как старая корова, — возражал Шестопал, — была мара эта величиной в добрую степную копну сена… — На нас, упаси нас святая Господин сила, сунется, а я вижу два глаза, может с кулак величиной… Зеленые буркалы, как у дикого зверя! — доказывал Коваленко. — Это уже ему от страху показались глаза, — выкрикивал Шестопал, — глаз, ей Богу, не было, мара была на четырех лапах, с когтями и уши у ней торчали по сторонам как два жлукта, в которых бабы золят белье!.. — Ты говоришь страх у меня? — с горькой обидой в голосе возразил Коваленко, — а кто ухватился мне первым за руку и говорит: матинько моя, пропали мои детки и хозяйство… были у чудовища глаза, я хорошо видел, а ушей никаких не видел, а потом, как схватилась буря, как закрутит вихорь… — Буря схватилась над ним? — повторили мужики, учащенно осеняя себя крестами. — Это верно, — заклялся Шестопал, — буря шапки сорвала с наших голов и разбросала нас как щепки… — Да это мы видели, как разнесло вас по сторонам! — согласился староста… — Недаром уверяли наши люди, что покойный Запорожец знался с нечистым…III
Все Червоное встревожилось, не было ни одной хаты, где не толковали бы на разные лады об ужасном событии. Шестопала и Коваленко приглашали нарасхват и они приводили всех в трепет описанием мары, явившейся к убитому прощаться. Через три дня прибыл пристав со всем штатом для составленья протоколов и следствия. Пристав был человек очень большого роста, тучный, с лицом широким как лопата, и двум я черными глазками, торчавшими на лице как две коринки на сдобной булке. Все следствие пристава прошло в том, что он ругался без устали, ругался, на чем свет стоит, до тех пор, пока староста не объяснился с ним наедине, причем имел такую же беседу с фельдшером и другими важными лицами. Сотские уложили в бричку пристава большой горшок масла, пару поросят, вполне годных к предстоящим рождественским святкам, и еще какой-то узел, и в котором, по замечанью кучера пристава, человека очень опытного в этих делах, наверно было с полпуда отличного гречишного меда. Убийцы Запорожца, конечно, не были разысканы и похоронили его на сельском кладбище, насыпавши над ним большой желтый бугор сырой глины. Люди дрожали от жалости страха праха на похоронах убитого, потому что жена Запорожца Одарка совсем обезумела от горя. Она голосила так неистово, что пена клубом выступила у ней изо рта. Рвала на себе волосы и билась головой о гроб. Староста, человек очень сильный и бондарь Опанас, кум покойного Запорожца, с трудом удержали Одарку в ту минуту, когда по крышке гроба начала гулко стучать глина. Вдова хотела бросаться на дно могилы и хотела похоронить себя вместе с мужем. Когда гроб засыпали совсем и сравняли бугор, Одарка сейчас же обмерла, лицо у нее перекосилось и побелело как мел, вытянулась она и стала точно костяная. Тетка Лисавета, кума Василиса и баба Клюиха до поздней ночи провозились с Одаркой. В конце концов баба Клюиха возвратила несчастную молодицу к жизни. Насилу отшептала ее баба Клюиха, говорили они, что сердце у Одарки держалось уже на одной тонюсенькой жилочке, если бы та жилочка лопнула, молодица вряд ли дождалась бы Христова праздника. В день похорон Запорожца с утра бушевал сильный ветер, потом неожиданно налег мороз и в два часа сковал землю, а к вечеру, когда Одарка очнулась, буря нанесла снежную метель. Самые древние старики в Червоном не помнили такого бурана. Столбы снега ходили по улицам, нагоняли один другого и рассыпались белым прахом. Почти на всех крышах позадирало вверх солому; окна совсем залепило снегом. Тот, кого крайняя нужда заставляла пройти по улице, возвращался домой с большим трудом, весь белый с головы до ног. Вой и шум раздавался над Червоным; в каждой трубе вопили необычайные голоса, выли, плакали и визжали, не то торжествуя, не то горько оплакивая кого-то. Один из самых страшных вихрей, рассказывал наутро церковный сторож, должно быть старший между всеми вихрями, закрутился возле кладбища, в нескольких шагах от свежей могилы Запорожца, потом с диком ревом побежал вдоль улицы и сломал в одну секунду тополь возле хаты сотского. Грохот при этом, должно быть, был достаточно сильный, так как сам сотский, не зная в чем дело, проснулся и спросил у жены, не уронила ли она чего-нибудь спросонья. — Господь с тобою, крестясь, — ответила сотская, — конец света, должно быть, приходит!.. — Кто-то, говоришь, ходит? — Конец света, глушман, приходит, — закричала сотская, — ототкни уши, а не то и умрешь, не зная, в чем дело; тополь у нас повалило! — Ничего не разберу, — все-таки крестясь, прошептал сотский, — должно быть оттепель на дворе… в ушах моих гудит как в мельнице… Сотский, конечно, ошибся, на дворе мороз крепчал с каждым часом, хаты неожиданно прохваченные холодом, начали трещать по углам, старые вербы стреляли точно из пистолетов, а в маленькие оконца, как уверяли многие червонцы, до утра кто-то постукивал костяными пальцами и положительно не давал крепко уснуть. Когда хорошенько рассвело и хозяева кое-как отгребли снег от своих дверей, занесенных почти до половины, удивительные вещи можно было услышать возле колодца. Бабы собрались там и стояли очень долго, засунувши руки в рукава длинных кожухов. Они качали головами, закутанными так, что только рот и кончик носа оказывались более открытыми. Тетка Лисавета уверяла и даже поклялась страшной клятвой, что в полночь к ней приходил под окно Запорожец. Очевидно, недоволен он был за то, что Одарку не дали ему забрать с собой. — Перетревожилась я возле Одарки, сестрички мои, — громко рассказывала Лисавета, — и не могла заснуть… А тут, знаете сами, какая подхватилась буря… Только в полночь слышу я, сестрички, царапается что-то в окно… Перекрестилась я, смотрю, стоит уже мохнатое, серое… Так дух у меня захватило и скатилась я как качан на подушку… — Будет ходить он, будет, умер без покаяния и без исповеди! — подтвердила кума Лисаветы. — Не дай Бог, если появится у нас в селе упырь, начнет у детей сосать кровь и много народу переведет, — заметила одна из баб. — О чем толкуете, бабы? — низким басом спросил бобыль Козаченко, человек одинокий, он должен был сам таскать себе воду. Все прозывали Козаченко ежом, потому что волосы у него на усах, бороде и голове торчали во все стороны как щетина. Узнавши, в чем дело, Козаченко сейчас же торжественно подтвердил все. — Вы говорите, будет ходить Запорожец? — проревел он, — а я говорю он уже ходит… Вчера ночью я его, проклятого, хорошо видел, потащился с кладбища в своем саване… Собаки выли на него как на зверя!.. Довольный сильным впечатлением, произведенным на баб, Козаченко вскинул коромысло на плечо и ушел.IV
Неутешно оплакивала Одарка своего несчастного Ивана. Неделя прошла, другая, а она все не приходила в себя и ходила как тень. Другие вдовы за такое время успокаивались совсем и не прочь были побалагурить с более красивыми парнями. Баба Клюиха, заходившая изредка к Одарке, по доброте своей души, разными способами старалась утешить молодицу. — Перестань, сердце Одарка, — сказала она забежавши к ней вечером, — тосковать по мертвом грех, чего доброго, притоскуешь его, тут Клюиха перекрестилась, — притоскуешь, а он и притащится в тебе в полночь. — Пусть приходит, пусть приходит! — заломивши руки, простонала Одарка, — жить и без него не могу и петлю наложу на себя. Пусть приходят, чего мне его бояться… Любились мы с ним и душа в душу жили… — А грех ты говоришь, а грех! — возмутилась Клюиха, — перестань Одарка, — говоришь ты с горя, не приведи Господь что! Но Одарка не унималась и чем дальше уговаривала ее Клюиха, тем упорнее и настойчивее призывала умершего мужа. В конце концов, Клюиха крестясь и спотыкаясь от волненья, ушла из хаты Одарки. — Обезумела, обезумела, — решила баба Клюиха, — и уже находится во власти злого духа! После ухода бабы Одарка долго сидела скрестивши на коленях руки, неподвижно устремивши глаза в одну точку. Громкий крик мальчика, проснувшегося в своей люльке, заставил ее очнуться. Удивленно оглянулась молодица, в хате уже было темно, луна светила в замерзшие окна, таинственно освещая причудливые ледяные узоры. Молча, не напевая обычной колыбельной песенки, Одарка взяла мальчика, накормила его грудью, уложила спать равнодушно, не перекрестила и не прочла молитвы. Все Червоное давно уже молчало как мертвое, крепко спало оно, покрытое белым снегом, мирно освещенное луной. И вдруг слышит Одарка тяжелый скрип чьих-то шагов по мерзлому снегу. Скрип, медленно-мерный, точно идет кто-то, с усилием волоча ноги. Издали пронесся жалобный вой собак. Вскоре скрипящие шаги раздались под самым оконцем и огромная колеблющаяся тень закрыла сверкающие ледяные узоры. — Кто там? — шепотом спросила Одарка, предчувствие охватило ее, часто, очень часто возвращался таким образом, с своих таинственных ночных походов ее муж. И никогда не возвращался он с пустыми руками, приносил дорогие подарки, или вкусные лакомства. — Это я, Одарочка, — послышался за окном глухой голос, — отвори, сердце мое, двери и пусти меня в хату… — Ивасик, — чуть не крикнула Одарка, — Ивасик пришел, дорогой мой! Недолго думая, молодица соскочила с лежанки и быстро бросилась к двери. Совсем забыла она в ту минуту, что Ивасик ее давно уже был мертв и похоронен в глубокой могиле. Забыла она все на свете, лицо у ней разгорелось и все тело дрожало как в лихорадке… Медленно, согнувшись, вошел неожиданный гость в хату, и повеяло от него таким холодом, какого никогда еще не испытывала бедная Одарка. — Ну вот хотела ты и пришел я… согрей меня, холодно мне, холодно! — тем же глухим, будто подземным голосом произнес Иван. — Ивасик, сердце мое, иди сюда к печке, отчего ты такой холодный, отчего руки у тебя как костяные! — Холодно мне там лежать… Сердце у меня обледенело и нужно мне живой, горячей крови… Одарочка, сердце мое, дай мне живой крови!.. — Ивасик, — все еще ничего не понимая прошептала Одарка, — о какой ты крови говоришь… Что с тобой, Ивасик, дорогой мой? Свет луны бледным столбом проник в окно хаты и яснее озарил лицо ночного гостя. Тогда с ужасом увидела Одарка, что лицо у ее Ивасика было совсем мертвое, неподвижное и белое, как снег, и глаза его были белые, как две замерзших льдинки; острые зубы сверкающим рядом выступали из-под тонких губ, покрытых снежным инеем. Замерла Одарка, отступивши в сторону и прижавшись в углу печки. Смертельный холод сковал ее с ног до головы. Явственно увидела молодица, как страшный гость, тяжело передвигая свои окостеневшие ноги, прошел к люльке, где мирно спал ребенок, и, нагнувшись, припал мерзлыми губами к теплому тельцу… — Ивасик, голубь мой сизокрылый, что, что ты делаешь! Ты ли это? — простонала Одарка. — Ну вот, Одарочка, чего ты боишься? — вдруг послышался ласковый и сладкий голос, — это я, муж твой, смотри, разве не живой я, смотри, я согрелся уже и гостинец принес тебе дорогой! Все перепуталось в мыслях Одарки, обезумела она, и подпала под власть страшной, неестественной силы. Теперь увидела она перед собой прежнего, ласкового и веселого Ивана, сел он с ней рядом на широкой кровати, крепко обнял и начал целовать ее пылающие щеки. — Нечего теперь тебе печалиться, — шептал он, — я буду ходить к тебе, — буду, как прежде, во всем помогать!.. Вот на, получи первый мой гостинец, смотри, какое чудное дорогое, доброе намисто! При этом Иван вынул из-за пазухи несколько шнурков прекрасных кораллов и надел их на шею Одарки. Одарка вздрогнула, потому что кораллы эти показались ей особенно холодными и тяжелыми. Но она чувствовала себя очень счастливой, и вдруг ей стало так весело. Захотелось петь и танцевать, она ласкалась к мужу, целовала его карие глаза и не могла насмотреться на них. — Ходи, ходи ко мне, сердце мое, — лепетала она, — жить я не могу без тебя, пусть будет, что будет, а ходи! — Хорошо, буду… — глухо ответил гость, — буду верно любить, буду к тебе, сердце мое, ходить… А теперь прощай… — Посиди еще немного, не покидай меня! — взмолилась Одарка. — Нельзя, не могу больше, не могу! — простонал Иван; лицо его опять побелело и опять могильным холодом повеяло от его груди… Когда Одарка очнулась, в хате было тихо и пусто… В теплых сенях большой красный петух громко ударил крылом и несколько раз протяжно крикнул…V
Недели за три до сочельника все населенье Червоного было возбуждено и встревожено. Бабы без умолку рассказывали страшные и непонятные вещи, откуда узнали они, неизвестно, только все в один голос уверяли, что Иван Запорожец ходит к своей жене. Две девушки в хатах, стоявших ближе к кладбищу, почти одновременно заболели. Клятвенно утвердили они, что к ним тоже приходил Запорожец, что пробрался он перед полночью сквозь нижнюю щель двери и сначала показался величиной не больше мизинца, а потом вырос до самого потолка и такими глазами посмотрел на них, что уже двинуться, совершить молитву, или перекреститься не было никакой возможности. Тогда упырь-Запорожец, рассказывали девушки, нагнулся к ним и начал сосать у них кровь. Обе они чувствовало, как кровь убывала у них со страшной быстротой, а на другой день после этого лежали в страшном жару, никого не узнавая… Приуныли червонцы, вечером мимо кладбища никто не решался проходить, а когда темнота окончательно покрывала улицу, самые смелые боялись выйти за ворота. Почти все хозяева окропили святой водой двери и окна, написали кресты на ставнях и приготовили осиновые колья, чтобы, в случае нападения упыря, было чем защититься… Одна Одарка не обращала вниманья на все толки и пересуды, на убеждения бабы Клюихи и мудрые советы тетки Лисаветы. Ходила она, гордо подняв голову, ничего не боялась, презрительная улыбка кривила ее красивые губы, когда люди более робкие, при встрече с нею, отшатывались в сторону. Во всяком случае, все видели ясно, что была она совсем не такой, как прежде. Большие темные глаза ее горели диким огоньком, в лице не было ни кровинки, прежняя дородность пропала и стала Одарка, по уверенью бабы Клюихи, тоненькой, как самая чахлая былинка… Слышал староста Червоного, Онуфрий Ковбик, все пересуды и толки, качал головой и, как рассудительный человек, не очень верил бабьим сплетням, не верил он до тех пор, пока в одно воскресенье, после церковной службы, не явилась к нему по важному делу вдова Куцыха, женщина самая богатая в селе, умная и пользовавшаяся всеобщим уваженьем. Войдя в хату, Куцыха сначала помолилась святым иконам, а потом поздоровалась как следует и поднесла старосте целый узелок отличных сушеных груш, слив и яблок. Сад у вдовы был прекрасный и умела она удивительно хорошо приготовлять фрукты для узвара. — Спасибо вам за ваше вниманье, — проговорил староста, — садитесь, пожалуйста, может дело есть какое-либо у вас? — Дело есть, отчеканила Куцыха, — грубым, почти мужественным голосом, — такое дело, — при этом Куцыха троекратно осенила себя крестом, какого еще никому не случалось. — Надевайте же, пане старосте, кожух, возьмите свой знак и идем сейчас, не теряя времени. Староста было замялся, но Куцыха решительно добавила: — Туг не место говорить обо всем, по дороге узнаете все. Нечего делать, староста оделся и вышел с Куцыхой за ворота. — Ну теперь я и расскажу все по порядку, — оглядываясь и понижая голос, загудела Куцыха, — известно вам, дядько Онуфрий, что дочь моя Василина, прошлую весну скончалась, и похоронена как следует, и запечатана батюшкой ее могила? — Конечно, известно, — с удивленьем согласился староста, — был же я на похоронах и обедом ее, покойницу, царствие ей небесное, поминали. Куцыха резким движеньем утерла слезы на глазах и продолжала еще глуше: — Так вот, когда хоронила я мою бедную Василину, так должна была исполнить ее последнюю волю… И надела ей я самое лучшее ее девичье платье, и причесала ее как невесту… и надела ей на шею доброе намисто, которое досталось мне еще от моей бабушки… Доброе намисто с тремя золотыми дукатами, а всего его было четыре низки и нанизано оно было на шелковый шнурок, а все низки были связаны в концах шестью узлами… Так отчеканивала Куцыха каждое слово, а староста, решительно не понимая в чем дело, кивал головой да покрякивал. — Теперь дальше, — гудела Куцыха, — сегодня иду я из церкви и вдруг встречаю Одарку Запорожцеву, жену, прости меня Создатель, того проклятого упыря, что тревожит теперь все село и не дает крещеным людям спать по ночам. Смотрю я, останавливаясь вдруг перед старостой и вперяя в него негодующие, серые, как олово, глаза, — резко закончила Куцыха, — а у ней на шее красуется намисто моей несчастной Василины… — Василинино намисто? — повторил бледнея староста. — Оно, именно, разве я не узнала бы его за три версты, разве мало я любовалась им в молодости! — Гу, гу, гу… вот это так уж чудное дело! — воскликнул Онуфрий Ковбик, громко ударяя себя по белым полам нового кожуха. — Что же вы думаете сделать? — А вот что, — с твердостью сказала Куцыха, — не допущу я, чтобы всякая тварь пользовалась добром покойницы несчастной. Идем сейчас к ней, она только что вошла в свою хату, и, ежели я докажу, чье это намисто, то снимем его с ее поганой шеи… — Хм, так оно так, — совсем растерявшись недоумевал староста, — только как могло намисто, из-под глубокой земли, примерно сказать, из запечатанного гроба, выйти на свет… — А может он, упырь проклятый, ходит к ней? — грозным тоном спросила Куцыха. — Слышал я такие вещи, только, как бы сказать… — медленно начал староста, но Куцыха властным уверенным голосом прервала его речь: — Ходит, воскликнула она, — а вы ничего не смотрите, доведете все село до великого несчастья!.. Неожиданно вошла Куцыха со старостой в хату Одарки, молодица вздрогнула и быстро повернулась к вошедшим, громко брякнув дукатами, привешенными к доброму намисту… Не теряя ни одной минуты, вдова подскочила к Одарке и ткнула пальцем ей в грудь. — Вот оно! — грубо выкрикнула торжествующим тоном Куцыха. — Вот дукаты: один побольше, а два других меньше и эти все четыре низки… Снимай, ведьма, намисто, снимай его сейчас!.. — Да, да, снимай, — повторил староста. Дрожащими руками, покорно, без всякого сопротивленья, сняла Одарка намисто, губы у ней задрожали и лицо стало белее стен. — Вот, вот, вот! — указывая на все приметы рычала Куцыха, — где ты его, проклятая женщина, взяла?.. — Да, да, где взяла? — повторял староста, — это, действительно, нужно по закону сказать. Но Одарка стояла, как вкопанная, безмолвно вперив глаза в Куцыху. — Чего глаза на меня вытращила! — крикнула Куцыха, — не испугаешь меня своим упырем, для него есть у меня святая чудотворная икона!.. После этих слов Одарка, жалобно, точно маленький ребенок, вскрикнула, схватилась руками за голову и грохнулась посреди хаты…VI
— Ей-Богу, стою я как в тумане, — разводя руками, проговорил староста, — очутившись с Куцыхой на улице, — что делать, сам не знаю? Куцыха с видом победительницы горделиво поджала губы. — Заявить по начальству, или батюшке… — недоумевал Ковбик. — А начальство, что сделает? — возразила Куцыха, — наберетесь таких хлопот перед праздником, что и сами не рады будете! — Верно, верно! — тоскливо согласился Ковбик. — Вот мой совет, знаете вы сами хорошо того Литвина, что сидит в Зачепихе? Поезжайте к нему, он поможет… он такие дела понимает, каких вам и не снилось. Старый Литвин скоро усмирит проклятого упыря, да, может, еще и молодицу отчитает… Как ни крутите головой, а без Литвина не обойдется… Про намисто-то пока не говорите никому, особенно глушману этому сотскому, тот сейчас, как сорока на хвосте, понесет все к становому… — Так, так, — согласился староста, тяжело вздохнув при этом, — вот дела какие настали!.. Куцыха, распрощавшись, повернула в свой переулок, а староста, заложив руки за пояс и понурив голову, медленно побрел домой. — Нечего делать, после долгих размышлений, — решил Онуфрий Ковбик, — нужно поехать к Литвину. Никому не говоря ничего, Ковбик запряг своего доброго серого коня и отправился в Зачепиху. Все жители Червоного, других ближайших и самих дальних сел отлично знали Зачепиху — облупленную и ободранную корчму, одиноко торчавшую среди голого, как ладонь, поля. В корчме этой много лет сидел на аренде старый Литвин с двумя дюжими сыновьями; славился он необычайным искусством врачевать всякие болезни, а, главное, не боялся никакой нечисти. Никто не мог бы, посмотревши на Литвина, сказать, что обладает он такими понятиями и силами. Росту Литвин был очень низкого, почти карлик, маленькая, как маковка, голова, с двумя оттопыренными ушами, не имела никаких следов растительности, кроме нескольких желто-седых волосков, торчавших сосулькой под носом, немного ниже двух бородавок почти синего цвета. Беседуя с посетителями, Литвин двигал этими бородавками как щупальцами, причем все голое лицо покрывалось морщинами, а уши прыгали по сторонам, как у летучей мыши… Неказистая, правду сказать, была наружность, а все-таки, все, кто знал Литвина, глубоко уважали его и свято верили каждому слову. Чуть только староста вошел, поздоровался как следует и присел возле стола, как старый Литвин сейчас воскликнул: — Догадываюсь я, дядюшка Онуфрий, зачем вы потрудились ко мне… приехали вы посоветоваться насчет тех беспокойств, что в Червоном начались… — Истинно, — подумал староста, крякнув от удивленья, — знает старый Литвин все на свете!.. — Знаем, знаем, — весь покрываясь морщинами и двигая прозрачными ушами, пропищал Литвин… — Хотите вы, староста, упыря присмирить. — То есть, конечно… — смущенно протянул староста, — такое началось у нас в Червоном, что и словами рассказать нельзя, а ежели рассудить, то одна надежда на вас… потому что начальство, как бы сказать… — староста запнулся и тяжело засопел носом. — Тэк, тэк!.. — еще больше покрываясь морщинами, согласился старый Литвин, — его нужно усмирить… Такие штучки уже случались мне, приходилось видеть на веку!.. Был у меня вчера вечером ваш сотский, насчет ушей советовался и тоже просил помочь в этом деле. Говорил он только, чтоб не сказывал никому, боялся как бы становой не прикатил под праздник… Хе, хе, хе… — добродушно захихикал Литвин, — упыря можно, хоть с трудом, уничтожить, а от станового не так-то легко отделаться!.. — Грамотному человеку, как говорится, и книги в руки, — продолжал староста, — потрудитесь, пожалуйста, для нас, а мы, как можем, отблагодарим всем селом… Ежели расход какой, или, как известно, за труды ваши… — Ни, ни, ни! — замахавши, как мельница, своими маленькими руками, — возразил Литвин, за что беру, так беру, а за такое дело — сохрани Господь… За такое дело деньги брать не полагается… Непродажное это, нет… А теперь расскажите мне, староста Онуфрий, все по порядку… Литвин подсел к Ковбику поближе и они повели речь совсем пониженным голосом… Не преминул, конечно, староста рассказать как вдова Куцыха опознала намисто покойной дочери на шее Одарки Запорожцевой… — Фю, фю, фю!.. видите, добрые люди, как он усилился! — с негодованием запищал старый Литвин, — конечно, удивляться нечему, — упырь может ходить вольно по всем могилам, и может он таскать оттуда все, что ни захочет… Ну, так времени терять нельзя!.. Вечерком приеду я со своими сыновьями… а вы, пане староста, соберите еще с полдесятка верных людей, да приготовьте святой водицы, кропило новенькое из чистой свежей соломки… и приготовьте вы острый осиновый кол, аршина в два с половиной… Вечером, как смеркнет, буду…VII
Могут верить, или не верить добрые люди, а что совершилось в с. Червоном, достаточно лет тому назад, как раз на священномученика Игнатия Богоносца, расскажем по порядку. Не успел староста вернуться домой, как его встретили Шестопал и Коваленко. Они оба были сильно возбуждены, махали руками и обливались потом. Вдова Одарка Запорожцева, сообщили десятские, вылетела, как безумная, из своей хаты, и понесла ее невидимая сила прямо на кладбище. Там она упала на могиле своего муха и начала грызть зубами мерзлую глину… Много народу видело эту страшную картину. Вдова кричала разными голосами и собакой, и петухом, и свиньей… Шестопал, Коваленко, сотский Игнат и бобыль Козаченко насилу оторвали Одарку от насыпи и на руках снесли ее домой, где, по совету бабы Клюихи, ей связала руки и ноги новыми полотенцами. — Ничего, ничего, — твердо произнес староста, направляясь к хате сотского, — кончатся сегодня все эти дела, кончатся! В этот день Игнат, как оказалось, слышал гораздо лучше обыкновенного, потому что старый Литвин отлично облегчил ему уши с помощью горящих бумажных трубок. — Теперь мне не нужно уже кричать, — пояснил сотский, — как вставил Литвин, дай Бог ему здоровья, в каждое ухо по трубке, величиной в аршин, и зажег их с противуположного конца, так вся сера вытекла из головы и прочистился слух… Чудеса делает этот Литвин!.. Вечером прибыл Литвин с двумя сыновьями, рослыми как дубы, совсем не похожими на отца. Собрались все у старосты в хате; были там, кроме Литвина с сыновьями, оба десятские, бобыль Козаченко, считавшийся самым смелым человеком во всем Червоном, сотский Игнат, Опанас Бондарь, известный тем, что собственными руками задержал и отмолотил ведьму в своем хлеву, были еще два брата Семен и Грицько Зайцы, оба надежные люди. Семен Заяц, однажды, на своем веку, поймал конокрада и, невзирая на то, что злодей отгрыз ему половину большого пальца на левой руке, все-таки не выпустил его на волю… Как только потушили жители Червоного огни, все старые и молодые, как говорится, успокоились после дневных работ, Литвин со всей компанией вышел из хаты старосты и направился к кладбищу. Литвин шел впереди между двумя своими сыновьями-великанами, а Шестопал с Коваленко замыкали шествие и уже заранее чувствовали, как мороз гулял у них за плечами. Вот показалось кладбище, черневшее в сумерках зимней белой ночи своими крестами. При виде могилы Ивана Запорожца, с которой буря совсем сдула снег, Литвин остановился. — Станьте все, — приказал он, — не подходя к нам на пять шагов, шапки снимите, да читайте святые молитвы. Старый Литвин взял кропило с водой, один сын осиновый колок, а другой тяжелую деревянную долбню… И начал тогда Латыш отчитывать, мелко, мелко, будто горохом посыпал, непонятные никому слова. Голос его, сначала тонкий, как колокольчик, становился все глуше и слился в страшный угрожающий шепот. Видно не легло было Литвину работать, и потому корчился он, приседал и дрожал над могилой упыря, весь обливаясь потом. И начало вдруг что-то реветь под землей… Шестопал и Коваленко ясно увидели, как земля зашевелилась на могиле, а черный крест закачался в разные стороны… Десятские присели на корточках за спиною Козаченко, староста и сотский во весь голос читали молитвы, Опанас Бондарь, хотя не сходил со своего места и твердо держался на ногах, но все-таки сильно заикался и повторял иные слова молитвы по десять раз, забывши что стояло дальше. Только одни братья Зайцы поистине оказались выше всякого страха, так ровно стояли они и отчеканивали каждое слово отче-наша… — Не так еще было страшно, — рассказывали впоследствии Шестопал и Коваленко, — когда упырь-Запорожец начал реветь под землей, ворочаясь в своем гробу… Больше все охватил ужас, когда Литвин пронзительно крикнул своим сыновьям: — Иван, наставляй кол, а ты, Василий, колоти… Страшно загудела долбня, вгоняя кол в самый гроб упыря и слышался между ударами долбни нечеловеческий визг под землей… Не хотелось, должно быть проклятому упырю терять свою силу и волю! Чем глубже вколачивали кол, тем тоньше и тише становился вопль упыря, а, наконец и все стихло, точно рукой сняло… Перестала земля дрожать под ногами и крест перестал качаться… Тогда старый Литвин выкропил всю святую воду до капельки на могилу и на всех присутствующих и сказал: — Шабаш!.. Кончено теперь все навеки! До страшного суда не встанет больше упырь, до тех пор пока труба архангела не затрубит и не распечатает все гробы праведные и неправедные… Аминь!.. Постояли все, прислушались, мертвая, глубокая тишина царила кругом. Издали только доносилось обычное тявканье собачек, да петухи начали перекликаться из одного конца Червоного в другой… На этом, однако, старый Литвин, дай Бог ему здоровья, не успокоился. Зашел он также в хату Одарки, где несчастная вдова лежала пластом и горела вся точно в огне. Осмотрел Литвин больную молодицу, отчитал хорошенько и над нею, причем разрешил снять с нее туго завязанные полотенца. — Если перегорит неделю и очнется, будет жива, — сказал Литвин, при этом и действительно, как ножом отрезал. Как раз в сочельник, несчастная Одарка открыла глаза и попросила пить. Баба Клюиха дала ей немного кисленького узвара. И очнулась Одарка, совсем иной женщиной, точно все новое в ней народилось. Рассказала она все ужасы пережитые ею, а на следующую весну, вместе со вдовой Куцыхой отправилась в Киев к св. угодникам…
И. Головин НАЯВУ ИЛИ ВО СНЕ
Несколько лет назад в самый день праздника мне принесли разом две телеграммы. Содержание их меня сильно потрясло, да и было от чего. Одна из них гласила — она была помечена 24 числом: «Поздравь меня. Вчера я стал женихом. Невеста моя настоящая прелесть. Надеюсь, приедешь на свадьбу Сергей Алчинский». А вот каково было содержание второй: «Сергей Григорьевич этой ночью внезапно скончался. Извещаю вас как ближайшего наследника. Похороны 27. Управляющий Книман». Вторая телеграмма написана была целыми сутками позже, но пришли они почему-то обе вместе. Бывают резкие повороты в жизни, но разом получать известие о помолвке и смерти близкого человека доводится не часто. С покойным я по-настоящему не был близок, хоть он приходился мне двоюродным братом. Раз навсегда, правда с самого детства, — мы были почти ровесниками, — установились у нас короткие, чисто родственные отношения, но в привязанность, даже попросту в дружбу, они не сложились. Вечно суетящийся непоседок, балагур и повеса, до своих 34 лет Сережа мне по душе не приходился. Сквозь его веселое легкомыслие в сущности, как мне казалось, просвечивала черствость, отсутствие способности откликаться на чужую беду. И принять свалившееся так неожиданно на руки наследство мне как-то претило. На похороны я, разумеется, тотчас поехал и поздно вечером 26-го ямская тройка меня доставила в Покатиловку, Тульскую усадьбу моего двоюродного брата. В доме стояла какая-то деловито-холодная суета. Чувствовалось сразу, что покойный не оставил после себя никого, кто бы о нем искренне глубоко сожалел. Необыкновенно выдрессированный немец-камердинер, объездивший с ним почти всю Европу, был чрезвычайно приличен и особенно грустил, кажется, о своем крупном жалованьи. Невесты и ее семьи не было. Они приезжали на две панихиды и больше не показывались. Зато увидел я одного очень суетившегося господина, не перестававшего сновать по комнатам и допрашивать по нескольку раз всех домашних. Это был следователь. — Что? — спросил я у камердинера. — Разве?.. — Как же, — скороговоркой ответил тот. — С вечера Сергей Григорьевич были совершенно здоровы, вернулись поздно домой и глядели таким веселым, а утром, когда я вошел к ним в половине девятого… Камердинер мне сообщил, что причину смерти никто, даже сам доктор, за которым тотчас послали, объяснить не мог: нашли только на левой стороне шеи царапину какую-то, с запекшейся кровью. — Вскрывали покойного? — живо перебил я камердинера. — Нет, зачем же?.. Да вот спросите у г. следователя, они вам все скажут… Следователь был молодой и прыткий и казался очень недовольным, что из дознания ничего не выходило. Меня от слегка облаял, в ответь на мой вопрос коротко и сердито сказав, что принимаются все меры, дабы отыскать нить, могущую привести к раскрытию преступления. — Да разве вы думаете? — спросил я его удивленно. — А как же? — фыркнув ответил он. — Вполне здоровый человек вдруг без причины не умирает. Доктор, правда, вопреки моему мнению, вскрытие произвести не хотел, а между тем есть смутное указание на какую-то молодую женщину, которую видели рано утром в день смерти выходящей крадучись из дома. — И ее не узнали? — перебил я. — Нет… — Тон следователя становился все враждебнее. — Было еще темно. Говорят только все трое видевших ее, что она не из здешних. Один, ночной сторож Петр Измайлов, уверяет что у нее глаза с зеленоватым оттенком. — Это он в темноте заметил?! — улыбнулся я. Следователь повел плечами. — Во всяком случае подозрительное совпадение: ваш двоюродный брат только что собирался жениться и накануне смерти вернулся от невесты… Это была уже явная нелепость. Я хорошо знал Сашеньку Горликову, избранницу сердца бедного Сережи. Это было самое безобидное, веселое существо в мире, пустая смазливая девчонка лет девятнадцати, вечно занятая своими туалетами. Она — и такое ужасное преступление! Полно!.. Но следователь никак не мог отстать от своего наивного подозрения. Я обратился к доктору, сидевшему в зале и с протестующим видом курившему папироску одну за другой. — Вы как объясняете смерть Сергея Григорьевича? Тожеразделяете взгляд г. следователя? Доктор покачал головой, бросил на пол окурок и придавил его сапогом. — Осмотр тела, — ответил он сурово, — не дает никакого ключа к разрешению вопроса. Смерть последовала, вероятно, от остановки деятельности сердца. — Как любая смерть, — заметил я. — А что? Разве случился паралич? — Едва ли… Все органы в самом нормальном положении. — Да, — невольно вырвалось у меня, — особенно теперь, когда сама жизнь прекратилась. Доктор посмотрел на меня с укоризной, как на человека, говорящего о том, понимать чего он не должен, встал, громко харкнул и приказал подать тарантас. — А рана на шее, — спросил я его вслед, — никакого значения не имеет? — Не рана, а простая ссадина, — равнодушно отозвался он уже из передней, — правда, несколько странная по форме: заметны как бы следы укуса. — Да как же вы все это объясняете? — продолжал я настаивать. — Никак… Разве вы думаете, что в науке на все объяснение имеется? — Эх, братец мой, — подумал я, махнув на него рукой, — ты вряд ли что-нибудь сумеешь объяснить на своем веку. Я подошел к покойнику. Он лежал еще на столе, перед которым дьячок гнусливо читал псалтырь. Гроба не успели еще сколотить. В комнате было темно. Тускло горели три восковых свечи в паникадилах. Пламя то и дело вздрагивало, точно от дуновения ветра. Что-то беспокойное, тревожное было в беспорядке комнаты, служившей покойному кабинетом, в опущенных занавесях, в самой трепетной тишине, в которой будто слышалось колыхание чего-то таинственного, неземного. Лицо Сережи было искажено до неузнаваемости. На этом всегда беззаботном лице ужас запечатлелся, ужас перед чем-то страшным, увиденным в последнее мгновение перед смертью; и смерть его согнать не могла. Как ни тяжело мне было, я долго простоял перед усопшим. Никогда так резко не сказывалось во мне ощущение страшной близости черной бездонной ямы, у самого края которой подчас беспечно движется полная радости жизнь. Сережа Алчинский с его звонким смехом, так непонятно, так быстро сраженный неизвестно чем почти накануне женитьбы, — это было такое резкое совпадение противоречий, что я стряхнуть с себя не мог чувство ползучего холодного ужаса. Отвернувшись наконец, я заметил на письменном столе брошенные в беспорядке несколько исписанных листов уже пожелтевшей бумаги. Я узнал почерк Сережи и подобрал листы, оказавшиеся перенумерованными. — Вы обратили внимание на эту рукопись? — спросил я следователя. — Написано как видите, — указал я на пометку, — ровно пять лет назад. — Разумеется, — с ядовитой улыбкой ответил тот, — я все здесь пересмотрел, думая отыскать какие-нибудь указания. — Ну и что же?.. Следователь повел снова плечами. — Это собственноручный рассказ о каком-то довольно пошлом приключении г. Алчинского… Потерял только напрасно время, прочитав… Да и не разберешь, действительное ли событие передано здесь, или приснилось ему все это… Одним словом пустяки… Если вам интересно, прочтите… Вот каково было содержание рукописи:Хочу записать, пока еще свежо воспоминание, как все это случилось. И теперь уж, когда прошло всего несколько дней, эти яркие образы будто начинают тускнеть и дрожать перед моими глазами, точно это был сон какой-то, а не самая живая действительность. Нет, верить не хочу, чтобы мне все это только причудилось: стоит уйти мыслью назад, остановить на одной точке разбегающиеся воспоминания, и снова я отчетливо вижу ее прелестные черты, слышу вкрадчивые звуки ее голоса, такого внятного в своей нежности, чувствую близость ее дыхания, ее пленительного тела. И вот здесь, под ярко-голубым итальянским небом, от которого рассеиваются все призраки, хочу навсегда запечатлеть эти жгучие минуты… На пути из Берлина во Флоренцию я на несколько дней застрял в Мюнхене, где случайно встретил знакомых. Спешить впрочем было незачем: до праздника оставалось еще несколько дней, а ждали меня родные во Флоренции только к самому Рождеству. 21 числа, ровно два дня перед отъездом, мы с двумя приятелями зашли в Пинакотеку. Картинные галереи наводили всегда на меня тоску, но на этот раз я уступил увещаниям друзей и некоторому чувству стыда, что я еще не заглядывал в знаменитый музей, пробыв четыре дня в Баварской столице. Внимание мое было очень скоро отвлечено от произведений немецкой живописи в иную сторону, и любоваться мне пришлось не мертвым полотном, а живым созданием величайшего из художников. В первой же зале мы наткнулись на целое общество дам. Быстрым взглядом я пробежал по их лицам и в восхищении остановился на одном, до того оно резко выделялось из заурядности прочих. Это была совсем еще молоденькая девушка, одетая в синее суконное платье, обвивавшее ее тонкий, упругий стан с какой-то особенно мягкой, изящной лаской. От всей ее стройной фигуры лились точно какие-то лучи очарования, как от чудного цветка, готового раскрыться, чтобы разом вылить на солнечный свет скрытое в нем драгоценное благоухание. В первый миг она показалась мне лишь невинным полуребенком, с молодой нежностью на тонких, не совсем еще определившихся чертах, с туго закрученными, густыми шелковистыми косами, с синими, ярко светившимися главками. Но это было только в первый миг. Она повернулась, сделала два шага в сторону, заговорила… Что за музыка была во всем этом, да именно музыка… Каждое движение у нее было сама гармония. Казалось, что из переполненной чаши жизни что-то струится редкое, чарующее, благовонное. И что это был за голос, и низкий и тонкий в то же время, в котором и нежные звуки эоловой арфы слышались, и тонкая металлическая струна виолончели. Она уже не ребенком мне казалась. Выпрямленный, точно изваянный стан, поворот головки, быстрая краска, набегавшая, когда она говорила, самое дрожание завитков светло-русых волос на шее — все это каким-то сладким шепотом обещало затаенную, еще неизведанную негу, сулило очарование еще нетронутой любви. И странно было: когда она с остальными дамами, звонко стуча по паркету каблучками ботинок, прошла в следующий зал, а я, прикованный, безвольный, последовал туда за нею, глаза наши случайно встретились, и ее чуть-чуть насмешливый шаловливый взгляд остановился на мне, точно понимая, что ее очарование меня сделало уже ее вещью. И тут в синих ее зрачках мне показался уже зеленоватый отлив, какой бывает на иных горных озерах. Да и она тоже, эта едва распустившаяся девушка, походила на такое озеро, прозрачное в тихую погоду, но готовое стать лукавым в своей злобе, как скоро набежит на него из-за угла страстное дыхание бури. Меня подозвал к себе один из бывших со мною приятелей. — Подойдите-ка и полюбуйтесь на эту чудную вещь Хольбейна[2]. А вы так в прошли мимо. Признаюсь, Хольбейн никогда мне не казался чудным. Изможденная, точно высохшая женщина на коленях, которой любовался мой приятель, смотрела скорее мумией, чем живым существом. И, равнодушно похвалив картину, я поспешил вслед за моей незнакомкой. Но, увы, она успела уже исчезнуть. Два дня спустя, уговорив кондуктора меня оставить одного в купе, я катил в курьерском поезде по дороге, ведущей в Италию через Бреннер. Горы все выше, все теснее вырастали с обеих сторон, точно грозя задавить поезд. Я чувствовал себя как в тюрьме, глядя на этих невозмутимых сторожей, вечно хмурых в своей зимней одежде, и меня начинало томить мое одиночество. Вот стены немного раздвинулись, на обоих берегах бешеного Инка, Инспрук показался своими пестрыми домиками, будто старавшимися выползти из своей тесной долины на откосы гор. Я вышел на несколько минут подышать ярким возбуждающим воздухом и выпить чашку кофе. Когда я вошел опять в свой вагон, он уже не был пуст. Уселся в нем высокий худой господин с седевшими черными волосами и с заостренным носом, и вместе с ним две дамы. Одна, старшая, очень на него походила; в другой, к неописанной радости, я узнал свою незнакомку из Пинакотеки. На этот раз она была в сером дорожном платье, и небольшая сумочка, как будто взятая напрокат из обычного костюма гетевской Маргариты, висела у нее сбоку на кожаном поясе. Господин мне вежливо поклонился, извинившись, что должен был ворваться в занятое мною купе, — места другого не было в поезде. — Мы едем до Вероны, — объяснил он. — Вы тоже? — Нет, еще дальше, до Флоренции, — было моим ответом. После такого начала я, разумеется, поспешил вступить с ними в разговор, но господин оказался несловоохотливым. После обмена первых заурядных объяснений он понемногу стал отпускать лишь короткие слова и скоро совсем замолк. Узнал я только, что фамилия его — барон Северович, что имение его на границах Тироля и Карпатов, и в Инспруке он встретился с своими дочерьми, вернувшимися накануне из Мюнхена. Зато старшая его дочь, — ее звали Генриеттой, — оказалась очень разговорчивой. Она рассказывала про их жизнь в родовом замке, про свои путешествия, про дивные виды на верховьях Савы, про Мюнхен и его художественные богатства. Я слушал и скучал, вставляя изредка слово и все время любуясь сидевшей наискось младшей сестрой, так обольстительно грациозной в туго обхватывавшем ее платье, с кончиками узкой ножки, так нетерпеливо дрожавшей на полу вагона. Она упорно хранила молчание, а я, хоть и не робкий по природе, не решался заговорить. Но взгляд ее мне поймать довелось. Из-под длинных черных ресниц вдруг вспыхнули синие зрачки, и опять в них зеленоватый блеск показался. — А мне все эти баварские знаменитости не нравятся, — вдруг заметила она своенравно, и живая улыбка заиграла на ее розовых чертах. — Магда серьезной живописи не любит, — извинилась будто за нее сестра, — и серьезной музыки тоже. «А, ее зовут Магда», — подумал я и взглянул на нее пристально, как бы знакомясь с нею ближе прежнего. — «Как идет к ней это имя…» — Ты на серьезности помешана, — возразила она старшей сестре и, топнув ножкой, слегка качнула головой. — А что такое по-настоящему серьезно? — То, в чем выражается глубокая, чистая идея, — сказала Генриетта. — Глубокая, чистая? — Магда повела плечами и вдруг обратилась в мою сторону. — Помогите мне… Видите, я не умею выразить то, что мне хочется сказать. Я люблю все то… Она запнулась. — Что заставляет вас лишний раз улыбнуться, — ответил я, шутя. Теперь разговорилась и она, подвинувшись немного в мою сторону, так что нам приходилось сидеть почти друг против друга. И в каждом ее слове, — так мне по крайней мере казалось — было что-то иное, недосказанное, что заговаривало в живом блеске ее глаз, что-то сулившее радость или горе, светлую любовь или притаившийся обман, я этого решать не мог: было и то и другое… А зубцы гор на прозрачном бледном небе вырисовывались все мрачнее, все выше, осыпанные снежными крапинками. Мы врезывались все дальше в узкую долину, извилисто выползавшую вверх. Барон и его старшая дочь совсем теперь отстали от разговора, и мне даже почудилось, что качка замедлившегося поезда их погружала в дремоту. — Как чудесно! — вырвалось у меня, когда на повороте дороги вдруг целая толпа альпийских великанов через отверстие крутого обрыва вынырнула предо мной из мглистой дали… Я посмотрел на Магду, как бы ища у нее сочувствия моему восхищению. — Нет, это все не то, — покачала она головой, — не настоящие это горы. Мне хотелось бы в природе чего-нибудь поистине страшного, трагического, в чем бы чувствовалась угроза, и чтобы вдруг с треском рухнуло великолепие этого ужаса. — И задавило бы нас с вами, да? — засмеялся я. Она не ответила и посмотрела только на меня с загадочной, будто насмешливой улыбкой. Над головами нашими, в потолке вагона, тускло зажегся фонарь: мы въезжали в тоннель. Холод и духота разом нас обхватили, если только два эти ощущения могут сливаться в одно. И вдруг среди глубокой холодной тишины я почувствовал прикосновение чего-то к моей ноге, и горячая электрическая струя тотчас пробежала по моему телу. Когда мы выехали из тоннеля, Магда сидела уже прямо против меня, нагнувшись вперед, с устремленными на меня, точно вонзившимися в мое лицо глазами. И опять мне почудилось в них что-то загадочное, насмешливое, почти злое. Мы начинали спускаться. — Откройте пожалуйста окно, — вдруг сказала она повелительно. — Здесь душно. Я исполнил ее приказание и тотчас воздух, ласкающий воздух юга, понесся к нам навстречу. — Ах, как хорошо, — она вся высунулась в окно. — Удивительно право всего несколько минут и разом иная природа… И в жизни так бывает. Не правда ли? — Бывает, — ответил я бессознательно, чувствуя какую-то истому опьянения. — Тоже вдруг повеет теплом. И мы замолчали оба. Вокруг понемногу темнело, но уже темнотой глубокой, страстной итальянской ночи. — А посмотрите, — вдруг шаловливо сказала она, — папа и Генриетта спят. А что, скоро будет станция? Мне бы хотелось выйти, подышать этим воздухом. — Через полчаса Боцен, — ответил я. Было уже почти темно, когда поезд остановился у станции. В далеком безоблачном небе уже загорались звезды. Магда опять взглянула на своих: те не просыпались. — Ну, пойдемте с нами, хотите? — спросила она. Мы вышли. Она широко вдохнула итальянский воздух. — Ах, как хорошо. Здесь у себя, дома; вы знаете, я в Италии родилась. Мне вспомнилась гетевская Миньона[3], если только можно Миньону себе представить светло-русой. Она спросила себе кофе и стоя принялась отпивать из чашки глотками, как-то исподлобья на меня посматривая. Мы разговорились особенно живо, точно что-то нас сблизило вдруг. Да и в зале было почти совсем пусто: должно быть пассажиры уже улеглись. И вдруг звонок. Я бросил наскоро какую-то монету на стол и мы выбежали на платформу, но поезд, дымя и стоная, уже принялся отходить. Мы посмотрели друг на друга, и Магда взглянула меня не только не испуганно, но как-то задорно, весело. — Вот это хорошо, — захлопала она в ладоши, — никак не ожидала. Неловкость ощущал только я. Она спросила по-итальянски какого-то рассыльного, когда проходит следующий поезд в Верону. — В половине шестого утра, — ответил тот. — Ну, что мы будем делать? — спросила она, смеясь. — Хотите, я вам покажу Боцен, я его знаю хорошо. Пойдемте. Полупрозрачные сумерки едва начинали окутывать город, точно прятавшийся тени, пока вершины гор ясно еще обрисовывались на темневшем небе. — Вы словно боитесь чего-то? — посмотрела она на меня смеясь, соскочив с крыльца станции на маленькую площадь. — А вот мне совсем не страшно, забавно напротив. Мы с вами вдвоем до половины шестого утра, ведь это оригинально! — Хотите, я вас доведу до гостиницы, где вы отдохнете? — спросил я, весь сгорая от надежды, что она скажет «нет». И она сказала это «нет» и сказала с таким обворожительным, зазывающим блеском в глазах, что у меня голова закружилась. Перспектива остаться всю ночь с глазу на глаз с юной очаровательницей была так неожиданна, столько сулила и жуткого, и сладостного. А городок с своими пестрыми домами, с тесными улицами, на которых не слышалось звука колес, будто уже отходил ко сну, до того все было тихо и пусто вокруг. Звонко раздавались наши быстрые шаги по каменным плитам. Кое-где старинные, когда-то роскошные дворцы, обвитые плющом, угрюмо стояли, как вечные сторожа, забытые на своих местах. А ночь все густела, все ярче зажигались звезды; тихий воздух разносил благовонное дыхание все еще неотцветших роз. Мы случайно попали будто в иную, далекую, волшебную страну. Да и не знал я в самом деле хорошенько, действительность ли вокруг меня так прекрасна, или все это одно чудесное наваждение, и эта девушка тоже, все еще незнакомка для меня, и все-таки удивительно, непонятно мне близкая. — Вам странно, — заметила она, и голос ее прозвучал в моих ушах совсем иначе, чем прежде, — что мы будто в пустом городе? Дело в том, что приезжие живут не здесь, а по ту сторону реки, в Грисе. Там и мы жили два года назад. И она принялась рассказывать, как было тогда. И хоть это был совсем заурядный рассказ, но по мере того, как мы шли, все загадочнее мне становилась и она сама и наше быстрое сближение. Меня все сильнее тянуло к ней, точно волна, тихая, сладкая, убаюкивающая несла меня куда-то в лелеющих объятиях. А вокруг все чернело, только черные кипарисы кое-где казались еще темнее самой ночи. И вот, когда мы дошли до моста, из-за горных вершин поднялся месяц, и разом все изменилось. Бурная река заиграла серебром, ряд красивых вилл с колонами и широкими окнами ярко выступили из мрака, и Магда тоже, вся облитая месяцем, казалась уже неземным существом, налетевшим откуда-то чистым ангелом или, кто знает, злым, хотя и обаятельным бесенком. Звуки музыки раздались. Огромное здание с мраморными колонами высилось перед нами. — Войдемте, — предложила Магда, — это курзал. Здесь собираются по вечерам. Мы вошли. В широком зале под звуки оркестра пары кружились; закружились и мы. И когда я обвил ее тонкий стан и она послушно последовала за мной, я почувствовал вдруг, что мы как-то уж навсегда, на всю жизнь неразлучны. Мы вышли на террасу, наполненную запахом роз. Обширный сад, дышавший затаенной негой, спускался к реке. Мы долго тут пробыли и не смолкала наша болтовня, то и дело прерываемая ее чистым смехом. Но про что мы говорили тогда, я и вспомнить не могу. Знаю только, что наше дыхание сливалось, кончики ее волос щекотали мне шею и бессознательно жгучее желание овладевало мною все сильнее. Я предложил ей отужинать вместе. Она только кивнула головой, и мы поднялись. И вот, сам не знаю как, мы вдвоем в старинном зале, с богатыми шелковыми обоями, и южная лунная ночь к нам льется в открытые окна. Мне не пришлось не пришлось даже заказывать ужин, накрыли стол, принесли кушанья, и как то это делалось само собою. Все ярче разгорались ее глаза, все чаще звонкий ее смех разливался в ночной тиши. — Какое чудное вино, — сказала она отхлебнув. — Хотите?.. — И она протянула мне свой недопитый стакан. И едва я отведал жгучей влаги, я вдруг понял, к чему стремилось все мое существо. Но я владел собою еще настолько, что принудил себя подняться и сказал хриплым голосом: — Теперь я вас оставлю. Отдохните. Я прикажу, чтобы вас разбудили, когда будет время. Но она тихо качнула головой. — Я не устала совсем. Куда вам идти? И опустив длинные ресницы, она как-то разом упала на широкий диван, и сколько неги, сколько очарования было в позе ее гибкого стана, будто приглашавшей меня остаться. В следующий миг я был у ее ног, покрывая ее всю жадными поцелуями… Не знаю, когда я очнулся, — было еще темно. Губы мои все искали ее губ и не могли насытиться. — Ты моя, моя навеки, — шептал я. — Мы связаны на всю жизнь. — Да, на всю жизнь, — было ее ответом, и какая-то странная, будто недобрая улыбка заиграла на ее розовых губках… А вот мы снова на станции, и слышится уж издали шипение поезда. Мы уселись в пустом купе. — Ну теперь ляг, усни, — сказал я, обнимая ее в последний раз. И она послушно улеглась, и сон мирный, детский, осенил ее почти тотчас же. Я молча любовался ею, такой чистой в своей грешной прелести, но мало-помалу и меня сковывала дремота. А когда я очнулся, яркий день стоял вокруг и никого рядом со мной уже было. Я вскрикнул от изумления. Было уже двенадцать, Верону миновали давно, длинный мост загремел под колесами: мы переезжали По. Стало быть, она тихо, незаметно вышла, чтобы меня не разбудить. Как это странно однако, как разительно странно. И мне померещилось, что вся эта ночь с своими жгучими очарованиями была одно волшебное наваждение и что-то меня унесло далеко-далеко за пределы действительности. Досказывать осталось немного. С матерью я провел праздник, а на следующий же день опрометью летел в Верону отыскивать невесту. Но старания мои были напрасны: никто в Вероне не слыхал про барона Северовича и его дочерей…
На этом кончалась рукопись. На следующий день похоронили бедного Сережу в семейном склепе, рядом с могилой его матери. И необыкновенно холодными, пустыми глядели эти похороны. В церкви не было почти никого. Не приехала и невеста, до которой должно быть дошли какие-то слухи. Весь мир отшатнулся будто от покойника. И обстоятельства смерти так и не были выяснены. Следствие завершилось определением, что скоропостижная кончина коллежского советника Алчинского произошла по неизвестной причине.
С. Ауслендер СТРАШНЫЙ ЖЕНИХ
I
— «Да, да, конечно, Рождество, — это детский праздник, и зажженная елочка невольно напоминает нам наше детство. Далекое, невозвратное, милое детство. Может быть, поэтому испытываешь и такую сладостную печаль…»[4], — задумчиво говорил Андрея Петрович Полозов[5], сидя вместе со своей невестой Олей Пазухиной в ее комнате на маленьком диване, и глядя на сияющие огоньки рождественской елочки, стоящей тут же на круглом столе. Настоящая большая пышно разукрашенная елка стоит в зале. Сегодня загорятся на ней электрические свечи, соберутся гости, будет шумно и весело. Но Оле и Полозову милее их скромная елочка. На ней нет украшений, только серебристые нити дождя и горят простые белые свечки. Эту елку принес Ольге ее жених. Они вместе устроили ей местечко в комнате Ольги, и теперь зажгли ее, для себя, не дожидаясь гостей. Слабо потрескивают свечи, нежный несется аромат. — «Я тоже люблю елку, и тоже испытываю и радость и грусть», — говорит Ольга. Может быть, раньше не думала она об этом, но сейчас искренне верит, что чувствует она одинаково с женихом. Впрочем, всегда в его присутствии нисходит на нее эта сладкая тишина, и успокоение. Такой нежный, слабый и мечтательный он, и такая нежная, сладкая и таинственная вся их любовь. — «Ах!» — нервно вскрикивает Ольга от внезапного стука, прерывая мечты. Котенок Мурка опрокинул флакончик с духами. — «Какая обида, — говорит Ольга, поднимая флакон с пола, и глядя на свет, чтобы узнать много ли успело вытечь. — Какая обида, и как раз те, которые, вы мне подарили. Целая лужа на полу». Ольга прикладывает к ней сперва носовой платок, потом подол платья, и наконец, покрывает оставшееся сырое пятно вышитой подушкой с дивана. Пряный аромат подымается с пола, смешивается с запахом тлеющих веток. Свечи на елке шипят, догорая. Ольга возвращается на диван. Она садится рядом с Полозовым и берет его руку в свои. Ароматная струя подымается от подушки и слегка туманит голову. Надо бы зажечь электричество, свечи догорают и в комнате почти темно, но лень встать, лень двинуться с места. Сладкая истома окутывает тело. Кажется не странным что губы Полозова, всегда такие осторожные и нежные, с неожиданной грубостью раскрывают ее губы. Голова Ольги бессильно опускается на подушку. Ольга хочет крикнуть, хочет вырваться из стального кольца чьих-то рук и не может. Будто тяжелый кошмар давит ее грудь, туманит рассудок. — «Это от духов такой запах» — соображает она, и вдруг чувствует, что кто-то душит ее за шею. С усилием открывает глаза и видит над собой совсем чужое, напряженное, какое-то зловещее лицо Полозова. — «Ах!» — вскрикивает Ольга и летит куда-то в пропасть. Мелькают и гаснут огоньки елочных свечек…II
Елка в этом году удалась на славу. Высокая, пышная, ровня стояла она в углу белого зала и поднимала свою украшенную блестящей звездой верхушку к самому потолку. Гости съехались вовремя, приехали именно те, которых особенно приятно было видеть, а те, которых приглашали по обязанности не приехали вовсе. Родители жениха старики Полозовы были родственно-радушны. Сам жених, несколько бледнее обыкновенного, был очень скромен и мил; словом вечер удался на славу. Несколько тревожила только госпожу Пазухину ее собственная дочь Ольга. Правда, сейчас она казалась веселой и беззаботной счастливой невестой, но этот странный обморок давеча? И она и Полозов объясняли его сильным запахом духов, но мать знала Ольгу за девушку здоровую и сильную, и смущала ее эта внезапная слабость дочери. Немало сама себе удивлялась и Ольга; глядя на жениха, никак не могла вспомнить она так напугавшего ее лица. Да, полно, и было ли это? Вот, он склоняется к ее руке, покорно и робко заглядывает ей в глаза. — «Как вы чувствуете себя, дорогая?» — говорит он. Ольга улыбается ему. Нет, нет, ничего неожиданного не может, не может произойти. — «Какой страшный кошмар», — думает она успокоенная, и спешит к подругам, которых совсем забыла ради жениха. — «Что с тобой случилось, Оля? У тебя был обморок», говорила мама? — спрашивает ее подруга еще со школьного времени Ася Лебедева. Ольга смеется, и они, обнявшись, идут в ее комнату. — «Представь, мне показалось, что Андрей Петрович хочет меня задушить», — говорит она весело. Елка некрасива с обгорелыми свечами. Запах духов еще не развеялся и слабой струей несется навстречу девушкам. Ольга внезапно бледнеет и вздрагивает. Так ясно вспоминается ей весь гнетущий ужас происшедшего. Ася подходит к большому трюмо, — поправляя прическу. — «А может быть, твой Андрей Петрович вампир. Горло сжал, чтобы ты не кричала, а сам кровь вот выпил. Ты сегодня такая бледная», — говорит она шутливо, подводя к зеркалу Ольгу. В стекле отражается висящая на противоположной стене большая фотография Полозова. Ольга смотрит на нее, и вдруг кажется ей, что стоит слегка-слегка сузить глаза, приоткрыть губы, и милое знакомое лицо превратится в то страшное, о котором без дрожи отвращения и ужаса нельзя вспомнить. «Вот он твой вампир», — смеется Ася, тоже глядя на карточку. Ужас охватывает Ольгу. Вот сейчас, сейчас снова полетит она в пропасть, снова потеряет способность бороться, кричать, двигаться. С усилием сбрасывает она сковывающую непонятную тяжесть с души, и выходит из комнаты. В дверях останавливается чтобы отдышаться. Тут все так мило, понятно и не страшно. — «Что с тобой?» — испуганно говорит Ася. И у Аси голос совсем другой, чем когда говорила она «Вот он — твой вампир». А вот, наконец, и Андрей. Милый, любимый, заботливый. — «Что случилось?» — испуганно спрашивает он, «на вас лица нет». Под руку с ним входит она в залу. Ее обступают, расспрашивают. А ей уже смешно своих недавних страхов. Она ласково и успокоительно пожимает руку Андрея, целует свою напуганную мать, улыбается родителям жениха, и, слабая еще, пытается отвлечь и развеселить гостей, устраивая petits-jeux[6] и танцы. А поодаль старики Пазухины стараются объяснить болезненное состояние своей дочери. — «Девушки перед свадьбой всегда нервничают», — говорит госпожа Пазухина. — «Просто неправильный образ жизни, — отвечает отец. — Ни одной ночи вовремя спать не ложится, каждый вечер куда-нибудь в театр, в концерт, в гости. Вот нервы и шалят. Выйдет замуж, жизнь придет в норму и все образуется».III
Несмотря на странное недомогание Ольги, первый день Рождества в доме Пазухиных прошел очень оживленно и гости разошлись поздно. Последним уходил Андрей Полозов. Он долго целовал руку невесты, смотрел робко и нежно ей в глаза, и она, простившись, уже вполне успокоенная вошла в свою комнату. — «Я совсем здорова, мамочка, и вообще, все это глупости. Просплюсь и все пройдет», — говорила она зашедшей проститься с нею перед сном матери. — «Ну, дай Бог, Христос с тобой», — госпожа Пазухина перекрестила дочь и вышла из комнаты. Ольга осталась одна. Оглянулась. Такая знакомая окружала ее комната. Немного неприятно было, что пахнет все теми же духами… — «Какие глупости иногда кажутся», — зевая подумала Ольга, и подошла к зеркалу, убирая на ночь волосы. Прямо на нее из стекла глянул отраженный портрет Полозова. Стало неприятно. Будто стоял кто-то за спиной. Она хотела вглядеться пристальнее. Но лицо расплывалось и меняло очертания. Вот сузились глаза, слегка открылись губы… Усилием воли Ольга отвела взгляд и уже чувствуя нервную дрожь во всем теле, стараясь не глядеть по сторонам, стала раздеваться. Порывисто отстегнула она широкую бархотку с аметистом — (подарок Полозова), которую постоянно носила на шее, и взглянула в зеркало. — «Ах!» — нечеловеческим криком, будто не она, а кто-то помимо ее воли издал этот звук, крикнула Ольга и лишилась сознания. Под черной бархоткой на шее ясно выступали два темных пятна…Г. Чулков УПЫРЬ
А. А. Бел-Конь-Городецкой[7]
1
Получили, наконец, бумагу: Наташу принимают в пансион на казенный счет. Надо было радоваться, но мама заплакала и стала просить папу не отдавать Наташи. Папа сердился. — Но ты пойми, — говорил он с дрожью с голосе: — но ты пойми, что не сегодня-завтра я умру. Что будет с девочкой? Папа говорил правду, но маме казалось, что если около нее не будет этой девочки с мягкими, чуть вьющимися рыжеватыми волосиками, с большими изумленными глазами, с маленькими неокрепшими плечиками, жизнь станет похожа на серую паутину, и нечего будет делать, разве замотаться в паутину и уснуть мертвым сном. Решили написать две записки: «оставить дома», а другую «в пансион». Положили записочки на ночь к образу Николая Чудотворца. Утром Наташа сама вытянула записочку — «в пансион». Она плохо себе представляла пансион и думала только о том, как, должно быть, интересно ехать по железной дороге. Она никогда по ней не ездила. Один раз только, когда встречала дядю, она была на вокзале и видела паровоз — с двумя красными глазами, как у соседнего сенбернара. Но вот, наконец, мама везет девочку в губернский город из их уездного захолустья. Выехали поздно вечером. Из окна ничего не видно; зеленеет только фонарь на линии. Станции пугают гулкими звонками. В вагоне старуха, желтолицая, угощает Наташу конфетами, в глазах у старухи играют огоньки. Рассказывает старая сказку про упыря. Губы у него красный, лицо белое, как будто в муке; приходит по ночам к людям и сосет кровь. Наташа жмется к маме, — и мама сердито смотрит на старуху. — Разве можно детям рассказывать такие вещи. — А что ж вы, сударыня, меня не предупредили? — Да почем же я знала, что вы про такое будете говорить? — Я, сударыня, сразу сказала: упырь. Известное дело, что такое упырь. — Ах, Боже мой! Забыла я, что значит упырь. — Забыли. А вы не забывайте. Может, и вам придется с упырем встретиться. Наташа плачет. — Не плачь, детка моя, — говорит мама: — не плачь. Ложись спать, миленькая. Христос с тобой. Мама крестит Наташу, крестом отгоняет бесовскую силу, красногубых упырей. — Защити, Господи, и помилуй девочку Наташу. Наташа спит наверху. Прямо над головой круглый фонарь в зеленом чепце, как у старухи. И ночью Наташа просыпается и не может понять, кто это смотрит на нее, не та ли старая. А, может быть, сам упырь пришел к девочке. Ах, страшно жить на этом свете, где бродят упыри, белолицые, красногубые, склоняются над нежным телом и пьют алую кровь несытыми устами. И страшно Наташе, и не смеет она закричать, позвать милую маму. На рассвете приезжают в город, — ползет желтый туман по мостовой. Плачется небо на печальную судьбу; по-осеннему приуныли дома и городские сады понуро стоят в туманном утреннике. — Ах, домой бы, домой. Остановились у тетки Серафимы. Она ходит с папироской в зубах. Подошла к буфету, стала доставать чайник и пошатнулась. Дядя жалуется маме, пальцем показывает на тетку Серафиму: — С утра наклюкалась. Наташа не понимает, что значит наклюкалась, но ей страшно от этого слова и жалко тетку. Хочется сказать: — Тетечка, милая, мне тебя жалко: это ничего, что ты наклюкалась. Это ничего. После обеда мама с теткой собирались ехать за покупками, но тетя ложится на диван и засыпает. Она бормочет во сне: — Еду, еду, еду… И шевелит ногами: ей кажется, что она едет. Не все ли равно?2
В пансионе стены выкрашены охрой; везде пахнет карболовой кислотой; коридоры наводят уныние; в актовом зале портреты государей и купца с медалями, покровителя пансиона. Наташа ни во что не верит, — ни в охру, ни в коридоры, ни в портреты. — Ну, прощай, детка. Христос с тобой. На Рождестве возьмем тебя. Будем с тобой на санках кататься. Мама плачет. Швейцар седоусый уносит куда-то Наташину корзиночку. У начальницы черные брови срослись вместе — два мохнатых червяка. Бледноликие девочки в коричневых платьицах смотрят на Наташу невеселыми глазами. Повели новеньких в дортуар. — Кто твой отец? — Мой папа — особых поручений. — А мама? — Не знаю. Мама — мамочка. Тоска у Наташи. В углу собрались девочки, окружили кого-то. — Что там такое? — Зеликман дразнят. — Зачем? — Так. Просто дразнят. Тоска у Наташи. Звонок пугает, как на станции. Загорятся сейчас по линии зеленые огни. Пойдет поезд в чужую даль. Вот идут на молебен. Попарно. Наташа с черноглазой Машуриной. Седенький священник, поблескивая ризой, возглашает. — Благословен Бог наш… Рядом с начальницей стоит бледный господин. Глаза его — как темная ночь, губы — как алая кровь. Неизвестно, зачем он пришел сюда, где юные девушки и малолетние девочки поют нежными голосами тропарь: «Яко посреди учеников Твоих, пришел еси, Спасе…» — Кто это? — спрашивает Наташа Машурину и показывает на красногубого человека. — Упырь, — говорит Машурина и смотрит круглыми глазами. Страшно стало Наташе. Но не может наглядеться на упыря. Ничего не видит; никого не видит; только его. Хор поет: «Предстательство христиан непостыдное…» Вот уж священник читает молитву: — Избави их от всякого налога вражия. Вот уж потянулись белые переднички ко кресту. Молодые полудетские и совсем детские руки, губы невинные, но глаза не всегда безгрешные — перед распятием. Но всех благословляет седенький священник, не любопытствуя, кто предстоит перед святым крестом. — Так вот какой упырь, — думает Наташа. После молебна пошли в столовую завтракать. Машурина съела Наташино пирожное и больно ущипнула Наташину руку. После завтрака — в сад. Бегали, кружились по дорожкам в осеннем багрянце. Кто-то закричал: — Вон доктор идет. Пришел упырь — все притихли. Потом опять стали играть в кошки-мышки. Машурина была кошкой. Ловила Наташу. Поймала, целовала, укусила Наташу за щеку. Классная дама заснула в плетеном кресле. Тогда потащили Зеликман в дальний угол, за беседку. Что-то там с ней делали. Наташе хотелось узнать, что там делали. Девочки смеялись, не говорили. Зеликман вышла красная, с глазами влажными, с исцарапанными руками. И осень больная, влажная, покрасневшая — томилась в саду. И томление осени, и томление девушек — все сочеталось в одной сладостной пытке. И снова хотелось играть в опасную игру — быть мышкой, кошкой — бежать, ловить — крепко держать друг друга за руки в хороводе, — сжимать круг, раздвигать круг, — и петь, и петь, и кружиться в осеннем багрянце. По аллеям ходили, обнявшись, бледные девушки, уставшие от детских игр. Бледные девушки с осенними цветами в руках, в белых пелеринах. Томно сияли глаза их, влюбленные в осень. Классная дама, заснувшая в кресле, склонила седые волосы, уронила вязанье на песок. Мимо нее прошел доктор, прозванный упырем. Прошел тихо, не разбудив престарелой дамы. Бродил Упырь по дорожкам сада. И, встречаясь с ним, в странном смущении краснели девушки и роняли на землю осенние цветы.3
Горит в дортуаре ночная лампадка, и тихо колеблются тени, и тихо бредит осенняя ночь. Наташа не спит на жесткой постели. Прислушивается. Классная дама мерно храпит в соседней комнате. Зеликман лежит недалеко от Наташи и бормочет во сне: — Ах, Боже мой, Боже мой! И что я вам сделала? Что? — И через минуту опять слышно жалобное бормотанье маленькой еврейки: — Ах, мамуся, весь мир на меня, весь мир. Вот что-то пошевелилось около стены. Машурина тихо подымается с постели, идет босая, в рубашке, к соседке. Молча юркнула к ней под одеяло. Прижались две подруги и шепчут что-то друг другу на ухо, смеются едва слышно. Притаили дыхание. Как непонятно молчанье в этой лунной ночи. Жарко натоплено в дортуаре. Душно. Сбросила Наташа одеяло, осталась под одной простыней. В лунном серебре смешались линии ее детского тела. Свернулась Наташа клубочком, как зверек. Ворожит над девочкой полная луна. И думает Наташа о своей судьбе: — Что будет завтра? Как жутко без мамы. А тут еще бродит среди девочек красногубый Упырь. Какое томленье в дортуаре. Утомленные хороводной игрой разметались подруги в своих постелях. Шепчут в лунном бреду: «Лови! Лови!» — что-то напевают. Пылают детские губы. Проскользнули вместе с луною серебристые сны и закружились по дортуару в ночной игре. Забегали беззвучно кошки и мышки. И чудится Наташе, что пришел в дортуар Упырь, ищет девочку, чтобы выпить ее кровь. Бродит Упырь от постели до постели. Остановится, припадет к сердцу и пьет. А девочка стонет, томится, но проснуться не может, — завтра встанет бледная, с темными пятнами под утомленными глазами. Ах, как страшно! — Господи Иисусе Христе, спаси и помилуй девочку Наташу. Наташа крестится и открывает глаза: нет Упыря, ушел, испугался крестного знамения. Наташа засыпает. Снятся ей серые мышки и огромный белый кот. Мяучит кот, высовывая красный язык; ворочает глазами, нагоняя страх на мышиное царство. Бегут мышки с какой-то горы, а за ними кот. Хочет Наташа заступиться за мышек, прикрыть их собой, и видит: кот стал Упырем. Лицо человеческое. Наклоняется над Наташей, но она не боится его, скоро-скоро шепчет молитву своему Христу: — Господи Иисусе, спаси и помилуй девочку Наташу. После двух уроков повели девочек на гимнастику. Одели их в штанишки, показывали, как надо вертеть руками, приседать, притягиваться на трапеции… Тут ходил Упырь, учил девочек вывертываться на кольцах, поддерживал снизу, чтобы не упали, хвалил за старанье, ласково гладил по голове. Потом ушла куда-то классная дама Гусева. — Вы, — говорит — доктор, займитесь малышами, а я поду. Учил Упырь Машурину вертеться на трапеции. Худо его понимала девочка. Взял тогда ее к себе на колени, показывал, как надо делать. Машурина ничего не боится, смеется, говорит: — Щекотно. Заставил ее Упырь вложить в кольца руки и ноги, делать «лягушку». Напрягалось маленькое тело; видна была каждая линия. Спустилась вниз красная. Глаза блестят. На губах виноватая улыбка. Похвалил Упырь Машурину. После звонка завтракали, а потом был урок Закона Божия. Батюшка рассказывал, как напился вином виноградным старый Ной, как посмеялся над ним сын его Хам и как прикрыли наготу отца Иафет и Сим, братья Хама. Батюшка был веселый, вместо напился говорил «наклюкался». И Наташа вспоминала о тете Серафиме и думала: «теперь я знаю, что значит наклюкаться». Шел печальный осенний дождь, и нельзя было гулять в саду. Бродили девочки скучные в скучных коридорах старого пансиона. Машурина рассказывала Наташе разные истории: — В третьем классе есть девочка Лилитова[8]. В лунные ночи она встает во сне с постели и бродит по пансиону. Забирается на рояль и шкаф. Однажды пробралась в гимнастический зал, залезла на трапецию — а сама спит. — Это страшно, — говорит Наташа. — Да, страшно. А то еще рассказывают, что у мадам Гусевой голова по ночам от тела отрывается. Второклассницы видели: лежит Гусева на постели без головы, а голова на туалетном столике рядом с мылом и зубными щетками. — Я боюсь, — говорит Наташа. — Еще бы! И я боюсь. А у нас в подвале, под нашим дортуаром, кости в цепях нашли — человеческие… — А что такое Упырь? — спрашивает Наташа. — А это, кто кровь пьет живую. — А доктор пьет? — Нет. Его только так прозвали, потому что у него губы красные. Он добренький. Молчание. — Скоро нас свидетельствовать будут, — говорит Матурина мечтательно. Дошла очередь и до Наташи. Мадам Гусева повела ее к доктору на третий этаж. — Вот вам — деточка, доктор. Я зайду к вам на большой перемене: у меня сейчас подряд два урока. Страшно почему-то Наташе. Запер доктор дверь. Угощает Наташу конфеткой. Говорит Наташе ласково: — Поди сюда. Я тебя не съем. Вот он поставил Наташу совсем близко. Она чувствует прикосновение колен его. — Ну, расстегни платье. Я выслушаю тебя. — Упырь, — думает Наташа: — Упырь. Алеют губы доктора, бледнеет лицо, и чуть вздрагивают руки. Пахнет дурманными духами от черного сюртука. Душно в комнате от жаркого камина. Шторы спущены, и кажется, что — ночь и что утра не будет никогда. Кажется, всегда суждено так быть вдвоем с алым ртом. Темно в комнате. Только рыжие волосы Наташины поблескивают от огня в камине. — Как тебя зовут, деточка? — Наташей. — У тебя ничего не болит? — Ничего. — А здесь больно? — Нет. — А здесь? — Нет. — Ну, детка, развяжи вот эту тесемочку. Да ты не бойся, я худого не сделаю. Стоит в одной рубашонке Наташа на мягком ковре. Глаза ее влажны и губы слегка дрожат. Розовеет сквозь полотно юная земная жизнь. Вдыхает Упырь алость теплую и желанную. — Ну, ложись, детка — сюда, на диван. Вот тебе и подушка, милая. — Я боюсь, — говорит Наташа: — я боюсь. — Чего ж ты, Наташа, боишься? Я тебе больно не сделаю… И видит Наташа, как темнеют глаза на бледном снежном лице.Г. Чулков МЕРТВЫЙ ЖЕНИХ
Милый друг ее — мертвец…В. Жуковский
I
В то время у нас был свой дом — за Москвой-Рекой, как раз против Шестой Гимназии. Помню старинные траурные ворота из чугуна и черную резную решетку, и гимназистов в серых пальто с большими ранцами. Весною видно было из наших окон, как мальчиков обучают военной гимнастике. Молоденький офицер ходил без пальто по лужам, его свежий весенний голос долетал к нам в открытую форточку. Мне было тогда тринадцать лет, я была влюблена и в офицера, и в гимназистов, и вообщетомилась любовным томлением, и все ждала прекрасного, таинственного жениха. Заглядывала на улице в лица прохожим: не он ли? В церкви чувствовала его тихое дыхание, и слова молитв сочетала с признаниями кому-то неизвестному, кого уже любила. И вот теперь, когда я, кажется, нашла его, с изумлением припоминаю жизнь мою, полную ожидания, тоски и падений. Брату, который умер теперь, было тогда девятнадцать лет. И к нему ходили товарищи-студенты, первокурсники. Бывал один белокурый юноша, по фамилии Новицкий. Вот в него я и влюбилась. Это был смешной роман. По целым вечерам просиживали мы с ним за игрою в шахматы, в безмолвии, млея от сладостной влюбленности. Единственной нашей печалью был брат мой. Он возненавидел почему-то бедного Новицкого. Если брат входил в комнату, где мы играли в шахматы, он делал гримасу и говорил скучным голосом: — Здесь пахнет керосином. Это от вас, Новицкий? Эта глупая шутка приводила в отчаяние и меня, и Новицкого, но нелепость повторялась изо дня в день, как заведенные часы. Однажды в июле месяце Новицкий приехал к нам на дачу в Кусково. Я пошла с ним гулять в Шереметьевский сад. Там застал нас дождь, чудесный летний дождь в предвечернем солнце. Мы побежали с Новицким в закрытую стриженую аллею и сели на старой чугунной скамейке около статуи Афродиты с отбитым носом. Я посмотрела на мягкие волосы Новицкого, на нежную золотистую бородку его — и сердце мое наполнилось чем-то пьяным, как вино: — Я люблю вас, — пробормотала я неожиданно для себя. И вдруг, вскочив на скамейку, потому что Новицкий от смущения поднялся с нее, я обняла его за шею и поцеловала прямо в губы и в усы, влажные от дождя. Когда мы возвращались домой, солнце уже закатилось. Мы вошли на террасу смущенные, и было явно, что с нами что-то случилось. На этот раз брат ничего не говорил про керосин. И я была ему благодарна за это — и, когда я увидела его печальные глаза и под ними тяжелые синие круги, мне стало его невыразимо жалко и жалко себя, и Новицкого. И я побежала к себе в комнату плакать. Роман мой с Новицким ничем не кончился. Начались иные любовные печали. По ночам, в одиночестве, припав грудью к подушке и закрыв глаза, мечтала я о неземном, и чудился порой серебристый шелест и шорох, и шепот, и в ногах была пьяная истома. Выучила я наизусть «Демона», и на молитве, стоя на коленях, оглядывалась, нет ли его за спиной. Открылась на исповеди попу. Выговаривал строго, и от его сухих слов было скучно. И было противно, что от батюшки пахнет табаком. Когда он накрыл мне голову епитрахилью и читал молитву, от нетерпения я топталась на месте: хотелось выйти поскорее на улицу, ступить на предпасхальную землю, подышать апрелем. Фигура у меня была тогда нескладная, руки казались длинными, но уже к зиме, когда мне исполнилось пятнадцать лет, я вся подобралась, насторожилась и стала похожа на барышню. По субботам бывали у нас журфиксы, и я сразу была влюблена в двух-трех. Всем улыбалась и всем позволяла жать себе руку и говорить о любви, но тайно мечтала об ином, не умея назвать имени, не понимая, что творится в сердце. Отцу моему было тогда пятьдесят два года. Вечно он сидел за своим письменным столом и писал «Словарь юридических наук». И все расширял его, и казалось, что не будет этому словарю конца. По стенам стояли полки с карточками в алфавитном порядке. Иногда отец, не вставая с кресла, кричал мне в гостиную. — Ольга! Достань мне А-приму. А иногда еще короче: — Ольга! Зеленую, длинную. Я подавала длинную коробку с алфавитными карточками и при этом испытывала нежность к отцовской лысине и розоватой старческой шее. А мать моя тосковала предсмертно: она пила дигиталис[9], и по ночам с ней случались сердечные припадки. Заслышав в ее спальне шорох, я вскакивала в одной сорочке и шла к ней, наливая дрожащими руками лекарство; набросив капот матери, бежала в буфет будить прислугу; приносили лед из кухни. Я стояла на коленях перед постелью, бормоча жалкие, ненужные утешения. — Мамочка, мамочка! это ничего. Ничего… — Надо молиться, — думала я; — надо молиться. И я смотрела на розовую лампаду, повторяя безмолвно одно слово, неизвестно к кому обращенное: — Пощади. Пощади. Пощади. Но мать умерла. А через месяц после смерти я пришла к отцу и сказала: — Хочу поступить на драматические курсы. Отец уронил очки, и я заметила, что он плачет, но на курсы все таки поступила. Я читала громко гекзаметры, делала шведскую гимнастику и слушала закулисные сплетни. Со многими учениками я была на «ты» и уже умела пить вино и ликеры. В это время к нам стал ходить Борис Андреевич Полевой. Самое поразительное в лице его был взгляд, глаза. Огромные, с расширенными зрачками, с темными, как будто в гриме, кругами, они казались таинственными лампадами, особенно, когда внезапно загорались в них красные огни. Он был рассеян и молчалив. Сядет, бывало, за рояль, сыграет не слитком искусно, но всегда уверенно и страстно какую-нибудь мрачную сонату; молча встанет, посмотрит на меня печальными глазами и, не прощаясь, уйдет. Однажды я сказала ему: — Борис Андреевич! Зачем вы ходите к нам? Ведь, у нас в доме скучно, неинтересно, пусто. Тогда он взял меня за руку и тихо сказал: — Я люблю вас. Помню, у меня голова закружилась и стало страшно, но я поборола в себе смущение и засмеялась. — Вы демон, — сказала я. Но он не смеялся. — Ах, нет! Не шутите, Ольга Сергеевна. Не шутите, прошу вас. — Дорогой Борис Андреевич, я не могу понять вас. Как вы можете так сразу? Так неожиданно? Мы стояли около рояли. Я взглянула на паркет, и мне показалось, что мы с Борисом Андреевичем стоим на зеркале, на стекле, а там, внизу, жуткий провал. Я стала нескладно рассказывать ему об этом. И он внимательно слушал, невольно пугая меня своими ужасными глазами. Потом он целовал мои руки и нежно шептал: — Невеста моя. На другой день я сказала отцу: — Полевой сделал мне предложение. Ты что скажешь? Но отец заткнул уши руками, шея у него надулась и покраснела, и он забормотал: — Не хочу, не хочу… Я не стала спорить, но Полевой бывал у нас каждый день. Мы вместе ходили на каток, в театр, а весной вместе говели. Полевой был верующий, и когда он стоял в церкви, и его рыжие волосы при свете мерцающих свечей казались золотыми, мне хотелось думать, что он святой, подвижник, проповедник. На свиданиях он рассказывал мне о загробном мире так, как будто он сам был там, и я громко смеялась и просила его проводить меня в Охотничий Клуб на вечер. С опечаленным лицом он ехал со мной в клуб; я без конца танцевала со студентами и офицерами, а он стоял у дверей, в толпе, покорно ожидая, когда я взгляну на него, и мне было приятно мучить этого большого человека с ужасными глазами. Однажды, когда он провожал меня на извозчике — это было зимой, в оттепель — я обернулась к нему и со смехом сказала: — Ну, целуйте же меня. Целуйте. Он обнял меня и прижал свои губы к моим губам, и от этого поцелуя я опьянела и поникла. Полевой умолял меня выйти за него замуж, но я все медлила и мне было досадно, что он так спешит с этим сватовством, которое казалось мне прозаическим и ненужным. А во мне рождались предчувствия грешной, темной, телесной страсти, и по ночам мне снились странные сны. Часто снился и Полевой, но какой-то изменившийся. Лица его я не видела, но чувствовала себя в его объятиях, слышала его дыхание около своего уха, и как будто касалась своей грудью его сильной и волосатой груди. Но наяву Полевой не ласкал меня, не целовал, не искал сближений, и я оскорблялась его холодностью. Однажды я, после концерта, поехала домой не с ним, а с художником Блаватским. Он все шутил и каламбурил; шутя привез меня в Эрмитаж[10], шутя целовал мои ноги — и мне не было с ним страшно, и я была уверена, что он не перейдет известной границы, известного предела. Почему-то я была упорна в этом желании — сохранить свое девичество — зачем, Бог знает… Я обо всем рассказала Полевому, и он ползал на коленях передо мною и о чем-то умолял и плакал. Но я смеялась: мне были приятны его мучения.II
Однажды Полевой пришел ко мне и сказал: — Прощай, Ольга. Я уезжаю к себе на дачу, в Крым: доктора сказали, что у меня туберкулез легких. Я заволновалась, пошла к отцу, объявила ему, что Полевой мой жених, и поехала с Полевым в Ялту, бросив курсы. В Ялте все нас считали за мужа и жену, но это была неправда. И я, такая чувственная, с Полевым не хотела и не могла сблизиться, хотя — видит Бог — любила его. Однажды мы пошли на музыку, в городской сад, и случайно встретили художника Блаватского. Воспользовавшись минутами, когда Полевой пошел пить сельтерскую воду, Блаватский с грустью посмотрел на меня и сказал: — Он похудел; губы совсем неживые; он скоро умрет. Зачем вы, молодая, здоровая, красивая, связали свою жизнь с этим человеком, обреченным на гибель? — Я думаю, что я люблю его, — сказала я нерешительно без надежды, что Блаватский поймет любовь мою: — я думаю, что люблю. Иногда этот человек представляется мне желанным и нужным, иногда таинственным и страшным, но всегда я чувствую, что души наши связаны навек, и нет силы, которая могла бы расторгнуть эту связь и даже смерть не разлучит нас. — Это все фантазия, — сказал Блаватский: — вы принимаете жизнь как-то мрачно. Надо улыбаться, мой друг. А это вечное напоминание о смерти может свести с ума. Кстати: что такое Полевой? Чем он занимается? — Сейчас он ничего не делает; он богат. А по специальности своей он химик. У него есть работы, которые известны в ученом мире. — Вот чего никак не предполагал. И как это странно, что человек, изучивший естественные науки, верит в спиритизм и во всякую чертовщину. — Это неправда, — сказала я, негодуя на себя за то, что приходится унижаться до спора с этим Блаватским: — это неправда: Полевой не интересуется спиритизмом. — Вот я, Ольга Сергеевна, художник, но скажу вам прямо: всякий мистицизм мне подозрителен и враждебен. Я пишу картину, потому что мне приятно то или иное сочетание красок, но при чем тут тайна, когда я знаю оптику глаза и всю эту нервную механику? Дорогая моя, Ольга Сергеевна, все эти настроения вашего Полевого результаты болезненного переутомления. Готов держать пари, что ваши отношения остаются платоническими. Я покраснела от досады и сказала грубо и холодно: — Вы просто глупы, господин художник. Потом мы втроем пошли в ресторан ужинать. Сидели на террасе и смотрели на море. Разноцветные огни горели на мачтах. Серебристо-лунная полоса пенилась вдоль бухты. Хотелось отправиться в далекое плавание, встретить совсем новых, совсем неизвестных людей, влюбиться по-настоящему в чьи-то глаза, которые мелькнут в ночи. — Вот вы пишете картины, — сказал Полевой, обращаясь к Блаватскому: — публика считает вас декадентом. В ваших картинах неясны темы и рисунок совсем неправильный. Но не в этом дело: мне нравятся все эти ваши красочные предчувствия, если так можно выразиться. Но сегодня — предчувствие, и завтра — предчувствие. А когда же, позвольте спросить, будет дело, действие, поступки? Блаватский добродушно засмеялся: — А почем я знаю? Думаю, что никогда. — Никогда. Но, ведь, мы умрем. Поймите это. Мы умрем, и было бы нелепо думать, что наше существование будет исчерпано этими обрывками переживаний, которые вы, художники, успеваете кое-как запечатлеть в красках, а мы, простые смертные, сжигаем бесцельно — и если что остается, так это пепел любви, милый прах… Но Блаватский перебил его: — И вы, и Ольга Сергеевна смотрите на все слишком трагически. Простите меня, но в этом есть что-то нескромное. Все мы живем постыдно, да и не живем в сущности, а кое-как доживаем, умираем, и вы приходите с вашими строгими и жестокими глазами и требуете от нас чего-то. Но что вы сами можете нам дать? Может быть, я не хуже вас понимаю весь ужас и всю пустоту нашего существования, но я скромно молчу, потому что не дано мне «глаголом жечь сердца людей». А если нет в нас пророческого дара и нет силы, чтобы позвать всех на общую молитву, тогда уж лучше молчать, пить вино, вдыхать эфир, писать картинки, приятные для глаз. — Вино, эфир, картинки — это не так важно, — сказала я, улыбаясь: — а вот молчание я умею ценить. Поедемте в море и будем молчать. Но поездка в море не устроилась. Борис Андреевич раскашлялся и пришлось идти домой. Блаватский нас провожал. И при прощании задержал мою руку в своей руке дольше, чем следовало. Так мне, по крайней мере, показалось.III
— Посиди со мной немного. Мне жутко, — сказал Борис Андреевич, когда мы пришли домой. В комнате у него всегда пахло креозотом; и от высоких полок, наполненных книгами, и от столика с лабораторными склянками веяло ученым и холодным. И было странно видеть здесь киот со старинными образами и лампады перед распятием. Мы уселись друг против друга в плетеных креслах. Он грустно посмотрел на меня и сказал: — Меня волновал этот разговор с Блаватским. Тебе не кажется, Оля, что жить так, как мы живем, нельзя, что все надо изменить, чем-то пожертвовать и что-то полюбить? — Да, да, конечно. Но как? Как? — Мне кажется, что мы приходим в мир, чтобы узнать нечто. Но мы ленивы и косны, и жизнь проходит зря, немудро. Когда я подумаю о днях, в которых, как в плену, я томился, меня охватывает отчаяние. Что было настоящего в моей жизни? Ничего, кроме моей любви к тебе. Он хотел подняться, приблизиться и, как мне показалось, стать передо мной на колени, но его начал душить кашель, и он беспомощно опустился в кресло. Мне стало его невыразимо жалко, и я горько заплакала, как маленькая девочка. — Это ничего. Это ничего, — бормотал он и с ужасом смотрел на пятна крови. — Милая Ольга! Мы не жили с тобой, как муж и жена, и теперь уже поздно мечтать об этом счастье. Но я верю, что брак наш заключен навсегда, и никто его не расторгнет. — Но я недостойна тебя. Слышишь? Недостойна. И не говори мне о браке. — Это неправда. Я умираю, и я чувствую, что нам надо вместе узнать что-то. Вместе легче узнать; ни ты, ни я не узнаем в одиночестве важного и значительного, что скрыто от нас теперь. Чтобы узнать, надо вместе полюбить. И тогда уже не будет слепоты и не будет этой жестокой боли. Он опять раскашлялся. Мы сидели полчаса в молчании, а потом я ушла к себе в комнату. На другой день он уже не мог встать с постели. Его лихорадило. И глаза его стали темнее и глубже. Прошло три недели, и вот дом наш посетила смерть. Еще сердце билось в груди Бориса Андреевича; еще глаза видели солнце, и руки чувствовали, когда я прикасалась к ним, но уже не было у него той связи с миром, в какой всегда пребываем мы — живые. И странно: он, верующий христианин, не звал священника, не стал причащаться, хотя он ясно сознавал, что смерть стучится к нему в сердце. И необычайная строгость была на лице его. Он почти не говорил, ничего не читал и, тихо сгорая в лихорадке, смотрел сосредоточенно прямо перед собой, и мне казалось, что он видел то, чего я не видела… Иногда заходил Блаватский и, когда я говорила ему, что Борис Андреевич умирает, у него на лице появлялась неумная боязливая гримаса, как будто кто-нибудь угрожал ему хлыстом. Умер Борис Андреевич в ночь с воскресенья на понедельник — числа не помню. Было это в конце июля. Ровно в два часа я проснулась: мне почудилось, что кто-то провел у меня рукой по лицу. Я вскочила полуодетая, как бывало приходилось мне вскакивать, когда случались припадки у моей покойной матери, и бросилась в комнату Бориса Андреевича. Он был мертв. Я почувствовала это, не коснувшись его: такая была тишина в комнате. Тогда я пронзительно закричала, но никто не откликнулся на мой крик. В кухне никого не было: прислуга ушла. Накинув на себя кое-как платье, я бросилась без верхней кофточки на улицу; широко распахнула двери и не захлопнула их. Я бежала, как безумная, по набережной к дому Блаватского без шляпы, ломая руки, в ужасе. Я звонила и стучала, хотя в окнах у Блаватского не видно было огня, и он медлил отпирать: должно быть, одевался. И когда, наконец, он впустил меня, я не знала, что ему сказать, и заметалась по комнате, натыкаясь на стулья и бормоча непонятные слова: — Смерть, смерть, смерть… После похорон Бориса Андреевича я осталась в Крыму, переехала только за город на дачу — поменьше, и все чего-то ждала, никуда не выходила из дому, и ко мне ходил один только Блаватский. Сначала я была в каком-то странном оцепенении, похожем на сон: не верила, что Борис Андреевич умер, не понимала, что это значит, и даже не было в сердце настоящей печали. И только однажды, когда ко мне пришел Блаватский и уговорил идти на берег — смотреть солнце после бури, которая перед тем шесть часов бушевала на море, я внезапно очнулась от своего глухонемого сна. Мы сидели на камнях. Пахло солью и рыбою, и далеко вокруг нас берег был влажен, и везде были разбросаны водоросли, раковины и почерневшие доски, выброшенные морем. Мимо нас прошла с громким плачем старуха. За ней бежала кудрявая девочка, едва поспевая на маленьких босых ножонках, запачканных землею. — О чем плачет старуха? — спросила я Блаватского. — Кажется, это рыбачка. После бури лодки еще не возвращались. Говорят, погибли. Я посмотрела на горизонт, над которым висела золотая сетка дальнего дождя, и вспомнила, что я молода, что смерть, может быть, далеко от меня. Во мне проснулась животная любовь к себе, и не было жалко никого — ни старухи, ни Бориса Андреевича, ни брошенного мною отца, ни брата, который сделался горьким пьяницей, если верить отцовским письмам. Я встала с камней и громко засмеялась, и мне показалось тогда, что Блаватский смотрит на меня с изумлением. Потом мы пошли ко мне обедать, а после обеда играли в шахматы партию за партией — и я плакала всякий раз, как проигрывала; а если выигрывала, мне казалось, что Блаватский мне нарочно уступает, и тогда я колола ему руку длинной булавкой. И меня радовали капли крови. Через неделю мы поехали в Кореиз и остановились в пансионе госпожи Губерт. Теперь все считали моим любовником Блаватского, хотя и ему я не отдавалась до конца, но отношения наши были близки, очень близки… И вот однажды ночью, когда совсем пьяная луна накренилась над землей и сильно пахло розами, Блаватский долго целовал мои ноги и, наконец, утомленный поцелуями, пытался овладеть мной. В последнее мгновение я все-таки выскользнула из его объятий, но странное, жуткое и сладостное чувство покрыло меня, как сеткой, и я одна, без любовника, забилась в любовной дрожи. Через две недели я пошла за советом к госпоже Губерт, которая оказалась акушеркой, и она мне объяснила, что я беременна. — Но я девушка, — сказала я. — О, это бывает, — засмеялась зловещая старуха, и дала мне прочесть медицинскую книжку, где подобные случаи цинично описывал какой-то немец-профессор. Я рассказала об этом Блаватскому. Он предложил мне обвенчаться. Мы так и сделали там же, в Кореизе, а после свадьбы я одна уехала домой, в Москву, к отцу. Весною я родила мальчика, но роды были неблагополучны: мальчик умер, а я тяжко заболела: впоследствии мне объяснили, что у меня была эклампсия[11], а потом психическая болезнь, и меня поместили в клинику. Теперь я душевно здорова, но что-то изменилось во мне. И хочется рассказать об этом, но мучительно и трудно рассказывать. А надо, знаю, что надо. Говорят, после родов был час, когда все думали, что я уже не жива, и меня покрыли простыней, и гробовщик в кухне торговался с нашей экономкой. Я думаю, что то была правда, что я воистину была мертва, но Бог дал мне снова жизнь, чтобы я открыла людям одну из великих тайн. Но силы мои слабы, а тайна моя несказанна. Как передам людям мое знание? Вот я сижу иногда и вокруг живые люди смеются, говорят и пожимают друг другу руки, а я чувствую, как отделяюсь от себя, от той Ольги Сергеевны, которую вы видите, и смотрю на все со стороны и знаю свою правду о ваших словах, взглядах и жестах. Боже мой, Боже мой! Мы так близки к истине, так свободны, но по своей великой косности и лени и боязливости живем и умираем постыдно. И нет вокруг меня людей, которые захотели бы приблизиться ко мне и узнать истину, а без их воли я ничего не могу открыть. Но все же не одна я: со мною Борис Андреевич, и ночью, когда все тихо и вольно, я чувствую его. Но пока о свиданиях моих с ним я не могу, не смею рассказать.Ф. Сологуб ДАМА В УЗАХ Легенда белой ночи
Н. И. Бутковской[12]У одного московского мецената (говорят, что меценаты водятся теперь только в Москве) есть великолепная картинная галерея, которая после смерти владельца перейдет в собственность города, а пока мало еще кому ведома и труднодоступна. В этой галерее висит превосходно написанная, странная по содержанию картина малопрославленного, хотя и весьма талантливого русского художника. В каталоге картина обозначена названием «Легенда белой ночи». Картина изображает сидящую на скамейке в едва только распускающемся по весне саду молодую даму в изысканно-простом черном платье, в черной широкополой шляпе с белым пером. Лицо дамы прекрасно, и выражение его загадочно. В неверном, очарованном свете белой ночи, который восхитительно передан художником, кажется порою, что улыбка дамы радостна; иногда же кажется эта улыбка бледною гримасою страха и отчаяния. Рук не видно, — они заложены за спину, и по тому, как дама, держит плечи, можно подумать, что руки ее связаны. Стопы ее ног обнажены. Они очень красивы. На них видны золотые браслеты, скованные недлинною золотою цепочкою. Это сочетание черного платья и белых необутых ног красиво, но странно. Эта картина написана несколько лет тому назад, после странной белой ночи, проведенной ее автором, молодым живописцем Андреем Павловичем Крагаевым, у изображенной на картине дамы, Ирины Владимировны Омежиной, на ее даче близ Петербурга. Это было в конце мая. День был теплый и очаровательно-ясный. Утром, то есть в ту пору, когда рабочий люд собирается обедать, Крагаева позвали к телефону. Знакомый голос молодой дамы говорил ему: — Это — я, Омежина. Андрей Павлович, сегодня ночью вы свободны? Я жду вас к себе на дачу ровно в два часа ночи. — Да, Ирина Владимировна, благодарю, — начал было Крагаев. Но Омежина перебила его. — Итак, я вас жду. Ровно в два часа. И тотчас же повесила трубку. Голос Омежиной был необычайно холоден и ровен, каким бывает голос человека, готовящегося к чему-то значительному. Это, а также и краткость разговора немало удивили Крагаева. Он уже привык к тому, что разговор по телефону, и особенно с дамою, бывает всегда продолжителен. Ирина Владимировна, конечно, не составляла в этом отношении исключения. Сказать несколько слов и повесить трубку — это было неожиданно и ново и возбуждало любопытство. Крагаев решился быть аккуратным и не опаздывать. Он заблаговременно заказал автомобиль, — своего еще не было. Крагаев был довольно хорошо, хотя и не особенно близко, знаком с Омежиной. Она была вдова богатого помещика, умершего внезапно за несколько лет до этой весны. Она и сама имела независимое состояние. Дача, куда она приглашала Крагаева, была ее собственная. О ее жизни с мужем ходили в свое время странные слухи. Говорили, что он часто и жестоко бьет ее. Дивились тому, что она, женщина состоятельная, терпит это и не оставляет его. Детей у них не было. Говорили, что Омежин и неспособен иметь детей. И это еще более казалось всем странным, — зачем же она с ним живет? Часы Крагаева показывали ровно два часа, и уже становилось совсем светло, когда его автомобиль, замедляя ход, приближался к ограде загородного дома Омежиной, где ему приходилось бывать несколько раз прошлым летом. Крагаев чувствовал странное волнение. «Будет еще кто-нибудь или только я один зван? — думал он. — Приятнее быть наедине с милою дамою в эту очаровательную ночь. Разве и зимою не надоели достаточно все эти люди!» У ворот не видно было ни одного экипажа. Было совсем тихо в темном саду. Окна дома были не освещены. — Ждать? — спросил шофер. — Не надо, — решительно сказал Крагаев и расплатился. Калитка у темных ворот была немного приоткрыта. Крагаев вошел и закрыл за собою калитку. Оглянулся почему-то, — увидел в калитке ключ и, повинуясь какому-то неясному предчувствию, замкнул калитку. Тихо шел он по песочным дорожкам к дому. От реки тянуло прохладою, кое-где в кустах слабо и неуверенно чирикали первые ранние птички. Вдруг знакомый голос, опять, как утром, странно ровный и холодный, окликнул его. — Я здесь, Андрей Павлович, — говорила Омежина. Крагаев повернул в ту сторону, откуда слышался голос, и на скамейке перед куртиною увидел хозяйку. Она сидела и улыбалась, глядя на него. Одета она была точь-в-точь так, как он потом изобразил ее на картине: то же черное платье, изысканно простое покроем, никаких украшений; та же черная шляпа с широкими полями и с белым пером; так же руки заложены были за спину и казались связанными; так же, спокойные на желтом сыроватом песке дорожки, видны были белые ноги, и на них, охватывая тонкие щиколотки, слабо поблескивало золото двух скованных золотою цепью браслетов. Омежина улыбалась тою же неопределенною улыбкою, которую потом Крагаев перенес на портрет, и говорила ему: — Здравствуйте, Андрей Павлович. Я почему-то была уверена, что вы непременно придете в назначенный час. Простите, я не могу подать вам руки, — мои руки крепко связаны. Заметив движение Крагаева, она засмеялась невесело и сказала: — Нет, не беспокойтесь, — не надо развязывать. Так надо. Так он хочет. Нынче опять его ночь. Сядьте здесь, рядом со мною. — Кто он, Ирина Владимировна? — с удивлением, но осторожно спросил Крагаев, садясь рядом с Омежиной. — Он, мой муж, — спокойно отвечала она. — Сегодня годовщина его смерти. В этот самый час он умер, — и каждый год в эту ночь и в этот час я опять отдаю себя в его власть. Каждый год он выбирает того, в кого входит его душа. Он приходит ко мне и мучит меня несколько часов. Пока не устанет. Потом уходит, — и я свободна до будущего года. На этот год он избрал вас. Я вижу, вы удивлены. Вы готовы думать, что я — сумасшедшая. — Помилуйте, Ирина Владимировна, — начал было Крагаев. Омежина остановила его легким движением головы и сказала: — Нет, это — не безумие. Послушайте, я вам все расскажу, и вы меня поймете. Не может быть, чтобы вы, такой чуткий и отзывчивый человек, такой прекрасный и тонкий художник, не поняли меня. Когда человеку говорят, что он — тонкий и чуткий человек, то он, конечно, готов понять все что угодно. И Крагаев почувствовал себя начинающим понимать душевное состояние молодой женщины. Следовало бы поцеловать, в знак сочувствия, ее руку, и Крагаев с удовольствием поднес бы к своим губам тонкую, маленькую ручку Омежиной. Но так как сделать это было неудобно, то он ограничился тем, что пожал локоть ее руки. Омежина ответила ему благодарным наклонением головы. Улыбаясь странно и неверно, так что нельзя было понять, весело ли ей очень или хочется плакать, она говорила: — Мой муж был слабый, злой человек. Не понимаю теперь, почему, за что я его любила, почему не уходила от него. Сначала робко, потом все откровеннее и злее с каждым годом он мучил меня. Все виды мучений он разнообразил, чтобы терзать меня, но скоро он остановился на одной, самой простой и обыкновенной муке. Не понимаю, почему я все это терпела. И тогда не понимала, и теперь не понимаю. Может быть, ждала чего-то. Как бы то ни было, я была перед ним, слабым и злым, как покорная раба. И Омежина спокойно и подробно стала рассказывать Крагаеву, как мучил ее муж. Говорила, как о ком-то чужом, словно не она претерпела все эти мучительства и издевательства. С жалостью и с негодованием слушал ее Крагаев, но так тих и ровен был ее голос и такая злая зараза дышала в нем, что вдруг Крагаев почувствовал в себе дикое желание повергнуть ее на землю и бить ее, как бил ее муж. Чем дольше она говорила, чем больше узнавал он подробностей этого злого мучительства, тем яснее он чувствовал и в себе это возрастающее злое желание. Сначала ему казалось, что говорит в нем досада на ту бесстыдную откровенность, с которою она передавала ему свою мучительную повесть, — что это ее тихий, почти невинный цинизм вызывает в нем дикое желание. Но скоро он понял, что это злобное чувство имеет более глубокую причину. Или уж и в самом деле не душа ли покойного воплощалась в нем, изуродованная душа злого, слабого мучителя? Он ужаснулся, но скоро почувствовал, как в душе его умирает этот мгновенно-острый ужас, как все повелительнее разгорается в душе похоть к мучительству, злая и мелкая отрава. Омежина говорила: — Все это я терпела. И ни разу никому не пожаловалась. И даже в душе не роптала. Но был день весною, когда я была так же слаба, как и он. В душу мою вошло желание его смерти. Были ли очень мучительны те побои, которые он мне тогда наносил, весна ли с этими призрачными белыми ночами так на меня действовала, — не знаю, откуда в меня вошло это желание. Так странно! Я никогда не была ни злою, ни слабою. Несколько дней я томилась этим подлым желанием. Я ночью садилась у окна, смотрела в тихий, неясный свет городской северной ночи, с тоскою и со злостью сжимала свои руки и думала настойчиво и зло: «Умри, проклятый, умри!» И случилось так, что он вдруг умер, вот в этот самый день, ровно в два часа ночи. Но я не убила его. О, не думайте, что я убила его! — Помилуйте, я не думаю этого, — сказал Крагаев, но голос его звучал почти сердито. — Он умер сам, — продолжала Омежина. — Или, может быть, силою моего злого желания я свела его в могилу? Может быть, так могущественна бывает иногда воля человека? Не знаю. Но я не чувствовала раскаяния. Совесть моя была совершенно спокойна. И так продолжалось до следующей весны. Весною чем яснее становились ночи, тем хуже было мне. Тоска томила меня все сильнее и сильнее. Наконец, в ночь его смерти он пришел ко мне и мучил меня долго. — А, пришел! — с внезапным злорадством сказал Крагаев. — Вы, конечно, понимаете, — говорила Омежина, — что это был не покойник, пришедший с кладбища. Для таких проделок он был все ж таки слишком благовоспитанный и городской человек. Он сумел устроиться иначе. Он овладел волею и душою того, кто, как вы теперь, пришел ко мне в эту ночь, кто мучил меня жестоко и долго. Когда он ушел и оставил меня изнемогшею от мук, я плакала, как избитая девчонка. Но душа моя была спокойна, и я опять не думала о нем до следующей весны. И вот каждый год, когда наступают белые ночи, тоска начинает томить меня, а в ночь его смерти приходит ко мне мучитель мой. — Каждый год? — задыхающимся от злости или от волнения голосом спросил Крагаев. — Каждый год, — говорила Омежина, — бывает кто-нибудь, кто приходит ко мне в этот час, и каждый раз словно душа моего мужа вселяется в моего случайного мучителя. Потом, после мучительной ночи, тоска моя проходит, и я возвращаюсь в мир живых. Так было каждый год. В этот год он захотел, чтобы это были вы. Он захотел, чтобы я ждала вас здесь, в этом саду, в этой одежде, со связанными руками, босая. И вот я послушна его воле. Я сижу и жду. Она смотрела на Крагаева, и на лице ее было то сложное выражение, которое он потом с таким искусством перенес на свою картину. Крагаев как-то слишком поспешно встал. Лицо его стало очень бледным. Чувствуя в себе страшную злобу, он схватил Омежину за плечо и диким, хриплым голосом, сам не узнавая его звука, крикнул: — Так было каждый год, и нынче с тобою будет не иначе. Иди! Омежина встала и заплакала. Крагаев, сжимая ее плечо, повлек ее к дому. Она покорно шла за ним, дрожа от холода и от сырости песчинок под нагими стопами, торопясь и спотыкаясь, больно на каждом шагу ощущая подергивание золотой цепи и толчки золотых браслетов. И так вошли они в дом.
Ф. Сологуб КРАСНОГУБАЯ ГОСТЬЯ
I
Хочу ныне рассказать о том, как спасен был в наши дни некто, хотя и малодостойный, но все-таки брат наш, спасен от злых чар ночного волхвования словами непорочного Отрока. Темной вражьей силе дана бывает власть на дни и часы, — но побеждает всегда Тот, Кто родился, чтобы оправдать жизнь и развенчать смерть.II
Эта зима была для Николая Аркадьевича Варгольского тяжелая и томная. Он все больше и больше отдалялся от всех своих друзей, родственников и знакомых. Все охотнее просиживал он короткие темные дни и длинные черные вечера в унылом великолепии своего старого особняка, и ограничивался только недолгими прогулками по всегда тщательно выметенным аллеям тенистого небольшого сада при его доме. Николай Аркадьевич даже не принимал почти никого, кроме своей недавней знакомой Лидии Ротштейн, бледнолицей, прекрасной молодой девушки, с жутко-громадными глазами и чрезмерно яркими губами. Прежде Николай Аркадьевич любил все прелести веселой, рассеянной жизни. Он любил светское общество, зрелище, музыку, спорт. Бывал везде, где бывают обыкновенно все. Живо интересовался всем тем, чем все в его кругу интересуются, чем принято интересоваться. Был он молод, независим, богат, в меру окружен, и в меру одинок и свободен, весел, счастлив и здоров. А теперь вдруг все это странно и нелепо изменилось. Многокрасочная прелесть жизни потеряла свою над ним власть. Забылась пестрота впечатлений и ощущений разнообразной, веселой жизни. Ни к чему не тянуло. Ничего не хотелось. Все, что прежде перед его глазами стояло ярко и живо, теперь заслонилось бледным, жутко-прекрасным лицом его красногубой гостьи. И только хотелось ему смотреть в бездонную глубину этих странных, точно неживых, точно навеки завороженных тишиною и тайною, зеленоватых глаз. И только хотелось ему видеть эту безумно-алую на бледном лице улыбку, видеть этот большой, прямо разрезанный рот с такими яркими губами, точно сейчас только разрезан этот рот, и еще словно свежею дымится он кровью. И только хотелось ему все слушать да слушать тихие, злые слова, неторопливо падающие с этих странных и очаровательных уст. Такое все стало скучное, что вне этих стен! Такою докучною, ненужною казалась ему вся эта жизнь, внешняя, шумная, которою он жил до сих пор. Вялая леность разливалась в его теле, прежде таком бодром и радостном. Голова стала часто болеть и томно кружиться, полная глухих, безумных шумов и звонов. Лицо его бледнело, точно яркие губы Лидии Ротштейн выпивали всю его жизнь.III
С чего это началось? Теперь это как-то смутно и неохотно припоминалось ему. Познакомились где-то, в сумеречном, холодном свете осеннего вечера. Кажется, говорили что-то незначительное. Николай Аркадьевич был чем-то в тот день занят и увлечен. Она была бледна, малоразговорчива и неинтересна. Поговорили с минуту, не больше. Разошлись, — и Николай Аркадьевич забыл о ней, как забывают всегда о случайных, ненужных встречах.IV
Прошло несколько дней. Николай Аркадьевич кончал свой завтрак. Ему сказали, что его желает видеть госпожа Лидия Ротштейн. Николай Аркадьевич слегка удивился. Это имя не сказало ему ничего. Забыл совсем. Досадливо поморщился. Спросил лакея: — Кто такая? Просительница? Так дома нет. Молодой, красивый лакей Виктор, тщательно подражавший своему барину в манерах и модах, усмехнулся такою же ленивою и самоуверенной), как и у Николая Аркадьевича, улыбкою бритых холеных губ и сказал с такою же, как и у барина, растяжечкою: — Не похожи на просительницу. Скорее будут из стилизованных барышень. Где-нибудь на пляже вы изволили с ними познакомиться. Уже весело улыбаясь, спросил Николай Аркадьевич: — Ну почему же непременно на пляже? Виктор отвечал: — Да так-с мне по всему сдается. По общему впечатлению. Первое впечатление почти никогда не обманывает. Притом же из городских словно бы такой не припомню. Николай Аркадьевич спросил, продолжая соображать, кто бы такая могла быть эта стилизованная барышня Ротштейн: — А какая она из себя? Виктор принялся рассказывать: — Туалет черный, парижский, в стиле танагр, очень изящный и дорогой. Духи необыкновенные. Лицо чрезвычайно бледное. Волосы черные, причесаны, как у Клео де Мерод[13]. Губы до невозможности алого цвета, так что даже удивительно смотреть. Притом же невозможно предположить, чтобы употреблена была губная помада. — А, вот это кто! Николай Аркадьевич вспомнил. Оживился очень. Сказал почти радостно: — Хорошо. Сейчас я к ней выйду. Проводите ее в зеленую гостиную и попросите подождать минутку. Он наскоро кончил свой завтрак. Прошел в ту комнату, где ожидала его гостья.V
Лидия Ротштейн стояла у окна. Смотрела на великолепные переливы осенней, багряно-желтой, словно опаленной листвы. Стройная, длинная, вся в изысканно черном, она стояла так тихо и спокойно, как неживая. Казалось, что грудь ее не дышит, что ни одна складка ее строгого платья не шевельнется. Очерк ее лица сбоку был строг и тонок. Лицо было так же спокойно, безжизненно, как и ее застывшее в неподвижности тело. Только на бледном лице чрезмерная злость губ была живою. С жестокою нежностью чему-то улыбались эти губы и трепетно радовались чему-то. Заслышав отчетливый звук легких шагов Николая Аркадьевича по холодному паркету этой строго-красивой гостиной, в которой преобладал зеленоватый камень малахит, Лидия Ротштейн повернулась лицом к Варгольскому. С нежною жестокостью чему-то улыбались ее чрезмерно-алые губы, ее губы прекрасного вампира, и трепетно радовались чему-то. Радость их была злая и побудительная. Взором, неотразимо берущим душу в нерасторжимый плен, она смотрела прямо в глубину глаз Николая Аркадьевича. И было в нем странное смущение и непривычная ему неуверенность, когда он услышал ее первые слова, сказанные золотозвенящим голосом.VI
Она говорила: — Я к вам пришла, потому что это необходимо. Для меня и для вас необходимо. Вернее, неизбежно. Пути наши встретились. Мы должны покорно принять то, что неотвратимо должно случиться с нами. Николай Аркадьевич с привычною, почти машинальною любезностью пригласил ее сесть. Привычный скептицизм человека светского и очень городского подсказывал ему, что его красноустая гостья — просто экзальтированная особа и что слова ее высокопарны и нелепы. Но в душе своей он чувствовал неодолимое обаяние, наводимое на него холодным мерцанием ее слишком спокойных, зеленоватых глаз. И не было в душе его того спокойствия, которое до того времени было ее постоянным и естественным состоянием во всяких обстоятельствах его жизни, хотя бы самых экстравагантных. Лидия Ротштейн села в подставленное ей Николаем Аркадьевичем кресло. Медленно снимая перчатки, она медленным взором обводила комнату, — ее стены с малахитовыми колоннами, — ее потолок, расписанный каким-то лукавомудрым художником конца позапрошлого столетия, — ее старинную мебель, все эти очаровательные вещи, соединившие в себе прелесть умной старины и слегка развращенного, изысканного вкуса той далекой эпохи напудренных париков, жеманной любезности и холодной жестокости, эпохи, созданием которой был старый дом Варгольских.VII
Тихо говорила Лидия Ротштейн: — Как очаровательно все это, что вас здесь окружает! Этот дом имеет, конечно, свои легенды. По ночам, быть может, здесь иногда ходят призраки ваших предков. Николай Аркадьевич отвечал: — Да, в детстве я слышал кое-что об этом. Но мне самому не доводилось видеть здесь призраки. Люди нашего века скептически настроены. Призраки боятся показываться нам, слишком живым и слишком насмешливым. Лидия спросила: — Чего же им бояться? Николай Аркадьевич отвечал, стараясь придерживаться тона легкой шутки: — Электрический свет вреден для них, а наша улыбка для них смертельна. Тихо повторила Лидия: — Электрический свет! Самые страшные для людей призраки — это те, которые приходят днем. Днем, как я пришла. Не кажется ли вам и в самом деле, что я похожа на такой призрак, приходящий днем? Я так бледна. Николай Аркадьевич сказал: — Это к вам идет. Вы очаровательны. Ему хотелось быть слегка насмешливым. Но его слова против его воли звучали нежно, как слова любви. Лидия говорила: — Может быть, и я пройду перед вами, как один из призраков вашего старого дома, и исчезну, изгнанная вашею скептическою улыбкою, как те призраки, которых вы уже изгнали отсюда. Если изгнали. Впрочем, Бог с ними, с этими призраками. Я могу пробыть с вами сегодня только недолгое время, а мне надо многое сказать вам. Или, может быть, вы не захотите меня выслушать? — Пожалуйста, я весь к вашим услугам, — сказал Николай Аркадьевич.VIII
Лидия помолчала немного и продолжала: — Меня зовут Лидиею, но мне больше нравится, когда меня называют Лилит. Так назвал меня мечтательный юноша, один из тех, кого я любила. Он умер. Умер, как все, кого я любила. Любовь моя смертельна, — и мне хорошо, потому что любовь моя и смерть моя радостнее жизни и слаще яда. Николай Аркадьевич заметил: — Если яд сладок. Он старался легко и шутливо улыбаться, но чувствовал, что улыбка его бледна и бессильна. С холодною, почти безжизненною настойчивостью повторила Лидия: — Слаще яда. Во мне душа Лилит, лунная, холодная душа первой эдемской девы, первой жены Адама. Земное, дневное, грубое солнце мне, бледной Лилит, ненавистно. Не люблю я дневной жизни и безобразных ее достижений. К холодным успокоениям зову я тех, кого полюбила. К восторгам безмерной и невозможной любви зову я их. Пеленою мечтаний, которые слаще ароматнейших из земных благоуханных отрав, я застилаю безобразный, дикий мир дневного бытия. Многоцветною, яркою пеленою застилаю я этот тусклый мир перед глазами возлюбленных моих. Крепки объятия мои, и сладостны мои лобзания. И у того, кого я полюблю, япрошу в награду за безмерность и невозможность моих утешений только малого дара, скудного дара. Только каплю его жаркой крови для моих холодеющих вен, только каплю крови прошу я у того, кого полюбила. Очарованием великой печали и тоски безмерной звучали золотые звоны ее отравленных странным и страшным желанием речей. В холодной глубине ее глаз разгоралось холодное, зеленое пламя, — и мерцание этого пламени чаровало и обезволивало Николая Аркадьевича. Он сидел, и молчал, и слушал тихие, золотом звенящие слова своей зеленоокой, красногубой гостьи.IX
И она говорила: — Только одну каплю крови. Моими устами приникну я к телу возлюбленного моего. Моими жаждущими вечно устами я, как вставший из могилы вампир, вопьюсь в это милое, горячее место между горлом и плечом, между горлом, где трепещет дыхание жизни, и белым склоном плеча, где напряженная дремлет сила жизни. Вопьюсь, вопьюсь в сладостную плоть возлюбленного моего, и выпью каплю его жаркой крови. Одну каплю, — ну, может быть, две, три или даже четыре. Ах, возлюбленный мой не считает! Возлюбленному моему и всей своей крови не жалко, — только бы оживить меня, холодную, жарким трепетом своей жизни, — только бы я не ушла от него, не исчезла, подобная бледному, безжизненному призраку, исчезающему при раннем крике петуха. Стараясь улыбнуться, Николай Аркадьевич сказал: — Все это, что вы говорите, конечно, очень интересно и оригинально, — но я не понимаю, какое отношение я имею ко всему этому. Но он сейчас же почувствовал всю ненужность и неправду своего жалкого ответа. И потому, по мере того как он говорил, голос его становился глуше и слабее, и последние слова он сказал совсем тихо, почти прошептал.X
Лилит встала. Подошла к нему. В движениях ее не было той порывистой страстности, с какою земные женщины произносят свои признания. Стоя перед Варгольским и глядя прямо в его глаза холодным взором жутких глаз, в которых разгорался зеленый, мертвый огонь, она сказала: — Я люблю тебя. Тебя избрала я, возлюбленный мой. Подчиняясь золотым звонам ее голоса, он встал со своего места. И стояли они друг против друга, — она, бледноликая, зеленоокая, с чрезмерно яркими, как у вампира, устами, и вся холодная, как неживая, лунная Лилит, — и он, зачарованный и словно всю свою утративший волю. Лилит сказала: — Люби меня, возлюбленный мой. Больше и сильнее, чем любил ты дневную свою жизнь, люби меня, лунную, холодную твою Лилит. Упала минута молчания. Казалось тогда, что не было сказано ни одного слова. И вот спросила его Лилит: — Возлюбленный мой, любишь ли ты меня? Любишь ли? Варгольский тихо ответил ей: — Люблю. И чувствовал, как душа его тонет в зеленой прозрачности ее тихих глаз. И опять спросила его Лилит: — Возлюбленный мой, любишь ли ты меня сильнее, чем все очарования и прелести дневной жизни, меня, твою лунную, твою холодную Лилит? Отвечал ей Варгольский, — и холод великого успокоения был в звуке его тихих слов: — Моя лунная, моя холодная Лилит, я люблю тебя сильнее, чем все очарования дневной жизни. И уже отрекаюсь от них, и отвергаю их все за один твой холодный поцелуй. Радостно улыбнулась Лилит, но радостно-холодная улыбка ее была коварная и злая. И спросила Лилит: — Отдашь ли ты мне каплю твоей многоценной крови? Чувствуя, как в душе его возникают и сплетаются в дивном борении ужас и восторг, Варгольский сказал, простирая к ней руки: — Отдам тебе, моя Лилит, всю мою кровь, потому что люблю тебя безмерно и навсегда. И она прильнула к его устам поцелуем долгим и томным. Темное и томное самозабвение осенило Варгольского, и того, что было с ним потом, он никогда не мог отчетливо вспомнить.XI
С того дня Лидия Ротштейн приходила к Николаю Аркадьевичу в неопределенные сроки, то чаще, то реже, почти всегда неожиданно, в разное время, то днем, то вечером, то позднею ночью. Она как-то ухитрялась всегда заставать его дома. А потом это стало и нетрудно, когда он почти совсем прекратил сношения с людьми. Всегда эти свидания с Лилит были окутаны в сознании Варгольского густою пеленою странного, почти досадного ему забвения. Одно знал он несомненно, — как ни крепки были объятия Лилит, как ни безумно дики были ее поцелуи, все же их связь оставалась чуждою грубых земных достижений, и ни разу не отдалась ему эта странная, красноустая гостья с неживыми глазами и с апокрифическим именем. Когда она приникала к его плечу, легкая острая боль пронизывала все тело Варгольского, — и тогда становилось ему сладко и томно. В теле чередовались жуткие ощущения зноя и холода, точно била его лихорадка. Знойные, жадные губы Лилит, только одни живые в холоде ее тела, впивались в его кожу. Поцелуй их был подобен холодному бешенству укуса. И казалось ему тогда, что кровь его точится капля за каплею.XII
Лилит исчезала незаметно. Долго после ее ухода Варгольский лежал, погруженный в томное бессилие, ни о чем не думая, ничего не вспоминая, не мечтая ни о чем. Даже о Лилит не мечтал и не вспоминал он тогда. Самые черты ее лица припоминались ему неясно и неопределенно. Иногда он думал о ней потом, когда проходило то оцепенение, в которое погружали его ее ласки. Он думал иногда, что она не человек, а вампир, сосущий его кровь, что она его погубит, что надо ему оградиться от нее. Но эти короткие, вялые мысли не зажигали его обессилевшей воли. Ему было все равно. Иногда он спрашивал себя, любит ли он Лилит. Но, прислушиваясь внимательно к темным голосам своей души, он не находил в них ответа на этот вопрос. И было в нем равнодушие, холодное и спокойное. Любит, не любит — не все ли равно!XIII
Лакей Николая Аркадьевича, Виктор, был женат. Однажды, незадолго до Святок, он пришел к Николаю Аркадьевичу не в урочное время и сказал ему: — Жена моя, Наталья Ивановна, разрешившись на днях от бремени, просит вас, Николай Аркадьевич, сделать нам большую честь и удостоить быть восприемником от купели нашего первого сына, новорожденного младенца Николая. Виктор старался держаться своего всегдашнего спокойного, солидного тона, но при последних словах, вспомнив со всею остротою новизны, что он уже отец, покраснел от радости и гордости и засмеялся с неожиданным, почти деревенским, простосердечием. Но, впрочем, тотчас же сдержался и опять стал вести себя чинно и степенно. Сказал со всегдашним своим достоинством: — И я со своей стороны осмеливаюсь присоединиться к просьбе моей жены. Сочтем за великую для себя честь и будем чрезвычайно рады. Николай Аркадьевич поздравил счастливого отца. Согласился немедленно, — не потому, что хотел согласиться, а просто потому, что вялое равнодушие давно уже угнездилось в нем. И странное дело, — это обстоятельство, такое, по-видимому, незначительное в его жизни, с какою-то неожиданною силою внесло резкую перемену в его отношение к Лилит. Первый же раз, когда он увидел младенца Николая, которого ему надо было назвать своим крестником, он почувствовал нежное умиление к этому слабо попискивающему, красному, сморщенному комочку мяса, завернутому в мягкие, нарядные пеленки. Глаза малютки еще не умели останавливаться на здешних предметах, — но земная, вновь сотворенная из темного земного томления душа, радостно мерцая в них, трепетала жаждою новой жизни. Николаю Аркадьевичу вспомнились зеленые, жуткие пламенники неживых глаз его белолицей гостьи с чрезмерно красными губами. Сердце его вдруг сжалось ужасом и страстною тоскою по шумной, радостной, многоцветной, многообразной жизни.XIV
Когда после веселого обряда крестин, в котором он принял недолгое участие, он вернулся к себе, в мерцающую тишину высоких покоев, он опять почувствовал себя слабым и равнодушным ко всему. Там, у Виктора, ему напомнили, что сегодня сочельник. Где же он встретит праздник? Как его проведет? Уже давно, больше месяца, он упрямо не принимал никого и сам ни у кого не был. Над холодным его равнодушием возникали то тихо поблескивающее глазенки его крестника, то слабый его писк. И напоминали ему Младенца в яслях, и звезду над дивным вертепом, и волхвов, принесших дары. Все, что было забыто, что было отвеяно холодным дыханием рассеянной светской жизни, припомнилось опять и опять томило душу сладким предчувствием восторга. Варгольский взял книгу, которую не открывал уже много лет. Прочитал трогательные, простые и мудрые рассказы о рождении и детстве Того, Кто пришел к нам, чтобы нашу бедную земную, дневную жизнь оправдать и обрадовать, Кто родился для того, чтобы развенчать и победить смерть. Трепетна была душа, и слезы подступали к глазам. Злые обольщения его коварной гостьи вдруг вспомнились Варгольскому. Как мог он поддаться их лживому обаянию! Когда цветут на земле милые, невинные улыбки, когда смеются и радуются милые, невинные детские глаза! Но ведь она, лунная, неживая, лживая Лилит, опять придет. И опять зачарует обаянием смертной тишины! Кто же поможет? Кто спасет? Книга бессильно выпала из рук Николая Аркадьевича. Молитва не рождалась в его обессилевшей душе. И как бы он стал молиться? Кому и о чем? Как молиться, если она, лунная, холодная Лилит, уже здесь, за дверью?XV
Вот чувствует он, что она стоит там, за дверью, в странной нерешительности, и медлит, колеблясь на страшном ему и ей пороге. Лицо ее бледно, как всегда. В глазах ее холодное пламя. Губы ее цветут страшною яркостью, как яростные губы упившегося жаркою кровью выходца из темной могилы, губы вампира. Но вот Лилит преодолела страх, в первый раз остановивший ее у этого порога. Быстрым, как никогда раньше, движением она распахнула высокую дверь и вошла. От ее черного платья повеяло страшным ароматом туберозы, веянием благоуханного, холодного тления. Лилит сказала: — Возлюбленный мой, вот я опять с тобою. Встречай меня, люби меня, целуй меня, — подари мне еще одну каплю твоей многоценной крови. Николай Аркадьевич протянул к ней руки угрожающим и запрещающим движением. Он сделал над собою страшное усилие, чтобы сказать: — Уйди, Лилит, уйди. Я не люблю тебя, Лилит. Уйди навсегда. Лилит смеялась. Был страшен и жалок трепет ее чрезмерно-алых губ, обреченных томиться вечною жаждою. И говорила она: — Милый мой, возлюбленный мой, ты болен. Кто говорит твоими устами? Ты говоришь то, чего не думаешь, чего не хочешь сказать. Но я возьму тебя в мои объятия, я, твоя лунная Лилит. Я опять прижму тебя к моей груди, которая так успокоенно дышит. Я опять прильну к твоему плечу моими алыми, моими жаждущими устами, я, твоя лунная, твоя холодная Лилит. Медленно приближалась к нему Лилит. Было неотразимо очарование ее смеющихся алых губ. И был слышен золотой звон ее слов: — Целованием последним прильну я к тебе сегодня. Я навеки уведу тебя от лживых очарований жизни. В моих объятиях ты найдешь ныне блаженный покой вечного самозабвения. И приближалась медленно, неотразимо. Как судьба. Как смерть.XVI
Уже когда ее протянутые руки почти касались его плеч, вот, между ними дивный затеплился тихо свет. Отрок в белом хитоне стал между ними. От его головы струился дивный свет, как бы излучаемый его кудрявыми волосами. Очи его были благостны и строги, и лик его прекрасен. Отрок поднял руку, повелительно отстранил Лилит и сказал ей: — Бедная, заклятая душа, вечно жаждущая, холодная, лунная Лилит, уйди. Еще не настали времена, не исполнились сроки, — уйди, Лилит, уйди. Еще нет мира между тобою и детьми Евы, — уйди, Лилит, уйди. Исчезни, Лилит, уйди отсюда навсегда. Легкий стон был слышен, и свирельно-тихий плач. Бледная в сумраке полуосвещенного покоя, медленно тая, тихо исчезла Лилит. Краткие прошли минуты, — и уже не было здесь дивного Отрока, и все было, как всегда, обыкновенно, просто, на месте. Как будто бы только легкою грезою в полусне было злое явление Лилит и как будто и не приходил дивный Отрок. Только ликующая радость звенела и пела в душе измученного, усталого человека. Она говорила ему, что никогда не вернется к нему бледноликая, холодная, лунная Лилит, злая чаровница с чрезмерною алостью безумно жаждущих губ. Никогда!Ф. Сологуб Из романа «ТЯЖЕЛЫЕ СНЫ»
Сон был тяжел. Снилось, что темное и безобразное навалилось на грудь и давит. Оно прикинулось вампиром с яркими глазами и серыми широкими крыльями; длинное, туманное туловище бесконечно клубилось и свивалось; цепкие руки охватывали тело Клавдии; красные липкие губы впились в ее горло, высасывали ее кровь. Было томительно-страшно. Снилось, что ее мускулы напряжены и трепещут, — только бы немного повернуться, уклониться от этих страшных губ, — но неподвижным оставалось тело. Наконец встрепенулась и открыла глаза. Над нею блестели глаза матери. Ее лицо, бледное, искаженное ненавистью, смотрело прямо в глаза Клавдии горящими глазами, и вся она тяжко наваливалась на грудь дочери. Клавдия рванулась вперед, но мать снова отбросила ее на подушки. — Зачем? — спросила Клавдия прерывистым голосом. Зинаида Романовна молчала. Посмотрела на Клавдию долгим взглядом, положила на ее глаза холодную руку, и встала с постели. Клавдия почувствовала, что ее грудь свободна, и вместе с тем ощутила во всем теле усталость и разбитость. С трудом поднялась Клавдия с постели. Дверь была полуоткрыта, в комнате никого не было. Клавдия опять легла, но не могла заснуть. Долго лежала с закинутыми под голову руками. Всматривалась в серый полусвет начинающегося утра. Мысли были слабы и спутаны. Перед глазами носились бледные, злые лица, уродливые головы с развевающимися космами. При встрече с матерью днем Клавдия посмотрела на нее внимательно. Лицо Зинаиды Романовны было загадочно спокойно. На другую ночь Клавдия рано ушла к себе, и заперла дверь на ключ. Около полуночи в ее дверь постучался Палтусов. Впустила неохотно. Часа через два ушел. Замкнула за ним дверь. Когда опять легла, и уже начинала засыпать, вдруг вспомнила, что дверь оставалась не на запоре все время, пока Палтусов был здесь. Стало на минуту досадно, но как-то не остановилась на этой мысли и скоро забылась. Снова мать предрассветною тенью мелькнула перед нею, и опять вслед за нею нахлынули тучи бледных, угрожающих лиц. Настала третья ночь. Клавдия внимательно осмотрела углы своей комнаты, заперла окна, замкнула дверь, и ушла к Палтусову. Вернулась под утро, опустила занавеси у окон, подошла к постели. Когда откидывала одеяло, чтобы лечь, почувствовала вдруг, что кто-то сзади глядит на нее. Обернулась, — в углу за шкапом смутно белело в полутьме что-то, похожее на повешенное платье. Клавдия подошла, и увидела мать. Зинаида Романовна стояла в углу, и молча смотрела на Клавдию. Ее лицо было бледно, утомлено, неподвижно, как красивая маска. Клавдия всматривалась в мать, — и фигура матери начинала казаться прозрачною тенью. Становилось страшно. Сделала над собою усилие подавить страх и спросила. — Что за комедия? Зачем вы здесь? Зинаида Романовна молчала. — Зачем вы приходите ко мне? — продолжала спрашивать Клавдия замиравшим и прерывистым голосом. — Что вам надо? Вы хотите говорить со мною? Вы молчите? Чего же вы хотите от меня? Молчание матери и ее неподвижность в сером полумраке наводили на Клавдию невольный ужас. Взяла руку матери. Холодное прикосновение заставило затрепетать. Клавдия пристально всмотрелась в лицо матери: все оно трепетало безмолвным, торжествующим смехом, — каждая черточка бледного лица смеялась злорадно. Клавдии казалось, что зеленоватые глаза матери засветились фосфорическим блеском, и что все ее лицо посинело. Этот холодный смех на посиневшем лице со светящимися глазами был так ужасен, от него веяло такою неестественною злобою, таким безнадежным безумием, что Клавдия затрепетала, закрыла глаза руками и отступила от матери. Смутно видела из-под трепетных рук, что белая ткань промелькнула внизу. Опустила руки, и увидела, что в комнате нет никого. Подошла к открытой двери, долго стояла у косяка. Всматривалась в темные углы коридора, боязливо думала короткими, смутными мыслями. Нагие плечи холодели, и тело вздрагивало от утреннего холода. <…> Клавдия не говорила Палтусову о ночных страхах. Когда вспоминала о них днем, становилось смешно, злорадное чувство овладевало, и она досадовала на себя за ночную трусость. Но с наступлением ночи вновь становилось страшно. Четвертую ночь провела у Палтусова. Солнце уже высоко стояло, и люди просыпались, когда Клавдия вышла от Палтусова. Утомленные бессонною ночью глаза щурились. Хотелось спать, но в душе ликовало резвое детское чувство избегнутой опасности. У дверей своей комнаты Клавдия встретила Зинаиду Романовну и взглянула на нее насмешливыми глазами. Но лицо матери дышало таким мстительным торжеством, что сердце Клавдии упало. Полная страха и предчувствий, вошла она к себе. Спала долго. Опять сон окончился кошмаром. Вдруг почувствовала на своем плече крепкие пальцы и увидела над собою мать. Синие оттенки лежали на лице Зинаиды Романовны. Ее глаза были полузакрыты. Тяжелая, как холодный труп. — А, ты проснулась, — спокойно сказала Зинаида Романовна, — уже второй час. Она поднялась и вышла из комнаты. Клавдия села на кровати. «Как глупо! — думала она. — Чего я жду? Надо уехать, — с ним, без него, все равно, — надо уехать!» Эта мысль приходила ей и раньше, но не оставалась надолго. В том состоянии сладких грез и тяжелых кошмаров, которое она переживала, вяло работала голова. Говорить с Палтусовым еще не успела, — их свидания все еще проносились в страстном безумии, а уехать из дому без него не могла, — она это чувствовала. Ей казалось, что ее жизнь теперь неразрывно связана с жизнью Палтусова, что им обоим предстоит новая будущность, бесконечность любви и свободы, где-то далеко, в новой земле, под новыми небесами. Решила наконец переговорить с Палтусовым сегодня же о том, как им устроить судьбу. Но не пришлось днем увидеться наедине ни на одну минуту: мешали то посторонние, то мать. Настала ночь, пятая со дня, решившего их участь. Клавдия была в комнате Палтусова. — Послушай, — сказала она: — нам надо наконец поговорить. — Что говорить? — лениво ответил он: — ты — моя, а я — твой, и это решено бесповоротно. — Да, но жить здесь, рядом с нею, скрываться, притворяться… — А, — протянул он, и зевнул. Он был сегодня необыкновенно вял. — Странно, — сказал он, — тяжесть во всем теле. Да, так ты говоришь… Клавдия страстно прижималась к нему и горячо говорила: — Так дальше нельзя жить, нельзя! — Да, да, нельзя, — согласился Палтусов. Он оживился, и говорил с одушевлением: — Мы уедем. И чем дальше, тем лучше. — Совсем далеко, чтобы все было новое, и по-новому, — шептала Клавдия. — Да, милая, далеко. Куда-нибудь в Америку, на дальний Запад, или в какую-нибудь неведомую страну, в Боливию, где нас никто не знает, где мы не встретим никого из тех, от кого бежим. Там мы заживем по-новому. — Совсем по-новому! — Вдвоем, одни. А если под старость захочется взглянуть на дорогую родину, так мы приедем сюда бразильскими обезьянами. Да, да, завтра же подумаем, как это устроить. Завтра о делах. Палтусов улыбался лениво и сонно. Тихо повторил: — Завтра о делах, сегодня будем счастливы настоящим, счастливы минутой. Горячие поцелуи и страстные объятия опьяняли Клавдию, гнали прочь заботу. Вдруг почувствовала Клавдия, что Палтусов тяжело и холодно лежит в ее руках. Она заглянула в его лицо: спал. Напрасно будила: только мычал впросонках, и снова засыпал. Отвернулась с пренебрежительною усмешкою, встала и подошла к окну. Тоска опять закипала. Клавдия отодвинула рукою белую штору и грустными глазами всматривалась в ночной сумрак. Ветви старого клена выступали из мрака, и качали угрюмые листья с таинственным, укоряющим шорохом. Страх подкрадывался, — спящий был неподвижен. Клавдия вздрогнула. Звонкий смех раздался за нею. Жуткое ожидание страшного заставило холодеть и замирать. Преодолевая ужас, обернулась, — и тихонько вскрикнула. Лицо Зинаиды Романовны, мертвенно бледное, снова трепетало торжествующим, мстительным смехом. Клавдия нахмурила брови, слегка наклонилась и оперлась о спинку стула согнутою рукою. Ее глаза зажглись дерзкою решительностью. Несколько долгих мгновений прошло в жутком ожидании. Складки белого платья на Зинаиде Романовне висели прямо и неподвижно. Белая вся и бледная, казалась угрожающим призраком, и в глубине смятенного сознания Клавдия таила отрадную надежду, что это ей только мерещится. Вдруг показалось Клавдии, что Зинаида Романовна хочет положить руку на ее локоть. Клавдия схватила руку Палтусова и потрясла ее. В воздухе пронесся короткий, холодный смех матери. Зинаида Романовна тихо сказала: — Оставь! Он не скоро проснется. — Что вы сделали? — воскликнула Клавдия. В глазах ее зажглись зеленые молнии угроз. — Полно, — жестким тоном ответила мать, — он жив и здоров, только выпил усыпляющего лекарства. Ты слишком утомила его, — вот я и думаю: пусть выспится. А мы пойдем! Ее голос был тих, но повелителен. Взяла руку Клавдии. Клавдия пошла за нею полусознательно. — Оставьте меня, — нерешительно сказала она, когда вышли в коридор. Мать обернулась и посмотрела на нее пристальным, холодным взглядом. Перед глазами Клавдии опять встало иссиня-бледное лицо, и страшный смех был разлит на нем. Клавдия почувствовала, что этот смех лишает воли, туманит рассудок. Без мыслей в голове, без возможности сопротивляться покорно шла за матерью. Вышли на террасу, спустились по лестнице, и очутились в саду. Ночная сырая свежесть охватила со всех сторон Клавдию; влажный песок дорожек был нестерпимо холоден и жесток для ее голых ног. Она остановилась и рванула свою руку из руки матери. — Пустите, — мне холодно! Мать опять посмотрела на нее остановившимся, пустым взором, — и опять безмолвный смех разлился на ее лице и обезволил Клавдию, — и опять пошла она за матерью. И когда опять холод, сырость и песок, хрупкий и жесткий под голыми ногами, освежали ее, она упрямо останавливалась. Но опять тогда обращалось к ней злое лицо с ликующим смехом и снова лишало ее воли. Зинаида Романовна крепко стискивала пальцы Клавдии, но Клавдия не чувствовала боли. Так дошли до беседки и поднялись по ступеням. Зинаида Романовна резким движением руки бросила Клавдию на скамейку. Тихо, отчетливо заговорила: — Здесь ты лежала в объятиях чужого мужа, которого ты отняла у своей матери, а здесь я стояла и смотрела на тебя. Здесь я проклинаю тебя, на этом месте, которое ты осквернила. Беги, куда хочешь, бери с собой любовника, заводи себе десятки новых, — нигде, никогда ты не найдешь счастья, проклятая! Клавдия полулежала на скамейке и судорожно смеялась. — Дальше, дальше иди за мною! — сказала Зинаида Романовна. Подняла Клавдию за руку, вывела ее из беседки. — Каждая аллея этого сада слышала твои нечестивые речи, на каждой звучали твои бесстыдные поцелуи. Увлекала за собою дочь, — и Клавдия шла за нею по песчаным дорожкам, и вся цепенела от холода и сырости. — Я не боюсь твоих проклятий, — сказала она матери, — говори их сколько хочешь и где хочешь, я их не боюсь. И зачем ты мучишь меня по ночам? — По ночам? Зато ты мучила меня и ночью, и днем. Остановились около пруда. С гладкой поверхности его подымался влажный, густой туман. — Здесь, — сказала Зинаида Романовна, — ты опять ласкала его, а я стояла за кустами и проклинала тебя. Когда вы ушли, а я осталась одна, над этим прудом, я думала о смерти, о мести. Здесь я поняла, что не надо смерти, не надо заботиться о мести: ты, проклятая, не увидишь ни одного светлого дня! Ты отняла счастие у своей матери, и не будет тебе ни тени счастия, ни тени радости. Любовник истерзает твое сердце, муж оскорбит и изменит, дети отвернутся, — тоска будет преследовать тебя. Ты знакома с нею: ты уже теперь пьешь вино, чтобы забыться. И я пожалела тебя, — ведь я тебе мать, несчастная! Я думала: лучше тебе потонуть в этом пруде, чем жить с моим проклятием. — Не боюсь я твоих проклятий, — угрюмо сказала Клавдия, — а счастие, — на что мне оно? Да я счастлива. — Нет, ты дрожишь от страха, проклятая! — Мне холодно. Клавдия рванулась из рук матери. Зинаида Романовна удержала ее. — Подожди, слушай мое последнее слово. Смотри, какая хорошая тебе могила в этой черной воде. Умри, пока он тебя не бросил, — теперь он хоть поплачет о тебе. Хочешь? Я помогу. Тебе страшно? Я толкну тебя! Зинаида Романовна влекла дочь к берегу. Клавдия в ужасе отбивалась. Наконец Зинаида Романовна оставила ее. Злобно прошептала: — Нет, жить хочешь? И живи, живи, проклятая! Голос Зинаиды Романовны зазвучал бешенством. — Живи, измучься до последних сил, испытай отчаяние, ревность, ужас, людское презрение, всякую беду, всякое горе, весь позор, обнаженный, как ты. Схватила обеими руками рубашку Клавдии за ворот, рванула в обе стороны, — тонкая ткань с легким треском разорвалась. Неистово рвала ее на куски и далеко в сторону бросала обрывки. Крикнула: — Иди теперь к любовнику, проклятая, бесстыдная! И оттолкнула Клавдию. Клавдия бежала по темным дорожкам сада. Тихий, злобный смех звенел за нею, не смолкая, — упоение дикого торжества. Тихо и пусто было в саду и в доме. Никто не слышал и не видел, как осторожно пробиралась Клавдия по темным комнатам в спальню и замирала от стыда, когда половицы скрипели под ее голыми ногами. Вся холодная, бросилась в постель, закуталась одеялом. Радость охватила: как птица, которая в бурю достигла гнезда, она грелась, нежилась и радовалась. «Кончена комедия!» — шептала она, тихонько смеялась, свертывалась клубком, засовывала холодные руки под подушку. Скоро заснула. Утром почувствовала, что трудно дышится. Открыла глаза. Комната глянула уныло. Солнечные лучи были печально ярки. Скорбная мысль медленно слагалась в голове, но трудно было перевести ее на слова. Тряхнула головою, и это движение отдалось в голове болью. — Да, — вслух ответила на свою мысль. Звук голоса был слабый и дряхлый, и в горле было больно. Равнодушие и усталость владели ею, и тоска подымалась к сердцу. Клавдия вспомнила пережитую ночь и улыбнулась слабо и покорно. Думала: «Проклятия не сбудутся, — жизнь оборвется!» Уже не думала о том, что надо уехать и о том, что больна, и о том, чем кончится болезнь. Как-то сразу почувствовала, что сил нет. Казалось, начинает умирать. Как будто прочла свой смертный приговор и упала духом. Показалось, что кто-то стоит у изголовья. С трудом повернула голову и увидела прозрачную фигуру матери. Не удивилась, что сквозь грудь матери ясно видно окно. Потом увидела, что в закрытую дверь проник другой такой же прозрачный образ. Оба стали около нее и чего-то требовали. Прислушивалась, но не могла понять. Не удивляло, что мать стоит перед нею в двух образах. Только было страшно, что у того из них, который вошел позже злое лицо, и дикие глаза, и быстрые речи на пересохших губах. Этот образ все более приближался, и все увеличивался в размерах. Страх усиливался. Хотелось крикнуть, но не было голоса. Образ с дикими глазами наклонился совсем близко, тяжело обрушился на грудь Клавдии, и раздробился на целую толпу безобразных гномов, черных, волосатых. Все страшно гримасничали, высовывали длинные языки, тонкие, ярко-красные, свирепо вращали кровавыми глазами. Плясали, махали руками, быстрее, быстрее, увлекали в дикую пляску стены, потолок, кровать. Их полчища становились все гуще: новые толпы гномов сыпались со всех сторон, все более безобразные. Потом стали делаться мельче, отошли дальше, обратились в тучу быстро вращающихся черных и красных лиц, потом эта туча слилась в одно ярко-багровое зарево, — зарево широко раскинулось, вспыхнуло ярким пламенем и вдруг погасло. Клавдия забылась.И. Лукаш ЧЕРНООКИЙ ВАМПИР
Дождь бился в пляске дикой. Скакал по острым черепичным крышам. Ветер с разбега бил в дрожащие стекла. Мигали насмешливо тьме — огни запоздалые ночи. Он в дверь постучал. В дверь, обитую шубою волка, с шкуркою крысы в углу. Засовы скрипели, засовы ржавые. Голос скрипучий ему кричал. Голос скрипучий, как ржавые засовы: «Бездомник. Что надо от меня?.. Ты — кто?» «Ведь, знаешь… Ну, — отворяй же!» Под сводом, низким, в коридоре, смердящем крысами — толкнул он другую дверь… У камина, где красным золотом пылали раскаленные угли, в кресле костлявом, сидела старуха. Старуха сидела с лицом посинелым, с губами, горевшими кровью. Кот черный, метая искры, терся о плечи. Спокойно смеялись зеленые глаза. Спина изогнулась. — Ты ко мне? Зачем? — Послушай… Послушай, старуха. Ночью вчера я увидел коня у мостов. К нему подошел и вскочил. И понесся… Перед дверью твоей — конь сгинул. Я стукнул к тебе. Ты послушай… Когда вечер бредет по болотам в синем пологе я видел ее. Женщину видел. Каждый вечер в саду моем, на мраморной скамье. Серая женщина, в мехе крысином, с телом змеи уползающей. И глаза ее — черные звезды. Они пьют мою кровь — черные звезды. Я боюсь. Послушай, старуха, — боюсь я!.. Кот фыркнул глумливо. Отошел. Тухли, пылали, золотом красным, угли. Дождь плясал на свинцовых переплетах уснувших окон. Хохотом — визгом крысиным — старуха смеялась: «Мой милый, жених мой пришел»… …В саду вечернем, в синем тумане, сидит на мраморной скамье — женщина в мехе крысином… Он крикнуть хотел — беззвучно шептал он. Уста старушечьи впилися в белую шею его.Н. Васильковская БРЕД БЕЗУМИЯ
Где же исход? Подползает, крадется ночь глухая, беспросветная, темная, жуткая… Тучи смеются зарницами… Голубой смех дразнит призраки тьмы… Призраки реют в бессильных корчах… Стучатся в окна… Порывом ветра распахнулась старая рама, зазвенели стекла, посыпались. Свет, последний свет погас!.. Небо дышит огнем… Вампиры-призраки врываются со свистом и скрежетом… Спасенья нет!.. Они визжат, они ликуют и с адским сладострастием корчатся, предвкушая наслаждение… Острым жалом впиваются они в мозг и рвут светлую, могучую мысль, отравляют ее зловонным дыханием, плюют, топчут и кривляются, махая крыльями… Вот последние конвульсии мысли и, поруганную, истерзанную они влекут ее в темный угол старого, ненужного хлама… Хохот, подобный лязгу сбрасываемого железа… И с новой силой впиваются призраки-вампиры в горячее, трепещущее сердце… Тысячами жал исколотое, брызжет оно кровью… Дымятся липкие, окровавленные рты… Бессильный стон… Сердце замерло, сжалось… Они вырвали его из груди и, стиснув, скомкав, перекидывают друг другу, как мячик… Труп бездушный… Тонкие, как плети, руки с темными ногтями, мраморнобелые ноги, истерзанная грудь с каплями крови на ней… поникшая голова со стеклянным, бессмысленным взором из-под шапкой нависших волос… оскаленные зубы… Нагое тело с коричневатыми впадинами и сине-багровыми подтеками… Гремит раскатами грома небо, огнем разрывает тучи… Ветер воет в бешеном порыве смести живущее… Вельзевул торжествует… Ха-ха-ха!.. Где же исход? На высоких горах с девственными вершинами, неприступными?! На них опирается небо… Их подножием стиснута лава..С этой лавой в груди огромный сплюснутый шар мчится с невероятной быстротой в пространстве, где кружатся миры… Проносясь мимо созвездий, он вертится вокруг солнца, то заслоняя, то открывая луну, мчится, не останавливаясь ни на одно мгновение, — тысячелетия!.. А по скорлупе его ползают, копошатся черви… Толстые, жирные, с красными глазами, — длинные, тонкие, скользкие, пушистые, рябые, глянцевито-черные, липкие, мелкие, едва заметные… Ползают, еле двигаясь, корчатся, изгибаясь в дугу, извиваясь, быстро скользят и мелькают; невидные — рябят земную кору… Ползут, плодятся, издыхают, — ползут, чтобы плодиться и издохнуть… Им тесно… Им мало пожирать рождаемое землей: растения, плоды, деревья… Они точат скалы и камни… Пожирают животных, живых и павших, и, чуя близость собственной гибели, сплетаются в клубок и впиваются друг в друга… Вороны грядущего — живого!.. Заслышит ли вселенная свист крыльев ваших?!! Завидит ли полет обновителей земли, очищающих земную кору от червей истребителей живущего, пожирающих друг друга?!.. Где же исход?!.. 16 декабря 1905 года.

Л. Мищенко РОЗА И ТЕРНОВНИК
«Все для тебя, все о тебе»Посреди терновника выросла чайная роза — бледная, прекрасная. Она благоухала. Аромат ее разносился кругом и оживлял весь сад. И от зари до зари любимый розой соловей пел ей хвалебные гимны, и деревья склонялись перед ней. Роза была гордостью сада, была его святыней. Она была чиста, как небо, прекрасна, как Бог, и бессильна, как дыхание ветерка. У розы не было шипов. Ее защищал терновник. Он любил ее… Была мертвая лунная ночь. Цветы благоухали, как трупы. Распустившаяся роза разливала волшебный аромат. Она казалась небесным видением. Она казалась сотканной из паутины лунных лучей… Розу увидел вампир… Он облетал весь мир… Он видел все цветы и знал их. Все увядали от него; едва он дотрагивался до цветка цветок умирал. — «Роза будет моей», — сказал он, — и полетел к ней. Роза не испугалась его: в нем было что-то новое, страшно заманчивое. Но едва вампир коснулся розы, она стала вянуть. Роза встрепенулась, но было поздно!.. Шипы терновника были слишком коротки, — он не мог защитить розу. Роза гибла… И соловей замолк… Деревья поникли… Луна померкла… Вампир начал летать каждую ночь и пил кровь из розы. Терновник плакал в отчаянии, и горячая капля слезы его падала на помертвевшую от ужаса траву. Наконец, он решился… Решился ценой своей жизни спасти жизнь розе… Он растил свои колючки, и в то время, как стебель его чахнул и погибал, они становились длинными и острыми, как змеиное жало. А роза уже надоела вампиру. Он пил ее кровь, чтобы вырвать ее душу, ее чистоту, за которую ей поклонялась природа. Но роза оставалась все той же розой… Добрая, кроткая, она примирилась со своей участью: она, не теряла своей чистоты; она трепещущая, но молчаливая, мстила себе за минутное доверие к вампиру и молча подставляла свои омертвевшие листки под его железные когти и клюв. И вампир терзал ее с яростью и злобой, мстя ей за ее чистоту, и проклятья летели из его уродливой пасти… Бурная, холодная ночь. Роза тихо, безнадежно плакала, и капли слез ее росой падали на землю, а вампир с воем рвал железными когтями ее атласные лепестки. И в это страшное мгновение терновник выпрямился и хлестнул ветвями чудовище. Длинные шипы его впились в широкую мохнатую грудь… Вампир захрипел и упал… И вмиг роза ожила. И истерзанные, замученные листья воскресли, и ветер мгновенно смолк, и деревья радостно зашептали, и соловей снова запел чудную песню любви. Но истощенный, измученный стебель не вынес последнего усилия: терновник надломился у самого корня и, облитый горячей, им пролитой кровью вампира, с криком: — «Роза, как я люблю тебя»… упал к ногам ее. А чудная чайная роза благоухала больше прежнего и вокруг разливалась звенящая трель соловья… 25 января 1901 года.
И. Ясинский ДЕРЕВЬЯ-ВАМПИРЫ (Отрывок)
…Кладбищенские деревья — вы заметили? — особенно зелены. Каждый листочек их дрожит и трепещет, полный таинственного оживления. В общем же тени, бросаемые деревьями, так мрачны и так спокойны, и так прохладны, что кажется, будто там, вокруг их могучих, жизнерадостных стволов, толпятся бледные призраки покойников и как бы жалуются и шепчут своими бесплотными губами: «Вот на какую работу уходит наша энергия. Эти деревья высасывают соки из нас, и, чем старее они становятся, тем призрачнее мы, тем тоньше воспоминания о нас, тем отдаленнее звук нашего имени». Деревья стоят и шумят, и угрюмо смотрят, как прожорливые великаны. И потому мне стало так жутко. Я шел под сводом, образуемым их толстыми ветвями, которыми они переплелись между собою в дружеском вековечном порыве, и почти знал, что они так же относятся ко мне, как гастроном, который проглотил еще не всех устриц и оставляет десяток-другой на будущее время, не вскрывая их ножом. Или, может быть, так повар, ошпаривший сегодня множество цыплят и зажаривший их на вертеле, посматривает на живых их товарищей, робко бегающих вокруг кухни, и думает: «Пусть еще подрастут. Все равно, от участи своей не уйдут». И не только деревья плотоядно простирали надо мной свои ветви, не только каждый листочек их устремлял на меня свой зеленый глаз с тайным сластолюбием, но и одичалые цветы внизу, у их корней розы, тянувшиеся из сумрака на высоких иглистых стеблях, — мелкие, красные, как детские ротики, и ландыши, кожистые, напоминающие собою ряды белых зубов, и разные желтые, лиловые, и алые, как капли крови, цветочки, и пышно разрастающиеся кустарники, и тот страшный лопух, который пугал даже Евгения Базарова. Обмен веществ, круговорот жизни. Кости акробата идут на образование твердых волокон акации, которая так ценится каретниками и употребляется на спицы. Из мозга земских деятелей и отцов города произрастает каика и смолка. Врачи, вероятно, превращаются в зверобой; барышни, разумеется, в розы; дети — в фиалки и незабудки. Кроме того, все эти деревья — продукты превращения. Птицы, которые вьют в них гнезда, кажутся порхающими душами. Бабочки — в особенности и ночные мотыльки — по преимуществу. Сложив пестрые пушистые крылья и выдвинув вперед неподвижные нитеобразные усики, эти ночные создания притаились под листочками и от неосторожного прикосновения к веткам, протянувшимся через дорогу, просыпаются и с тревогой пролетают мимо меня. Да, круговорот жизни! Давно сказано, что мы прах и потому должны обратиться в прах. Но, однако, отчего же так жутко в этом чужеядном лесу, в этом царстве тенистых, раскидистых, могучих растительных вампиров? Самые роскошные надгробия, памятники, сделанные из гранита и чугуна, даже этот единственный мраморный мавзолей, в котором покоятся останки местных богатых купцов Пипочкиных, не говоря уж о бесчисленном множестве деревянных крестов, из которых немногие сохранили отвесное положение и чернеются направо и налево в зеленом полусвете кладбищенского дня под своими кровельками и навесиками, как грибы какой-то особой, странной породы — имеют такой приниженный, смиренный, беспомощно-жалкий вид. Холодом веет, ужасом. Я не мог бы улыбнуться в этом месте и, уж, конечно, не мог бы смеяться. Я поневоле становлюсь серьезен. Легкий воздушный призрак смерти вскарабкался мне на спину и шевелит на моем затылке волосы. Я иду. Мне мерещатся десятки, сотни тысяч жизней, поглощенных за много лет этой жирной, влажной, жадной землей, покрытой деревьями, цветами, слоем прошлогодних листьев. Уныло перекликаются птицы там и здесь. За ноги мои цепляются и не мешают мне идти — они бестелесны, они легче тех пушинок, которые носятся в воздухе после смерти одуванчика — милые бескровные тени малюток, погибших жертвою людской жестокости, людского эгоизма. Мне припоминаются самоубийцы, которых было в нашем городе несколько в течение трехлетнего моего служения в управе. Застрелился офицер, проигравшийся в карты; зарезался молодой человек, чиновник губернского правления, от безнадежной любви к гувернантке вице-губернатора; отравился гимназист из-за двойки. Мне припоминается сиротский дом, в котором выживает только один из ста младенцев. На той лужайке, которая еще никем не занята и ждет покойников, светлая, как изумруд, и залитая лучами бледнозолотистого солнца — день все такой же перламутровый — не играют ли эти несчастные безымянные дети незримым сонмом, не резвятся ли их крошечные, оскорбленные еще в колыбели и сознательно загубленные души? Нет, это рой маленьких сереньких ничтожных мотыльков, кладбищенской моли, радующейся солнцу.А. Амфитеатров ОН
Постойте, дайте припомнить… Я вам все расскажу, все без утайки, — только не торопите меня, дайте хорошенько припомнить, как это началось… Простите, если мои слова покажутся вам странными и дикими. С меня нельзя много требовать; вы, ведь, знаете: мои родные объявили меня сумасшедшею и лечат меня, лечат… без конца лечат! Возили меня и к Кожевникову в Москву, и к Шарко в Париж[14], пользовали лекарствами, пользовали душами, инъекциями, гипнотизмом… чем только не пользовали! Наконец, всем надоело возиться со мной, и вот посадили меня сюда — в эту скучную лечебницу, где вы меня теперь видите. Здесь ничего себе, довольно удобно; только зачем эти решетки в окнах? Я не убегу; мне все равно, где ни жить: здесь ли, на свободе ли, я всюду одинаково несчастна, а, между тем, вид этих бесполезных решеток так мучит меня, дразнит, угнетает… Может быть, мои родные правы, и я в самом деле безумная, — я не спорю. Мне даже хотелось бы, чтобы они были правы: то, что я переживаю, слишком тяжко… Я была бы счастлива сознавать, что моя жизнь — не действительность, а сплошная галлюцинация, вседневный бред, непрерывный ряд воплощений нелепой идеи, призраков больного воображения. Но я не чувствую за собою права на такое сознание. Память моя при мне, и я мыслю связно и отчетливо. Меня испытывали в губернском правлении; чиновники задавали мне формальные вопросы, и я отвечала им здраво, как следует. Только, когда губернский предводитель спросил меня: помню ли я, как меня зовут? — мне стало смешно. Я подумала: ему ужасно хочется, чтоб я ответила ему какой-нибудь дикостью, хоть в чем-нибудь проявила свое безумие, — и, на смех старику, сказала: меня зовут Марией Стюарт. Этим я с ними и покончила. Но вы не чиновник, не допрашиваете меня, не надоедаете мне, — следовательно, и у меня нет причин смеяться над вами, дурачить вас бессмысленными выходками. Разумеется, я не Мария Стюарт, а просто Ядвига С.,младшая дочь графа Станислава С. Лета свои я затрудняюсь сказать. Видите ли: когда со мной началось это, мне было шестнадцать лет, но с тех пор дни и ночи летят таким порывистым беспорядочным вихрем… я совсем потеряла в них счет. Иногда мне кажется, будто мое безумие продолжается целую вечность, иногда — что от начала его не прошло и года. Мой отец известный человек на Литве. Близ К. у нас есть имение — богатое, хоть и запущенное. Мы ездим туда на лето и проводим два месяца в ветхой башне, где родились, жили и умирали наши деды и прадеды. Хлопы зовут нашу башню замком, и точно: она — последний остаток роскошного здания, построенного в XVI веке знаменитым нашим предком, литовским коронным гетманом. Оно простояло два века; пожар и пороховой взрыв в погребах разрушили его в начале текущего столетия почти до основания. Гетман умел выбрать место для замка — у подножия высокой лесистой горы, в крутом колене светлой речки. Вдоль по берегу, вправо и влево, видать остатки древнего городища, когда-то здесь расположенного: низкие кирпичные стены с сохранившимися кое-где бойницами… Они сплошь обросли мохом, а из иных щелей и расселин поднялись красивые молодые березы и елки. Я, сестра моя Франя и наша гувернантка пани Эмилия любили бродить между развалинами. Они поднимаются от берега высоко по горе и завершаются на ее вершине тремя черными толстыми стенами: на одной и теперь еще можно разглядеть сквозь грязь и копоть, остаток фрески — ангела с мечом. Вблизи стен валяется много могильных плит с латинскими надписями. На некоторых видны иссеченные кресты, на других короны и митры, а на иных даже грубые рельефные изображения людей в церковном облачении. Когда-то здесь стоял бернардинский монастырь, зависимый от нашего рода, покровительствуемый нами. Он упразднен в прошлом веке. Во время второго повстанья руины служили приютом для небольшой банды: поэтому русские пушки помогли времени в разрушительной работе над осиротелым зданием и сразу его покончили. Как вы уже слышали, мне минуло шестнадцать лет. Я была очень хороша собою — не то, что теперь. Давно ли, кажется, мой отец, когда бывал в духе, клал на мою русую голову свои руки и декламировал с комической важностью знаменитые стихи нашего бессмертного поэта:…Nad wszystkich ziem branki, milsze Laszki kochanki,
Wesolutkie jak młode koteczki,
Lice bielsze od mleka, z czarną rzęsą powieka,
Oczy błyszczą się jak dwie gwiazdeczki[15].
А. Амфитеатров ИСТОРИЯ ОДНОГО СУМАСШЕСТВИЯ
В маленьком красивом театре города Корфу ставили для открытия сезона Вагнерова Лоэнгрина[17]. Торжество «премьеры» собрало на спектакль весь местный «свет» — корфиотов постоянных и временных, здоровых островитян и болеющих иностранцев. Впрочем, не все «болеющих». В первом ряду кресел, прямо позади капельмейстерского места, сидели два господина, столь цветущего вида, что на них, в антрактах оперы, с любопытством обращались бинокли почти из всех лож. Особенно нравился младший из двух — огромный, широкоплечий блондин, с пышными волнами волос, зачесанных назад, без пробора, над добродушным, открытым лицом, с которого застенчиво и близоруко смотрели добрые иссера-голубые глаза. Несмотря на длинную золотистую бороду английской стрижки, молодца этого даже по первому взгляду нельзя было принять ни за англичанина, ни за немца; сразу бросался в глаза мягкий и расплывчатый славянский тип. И действительно, гигант был русский, из Москвы, по имени, отчеству и фамилии Алексей Леонидович Дебрянский. Сосед его, тоже русский, темно-русый, в одних усах, без бороды, был пониже ростом и жиже сложением, зато брал верх над соотечественником смелою свободою и изяществом осанки, чего москвичу сильно не хватало. Загорелое, значительно помятое жизнью и уже не очень молодое лицо второго русского — скорее эффектное, чем красивое, — оживлялось быстрыми карими глазами, умными и проницательными на редкость; видно было, что обладатель их — тертый калач, бывалый и на возу, и под возом, и мало чем на белом свете можно его смутить и удивить, а испугать — лучше и не браться. Наружность интересного господина соответствовала репутации, которая окружала его имя: это был граф Валерий Гичовский, знаменитый путешественник и всесветный искатель приключений, полуученый, полумистик, для одних — мудрец, для других — опасный фантазер, сомнительный авантюрист-бродяга. Дебрянский всего лишь утром прибыл на Корфу с пароходом из Патраса, встретил графа в кафе на Эспланаде, познакомился, разговорился, счелся общими знакомыми — и даже чувствовалось, что они сдружатся. Дебрянский — был очень счастлив, что случай послал ему навстречу такого опытного путешественника, как Гичовский. Вопреки своей богатырской внешности, Алексей Леонидович странствовал не совсем по доброй воле, — врачи предписали ему провести, по крайней мере, год под южным солнцем, не смея даже думать о возвращении в северные туманы. И вот теперь он приискивал себе уголок, где бы зазимовать удобно, весело и недорого. Человек он был не бедный, но сорить деньгами, в качестве знатного иностранца, и не хотел, и не мог. Что он болен, Дебрянский, по выезде из Москвы, никому не признавался, и сам желал о том позабыть, выдавая себя просто за туриста и ведя соответственно праздный образ жизни. Нервная болезнь, выгнавшая его с родины, была очень странного характера и развилась на весьма необыкновенной почве. Незадолго перед тем, как Дебрянскому заболеть, сошел с ума короткий приятель его, присяжный поверенный Петров, веселый малый, один из самых беспардонных прожигателей жизни, какими столь бесконечно богата наша Первопрестольная. Психоз Петрова, возникнув на люэтической подготовке[18], вырастал медленно и незаметно. Решительным толчком к сумасшествию явился трагический случай, страшно потрясший расшатанные нервы больного. У него завязался любовный роман с одною опереточною певицею, настолько серьезный, что в Москве стали говорить о близкой женитьбе Петрова. Развеселый адвокат не опровергал слухов… Однажды, возвратясь домой из суда, он не мог дозвониться у своего подъезда, чтобы ему отворили. Черный ход оказался тоже заперт, а — покуда встревоженный Петров напрасно стучал и ломился — подоспели с улицы кухарка и лакей его. Они тоже очень изумились, что квартира закупорена наглухо, и рассказали, что уже с час тому назад молоденькая домоправительница Петрова, Анна Перфильевна, услала их из дому за разными покупками по хозяйству, а сама осталась одна в квартире. Тогда сломали двери и — в рабочем кабинете Петрова, на ковре — нашли Анну мертвою, с раздробленным черепом; она застрелилась из револьвера, который выкрала из письменного стола своего хозяина, сломав для того замок. Найдена была обычная записка — «прошу в моей смерти никого не винить, умираю по своим неприятностям». Петров был поражен страшно. Еще года не прошло, как, во время одной блестящей своей защиты в провинции, он сманил эту несчастную — простую перемышльскую мещанку. Что самоубийство Анны было вызвано слухами о его женитьбе, Петров не мог сомневаться. В корзине для бумаг под письменным столом, у которого подняли мертвую Анну, он нашел скомканную записку ее к нему, начатую было — как видно — перед смертью, но не конченую. «Что ж? Женитесь, женитесь… а я вас не оставлю, не оставлю»… — писала покойная и — больше ничего, только перо, споткнувшись, разбросало кляксы. Петрову не хотелось расставаться с квартирою, хотя и омраченною страшным происшествием: его связывал долгосрочный контракт, с крупною неустойкою. Однако он выдержал характер лишь две недели, а затем все-таки бросил деньги и переехал: жутко стало в комнатах, и прислуга не хотела жить. В день, как похоронили Анну, Петров, измученный впечатлениями и сильно выпив на помин грешной души покойной, задремал у себя в кабинете. И вот видит он во сне: вошла Анна, живая и здоровая, — только бледная очень и холодная, как лед, — села к нему на колени, как, бывало, при жизни, и говорит своим тихим, спокойным голосом: — Вы, Василий Яковлевич, женитесь, женитесь… только я вас не оставлю, не оставлю… И стала его целовать так, что у него дух занялся. Петров с удовольствием отвечал на ее бешеные ласки, как вдруг его ударила страшная мысль: — Что ж я делаю? Как же это может быть? Ведь она мертвая. И тут он, охваченный неописуемым ужасом, заорал благим матом и проснулся — весь в поту, с головою тяжелою, как свинец, от трудного похмелья, и в отвратительнейшем настроении духа. На новой квартире он закутил так, что по всей Москве молва прошла. Потом вдруг заперся, стал пить в одиночку, никого не принимая, даже свою предполагаемую невесту, опереточную певицу. Потом так же неожиданно явился к ней позднею ночью — дикий, безобразный, но не пьяный — и стал умолять, чтобы поторопиться свадьбою, которую сам же до сих пор оттягивал. Певица, конечно, согласилась, но поутру — суеверная, как большинство актрис, — поехала в Грузины, к знаменитой цыганке-гадалке, спросить насчет своей судьбы в будущем браке… Вернулась в слезах… — В чем дело? Что она вам сказала? — спрашивал невесту встревоженный жених. Та долго отнекивалась, говорила, что «глупости», наконец призналась, что гадалка напрямик ей отрезала: — Свадьбы не бывать. А если и станется, на горе твое. Он не твой. Промежду вас мертвым духом тянет. Петров выслушал и не возразил ни слова. Он стоял страшно бледный, низко опустив голову. Потом поднял на невесту глаза, полные холодной, язвительной ненависти, дико улыбнулся и тихим, шипящим голосом произнес: — Пронюхали… Он прибавил непечатную фразу. Певица так от него и шарахнулась. Он взял шляпу, засмеялся и вышел. Больше невеста его никогда не видала. В дворянском собрании был студенческий вечер. Битком полный зал благоговейно безмолвствовал: на эстраде стояла Мария Николаевна Ермолова — эта величайшая трагическая актриса русской сцены — и, со свойственною ей могучею экспрессией, читала «Коринфскую невесту»[19] Гете, в переводе Алексея Толстого… Когда, величественно повысив свой мрачный голос, артистка медленно и значительно отчеканила роковое завещание мертвой невесты-вампира:И покончив с ним,
Я пойду к другим,
Я должна идти за жизнью вновь! —
И, покончив с ним,
Я пойду к другим,
Я должна, должнаидти за жизнью вновь… —
А. Амфитеатров КИММЕРИЙСКАЯ БОЛЕЗНЬ
Земля, как и вода, содержит газы — И это были пузыри земли…«Макбет»
О, покончив с ним, Я пойду к другим — Я должна идти за жизнью вновь.Милый Саша! Ты конечно, очень изумишься, узнав, что я в Корфу, а не на Плющихе. Корфу… это действительно, как-то мне не к лицу. Я человек самый московский: сытый, облененный легкою службою и холостым комфортом, сидячий, постоянный и не мечтающий. И смолоду пылок не был, а к тридцати пяти годам вовсе разучился понимать вас, беспокойных шатунов по белому свету, охотников до сильных ощущений, новостей и необыкновенностей. Взамен бушующих морей, гордых альпийских вершин, классических развалин и мраморных богов, русскому интеллигенту отпущены: мягкая кушетка, пылающий камин, интересная книга и восприимчивое воображение. Я не отрицаю потребности в сильных ощущениях; но нет надобности испытывать их лично, если возможно их воображать, не выходя ни из душевного равновесия, ни из комнаты, и притом вчуже… ну, хоть по Пьеру Лоти или Гюи де-Мопассану. Подставлять же необыкновенностям свою собственную шкуру, скучать без них, напрашиваться на них, как делаешь ты и тебе подобные, — страсть, для меня не понятная. Она — извини за вульгарность! — напоминает мне старую мою приятельницу, калужскую купчиху-дворничиху, которая скучала, когда ее не кусали блохи. Я не переменил своего мнения и теперь, так неожиданно свалившись с серой Плющихи на сверкающий Корфу, где вечно синее небо, как опрокинутая чаша, переливается в вечно синее море. Красиво; но воображение создает красоту… не лучше, а — как бы тебе сказать? — уютнее, что ли, чем действительность. Я глубоко сожалею о своем московском кабинете, камине, кушетке, о службе, о моих книгах и друзьях, обо всем, во что сливается для меня север. В гостях хорошо, а дома лучше, и, если бы я мог, я бы сейчас вернулся. Но я не могу, и мне никогда уже не быть дома… Никогда, никогда! Я уехал из Москвы ни с кем не простясь, безрасчетно порвав с выгодною службой, бросив оплаченную за год вперед квартиру, не устроив своих дел… Ты видишь, что это — не путешествие, но бегство. Да, я бежал. Не от врагов и не от самого себя: первых у меня нет, совесть же моя — как у всякого среднего человека; ей нечем ни похвалиться, ни мучиться. Бежал потому, что там у себя на Плющихе, невзначай заглянул в великую тайну, которой не знал и знать не хотел… боялся знать. Потому что эта тайна раньше, в редкие минуты, когда я касался до нее рассеянной мыслью, мерещилась мне в образах, полных грозной, мрачно-величавой поэзии; она угнетала меня, заставляла терять счастливое равновесие моей жизни. Храня свое спокойствие, здоровую душу в здоровом теле, я старался позабыть о ней. И позабыл, и никогда о ней не думал. Но она сама навязалась мне, непрошеная. И она вовсе не величавая, но мещанская, серая, будничная… И это очень тяжело. Ты знаешь мою последнюю квартиру на Плющихе, в доме Арефьева, № 20. Она славная — просторная и светленькая, для одинокого холостяка с семейными привычками — клад. Я занял ее с августа, после дачи, заново отделанную после съехавшего весною жильца, адвоката Петрова. Я его хорошо знаю: большой делец и еще больший кутила. Нанимая квартиру, я было поехал к нему за справками, как он был ею доволен, но и на новой его квартире красовались билетики о сдаче; а дворник сообщил мне, что не так давно Петров допился до белой горячки и помещен родными в лечебницу для нервно-больных. Я поселился у Арефьева без справок и не раскаялся. Уютно жилось. Ты у меня бывал, — знаешь. Вечером, 18 ноября, я собрался было в гости… чуть ли даже не к тебе. Но термометр стоял на нуле, что в эту пору года для Москвы хуже всякого мороза: значит, и ветер, и сырость, и слякоть; тучи лежали обложные, стекла залипали талым слезящимся снегом. Я остался дома за самоваром и книгою; кстати, Денисов, третьего дня, снабдил меня «La Bas» Гюисманса[32] и просил поскорее возвратить. Часов около десяти — звонок. Сергей докладывает: — Там пришла какая-то… спрашивает. Я удивился. — Дама? в такую пору? — Да и не так, чтобы дама; на мамзюльку смахивает. — Раньше бывала? — Не примечал… — Зови. Вошла «мамзюлька». Брюнетка. Маленькая, тощенькая, но совсем молодая и очень красивая. Ресницы длинные, строгие и такие дремучие, что за ними не видать глаз. Спрашиваю: — Чем могу служить? Она, не поднимая глаз, отвечает мне этаким тихим голосом и немного сиповатым: — Я от Петрова. — Петрова? какого Петрова? — Присяжного поверенного… — Который прежде жил на этой квартире? — Да. — Но позвольте: я слышал, что он очень болен, пользуется в лечебнице душевно-больных. — Да. — Как же он мог послать вас ко мне и зачем? — Он мне сказал: Анна! что ты ко мне пристала, отвязаться не хочешь? У меня ничего уже нет, я сумасшедший и скоро умру. Ты не имеешь больше права меня мучить. Иди к другим! Я спросила: Вася, куда же я пойду? Я никого кроме тебя не знаю. Он ответил: ступай в квартиру, где мы с тобой жили; там есть Алексей Леонидович Дебрянский; он тебя примет. Это походило на ложь: откуда бы Петрову знать, что я занял его бывшую квартиру? А говорит — точь-в-точь не очень памятливое дитя отвечает урок: ровно, и с растяжкою, каждое слово само по себе, — совсем капель из желоба: кап… кап… кап… — Что же вам угодно? повторил я, но, оглядев ее хрупкую фигурку, невольно прибавил: — прошу вас садиться, и не угодно ли вам чашку чаю? Кажется, вам не лишнее согреться. Я бы даже посоветовал вам прибавить вина или коньяку. Иззябла она ужасно: зеленое лицо, синие губы, юбка в грязи и мокра по колено. Видимое дело: издалека и пешком. Она молча опустилась на стул. Я подал ей чашку. Она выпила залпом, кажется, не разбирая, что пьет. Чай с коньяком согрел ее; губы стали алыми, янтарные щеки подернулись слабым румянцем. Она была, действительно очень хороша собою. Мне хотелось видеть ее глаза, но ее ресницы только дрожали, а не поднимались. Всего раза два сверкнул на меня ее взгляд, острый и блестящий, да и то исподтишка, искоса, когда я отворачивался в сторону. Зато, кусая хлеб, она обнаруживала превосходные зубы — мелкие, ровные, белые. После странных откровенностей моей гостьи относительно Петрова, она начала мне казаться и в самом деле «мамзюлькой», которую отправил на все четыре стороны охладевший любовник… и я был не в претензии на Петрова за новое знакомство, хотя продолжал недоумевать, зачем направил он ко мне эту молчаливую особу. Так что, в третий раз, что ей угодно, я не спросил, сделался очень весел и решился — раз судьба посылает мне романическое приключение — извлечь из него как можно более интересного… Я не из сентиментальных ухаживателей и, когда женщина мне нравится, бываю довольно остроумен. Однако, моя гостья — хоть бы раз улыбнулась: будто и не слыхала моих шуток и комплиментов. Лицо ее застыло в неподвижном выражении тупого покоя. Она сидела, уронив руки на колена, вполоборота ко мне. — Я здесь жила, вдруг прервала она меня, не обращая ко мне ни глаз, ни головы — словно меня и не было в комнате. Это упорное невнимание и смешило меня, и злило. Думаю: — Либо психопатка, либо дура непроходимая. — Все другое, — продолжала она, глядя в угол, — другое… и обои, и полы… Ага! сентиментальность! Воспользуемся. — Вы, кажется, очень любите эту квартиру? спросил я, рассчитывая вызвать ее на откровенные излияния. Она, не отвечая, встала и прошла в тот угол, куда глядела. — Здесь были пятна, — сказала она. — Какие пятна? озадачился я. — Кровь. Отрубила и возвратилась к столу. Я ровно ничего не понимал. Но эта дурочка была такая красивая, походка у нее была такая легкая, что волновала и влекла она меня до одурения… и как-то случилось, что, когда она проходила мимо меня, я обнял ее и привлек ее голову к себе на плечо. Не знаю, что именно в моей гостье подсказало мне, что она не обидится на мою дерзость, но я был уверен, что не обидится, — и точно, не обиделась, даже не удивилась. У нее были холодные, мягкие ручки и холодные губки — большая прелесть в женщине, если она позволяет вам согревать их. — Взгляни же на меня, шептал я, — зачем ты такая безучастная? У тебя должны быть чудные глазки. Взгляни. Она отрицательно качнула головой. — Ты не хочешь? — Не могу. — Не можешь? почему? — Нельзя. — Ты всегда такая? Вместо ответа, она медленно подняла руки и обняла мою шею. Стало не до вопросов. Любовный смерч пролетел. Я валялся у ее ног, воспаленный, полубезумный; а она стояла, положив руку на мои волосы, холодная и невозмутимая, как прежде. У меня лицо горело от ее поцелуев, а мои не пристали к ее щекам — точно я целовал мрамор. — Мне пора, сказала она. — Погоди… погоди… Она высвободила руку. — Пора… — Тебя ждут? кто? муж? любовник? Молчит. Потом опять: — Пора. — Когда же мы увидимся снова? — Через месяц… я приду… — Через месяц?! так долго? — Раньше нельзя. — Почему? Молчит. — Разве ты не хочешь видеть меня раньше? — Хочу. — Так зачем же откладывать свидание? — Это не я. — Тебе трудно прийти? тебе мешают? — Да. — Семья у тебя что ли? Молчит. — Где ты живешь? Молчит. — Не хочешь сказать? Может быть ты нездешняя? Молчит и тянется к двери… — Пусти меня… Я озлился. Стал поперек двери и говорю: — Вот тебе мое слово; я тебя не выпущу, пока ты мне не скажешь, кто ты такая, где твоя квартира, и почему ты не вольна в себе. Губы у нее задрожали… и слышу я… ну, ну, слышу… тем же ровным голосом: — Потому что я мертвая. Внятно так… И… и я ей сразу поверил, и вся она вдруг стала мне ясна. И я не испугался, а только сердце у меня как-то ухнуло вниз, будто упало в желудок, и удивился я очень. Стою, молчу и гляжу во все глаза. Она спокойно прошла мимо меня в переднюю. Я схватил свечу — и за нею. Там — Сергей, и лицо у него странное. Он выпустил гостью на подъезд. На пороге она обернулась, и я наконец увидал ее глаза… мертвые, неподвижные глаза, в которых не отразился огонек моей свечи… Я вернулся в кабинет. Стою и думаю: «Что такое? разве это бывает? Разве это можно?» И все не боюсь; только по хребту бежит вверх холодная, холодная струйка, перебирается на затылок и ерошит волосы. А свеча все у меня в руках, и я ею машу, машу, машу… и остановиться никак не могу… О, Господи!.. Увидал бутылку с коньяком: глотнул прямо из горлышка… зубы стучат, грызут стекло. — Барин, а, барин! окликает меня Сергей. Взглянул я на него и вижу, что он тоже знает. Бел, как мел, и щеки прыгают, и голос срывается. И тут только, глядя на него, я догадался, как я сам-то испуган. — Барин, осмелюсь спросить: какая это госпожа у нас были? Я постарался овладеть собою. — А что? — Чтой-то они какие… чудные? Вроде, как бы… И мнется, сам стесняясь нелепости необходимого слова. — Ну?! — Вроде, как бы не живые? Я — как расхохочусь… да ведь во все горло! минуты на три! Аж Сергей отскочил. А потом и говорит: — Вы, барин, не смейтесь. Это бывает. Ходят. — Что бывает? кто ходит? — Они… неживые то есть… И дозвольте: такая сейчас мзга на дворе, что хороший хозяин собаки на улицу не выгонит; а они — в одном платьишке, и без шляпы… Это что же-с? Я ужасно поразился этим: в самом деле! как же я-то не обратил внимания? — И еще доложу вам: как сейчас вы провожали ее в переднюю, я стоял аккурат супротив зеркала; вас в зеркале видать, меня видать, а ее нет… Я — опять в хохот, совладать с собой не могу, чувствую, что вот-вот — и истерика. А Сергей стоит, хмурит брови и внимательно меня разглядывает; и ничуть он моей веселости не верит, а в том убежден. И это меня остановило. Я умолк, меня охватила страшная тоска… — Ступай спать, Сергей. Он вышел. Я видел, как он, на ходу, крестился. Не знаю, спал ли он в ту ночь. Я — нет. Я зажег свечи на всех столах, во всех углах, чтобы в квартире не осталось ни одного темного местечка, и до солнца проходил среди этой иллюминации. Так вот что! вот что!.. там все — как живое, как обыкновенное; и однако оно и необыкновенно, и мертво. Я не трус. Я не люблю думать… нет, не люблю решать о загробных тайнах, а фантазировать кто же не любит? Я интересовался спиритизмом, теософистами, новой магией. Я слежу за французской литературой и охотник до ее оккультических бредней. Вон и сейчас на столе валяется La Bas. Но оккультизм красив, огромен, величав. Там — Саул, вопрошающий Аэндорскую волшебницу, там — боги, выходящие из земли. Манфред заклинает Астарту; Гамлет слушает тайны мертвого отца; Фауст спускается к «матерям». Все эффектные позы, величавые декорации, значительные слова, хламиды, саваны. Ну, положим, я не Саул, не Манфред, не Фауст, а только скромный и благополучный управляющий торговою конторой. Положим, что и чертовщина имеет свой табель о рангах, и мне досталось привидение — по чину: из простеньких, поплоше. Но чем же я хуже, например, какого-нибудь Аратова из «Клары Милич?»[33] А сколько ему досталось поэзии! «Розы… розы… розы…» — звуковой вихрь, от которого дух захватывает, слезы просятся на глаза. Но, чтобы привидение пришло запросто в гости и попросило чашку чаю… и, вон, лежит недоеденный кусок хлеба, со следами зубов… Это что-то уж чересчур по фамильному! Даже смешно… Только как бы мне от этого «смешного» не сойти с ума!.. Свечи мигают желтым пламенем; день. Пришел Сергей; видит, что я не ложился, однако, ни слова. И я молчу. Напившись чаю, я отправился в лечебницу, где содержался Петров. Это оказалось недалеко, на Девичьем поле, в каких-нибудь пяти-шести минутах ходьбы. Хозяин лечебницы — спокойный, рыжий чухонец, с бледным лицом, которое узкая длинная борода так вытягивала, что при первом взгляде на психиатра невольно являлась мысль: — Этакая лошадь! Очень удивился, узнав мое имя. — Представьте, как вы кстати! Петров уже давно твердит нам вашу фамилию и ждет, что вы придете. — Следовательно, вы позволите мне повидать его наедине? спросил я, крайне неприятно изумленный этим сообщением. — Сколько угодно. Он из меланхоликов; смирный. Только вряд ли вы разговоритесь с ним. — Он так плох? — Безнадежен. У него прогрессивный паралич. Сейчас он в периоде «мании преследования» и всякую речь сворачивает на свои навязчивые идеи. Путаница, в которой, как сказал бы Полоний, есть однако же что-то систематическое. Камера Петрова, высокая, узкая и длинная, с стенами, крашеными в голубой цвет над коричневой панелью, была — как рама к огромному, почти во всю вышину комнаты от пола до потолка, окну; на подоконник были вдвинуты старинные кресла-розвальни, а в креслах лежал неподвижный узел коричневого тряпья. Этот узел был Петров. Я приблизился к нему, превозмогая трусливое замирание сердца. Он медленно повернул ко мне желтое лицо — точно слепленное из целой системы отечных мешков: под глазами на скулах, на висках и выпуклостях лба — всюду обрюзглости, тем более неприятные на вид, что там, где мешков не было, лицо казалось очень худым, кожа липла к костям. Петров бросил на меня взгляд — и бессмысленный, и острый — и проворчал: — Ага, приехал… Я знал… ждал… Садись. Мы с ним никогда не были на «ты», но теперь его «ты» не показалось мне странным. Как будто вдруг явилось между нами нечто такое, после чего иначе говорить стало нельзя, и «вы» звучало бы пошло и глупо. Мы внезапно сблизились, теснее чего нельзя, хотя и не дружественной близостью. Я мялся, затрудняясь начать разговор: — Как, мол, это ты, Василий Яковлевич, посылаешь ко мне в гости мертвых женщин? Ему, сумасшедшему, такой вопрос, может быть, и не покажется диким; но ведь я-то — в здравом уме и твердой памяти: какое же нравственное право имею я предлагать такие вопросы? Но, пока я медлил, он сам спрашивает: — Что? была? Совсем равнодушно. А у меня дыхание теснит, и губы холодеют. — Вижу, бормочет, — вижу, что была. Ну что ж? С этим, братец, мириться надо, ничего не поделаешь. Терпи. — Ты о ком говоришь-то, Василий Яковлевич? не уразумею тебя никак… — Как о ком, братец? О ней… об Анне. Я привскочил на стуле, схватил Петрова за руки. И все во мне дрожало. Шепчу: — Так это было вправду? И он шепчет: — А ты думал — нет? — И, стало быть, действительно, есть такая мертвая Анна, которую мы с тобой вдвоем видим и знаем? — Есть, брат. — Кто же она? скажи мне, безумный ты человек! — Я знаю, кто она была, а кто она теперь, это, брат, мудрее нас с тобою. — Галлюцинация? бред? сон? — Нет, братец, какой там сон… Но потом подумал и головою затряс. — А, впрочем, черт ее знает: может быть, и сон. Только вот именно от этого сна я сначала спился, а теперь собрался умирать. И притом, как же это? — он ухмыльнулся, — я сижу в сумасшедшем доме, ты обретаешься на свободе и в своем разуме, а сны у нас одинаковые. — Ты мне ее послал? горячо упрекнул я. Он прищурился как-то и хитро, и глупо. — Я послал. — Зачем? — Затем, что она меня съела, а еще голодна, — пускай других ест. — Ест?! — Ну, да: жизнь ест. Чувства гасит, сердце высушивает, мозги помрачает, вытягивает кровь из жил. Когда я умру, вели меня анатомировать. Увидишь, что у меня, вместо крови, одна вода и белые шарики… как бишь их там?.. Хоть под микроскоп! Ха-ха-ха! И с тобой то же будет, друг Алексей Леонидович, и с тобой! Она, брат, молода: жить хочет, любить. Ей нужна жизнь многих, многих, многих… И расхохотался так, что запрыгали все комки и шишки его обезображенного лица. — Ты смеешься надо мною. Как: «хочет жить и любить»? Она мертвая… — Мертвая, а ходит. Что она разбила себе пулей висок, да закопали ее в яму, да в яме она сгнила, так и нет ее? Ан вот и врешь: есть! На миллиарды частиц распалась и, как распалась, тут-то и ожила. Они, брат, все живут, мертвые-то. Мы с тобой говорим, а между нами вон в этом луче колеблется, быть может, целый вымерший народ. Из каждой горсточки воздуха можно вылепить сотню таких, как Анна. Он сжал кулак и, медленно разжав его, отряхнул пальцы. Я с содроганием последил его жест. Сумасшедшая болтовня Петрова начинала меня подавлять. — Ты думаешь, воздух пустой? бормотал он, — нет, брат, он лепкий, он живой; в нем материя блуждает… понимаешь? послушная материя, которую великая творческая сила облекает в формы, какие захочет… — Господи! Василий Яковлевич! — взмолился я, — не своди ты меня с ума: не понимаю я… Но он продолжал бормотать: — Дифтериты, холеры, тифы… Это ведь они, мертвые, входят в живых и уводят их за собою. Им нужны жизни чужие в отплату за свою жизнь. Ха-ха-ха! в бациллу, чай, веришь, а — что мертвые живут и мстят, не веришь. Вот я бросил карандаш. Он упал на пол. Почему? — Силою земного притяжения? — А видишь ты эту силу? — Разумеется, не вижу. — Вот и знай, что самое сильное на свете — это невидимое. И, если оно вооружилось против тебя, его не своротишь! Не борись, а покорно погибай. — Но ведь я видел Анну, — возразил я с тоскою, — я обнимал ее, целовал… Петров нахмурился. — Знаю все… испытано… Она сжигает мозг. Другим дифтериты, тифы, холера, а тебе и мне, — он ткнул пальцем, — нам безумие. — Да за что же? за что? вскричал я в бешенстве. Он нахмурился еще больше. — О себе-то я знаю, за что. Она, брат, с меня кровь свою взыскивает. Пятна-то там, в квартире, закрашены или нет? — Не знаю… она тоже спрашивала о каких-то пятнах. — Вот, вот… Это — когда я сказал ей, что хочу жениться, а она — как хочет; либо пусть на родину едет, либо я здесь выдам ее замуж за хорошего человека… А потом прихожу из суда, и она лежит, и полчерепа нет… И мой револьвер… А подоконник, пол — красные: кровь и мозг… Мы помолчали. — Хорошо. Она тебя любила, ты ее бросил, она тебе мстит, — это я понимаю. При чем же здесь я-то, посторонний человек? — А к тебе, брат, я ее послал. Я давно ее молил, чтобы она перестала меня истязать. Что, мол, тебе во мне? Ты меня всего иссушила. Я выеденное яйцо, скорлупа без ореха. Дай мне хоть умереть спокойно, уйди! Она говорит: уйду, но дай мне взамен себя другого. Сказываю тебе: молода, не дожила свое и не долюбила. Я и послал к тебе. — Да почему же именно ко мне, а не к Петру, Сидору, Антону? как ты вспомнил обо мне? откуда ты узнал, что я живу на твоей квартире? Ведь мы с тобой почти чужие люди, встречались раз-два, много три в год… Почему?! Петров бессмысленно качал головою и бормотал: — А я, брат и сам не знаю почему… Он поднял на меня глаза и засмеялся. — Алексей Леонидович Дебрянский, Плющиха, дом Арефьева, квартира № 20! Квартира № 20, дом Арефьева, Плющиха, Алексей Леонидович Дебрянский! Дебрянский! Дебрянский! зачастил он громко и быстро. — Что это значит? Он ответил мне таинственным взглядом. — Две недели, брат, так-то стучит… вроде телеграфа… — Кто стучит? — А вон там… Петров кивнул на изразцовую печь в углу у входа. — Мудрецы здешние, доктор с компанией, говорят: сверчки напели. Отчего же они мне напели о Дебрянском, а не о Петре, Сидоре, Антоне, как ты сказал? Кто их научил? Хорошо! пускай сверчки, я согласен и на сверчков, — да научил — то, научил кто их? Петров подозрительно покосился на двери и нагнулся к моему уху: — А я знаю: сила, брат, сила научила… та, невидимая, то, что всего сильнее и страшнее. Ты, вот, Анны испугался. Анна — что? Анна — вздор: форма, слепок, пузырь земли! Анна — сама раба. Но власть, но сила, которая оживляет материю этими формами и посылает уничтожать нас, — that is the question![34] Ужасно и непостижимо! И они — пузыри-то земли не отвечают о ней. Узнаем, лишь когда сами помрем. Я, брат, скоро, скоро, скоро… И из меня тоже слепится пузырь земли, и из меня! Он таращил глаза, хватал руками воздух и мял его между ладоней, как глину. Меня он перестал замечать, весь поглощенный созерцанием незримого мира, который копошился вокруг него… «Лепкий воздух, живой», с отвращением вспомнил я и задрожал, поймав себя на том, что, повторяя жест Петрова, сам мну в руках воображаемую глину… И, в слепом ужасе пред этою заразою помешательства, я убежал от больного. Сергей разузнал прошлое нашей квартиры. Действительно, был в ней, при Петрове, трагический случай, скрытый от меня домохозяином при найме квартиры, чтобы не отпугнуть жильца: застрелилась ненароком экономка Петрова — как думали, его любовница. По домовой книге она значилась перемышльскою мещанкою, Анною Порфирьевной Перфильевой, 24 лет… Так был я сразу выбит из колеи моей спокойной жизни и с тех пор из нее удалились факты, а вместо них воцарились призраки. Я еще не видал их, но уже предчувствовал. Между моим глазом и светом, как будто легла тюлевая сетка; самый ясный из московских дней казался мне серым. В самом прозрачном воздухе, — мерещилось мне, — качается мутная мгла, тонкая, как эфир, и такая же зыбкая… влажная и осклизлая. Я ощущал ее ползучее прикосновение на своем лице. Я чувствовал, что именно эта серая муть и есть таинственная материя, сложенная из отжитых жизней, готовая рождать «пузыри земли» в любой форме, в каждом образе, покорно повелительной силе, чтобы понять которую — говорит Петров — надо сперва умереть. И я знал, что ровно через месяц, час в час, число в число, как обещано, серая мгла снова выбросит из своих недр в мой обиход эту Анну — бессмысленную и бесстрастную любовницу-привидение, вампира, палача, одаренного необъяснимо жестокою, несправедливою властью убить меня своими ласками… за что? за что? Я посетил психиатра: старого, седобородого профессора, с голым черепом, крутою шишкою выдвинутым вперед, с целым кустарником седых бровей над голубыми глазами. Выслушав меня, он долго думал. — Туман, сказал он наконец. И, в ответ на мой вопросительный взгляд, прибавил: — Это все — вот это. Он указал на окно, седое от разлитой за ним молочно-белой мглы холодных паров; уличные фонари мигали сквозь нее красноватыми тусклыми огоньками, будто из-под матовых колпаков. — Англичане в такие туманы стреляются, а русские сходят с ума. Вы русский, следовательно… Я не буду диспутировать с вами, насколько реальны ваши представления. Во-первых, как вы ни страдаете от них, но вам — не правда ли? — в то же время очень хочется, чтобы они были настоящие, а не воображаемые. Во-вторых, вы пришли ко мне не диспутировать, но лечиться. И я вас вылечу. Бегите отсюда. Бегите туда, где нет этого… — он снова указал на окно, — и, если можно, навсегда. Бегите под яркое небо, под палящее солнце, к ласковым морям, к пальмам и газелям. Там вы забудете своих призраков. А север — родина душевных болезней — для вас более не годится. Ваш Петров сказал правду. Воздух у нас живой и лепкий: он населен сплином, неврастенией, удрученными и раздражительными настроениями. Мы ведь киммерияне. Вы читали Гомера?[35] — Давно. Доктор закрыл глаза и прочитал наизусть: — «Бледная страна мертвых, без солнца, одетая мрачными туманами, где, подобно летучим мышам, рыщут с пронзительными криками стаи жалких привидений, наполняющих и согревающих свои жилы алой кровью, которую высасывают они на могилах своих жертв». И, когда эта цитата заставила меня вздрогнуть, профессор засмеялся и ударил меня по плечу. — У вас киммерийская болезнь… Бегите на юг! Недуг, порожденный туманом и мраком, излечивается только солнцем… И вот я здесь…Коринфская невеста
С. Соломин ВАМПИР
I
Я знал только третью жену Боклевского. О первых двух ходила легенда, если можно так назвать гнусную, бесстыдную сплетню, которая вьется, липнет, мутит сознание людей, отравляет чистых и служит необходимой духовной пищей грязных. Говорили много и скверно о причине смерти этих двух женщин. — Синяя борода! Факт, конечно, был налицо. Боклевский женился на молоденькой девушке из хорошей дворянской семьи, пришедшей в упадок. Это обстоятельство особенно важно потому, что исключало возможность предположить то обычное преступление, которое ведет злой ум через брак к кошельку женщины. Сам Боклевский имел хорошие средства и мог жить, не нуждаясь ни в службе, ни в заработке. Прожил он с первою женою, Ниной, всего полтора года. До свадьбы и первые месяцы брака она отличалась цветущим здоровьем, ни разу не болела серьезно, и, казалось, этому прекрасному женскому телу суждено долголетие. Но вскоре молодая женщина начала бледнеть, худеть, все чаще обращалась к врачам и умерла от малокровия и полного упадка сил. Знакомые с трудом узнавали в лежащем в гробу скелете, обтянутом кожей, еще недавно столь жизнерадостную Нину. Вторая жена, Вера, почти буквально повторила печальную историю первой. Смерть на втором году брака произошла от тех же причин: малокровие и упадок сил. Врачи не видели в болезни этих двух женщин, так безвременно погибших, ничего удивительного, необъяснимого. — Подобные случаи, когда совершенно здоровые девушки, перейдя к жизни замужней женщины, гибнут от маразма, зарегистрированы в летописях медицины. — Какая же причина этих случаев? — спрашивали врачей знакомые Боклевского. — Брак в жизни девушки является всегда роковым моментом, потрясающим весь ее организм. На одних это отражается слабо и лишь временной утратой сил, которые быстро восстанавливаются, даже получают еще больший расцвет, закладывая основание нового существа — женщины. Для других натур потрясение оказывается слишком сильным: девушка гибнет, не превращаясь в женщину. Наблюдались случаи и совершенно противоположные. Малокровные девушки, страдающие той неопределенной болезнью, которую прежде называли «хлорозисом», вступив в брак, излечивались, и через год-другой их нельзя было узнать, до того велика была разница между худосочной девушкой и полной жизни и здоровья женщиной, женой и матерью. Это как бы подтверждает обычный совет старинных врачей при малокровии девиц: «ей пора бы выходить замуж». — Не думаете ли вы, доктор, что причиной смерти двух жен Боклевского могла быть его болезнь? Чахотка, например? — Вы рассуждаете, как невежда. Неужели вы думаете, что перед постановкой диагноза врач не делает сотни, тысячи предположений, не строит гипотез. Но фантазия здесь ни при чем. Нужны факты и факты, точные наблюдения, микроскопический и химический анализ. Я лечил обеих жен Боклевского, не раз созывался консилиум. Выписывали знаменитостей. Сам муж подвергался всестороннему исследованию. Поверьте, все было сделано, все предположения, возможные в данном случае, проверены. Ни туберкулеза, ни другой хронической, истощающей болезни не обнаружено. Так люди науки и не разъяснили роковой тайны, которую искали окружающие. Сплетня хотела во чтобы то ни стало найти какую-нибудь пошлую, грязную причину. Стали говорить о том, что Боклевский отвратительно обращался со своими женами и, как говорят, «загнал их в гроб». Приводили несомненные доказательства зверства мужа, не стеснявшегося бить нежных, прекрасных жен.II
Все это было мне известно, когда я познакомился с Боклевским, но я привык не всему верить, что считается за общепризнанную истину. И стал присматриваться к человеку, прославленному «Синей Бородой». Боклевский, человек высокого роста, сухощавый блондин лет 38, не производил впечатления больного или психопата. Напротив, — это был, по-видимому, совсем нормальный человек, без индивидуальных особенностей. Просто — мужчина, не безобразный, вполне приличный, не особенно умный, но и не глупый. Никому не колол глаз своим богатством, но и не скрывал привычек человека, никогда не нуждавшегося. Все в нем было ровно, уравновешено, без ярких мазков — фигура, зарисованная природой в средних, немного линючих красках. И разговор простой, по существу — обывательский, без углубления в неизведанное, без дерзновенных порывов ввысь. Я понадобился ему, как адвокат по одному гражданскому процессу, и сам не знаю, как сошелся с ним близко, по-приятельски, но настолько, что он просил меня остаться после делового разговора, спрашивал в кабинет кофе и коньяк, угощал дорогими сигарами. Чаще слушал меня, но иногда и говорил о том, о сем. Но в один вечер мне почудилось в нем что-то странное, возбужденное. Глаза, эти глаза зеленоватые, водянистые, то и дело загорались золотыми искорками, и мерцающий свет их указывал на то, что мы, окружающие, не все знаем в этом человеке, а есть в нем еще что-то, для нас неведомое, скрытое, тайное. Я глядел на него с особым любопытством. Нервной рукой чаще обыкновенного наливал он из бутылки и торопил пить, поднимая свою рюмку. — Вы можете меня поздравить, — сказал он вдруг, словно бросился, очертя голову, в бездну: — я женюсь; на днях свадьба. Мне хочется пригласить вас шафером. Вот тут-то мне и вспомнилось все, что я слышал раньше об этом двойном вдовце, и мне показалось, что некто собирается совершить тяжкое преступление и тянет меня в сообщники. Но я сидел в кабинете богатого клиента, в строго корректной дорогой обстановке, курил ароматную сигару и сам был одет во все изящное, что человека обращает в «и т. п.», в «и т. д.», «и проч». Я только спросил спокойным, умеренно-громким голосом, полным, однако, внутреннего достоинства. — Вы женитесь на девушке? Он весь просиял и глаза его загорелись яркими звездами. — На девушке, на прекрасной, чистой девушке! Волнуясь, он встал, и заходил по ковру, устилавшему пол кабинета. — Я был несчастен два раза. С любовью, с глубокой благодарностью вспоминаю я о моих покойных женах. Какие это были чудные женщины, как любили меня. А я их? Душу готов был отдать за поцелуй, за ласку. Боклевский долго и молча отмеривал расстояние между письменным столом и камином. — Я — странный человек. Когда около меня нет юного женского существа, я глубоко несчастен. Не подумайте, что я особенно страстен… женщин, что ли, так сильно люблю. Нет! Мне органически необходима близость женщины. Я становлюсь бодрым, иначе, светлее, лучше смотрю на весь мир, чувствую себя человеком, чувствую, что я существую. В одиночестве я гибну. Не сумею передать вам всего, в точности. Это не по моим силам. Но одинокий я чувствую, как силы постепенно меня оставляют, как я иссыхаю… Простите, не найду слов. Вообразите себе почву, способную произрастить что-нибудь, но бесплодную от долгой засухи. Нужен благотворный, оживляющий дождь. Без него этот чернозем — пыль, тот же песок. Для меня таким дождем, оживляющим долину смерти, дающим кровь и жизненные соки засохшей мумии, является женщина. Молодое, чистое, нетронутое существо… В том, что он говорил, не было ничего страшного, а мне было страшно, жутко до тошноты, до истомы во всем теле, и тайный голос предсказывал мне: «погибнет и эта!» Отчего? Почему? Передо мною маячила длинная фигура сухощавого блондина, под сорок лет, в возрасте, когда так свойственно искать близости с молодой женщиной, жаждать ее постоянного присутствия. В чем бы мог я обвинять его, за что ненавидеть, бояться, презирать? Ему, одинокому, хочется тепла, женской ласки, уюта семейной жизни. Дважды он был счастлив и несчастен. Надеется на прочное счастье в третий раз… И я согласился быть шафером — и, держа над головою его венец, косил глаза на прекрасную фигуру молодой невесты, стыдливо замирающей в предчувствии новой жизни… На второй год счастливой супружеской жизни заболела и эта. Я был другом их дома, для меня всегда был готов прибор за их столом, я знал мелочи их интимной жизни. Более любящего, мягкого, снисходительного мужа я не видал. Он окружал жену атмосферой любви и ласки, никогда не оставлял ее одинокой, предупреждал каждое ее желание. Через год смотрел на нее такими же влюбленными глазами, как в первые дни после свадьбы. И она, радостная, счастливая — купалась в лучах ласки — и часто сравнивал я ее с ребенком, шалящим в теплой кровати матери, с женщиной, отдавшейся в жаркий день любовным прикосновениям морских волн, под нежащим солнцем юга… Заболела! Стала худеть, бледнеть. Погас румянец, поблекли и втянулись щеки, болезненно-жалко обозначились ключицы под шеей и ямки около них, — зато выдвинулись больные, страдающие глаза, молящие о милости, о возврате недавнего здоровья, испуганные, видящие уже то, что видимо только перед концом… Третья жена Боклевского, Надежда, умерла как и первые две, на втором году замужества. Я целовал в гробу ее лоб и с ужасом убедился, что это почти мумия, не имеющая обычного холода трупа, словно целовал я не мертвеца, а манекен из целлулоида… Боклевский уехал за границу — и я потерял его из виду. Странные слухи доходили до меня издалека. Там он, пользуясь иными законами о браке, женился опять, и будто жена его умерла, и будто он еще раз связал себя супружеством… Прошло лет восемь. Слухи затихли о Боклевском давно и все перестали им интересоваться. Общее внимание в нашем городе возбудило известие, что Боклевский едет, отчаянно больной, в свое родовое имение, — едет из-за границы умирать на родине. Известие это подтвердилось, и вскоре все узнали, что Боклевский вместе с врачом-японцем уже находится в старом усадебном доме села Спас-Колино. Я поспешил его навестить. В скелетообразном теле, лежавшем на кровати, я едва узнал когда-то жизнерадостного, хотя всегда сухощавого Боклевского. И что меня особенно поразило: выражение глаз испуганное, молящее опомощи, как у его третьей жены перед смертью.
Он, видимо, мне обрадовался. Протянул руку, слабо улыбнулся.
Прикосновение его кожи заставило меня содрогнуться. Горячая рука была словно не телесная, а сделанная искусственно. Быть может, из дерева, чем-нибудь обтянутого. Кожа сухая, бумажная, сказал бы я.
И весь он был именно сухой. Тело, которое лишено влаги, жизненных соков. Воспользовавшись моментом, когда больной уснул, я отозвал врача.
— Что с ним?
Японец хитро глянул на меня черными глазами и блеснул на темном лице оскалом белых зубов.
— Вы, европейцы, этому не поверите, Боклевский болен редкой болезнью, известной на Востоке. Особый микроб — мумиефицирующая бацилла. Он много путешествовал, — вероятно, заразился. Тело его медленно, но верно иссыхает и образуется в мумию. Действие этой бациллы известно было в древности. Можно навеки сохранить труп, кусок материи, что хотите, если подвергнуть их действию жидкости, в которой культивирована эта бацилла. Питательной средой для нее служит мед. Вот почему царь Ирод убил жену в гневе и в горьком отчаянии, желая сохранить ее труп, опустил его в стеклянный гроб, наполненный медом, и долго хранил в своем дворце. Боклевский кончит жизнь, обратившись в мумию, и я убежден, что выройте вы его через десять лет, он будет все такой же, как в момент смерти.
Я рассказал японцу о таинственной смерти жен Боклевского.
— Что же, это легко объяснимо. Он заражал их мумиефицирующей бациллой, и они гибли, как организмы более слабые.
Так наука разъяснила тайну «Синей Бороды», который вскорости сам умер и был похоронен в семейном склепе.
И что меня особенно поразило: выражение глаз испуганное, молящее опомощи, как у его третьей жены перед смертью.
Он, видимо, мне обрадовался. Протянул руку, слабо улыбнулся.
Прикосновение его кожи заставило меня содрогнуться. Горячая рука была словно не телесная, а сделанная искусственно. Быть может, из дерева, чем-нибудь обтянутого. Кожа сухая, бумажная, сказал бы я.
И весь он был именно сухой. Тело, которое лишено влаги, жизненных соков. Воспользовавшись моментом, когда больной уснул, я отозвал врача.
— Что с ним?
Японец хитро глянул на меня черными глазами и блеснул на темном лице оскалом белых зубов.
— Вы, европейцы, этому не поверите, Боклевский болен редкой болезнью, известной на Востоке. Особый микроб — мумиефицирующая бацилла. Он много путешествовал, — вероятно, заразился. Тело его медленно, но верно иссыхает и образуется в мумию. Действие этой бациллы известно было в древности. Можно навеки сохранить труп, кусок материи, что хотите, если подвергнуть их действию жидкости, в которой культивирована эта бацилла. Питательной средой для нее служит мед. Вот почему царь Ирод убил жену в гневе и в горьком отчаянии, желая сохранить ее труп, опустил его в стеклянный гроб, наполненный медом, и долго хранил в своем дворце. Боклевский кончит жизнь, обратившись в мумию, и я убежден, что выройте вы его через десять лет, он будет все такой же, как в момент смерти.
Я рассказал японцу о таинственной смерти жен Боклевского.
— Что же, это легко объяснимо. Он заражал их мумиефицирующей бациллой, и они гибли, как организмы более слабые.
Так наука разъяснила тайну «Синей Бороды», который вскорости сам умер и был похоронен в семейном склепе.
Я давно уже отказался от профессии адвоката, живу уединенно в Петербурге, на краю города. Я член общества, изучающего тайные науки и дерзающего переходить через грани, положенные разуму человеческому. Очень мало знаю еще я, ищущий. И в благоприятную минуту я, кверенд, спросил Меона: — Великий учитель, скажи, что думаешь ты о загадочной смерти жен Боклевского. Меон, выслушав мой рассказ, омрачился. — Сын мой, ты стоял близко к одному из ужасных существ, которые, к счастью, появляются в физическом плане очень редко. Человек есть астральное существо в физической оболочке. Когда человек умирает, физическая оболочка его разлагается. Но и в астральном плане происходит нечто подобное физической смерти. Сущность сбрасывает астральную оболочку и уходит в третью сферу — ментальный план. Но оболочка, брошенная душой, не исчезает, — она, напротив, ищет воплощения и в некоторых случаях достигает своей цели. Тогда является человек-вампир. Существо, способное жить лишь за счет других. Существо, невидимо и неосязаемо высасывающее жизненные соки из женщин, если это мужчина, из мужчин, если это женщина. Боклевский был вампиром. Так тайну Боклевского и его несчастных жен объяснил мне великий учитель оккультных наук… Но отчего я испытываю такой ужас, такой душевный холод, когда я вижу, что жена моя худеет и бледнеет? И вместе с боязнью потерять ее, внутренний голос говорит мне — «все люди — вампиры, все сосут жизненные соки из других и живут за счет их сил и здоровья, — все живут неосязаемым убийством — и сама жизнь есть цветок, корнями питающийся трупом».
Е. Блаватская [ЧЕРНАЯ КАРЕТА]
В начале нынешнего века в России произошел один из наиболее страшных случаев вампиризма, какие когда-либо отмечались. Губернатором в области Ч. состоял человек лет шестидесяти, злобный, жестокий и ревнивый тиран. Облеченный деспотической властью, он пользовался ею без удержу, как подсказывали ему его звериные инстинкты. И он влюбился в хорошенькую дочь подчиненного ему чиновника. Хотя девушка была помолвлена с молодым человеком, которого она любила, тиран принудил ее отца дать согласие на брак, и бедная жертва, несмотря на свое отчаяние, стала его женой. Тут проявился вовсю его ревнивый характер. Он бил ее, держал ее неделями запертой в ее комнате и запрещал ей видеться с кем-либо не иначе, как в его присутствии. Наконец он заболел и умер. Но когда он почувствовал, что его конец приближается, он заставил ее поклясться, что она больше замуж не выйдет; и со страшными клятвами он пригрозил ей, что если она выйдет замуж, нарушив клятву, то он вернется к ней из могилы и убьет ее. Его похоронили в кладбище за рекою, и молодая вдова никаких дальнейших неприятностей не испытывала до тех пор, пока природа не превозмогла ее страхи и она, вняв мольбам своего прежнего любимого, возобновила с ним помолвку. Ночью после обычного празднования помолвки, когда все уже легли спать, старая помещичья усадьба была разбужена отчаянными криками, доносившимися из ее комнаты. Вломились в дверь и нашли несчастную женщину лежащей в крови в глубоком обмороке. В это же самое время было слышно, как карета с грохотом выезжала со двора. На теле женщины обнаружили черные и синие кровоподтеки, как бы от щипков, из небольшого прокола на шее сочились капли крови. Когда сознание к ней вернулось, она сообщила, что ее покойный муж вдруг вошел в ее комнату точно с такою внешностью, как при жизни, за исключением того, что был страшно бледен; что он упрекал ее за непостоянство, а затем избил и исщипал ее жесточайшим образом. Ее рассказу не поверили; но на следующее утро стража, поставленная на конце моста, соединяющего оба берега реки, донесла, что как раз перед наступлением полночи черная карета с шестеркою лошадей бешено пронеслась мимо них по направлению к городу, не ответив на окрик стражи. Новый губернатор, который не поверил этому рассказу о призраке, тем не менее принял меры предосторожности, удвоив стражу в конце моста. Однако ночь за ночью повторялось то же самое, причем солдаты, несущие стражу, заявляли, что шлагбаум на их заставе у моста сам поднимается, несмотря на их усилия остановить. В то же самое время каждую ночь карета с грохотом въезжала во двор старого дома; сторожа, включая семью вдовы и слуг, впадали в глубокий сон; и каждое утро молодую жертву находили в ссадинах, источающей кровь и в обмороке, как и прежде. Весь город пришел в оцепенение. Врачи не могли дать никаких объяснений, священники приходили, чтобы проводить ночи в молитве, но как только приближалась полночь, всех охватывала ужасная летаргия. Наконец, приехал сам областной архиепископ и совершил обряд изгнания, но на следующее утро состояние вдовы оказалось хуже, чем когда-либо. Она уже была на пороге смерти. Губернатор наконец был вынужден прибегнуть к строжайшим мерам, чтобы прекратить все увеличивающуюся панику в городе. Он поставил на мосту полсотни казаков с приказом остановить призрачную карету во что бы то ни стало. В точности в обычный час и услышали и увидели, как карета со стороны кладбища приближается к городу. Офицер стражи и священник, несущий крест, стали перед шлагбаумом и вместе закричали: «Именем Бога и царя — кто идет?» В окно кареты просунулась хорошо запомнившаяся голова и знакомый голос ответил: «Государственный тайный советник и губернатор К.!» В тот же самый момент офицер, священник и казаки были отброшены в сторону как бы электрическим током, и призрачная карета проскочила мимо них, прежде чем они успели дохнуть. Тогда архиепископ решил прибегнуть к освященному веками средству — выкопать труп, пригвоздить его к земле дубовым колом через сердце. Это было проделано с большой религиозной церемонией в присутствии всего населения. Рассказывают, что тело было найдено с полной глоткой крови, с красными щеками и губами. В тот миг, когда первый удар был нанесен по концу кола, стон раздался из трупа, и струя крови высоко брызнула в воздух. Архиепископ произнес обычную для таких случаев молитву изгнания, и труп был снова закопан в землю. И с тех пор больше ничего не было слышно о вампире. Насколько эти факты в данном случае были преувеличены преданием, этого мы не можем сказать. Но нам рассказал об этом один очевидец; и в настоящее время в России есть семьи, старшие члены которых помнят этот страшный рассказ.Е. Просин СОВРЕМЕННЫЙ СЛУЧАЙ ВАМПИРИЗМА
Не так давно в Петербурге в семье Гуреско подтвердился феномен вампиризма. Вся семья г. Гуреско занималась спиритизмом, причем оказалось, что все члены отличались выдающимися медиумическими способностями. Но в особенности хорошими медиумами являлись дочь и один из сыновей — Николай Гуреско. Молодому человеку было около 20 лет, он пользовался цветущим здоровьем и с детства никогда ничем не хворал. С некоторого времени родители Николая стали замечать, что он начал бледнеть и худеть безо всякой видимой причины, так как на вопросы заботливых родных он отвечал что чувствует себя совершенно здоровым. Предполагая, что на здоровье сына оказывает влияние петербургский климат, г. Гуреско решил на лето перебраться в имение. Тут-то и выяснилась причина потери сил и здоровья молодым Гуреско, благодаря наблюдениям его матери. Недели через две после переезда семьи в деревню, ночью, г-жа Гуреско услыхала в спальне сына, которая находилась рядам с ее комнатами, голоса — сына и какой-то женщины. Предполагая, что сын устроил любовное свидание у себя в комнате, она возмутилась этим поступком и на следующее утро сообщила свои наблюдения мужу, который, конечно, решил переговорить с сыном. На сделанное замечание, отец получил следующий ответ: «Папа, я не виноват ни в чем, эта женщина сама ко мне явилась, она приходила по ночам в Петербурге и через неделю после приезда начала посещать меня и здесь». — Кто же эта женщина? — «Этого я не знаю, но объясню тебе, как все это произошло. Однажды ночью, еще в Петербурге, как только я улегся в постель, у меня явилось странное ощущение, какое-то жуткое чувство, как будто кто-то около меня находится. Я постарался стряхнуть с себя это состояние и заснуть, но не успел закрыть глаза, как услыхал какой-то шелест и, взглянув, — замер от ужаса: передо мной, в ногах у кровати я ясно различил тень женщины… «Не бойся, я пришла тебя навестить. Я твой друг, раздался чуть слышный шепот, — наконец-то я тебя нашла и буду навещать теперь каждую ночь»… Что было дальше я не помню, должно быть я потерял сознание. Проснувшись утром, я чувствовал некоторую слабость и объяснил ее пережитым ночью волнением. С тех пор она начала являться ко мне всякую ночь, и я не только привык к ее посещениям, но у меня сказалось по отношению к ней два чувства: ужаса — в ожидании ее появления, и — страстной любви в ее присутствии. Надо тебе сказать, что с каждым разом она становилась все менее призрачна и, наконец, приняла вид воплощенного человека. Вначале она, разговаривая со мной, садилась в ногах, потом все ближе к изголовью; тогда я ощутил живое тело женщины… и она мною овладела. Ты не можешь себе представить, до чего она дивно хороша; такой красоты и таких чудных форм мне еще не приходилось видеть; ее страсть — это какой-то вулкан… она иногда до того забывается, что даже меня кусает. Взгляни, у меня на шее ранка, которая никак не может зажить»… — Ранка? Какая ранка? — воскликнул в ужасе отец, — покажи ее». Ранка оказалась как бы от прокола; характерная, круглая, небольшая, синеватая по краям, но без признаков нагноения. «Весьма странную историю она мне рассказывала — продолжал свое повествование молодой человек, — она говорит, что я жил очень давно, в то время, когда Египет был в полном расцвете своей славы и величия, что будто я служил оруженосцем у фараона, а она была в то время моей женой; фараон, на наше горе, воспылал к ней бурной страстью, но она, любя меня, отказалась ему принадлежать. Желая устранить меня с дороги, в расчете, что с моей смертью она ему отдастся, однажды во время пира, придравшись к удобному случаю, — он раскроил мне голову. Однако, несмотря на мою смерть и на все старания фараона, она продолжала упорствовать, за что была заключена в подземную темницу и уморена голодной смертью. С тех пор, по ее словам, она меня искала много веков, пока, наконец, в возмездие за верность, ей было разрешено меня найти в моем новом воплощении». Будучи сведущим оккультистом, отец сразу понял, что сын его находится во власти вампира; нужно было найти средство избавить его от гибели, которая ему грозила. После обстоятельного обсуждения вопроса, он решил загипнотизировать сына и, доведя до состояния сомнамбулического ясновидения, узнать от него самого необходимые меры для его спасения, что ему и удалось довольно скоро. На вопрос у загипнотизированного сына (которого он усыпил, под предлогом исправления здоровья), что надо сделать для уничтожения влияния вампира, он, после настойчивых требований, ответил, что необходимо взять находящийся у него в бумажнике фотографический снимок этой женщины, дать его целомудренной девушке, которая должна проколоть на снимке глаза и то место, где находится сердце. На фотографии была изображена обнаженная женщина необыкновенной красоты, стоявшая между коленопреклоненными монахами, с выбритыми макушками, которые смотрели на нее с восторгом. После того, как была произведена предписанная операция с карточкой, женщина-вампир явилась к сыну г. Гуреско ночью в последний раз в ужасном виде, с проколотыми глазами и раной у сердца, вся облитая кровью. Она прилагала все усилия, чтобы к нему приблизиться, что ей, однако, не удалось, потому что, по-видимому, между ею и кроватью выросла какая-то невидимая преграда, которую она никак не могла преодолеть и, наконец, с проклятием исчезла. После этого здоровье молодого Гуреско начало постепенно поправляться, и вскоре он совершенно выздоровел. Все вышеизложенное записано со слов молодого Гуреско и подтверждено его матерью, так как отец молодого человека уже скончался.Приложение
А. Хейдок Вампир
Был я священником[36] в большом селе в километрах 50-ти от Киева. В том же самом селе находился спиртовой завод, где работал бухгалтером человек, с которым мне дела иметь не приходилось: он был неверующим, а я — священник. Что у нас общего? Но слыл он человеком холодным, бессердечным… Умер этот бухгалтер (как-то внезапно умер), и похоронили его, конечно, без меня, по гражданскому обряду. Прошло какое-то время, летом это было, возвращаюсь домой часам к шести, а жена мне и говорит. — Иди в залу, бухгалтерша там ждет тебя — давно дожидается. Подивился я — что ей от меня понадобилось? Вхожу в зал, здороваюсь. — Зачем пожаловали? — спрашиваю. — Помогите, батюшка! — говорит. — Муж мой, умерший, начал ко мне по ночам приходить. И рассказывает, что спустя всего несколько дней после похорон, муж ночью появился во дворе дома, где она живет. Первые ночи ходил только по двору, молча. Другие ночи к цепной собаке подходил. Потом стал заходить в дом и вчера сказал ей, что он скоро и ее возьмет с собой на кладбище… Рассказывает, волнуется; видно, и страшно ей и не знает, что предпринять… И еще припомнилось, люди сказывали, при муже-то ей не сладко жилось… — Ладно, — говорю, — что смогу — сделаю. Хоть и поздновато, прихватил, что нужно, и пошли на кладбище. Совершил над могилой отпевание; и есть в нем такая часть — опечатыванием могилы называется. Вот на это опечатывание могилы я крепко надеялся… Потом пошли на квартиру вдовы. Там я освятил воду и обрызгал все окна, двери и пороги и крепко наказал вдове, что если случится такое, что он все же придет, не открывать ему, как бы он там ни стучался. Впоследствии вдова мне сообщила, что в первую ночь после моего ухода покойник все же пришел, ходил по двору, но не мог самостоятельно проникнуть в квартиру. Он долго стучал, наконец, ушел и с тех пор больше не появлялся.* * *
Что в данном случае помогло и что не помогло? Обряд отпевания и запечатывания могилы, хотя священник и «крепко на него надеялся», явно не помог, ведь вампир вышел. Помогла освященная вода. Почему и как? На эти вопросы дает ответ случай, описанный в одном из номеров журнала «Оккультизм и Йога». В Таллинне, в одной из комнат старого дома, обитателей беспокоило привидение: оно иногда появлялось из одной стены, переходило комнату и исчезало в другой. Чтобы от него избавиться, пригласили теософа. Тот молча посидел в беспокойной комнате, и после этого призрак никогда больше не появлялся. Когда спросили теософа, в чем секрет его сидения в комнате, тот ответил, что он в это время мысленно построил непроницаемый стеклянный колпак, покрывающий все помещение. Так и наш священник: обрызгивая водою двери и окна, он, по-видимому, мысленно представил себе несокрушимую преграду для существа, тело которого из такой же тонкой материи, как мысль. Так как рассказ священника перекликается со случаем вампиризма, рассказанным мне ученицей строительного училища В. про свою тетю, привожу и его, чтобы по обоим рассказам дать объяснение.Место происшествия — Семипалатинская область, Жарминский район, станционный поселок ст. Жарма Турксиба. Время — 1938–1939 гг. По просьбе племянницы не называю фамилии тети, которая теперь живет в Магнитогорске. Ее муж служил стрелочником и был зарезан поездом. При жизни он был хорошим мужем, любил жену. После того как его похоронили, сразу же начал появляться во дворе и в сарае, где жена доила корову. При жизни он охотно отдавался хозяйственным делам и после смерти сохранил к ним интерес. Он вступал в длительные беседы со своей женой, и последняя перестала его бояться. Иногда они разговаривали по утрам во время дойки. Звуки разговора доносились до слуха посторонних лиц, и те спрашивали вдову: — С кем это ты там разговариваешь? Но если посторонние лица во время таких разговоров входили в сарай, где протекала беседа, они видели только одну вдову покойного, а сам он для посторонних оставался невидимым. Так продолжалось некоторое время, и ничем вампирическим потусторонний гость себя не проявлял. Но вдруг он потребовал, чтобы жена прислала на кладбище табаку и притом при непременном условии, что табак этот должен принести его же сынишка, которому в то время было около пяти лет. Жена не соглашалась, подозревая что-то неладное, и предлагала покойному самому зайти в дом и взять табак. Но покойник настаивал, чтобы именно сынишка принес. Жена в душе решила не посылать ребенка. Велико было ее удивление, когда сын на другой день заявил, что он видел папу и что папе нужен табак и он сам хочет отнести табак на кладбище… Вдова категорически запретила ему это делать. Но на другой день ей пришлось куда-то отлучиться. Чтобы сыну не вздумалось в ее отсутствие побежать на кладбище, она заперла его в комнате, закрыв все двери и окна. Когда вернулась, мальчика в комнате не оказалось: он нашел способ удрать… Начались поиски маленького беглеца, которые никакого результата не дали. Через три дня мальчик, бледный и еле живой, сам вернулся домой и вскоре умер. Чтобы избавиться от дальнейших посещений вампира, тетя переехала на жительство в Магнитогорск, куда тот за нею не последовал. В Магнитогорске тетя вторично вышла замуж.
* * *
Вампиризм — грустный факт действительности. То, что называется душою или сознанием, облеченное в невидимое обычному зрению астральное тело[37], в момент смерти покидает физическое тело (но само не уничтожается). Полная смерть наступает в момент полного отрыва души от своего физического тела. До тех пор, пока такой отрыв не состоялся, всегда существует возможность возвращения души в тело, даже в том случае, когда оно носит все наружные признаки смерти и врач признает его мертвым. Именно на таком возвращении основаны так называемые чудесные воскресения покойников. Иногда душа отделяется медленно, а родственники спешат с погребением. К тому моменту, когда над гробом уже вырос могильный холмик, оно, может быть, отделилась только наполовину… В таких случаях охваченная ужасом, она насильно входит обратно в оболочку, от которой только что старалась избавиться, и тогда происходит одно из двух: 1) или несчастная ожившая жертва начинает биться в конвульсиях предсмертной муки от удушья, или же 2) если это был грубо материальный человек, знавший только животные устремления и преследовавший лишь сугубо эгоистические цели, он становится вампиром и начинает трудную двутелесную жизнь полусмерти. Чтобы не дать разлагаться физическому телу, астральная форма просачивается через могильную землю, бродит поблизости и сосет жизненную энергию живых существ, которую по магнитной нити передает оставшемуся в могиле физическому телу, которое таким образом может сохраняться очень долго. Существуют вампиры и другого рода. Тема вампиризма настолько обширна, что изложение ее в кратких пояснениях этой книги практически невозможно. Лучшим способом избавления от вампиризма считается сжигание трупов.А. Хейдок Несостоявшийся роман в гостинице мертвых
Решив приводить в этой книге лишь достоверные факты, сообщенные или самими участниками описываемых событий, или лицами им близкими, я все же сделаю исключение, поместив газетный материал. Вырезку из шанхайской китайской газеты с описанием весьма своеобразного случая вампиризма я в 1947 году привез в Советский Союз, но, спустя три года, при очередном крутом повороте моего жизненного пути она была утеряна; поэтому вместо точного воспроизведения, я могу только пересказать ее содержание своими словами, добавив к картине Шанхая тысяча девятьсот сороковых годов несколько штрихов, без которых читателю кое-что осталось бы непонятным. Итак.В два часа ночи на улице Фрелупт все же наступила тишина. Рассосалось месиво автомашин, рикш, троллейбусов, автобусов, трамваев. Утих звон и гам тысячеголового уличного потока. Очистились подворотни и тротуары от орущих уличных торговцев; нет пристающих, хныкающих, изъязвленных, дурно пахнущих нищих… Желтый Вавилон спал: спали богатые в роскошных спальнях под отдаленное гудение фена; спали бездомные в переулках, разостлав на асфальте газеты… Тишина. Нет никого на улице… Показался ночной патруль — двое полицейских. Один из них китаец, другой — русский парень из эмигрантов, которого безработица загнала на полицейскую службу Французской концессии[38]. Обоим хочется спать — они позевывают и иногда обмениваются короткими репликами. И вдруг — перед ними невдалеке маячит фигура одинокой девушки. — Проститутка! — решают оба в один голос. — Разве порядочная девушка в этот час… Как сговорившись, оба ускоряют шаги и догоняют ее. Девушка-китаяночка не похожа на проститутку. Изящно одетая, красивая и встречает обоих холодным взглядом. — Вам не страшно одной так поздно на улице? — Нет. — Если вы разрешите, любой из нас с удовольствием проводит вас до дома? Она секунду глядит на обоих. — Ну если вам так хочется, — она тычет пальчиком в сторону китайского полицейского, — тогда вы… Русский слегка разочарован: повезло не ему, а напарнику. — Ну и черт с ними! Они ведь свои… — и лезет в карман за сигаретой. Его напарник старался не терять времени даром — спутница на редкость привлекательна, а он был молод… Он засыпал ее вопросами и рассказывал о себе, но, к сожалению, не успел сказать и половины того, что задумал, как спутница заявила, что они уже подошли к ее дому и им надо расставаться. Молодой человек решил использовать последний шанс: — Может быть, вы разрешите пригласить вас завтра в кино? — Ну что ж, это можно, — она засмеялась, — звоните мне по телефону 37-82-95[39], меня зовут Ли-сян-фу. Тут молодому человеку в соответствии с буржуазными традициями Шанхая следовало бы вручить девушке свою визитную карточку с полным именем, титулом (если бы таковые имелись) и адресом. Ну какая же тут визитная карточка, когда и так денег не хватает, а адрес — казарма! Он вышел из положения, быстро написав все это на листочке, вырванном из записной книжки, и передал девушке. Та взяла листок, и на этом они расстались. В сухом изложении репортерской заметки дальнейшие события сложились следующим образом. Китайский полицейский, немного отдохнув после патрулирования, купил два билета в кино и позвонил по данному девушкой номеру телефона, чтобы сговориться о времени и месте встречи. Ему ответили, что тут никакой Ли-сян-фу не знают, и повесили трубку. Чтобы не утратить шанса на счастье, которое, может быть, было совсем близко (да и билетов жаль), он по номеру телефона узнал адрес и со всех ног помчался туда сам. Дом, у которого он ночью расстался с девушкой, оказался похоронным бюро. Здесь мы вынуждены прервать рассказ, чтобы дать читателю представление о том, что такое шанхайские похоронные бюро сороковых годов. Китай весь в огне гражданской и второй мировой войны. Богачи из провинций вместе со своими капиталами «перебазировались» в Шанхай. Семимиллионный город полон как богатыми, так и нищими. Бешеная спекуляция одних и отчаянная борьба за жизнь разоренных войною китайских беженцев, хлынувших в город в надежде хоть что-нибудь заработать. На улицах, по газетным сведениям, каждый день подбирают в среднем по 60 трупов. Городские власти куда-то их увозят, говорят — в общую могилу. Но умирают и богатые. И обычай требует, чтоб хоронили каждого на родине, около родного дома, где возвышаются могильные холмики предков… Но там сейчас война… Да и сообщения нет с тем местом… Куда же девать покойника — временно, пока не представится возможность транспортировать его на родину? На помощь приходят частные похоронные бюро. Это предприятия с огромным капиталом и большим штатом служащих. Они занимают целиком многоэтажные здания. За большие деньги, конечно, покойнику отводят там отдельную комнату. Его бреют, подстригают, делают маникюр, бальзамируют, подкрашивают и разодетого в соответствующие одеяния кладут в дорогой гроб со стеклянным смотровым окошечком, чтобы близкие могли подходить к нему со свежими цветами, сидеть около него, взирая на дорогие черты… Это — гостиница мертвых. И вот перед таким похоронным бюро оказался наш молодой полицейский, сердце которого жаждало любви… Он вошел в контору предприятия и стал настойчиво добиваться встречи с Ли-сян-фу. Ему отвечали, что таковой не знают и старались скорее выпроводить его. Тогда он заподозрил преступление: ведь он же барышню сам сюда доставил, а она была хорошо одета — на ней были украшения… Не иначе как ее тут убили и ограбили!.. Он помчался к своему начальству и доложил все. Начальство послало в похоронное бюро детектива вместе с нашим молодым человеком. Детектив начал опрашивать служащих бюро, и тут один из них вспомнил, что несколько недель или месяцев тому назад привезли покойницу, молодую девушку по имени Ли-сян-фу. Раскрыли регистрационную книгу и по ней установили номер комнаты, после чего все пошли туда. Раскрыли гроб, и молодой полицейский узнал в ней свою ночную спутницу… Тем более что она держала в руке вырванный из его записной книжки листок… За правдивость приведенных фактов ответственность лежит на редакции газеты. Имя Ли-сян-фу ненастоящее — настоящее давно улетучилось из памяти, а отсутствие имени затруднило бы повествование.
Но у вдумчивого читателя могла бы зашевелиться следующая мысль: «Ну вот, вампир просачивается через могильную насыпь, проходит через доски гроба и прочее — это еще как-то понятно, потому что сам он из тонкой материи — душа, одним словом. А вот как бумажка, листок из записной книжки, грубая материя, мог пройти сквозь стенки гроба — непонятно! В арсенале психотехники обладателей древнего сокровенного знания (которое скрывается не потому, что обладатели «зажимают» его только для своего личного пользования, а потому, что выданное широким массам оно моментально было бы использовано во зло и во вред) имеется способ дезинтеграции материи, то есть определенный предмет может быть превращен в рассеянное облачко атомов, которое напряжением мысли-воли направляется куда угодно оператору. Такое облачко свободно проходит сквозь стены и другие преграды; стоит оператору прекратить волевое напряжение, как облачко атомов само принимает прежний вид предмета. (И до чего просто! Не правда ли?) Этим объясняется материализация предметов на спиритических сеансах, так как некоторые потусторонние сущности владеют в значительной степени способностью дезинтеграции. Известен случай, когда в закрытой наглухо комнате, где проходил спиритический сеанс, внезапно появились свежесорванные цветы и веточки с деревьев с каплями дождя на них.
А. Хейдок Свидетельское показание
— Да, я видел женщину-вампира в гробу. Это было в Шанхае приблизительно в 1937 году. Проживал я в Китае на положении эмигранта. Жестокая безработица погнала меня из переполненного беженцами г. Харбина, где находились мои родители, в многомиллионный Шанхай. Но и там меня постигла неудача: по-английски я говорил плохо, устроиться на более или менее путную работу не удалось. А деньги на исходе. Оставался только один выход — поступить рядовым полицейским в русскую роту при Полицейском управлении на Французской концессии. Я так и сделал. Кормили там неплохо, форма была красивая и платили, хотя и небогато… По ночам мы патрулировали улицы, следили за порядком, задерживали подозрительных лиц и т. п. В тот памятный день, когда мне удалось увидеть вампира, я был свободен от дежурства и отдыхал в казарме на Посту Жорф, который находился рядом с Французским кладбищем. Вдруг нас подняли по тревоге и послали оцеплять кладбище и никого туда не пускать. А желающих попасть туда почему-то было много. Вскоре мы узнали причину. Но сперва надо объяснить, каковы порядки Французского кладбища. Покойник здесь — только временный постоялец. Как известно, Шанхай построен в болотистой местности. Земля на кладбище сырая, полметра вглубь — и уже просачивается вода. Поэтому в яме сперва устанавливают водонепроницаемый бетонный ящик, куда затем опускают гроб с покойником. Из-за жаркого и сырого климата покойник в могиле разлагается очень быстро. А земля тут дорогая, поэтому через 16 лет могилы отрываются, кости покойника выбрасываются (что с ними делают — не знаю, наверное, сжигают), и место продается для нового постояльца. И оказалось, что в тот день, когда нас послали в оцепление, была отрыта могила, в которой труп, после 16-летнего пребывания в сырой и жаркой земле Шанхая, оказался не только неразложившимся, но еще и с длинными, выросшими волосами и ногтями. Весть об этом чуде быстро донеслась до обитателей ближайших улиц, и любопытные группами и поодиночке устремились к приюту покойников. Вот почему полицейские оцепили кладбище. Я пробрался через толпу любопытных к могиле и увидел то, о чем уже говорил. Гроб был вытащен из могилы и стоял рядом с ней. Лицо лежавшей в нем покойницы выглядело так, словно женщина спит. Ей могло быть лет 45. Волосы ее отросли и достигли такой длины, что стелились по ногам. На меня жуткое впечатление произвели ее отросшие длинные ногти, скрутившиеся наподобие штопора. Вообще, я терпеть не могу смотреть на покойников — они мне внушают отвращение, поэтому я не стал долго ее разглядывать, да и толпа любопытных теснила меня. Отошедши, я вступил в разговоры с окружающими и уже через них узнавал, что творится с покойницей. Передали, что принесли кол: осиновый или нет — этого я не знаю; этим заостренным колом ударили покойницу в грудь. Сказали также, что покойница при этом испустила тяжкий вздох. Потом ее вместе с гробом погрузили на камион (так называли обслуживающий нас небольшой грузовик) и куда-то увезли. Куда увезли, знает начальство — нам не докладывают. г. Балхаш, 20 декабря 1979 г. В.А.Х.Комментарии
Все тексты, за редкими исключениями, подготовлены составителем и публикуются по первоизданиям в новой орфографии; как правило, сохранялась пунктуация оригинала. На фронтисписе — работа Я. Панушки (1872–1958).Ю. Ревякин. Упырь
Впервые: Киевлянин. 1902. № 356, 25 дек. Публикуется по указанному изданию.Ю. В. Ревякин (?-?) — киевский беллетрист, журналист, автор кн. Повести и рассказы (1911). Увлекался спиритизмом, хотя отзывался о нем скептически. С конца 1890-х гг. и вплоть до революции регулярно публиковал в рождественских номерах газ. Киевлянин святочные рассказы и стихотворения. Рассказ Упырь, написанный в первые годы XX в., всецело следует фольклорно-этнографической традиции вампирической литературы XIX в. и ее «малороссийских» представителей. Данный рассказ, как и следующий за ним, был обнаружен и возвращен читателям А. Степановым.
И. Головин. Наяву или во сне
Впервые: Новое время. 1905. № 10697, 25 дек. (1906. 7 янв.), с подзаг «Святочный рассказ».Сведениями об авторе мы не располагаем. В Наяву или во сне отсутствуют какие-либо объяснения фатального нападения девушки-вампира, но можно предположить, что это месть за «измену» Алчевского, решившего жениться. В рассказе, очевидно, отразилось и знакомство автора с Дракулой Б. Стокера, вышедшим к тому времени в России двумя отдельными изд.: загадочно исчезающий барон Северович и его спутницы близко напоминают стокеровского графа и его свиту.
С. Ауслендер. Страшный жених
Публикуется по первоизд.: Приазовский край. 1915. № 340, 25 дек.С. А. Ауслендер (1886/8-1937) — прозаик, драматург, критик. Племянник М. Кузмина. Автор сб. рассказов-стилизаций, романов, пьес. Во время Гражданской войны работал как журналист в колчаковском Омске; с 1922 г. жил в Москве, писал в основном историко-революционную беллетристику для юношества. Репрессирован, расстрелян. Коннотации телесности и сексуальности, подспудно сопровождавшие появление вампира на русских (как и европейских) литературных подмостках, явственно проявились в начале XX в., когда «вопросы пола» стали предметом общественной дискуссии. Рассказ С. Ауслендера, как и опубликованный ниже Упырь Г. Чуйкова, вступает в сложные взаимоотношения с читательскими ожиданиями и жанровыми конвенциями. У Ауслендера нет ни традиционного для «святочного рассказа» happy end, ни рационально-иронического объяснения случившегося (что, впрочем, к 1910-м гг. было уже далеко не столь обязательно). «Ужасное» двоится, воплощением подлинного ужаса становится не вампир, а акт сексуальной агрессии — и читатель невольно ищет прибежища в уютной и знакомой «страшной» вампирической фантастике святочной истории.
Г. Чулков. Упырь
Публикуется по изд.: Италия: Литературный сборник в пользу пострадавших от землетрясения в Мессине. (СПб.): Шиповник, 1909.Г. И. Чулков (1879–1939) — поэт, прозаик, переводчик, критик, литературовед, тесно связанный с кругом символистов и известный в 1900-е гг. как создатель и проповедник учения «мистического анархизма». Из дворян. Учился на медицинском факультете Московского университета (не окончил), в 1901 г. был арестован за революционную деятельность, приговорен к четырем годам ссылки в Якутию, в 1903 г. амнистирован. Автор романов, сб. стихов и рассказов, мемуаров, литературоведческих исследований, издатель и редактор многочисленных журналов, альманахов и сборников. В отличие от С. Ауслендера, Г. Чулков не предлагает читателю и спасительного «фантастического» выхода: вампиризм в его рассказе предстает откровенной и развернутой сексуальной метафорой; атмосферу Упыря уместно сравнить с Красной шапочкой, прочитанной психоаналитиком.
Г. Чулков. Мертвый жених
Публикуется по изд.: Чулков Г. Сочинения. Т. 1. СПб.: Шиповник, (1911).Ф. Сологуб. Дама в узах
Впервые: Огонек. 1912. № 21. 19 мая (l июня). Публикуется по изд.: Сологуб Ф. Книга стремлений. Неутолимое: Рассказы. СПб.: Навьи Чары, 2002.Тематический номер Огонька, где был напечатан рассказ, редакция посвятила «фантастическим, волшебным белым ночам Петербурга, приводящим в восторг мечтателей, лишающим сна нервных, волнующих странным беспокойством даже слишком здоровые и нормальные натуры <…> этой ночи без теней, сна наяву, реализованной мечте, невероятной реальности». Для публикации в Собрании сочинений 1913–1914 гг. рассказ был расширен и переработан — в частности, изменен финальный абзац, добавлены подробности о «вселении» ревенанта (в версии Огонька было лишь сказано: «Каждый год кто-нибудь приходит ко мне в этот час, и словно душа моего мужа вселяется в тело моего случайного мучителя»)[40]. В Даме в узах отразились те вампирические, садомазохистские и танатологические комплексы, что проходят красной нитью сквозь творчество и биографию Ф. К. Сологуба (1863–1927). Сологуб — безусловно, наиболее «вампирический» русский прозаик и поэт первой половины XX в., а возможно, и всей русской литературы, создатель целой галереи вампирических и вампироподобных персонажей и образов, у которого мифологема вампира зачастую распространяется на всю давящую и душащую, высасывающую силы и кровь жизнь.
Ф. Сологуб. Красногубая гостья
Впервые: Утро России. 1909. № 67–34, 25 дек. Публикуется по: Сологуб Ф. Собрание сочинений. Т. 12. Книга стремлений: Рассказы. СПб.: Сирин, 1914.«В декадентстве famme-fatale часто оказывается вампиром <…> Диволическая возлюбленная предстает в образе вампира или женщины-вамп (роковая женщина)» — замечает А. Ханзен-Лёве[41]. Такова и Лидия Красногубой гостьи, обретающая черты апокрифической Лилит — первой жены Адама, ставшей прародительницей демонов. В ипостасях, восходящих к иудейской демонологической традиции Лилит — ночная демонесса-соблазнительница, т. е. суккуб, и дьяволица, вредящая деторождению, похищающая младенцев, пьющая их кровь и т. д. В обеих ипостасях вампирические свойства Лилит совершенно очевидны. И хотя ко времени написания рассказа образ Лилит был достаточно распространен в европейских литературах, Сологуб обращается к истокам — еврейской традиции и немецким поэтам-зачинателям вампирической литературы Нового времени; поэтому выбор для героини немецко-еврейской фамилии Ротштейн. отнюдь не представляется случайным. В этом контексте находится и аллюзия на Песнь Песней, точно подмеченная Г. Завгородней: «На общность указывает и постоянное обращение “возлюбленный мой”, и повторяющиеся мотивы дня и ночи, солнца и луны, ароматов и благовоний»[42]. Стоит попутно отметить, что в литературе «серебряного века» наряду с образом инфернальной Лилит представлена и иная, наделенная положительными коннотациями Лилит, небесная волшебница и воплощение истинной любви и страсти, противопоставленная прозаической «земной Еве» (М. Цетаева, Н. Гумилев, А. Ахматова). Сологуб отдал дань и этому течению, напр, в стих. Я был один в моем раю (1908) и втором варианте стих. Плещут волны перебойно… (1911); в новелле Помнишь, не забудешь — вошедшей, как и Красногубая гостья, в цикл Книга стремлений, душа первой жены героя (эквивалент Лилит) вселяется в тело второй: «Это — я. Разве ты не узнал меня, приходящую тайно в полуночи? Ты зовешь меня второю женою, ты любишь меня, не зная, кто я, ты называешь меня, как называли меня дома, бедным, чужим именем, Наташею. <…> Ирина твоя, вечная твоя спутница, вечно с тобою. Похоронил ты бедное тело маленькой твоей Иринушки, но любовь ее сильнее смерти, и душа ее жаждет счастья, и жизни хочет, и расторгает оковы тления, и во мне живет. Узнай меня, целуй меня, люби меня». По мнению С. Чвертко, в Красногубой гостье «прослеживаются противоположные мотивы: обреченность человека перед лицом нечистой силы и неприкасаемая возможность спасения его с помощью светлых божественных сил. <…> Сам человек при этом выступает как пассивный субъект: что бы он ни делал, все уже давно решено за него, он беспомощен на фоне вечного противостояния света и тьмы, дня и ночи, и только может послушно ждать решения своей участи»[43].
Ф. Сологуб. Из романа «Тяжелые сны»
Публикуется по изд.: Сологуб Ф. Собрание сочинений. Т. II. Тяжелые сны: Роман. Изд. четвертое. Т. II. СПб.: Шиповник, (1911).Согласно авторскому предисловию (к 3-му изд.), роман “Тяжелые сны” начат в 1883 году, окончен в 1894 году. Напечатан в журнале Северный вестник в 1895 году, с изменениями и искажениями, сделанными по разным соображениям, к искусству не относящимся. Отдельно напечатан первым изданием в 1896 году, но и тогда первоначальный текст романа не вполне был восстановлен по тем же внешним соображениям. Для третьего издания в 1908 году роман вновь просмотрен автором и сличен с рукописями; редакция многих мест изменена».
И. Лукаш. Черноокий вампир
Публикуется по первоизд.: Лукаш И. Цветы ядовитые. СПб., 1910.И. С. Лукаш (1892–1940) — прозаик, поэт, драматург, критик, художник-иллюстратор. Родился в семье швейцара и натурщика петербургской Академии художеств. Выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Дебютировал как эгофутурист. Участник Гражданской войны, с 1920 г. в эмиграции. Широко публиковался в эмигрантской периодике разных стран, выпустил ряд сб. рассказов и очерков, несколько исторических романов.
Н. Васильковская. Бред безумия
Публикуется по изд.: Васильковская Н. «Васильки»: Сб. стихотворений и миниатюр (Обл.: Стиххотворения и миниатюры: 1903–1912). Курск: тип. П. 3. Либермана, 1913.Н. Васильковская (? — после 1921) — поэтесса. Публиковалась в периодике со второй половины 1900-х гг. В нач. 1920-х гг. принимала активное участие в деятельности курского союза поэтов (с 1921 — Курское отделение Всероссийского союза поэтов), печаталась в местных журналах. Согласно предисловию Васильковской, в текстах ее единственного сб. отразились «знакомые вероятно многим переживания, характер которых носит печать, налагаемую “сумерками духа”». Касательно «червей истребителей живущего» см. замечание Ханзен-Лёве: «…“земляные черви” <...> символизируют материализацию, разложение, деструкцию и хтоническуюдиаволику. Словно вампиры, высасывают они из корней древа жизни витальность»[44].
Л. Мищенко. Роза и терновник
Публикуется по кн.: Иванов П. Студенты в Москве: Быт. Нравы. Типы. Очерки. Изд. второе. М.: тип. Штаба Московского военного округа, 1903.Этот любительский рассказ заимствован нами из первой книги будущего религиозного публициста-эмигранта П. К. Иванова (1876–1956), который рассказывает (по судебной хронике газ. «Курьер») и историю автора. В 1900-м г. студент Московского университета Лев Мищенко безответно влюбился в жену своего родственника А. Крушинского Екатерину и постепенно пришел к убеждению, что «она тяготится совместною жизнью с мужем, и что жизнь в семье Крушинских влияет на нее пагубно. А так как она достойна лучшей участи, то он и решил избавить ее от гнета семейной жизни. Иного выхода из этого положения, помимо убийства мужа, ему не предвиделось, а убить его должен был он». Рассказ был написан им накануне покушения «под влиянием решения убить Крушинского». Попытка убийства не удалась, хотя Мищенко «выстрелил в затылок Крушинскому, и так близко, что опалил ему волосы». Суд, указывается далее, «определил поместить студента Мищенко в дом умалишенных по 95 ст. ул. о нак.». Читатель распознал, конечно, в этом произведении мотивы сказок Г. X. Андерсена и О. Уайльда. Примечательно, что к сходной «растительно-ботанической» метафорике прибег позднее А. Белый в рассказе Куст (1905), основанном на перипетиях его отношений с Л. Д. Блок и А. А. Блоком.
И. Ясинский. Деревья-вампиры
Впервые: Пушкинский сборник: (В память столетия дня рождения поэта). СПб.: тип. А. С. Суворина, 1899. Публикуется по указанному изд.И. И. Ясинский (1850–1931) — чрезвычайно плодовитый прозаик, поэт, литературный критик, журналист и издатель. Выпустил десятки книг, широко публиковался в периодике, в 1890-х — 1910-х гг. редактировал газ. Биржевые ведомости, журн. Новое слово, собственные журн. Ежемесячные сочинения (позднее Новые сочинения), Почтальон (позднее Беседа) и др. «Отрывок» Ясинского примыкает по тематике к его фантастическо-мистической новелле Город мертвых, опубликованной отдельным изд. в 1886 г. под псевд. Максим Белинский.
А. Амфитеатров. Он
Публикуется по изд.: Амфитеатров А. Психопаты: Правда и вымысел. М.: «Русская» тип., 1893.А. В. Амфитеатров (1862–1938) — прозаик, фельетонист, публицист, драматург, литературный и театральный критик. До 1889 г. параллельно с литературными занятиями выступал как оперный баритон. Широко публиковался в дореволюционной, а после побега в Финляндию в 1921 г. — эмигрантской периодике. Оставил около трех десятков романов, многочисленные сб. рассказов и очерков, сотни публикаций в прессе. Для Амфитеатрова характерен постоянный интерес к «таинственным» темам, древним легендам и волшебным преданиям, демонологии, оккультизму: достаточно упомянуть его недооцененный оккультный роман Жар-Цвет (1895–1910), кн. Дьявол в быту, легенде и литературе Средних веков (1911), сб. Одержимая Русь: Демонические повести XVII в. (Б., 1929), посвященные оккультным вопросам очерки в газ. Сегодня (Рига) и т. д. Вампирической метафорикой пронизан его памфлет Победоносцев (1907, совм. с Е. В. Аничковым).
Как и в случае публикуемых ниже Истории одного сумасшествия и Киммерийской болезни, новелла была позднее использована Амфитеатровым в романе Жар-Цвет. Вампир-суккуб новеллы наделен очевидными демоническими чертами а-1а Лермонтов; ангельские видения Анны подчеркивают его близость к Люциферу как падшему ангелу. Он обладает такими частыми у литературного вампира качествами, как необъяснимая привлекательность (сродни «гламору»), телепатия и умение телесно и духовно полностью подчинить себе жертву. Амфитеатров не упоминает употребление крови (помимо намека на «малокровие» героини): здесь и в других его вампирических новеллах вампиры не охотятся за кровью как таковой. Подобно теософско-оккультным вампирам — этот круг источников с достаточной ясностью очерчен самим автором — и, с другой стороны, традиционным вампироподобным ревенантам европейских народных верований, напр. нахцерерам, они «едят жизнь» (см. новеллу Киммерийская болезнь), вытягивают из жертвы жизненные силы. Еще одна общая черта вампирических новелл Амфитеатрова — повышенное внимание к сексуально-эротическим аспектам вампиризма: подоплекой его всегда служит эротическое влечение.
А. Амфитеатров. История одного сумасшествия
Публикуется по изд.: Амфитеатров А. Сказочные были: Старое в новом. СПб.: изд. И. В. Райской, 1904. В ориг. подзаг.: «Этюд к роману “Жар-Цвет”».После первой публикации в 1895 г. Амфитеатров дополнял и правил роман Жар-Цвет, который был издан в дополненном виде в 1910 г. Новелла почти полностью вошла в роман, где можно прочитать и о нервном расстройстве, приключившемся с Дебрянским (страшась появлений Анны, он бродит по ночам по улицам, посещает увеселительные заведения и публичные дома), испытанных им на Корфу видениях и беседах с умершим Петровым и пр. С точки зрения истории Петрова, наиболее существенны в романе вставки, касающиеся страшных перемен во внешности адвоката («узел коричневого тряпья», «комки и шишки его обезображенного лица» и т. д.), а также его рассуждений о живых мертвецах и сущности вампирических посетителей. Это «пузыри земли», слепленные из рассеянной в пространстве материи мертвых неведомой силой, «которая оживляет материю этими формами и посылает уничтожать нас». Заметим, что Амфитеатров, как пишет он в предисловии к изданию 1910 г., намерен был назвать роман «Пузыри земли»; Жар-Цвет появился без его ведома как заглавие журнальной публикации. Можно предположить, что шекспировский мотив «пузырей земли» был позднее позаимствован у Амфитеатрова для цикла Пузыри земли (1904–1905) А. Блоком, у которого также встречаются вампирические темы. Сочетание этих тем с коверкающими русский язык немцами в новелле История одного сумасшествия, сонные мысли Дебрянского, попытки психиатрического истолкования вампиризма и т. д. близко напоминают Упыря на Фурштатской улице и заставляют предположить знакомство писателя с этим произведением (не исключено, что из Упыря происходит и «Анна» как имя жертвы или самого вампира в вампирических новеллах Амфитеатрова).
А. Амфитеатров. Киммерийская болезнь
Публикуется по изд.: Амфитеатров А. Грезы и тени: (Книга легенд). М.: тип. «Рассвет», 1896.Киммерийская болезнь — еще одна и более совершенная в художественном отношении версия истории адвоката Петрова и его знакомца Дебрянского, ставших жертвами вампирической гостьи. Именно отсюда в дополненное издание романа Амфитеатрова Жар-Цвет (1910) попали описания ужасных трансформаций Петрова, его рассуждения о «пузырях земли» и диагноз, поставленный Дебрянскому психиатром — «киммерийская болезнь» (в версии 1910 г. так названа первая часть романа). Вместе с тем, в романе Амфитеатров отказался от эффектной сцены «соблазнения» мертвой Анны Дебрянским. Эпиграф к новелле — еще одно вероятное свидетельство воздействия вампирических текстов Амфитеатрова на Блока: именно эти строки и в том же пер. А. Кроненберга поэт взял эпиграфом к циклу Пузыри земли.
С. Соломин. Вампир
Впервые: Синий журнал. 1912. № 46. Публикуется по данному изд., откуда взят и рис. Н. Герардова.«С. Соломин» — постоянный псевдоним беллетриста, революционного деятеля и видного представителя плеяды русских дореволюционных фантастов С. Я. Стечкина (1864–1913). Рассказ любопытен одновременной двуплановой трактовкой вампиризма: научно-фантастической («мумиефицирующая бацилла») и оккультной («астральная оболочка» тела); последняя близка к некоторым спиритуалистическим интерпретациям вампира как блуждающей «астральной оболочки», которая пытается поддержать жизнь захороненного тела. В Разоблаченной Изиде Е. Блаватская приводит ряд красноречивых высказываний на сей счет французского спиритуалиста З.-Ж. Пьерара (Pierart, 1818–1879); сама же основательница теософии прибегает к осторожной формулировке: «Если мы вынуждены верить в вампиризм, то мы делаем это в силу двух неопровержимых утверждений оккультной психологической науки: 1. Астральная душа есть отделимая, отличная от нашего эго сущность, и она может бродить, уноситься далеко от тела, не порывая при этом нити жизни. 2. Труп не совсем мертв до тех пор, пока его обитатель может снова входить в него, последний может собрать достаточно материальных эманаций из него, чтобы быть способным появляться в почти земной форме»[45].
Е. Блаватская. [Черная карета]
Публикуется по изд.: Блаватская Е. Разоблаченная Изида: Ключ к тайнам древней и современной науки и теософии. Т. 1: Наука. М.: Эскмо, 2012. Пер. К. Леонова, О. Колесникова. В виде исключения мы приводим здесь переводной текст, в оригинале содержавшийся в написанной на английском Isis Unveiled (1877) Е. П. Блаватской (1831–1891). Хотя эта колоритная история была изложена «Е. П. Б.» в контексте серьезных рассуждений о вампиризме, она, на наш взгляд, имеет прямое отношение к фантастической беллетристике, отнюдь Блаватской не чуждой. Условное название фрагмента дано нами.Е. Просин. Современный случай вампиризма
Впервые: Изида. 1911. № 1, октябрь. Сведениями об авторе мы не располагаем.А. Хейдок. Вампир
Публикуется по изд.: Хейдок А. Огонь у порога. Магнитогорск: Амрита-Урал, 1994.А. П. Хейдок (1892–1990) — беллетрист, журналист, переводчик. Родился в Латвии. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Жил в эмиграции в Китае, в 1947 г. вернулся в СССР, в 1950–1956 гг. был репрессирован, находился в лагерях. Автор кн. фантастичес-комистических рассказов Звезды Манчжурии (1934), с 1930-х являлся ярым последователем и пропагандистом учения Н. К. Рериха. Мы публикуем здесь три последовательных рассказа А. Хейдока, поскольку действие двух из них связано с Китаем и китайской эмиграцией 1930-1940-х гг. Рассказы эти вошли в сб. Радуга Чудес (по словам Хейдока — «собрание фактов, хотя и странных, необычных»), над которым автор работал с конца 1960-х гг., снабжая приводимые им истории собственными комментариями. Вампиризм, как может заметить читатель, Хейдок всецело трактует в спиритуалистко-теософском духе.
А. Хейдок. Несостоявшийся роман в гостинице мертвых
Публикуется по изд.: Хейдок А. Огонь у порога. Магнитогорск: Амрита-Урал, 1994.А. Хейдок. Свидетельское показание
Публикуется по изд.: Хейдок А. Огонь у порога. Магнитогорск: Амрита-Урал, 1994. К рассказу следует авторское примечание: «Записано со слов очевидца».Примечания
1
Повреждение нескольких слов в доступной нам копии текста (Прим. сост.). (обратно)2
…Хольбейна — Имеется в виду Г. Гольбейн-младший (ок. 1497–1543), один из величайших художников Германии и Северного Возрождения в целом. (обратно)3
…гетевская Миньона — Миньона (от. фр. mignon — «милашка, крошечная») — персонаж романа Гете Годы учения Вильгельма Мейстера (1795-96) девушка-подросток, циркачка, уроженка Италии; имя ее стало нарицательным, в частности, широко употреблялось в поэзии «серебряного века». В рассказе обыгрываются некоторые мотивы этого романа. (обратно)4
…и такую сладостную печаль — В оригинале, вероятно, ошибка наборщика: «такую и сладостную». (обратно)5
…Полозов — фамилия героя напоминает о «гипнозитирующей» свою добычу змее. (обратно)6
…petits-jeux — игры с фантами (фр.). (обратно)7
А. А. Бел-Конь Городецкой — Рассказ посвящен А. А. Городецкой (урожд. Козельской, 1889–1945), актрисе, поэтессе, жене поэта С. М. Городецкого (1884–1967). Городецкая увлекалась лубочным «древнеславянским язычеством» и выступала в литературе под псевд. «Нимфа Бел-Конь Любомирская»; именем «Нимфа» пользовалась и в быту. (обратно)8
…девочка Лилитова. В лунные ночи она встает во сне с постели и бродит… — Лунатичка Лилитова связана с оккультным и распространенным в литературе т. наз. «серебряного века» образом Лилит (см. ниже комментарии к рассказу Ф. Сологуба Красногубая гостья); для Чулкова, впрочем, важно лишь напоминание и потому Лилит редуцируется здесь до фигурки бродящей по ночам пансионерки. (обратно)9
…дигиталис — гомеопатическое сердечное средство, изготавливается на основе растения наперстянка. (обратно)10
…в Эрмитаж — «Эрмитаж» — развлекательный сад с театрами в центре Москвы, основанный антрепренером Я. В. Щукиным в 1894 г. (обратно)11
…эклампсия — болезнь, возникающая во время беременности, родов и в послеродовой период; характеризуется судорогами с высокой вероятностью тяжелых осложнений. (обратно)12
Н. И. Бутковской — Н. И. Бутковская (1878–1948) — актриса, режиссер (Общество старинного театра), книгоиздательница; была замужем за художником А. Шервашидзе, умерла в эмиграции. (обратно)13
…Клео де Мерод — Клеопатра Диана де Мерод (1875–1966), французская балерина, танцовщица варьете, эталон женской красоты начала XX в.; ее прическа с волосами, разделенными на прямой пробор и закрывающими уши, была чрезвычайно модной и широко копировалась. Вероятно, Клео де Мерод упомянута здесь не только как «визуальный образ, посредством которого создается образ словесно-художественный» (Завгородняя, там же.), но и в качестве «роковой соблазнительницы»: на рубеже веков она прославилась как объект маниакальной страсти бельгийского короля Леопольда II (1835–1900), заработавшего по этой причине прозвище «Клеопольд». (обратно)14
…к Кожевникову в Москву, и к Шарко в Париж — Речь идет о видном русском невропатологе А. Я. Кожевникове (1836–1902) и выдающемся французском психиатре и неврологе Ж. М. Шарко (1825–1893), наставнике 3. Фрейда. (обратно)15
Нет на свете царицы краше польской девицы:
Весела, что котенок у печки,
И, как роза, румяна, а бела, что сметана,
Очи светятся, будто две свечки.
Пушкин и Мицкевич, «Три Будрыса»
16
…повозки божественного Яггернаута — Джаггернаут (от санк. Джаганнатха), понятие, связанное с культом индийского божества Джаганнатхи, «владыки вселенной»); смерть под колесами повозки со статуей Джаганнатхи, по некоторым описаниям, считалась почетным религиозным самопожертвованием и освобождала человека для перехода в духовный мир. (обратно)17
…Вагнерова Лоэнгрина — «Лоэнгрин» — опера Р. Вагнера (1813–1883), впервые поставленная в 1850 г. (обратно)18
…на люэтической подготовке — Т. е. на фоне заболевания сифилисом. (обратно)19
…«Коринфскую невесту» Гете — см. т. I настоящего издания. (обратно)20
…Элифаса Леви — Э. Леви (А. Л. Констан, 1810–1875) — видный представитель французского «оккультного возрождения» XIX в. и плодовитый автор, чьи сочинения продолжают пользоваться большой популярностью. (обратно)21
…Филострата… Аполлоний Тианский — Имеется в виду Жизнь Аполлония Тианского, жизнеописание греческого философа-неопифагорейца II в. и. э. Аполлония Тианского, считавшегося магом, волшебником и провидцем; книга была написана в начале III в. римским писателем и ритором Флавием Филостратом. (обратно)22
…le beau Debriansky — красавчик Дебрянский (фр.). (обратно)23
…Церлины — Церлина — персонаж оперы В. А. Моцарта (1756–1791) Дон Жуан (1787), деревенская девушка, которая на собственной свадьбе едва не поддалась ухаживаниям Дон Жуана. (обратно)24
…bonne chance pour tout — Желаю удачи во всем (фр.). (обратно)25
…Сара Пеладана — Речь идет о французском оккультисте и романисте Ж. Пеладане (1858–1918). (обратно)26
…Gleich — здесь: «Сейчас!» (нем.). (обратно)27
…bleich — бледный (нем.). (обратно)28
…braver Herr — бравый господин (нем.). (обратно)29
…hat immer разный лизо — Имеет весьма разное лицо (нем., искаж. рус.). (обратно)30
…рамолик — человек, впавший в слабоумие. (обратно)31
…«Эрмитаже» — см. выше коммент. к рассказу Г. Чулкова Мертвый жених. (обратно)32
…«La Bas» Гюисманса — Речь идет о нашумевшем романе французского писателя Ж. К. Гюисманса (1848–1907) «Бездна» (1891), где описывались французские сатанисты 1880-х гг. (обратно)33
...Аратова из «Клары Милич» — Аратов — герой мистической повести И. Тургенева После смерти (Клара Милич) (1882), которому является призрачная и прекрасная актриса-самоубийца, приводящая его к гибели. (обратно)34
…that is the question! — «Вот в чем вопрос!» (англ.). Цитата из монолога Гамлета «Быть или не быть…» (Шекспир). (обратно)35
…киммерияне… Гомера — В описаниях Гомера («Одиссея»), Киммерия — страна на крайнем северо-западе у пределов Океана; жители ее не знают солнца и земля их «вечно покрыта туманом и тучами». В античные времена Киммерия ассоциировалась с Северным Причерноморьем. (обратно)36
Образ рассказчика навсегда остался для меня трогательным и вызывающим глубокую симпатию. Я встретился с ним в заключении. Он был искренне верующим, простым и немудрствующим. Всегда тихий и ласковый, он покорно нес свою ношу страданий, и у меня нет ни малейших сомнений в правдивости сообщенного им. — А. Х. (обратно)37
Видение астральной формы доступно ясновидящим (Прим. авт.). (обратно)38
Концессия — договор, заключенный государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных предприятий. — Словарь иностранных слов (Здесь и далее прим. авт.). (обратно)39
Номер телефона — вымышленный. (обратно)40
Подобное «вселение» души умершего или умершей вообще характерно для Сологуба — см. напр, новеллу Помнишь, не забудешь (1911). (обратно)41
Ханзен-Лёве А. Русский символизм: Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб.: Академический проект, 1999. С. 237. (обратно)42
Завгородняя Г. Ю. Лилит в русской литературе рубежа XIX–XX веков // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 6. С. 210. Автор добавляет, что «голом раньше появляется купринская “Суламифь”». (обратно)43
Чвертко С. Ю. Фантастические мотивы в новеллах Ф. Сологуба. // Ярославский педагогический вестник. 2013. Т. I (Гуманитарные науки). № 1. С. 179–180. (обратно)44
Ханзен-Лёве A. Op. cit. С. 348. (обратно)45
Блаватская Е. Разоблаченная Изида: Ключ к тайнам древней и современной науки и теософии. Т. 1: Наука. М.: Эскмо, 2012. С. 611–616, 622. (обратно)
(обратно)
Последние комментарии
5 часов 25 минут назад
6 часов 32 минут назад
7 часов 29 минут назад
7 часов 44 минут назад
16 часов 54 минут назад
16 часов 55 минут назад