Старинная гравюра [Владимир Львович Мехов] (fb2) читать онлайн
- Старинная гравюра (пер. Владимир Георгиевич Машков) 1.82 Мб, 131с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Владимир Львович Мехов
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
ВЛАДИМИР МЕХОВ СТАРИННАЯ ГРАВЮРА
Повести из прошлого
Авторизованный перевод с белорусского Вл. Машкова
КУЗЕМКА ДУБОНОС — ЦАРЕВ КОМЕДИАНТ
«Как в Литву прикатил, ей-бо…»
Отца Куземкина дом не стоит еще и года. Сосновые бревна в срубе желтеют, словно вчера очищенные от коры. А вбегаешь в светлицу с улицы, да еще теперь, в месяце червене, когда солнце в самой силе, то густым смоляным духом в нос так и шибает. Под вечер солнце становится ласковее, и к Дубоносам, на ногу негнущуюся припадая, приходит сосед. Своей хромоте Михайло Тюка не нарадуется: был он человеком боярина, и вольную получил после того, как на постройке господских хором с макушки кровли грохнулся вниз, — лекарь сказал, что с переломанными костями ему уже не плотничать, а калека боярину ни к чему. Михайло же поправился и — разве только захромал, — плотничьим ремеслом как жил в неволе, так живет и нынче. Вот и сюда к Дубоносам приходит он не просто, а с пилой и топориком: по-соседски и по-землячьи пособляет Куземкину отцу на окна и двери ставить узорчатые наличники. Мастерят они с Якубом Дубоносом и поют. Порой веселое:Жук топориком махал,
Строить мушке помогал…
Кленовый листочек
Куда ветер гонит?
Домой под кленинку
Иль в луг на долинку?
«Мыслю, государь, есть выход…»
Не ведали и ведать в Мещанской слободе не могли, какая беседа давеча произошла в Теремном дворце — кремлевских хоромах царской семьи. Утомленный тщанием в вечерней молитве, царь отдыхал в ожидании трапезы. Слюдяные окна, разрисованные травами и птицами, пропускали в покои мерклый свет. Красное сукно вокруг — на полу, на стенах, на лавах у стен — оттеняло бледность, даже синеватость царского чела. Было ему теперь от рождения сорок четыре, этому тихому, богобоязненному человеку, всея Великой и Малой и Белой России самодержцу, как называют его в государственных бумагах. А выглядит намного старше. Всю жизнь более всего почитал он нехитрые семейные радости, домашние утехи, минуты просветления в молитве, — а как же часто приходилось надевать на хилые плечи походную епанчу и на долгие месяцы разлучаться с родными, — идти на чужбину с войском, воевать Руси города и веси. Всю жизнь не выносит вида крови, не ест по понедельникам, средам и пятницам мясного, изнуряет себя постами, — а в пытных узилищах не убавляется работы заплечных дел мастерам: то соляной бунт державу сотрясает, то медный, то Стенька-антихрист кровавое затевает гульбище… Не прогневить бы всевышнего — в последнее время, вроде, стало спокойнее. И на кордонах шкоды никто не чинит. И холопы не мутят воду — долго будут помнить, подлые, как ехал разбойник Стенька в Москву: на огромной подводе виселица, и к виселице смутьян-атаман привязан за шею цепью. И молодая царица Наталья, сладкая утеха царю за два года вдовства, хорошо себя чувствует во второй своей беременности — первенцу ее, царевичу Петру, на другой перевалило годок… Алексей Михайлович приязненно глядит на собеседника — милого сердцу Сергеича, окольничего Артамона Сергеевича Матвеева. Немногим в Москве даже из знатных родов дозволено перед государем сидеть, тем более в этой комнате. Разве только думные греют тяжелыми задами лавы, когда собираются по делу неотложному, чрезвычайному. Но чтобы в комнату приносилось для гостя еще одно кресло, кроме единственного, что тут стоит для хозяина, да чтобы хозяин велел каждый раз подсовывать это кресло поближе к своему, — такое в Теремном дворце бывает, лишь когда приходит Артамон Матвеев. Ведомо царю — ненавистью черной платят за это бояре худородному (отец, смешно сказать, — малороссийский дьяк!) Матвееву. В обжорливых, хмельных своих застольях змеиным ядом исходят, порядки его домашние обговаривая. И то, что жену себе взял англичанку, а она, бесстыдница, российских обычаев не блюдет и на гости всегда выходит, к мужскому разговору, как равная, присоединяется. И то, что сыну на заморский лад дозволил волосы до плеч отрастить, и у чужеземцев их языкам басурманским и дури разной учиться. И то, что дом его картинами искусительными и парсунами немецкого и польского письма завешан. И то, что в покоях тикают, динькают, бомкают часы в несметном количестве и время показывают всяк по-своему: одни — по-немецки с полудня, другие — как у италийцев принято, с захода солнца, третьи — с восхода его, по-иудейски и вавилонски, четвертые — как латинская церковь отсчитывает, с полуночи… Душить, таить свою ненависть, скрежет зубовный угодливой улыбочкой на людях прикрывать приходится матвеевским недоброжелателям. Уж очень любит, жалует, выделяет царь своего Сергеича. Поставил над самым важным — посольским приказом. Первым называет, лишь назревает почетное государственное поручение: ненадежного гетмана запорожского приструнить, со свейскими или польскими хитрецами переговоры выгодно для российской короны провести, того самого Разина-бунтовщика утихомирить. И в дом его между Мясницкой и Покровкой попросту царь заезжает — словом перекинуться, в шахматы сыграть, отведать хлеба-соли. Там и царицу нынешнюю высмотрел, воспитанницу Матвеевых. Увидел, полюбил, жениться сразу надумал. Осторожный Сергеич тогда возразил — мол, отказу тебе, царь, сам понимаешь, не будет, а слух пойдет, будто для того тебя в дом и заманивал, чтобы с родственницей окрутить. Вот и пришлось, почитая обычай предков, собрать на смотрины чуть ли не шестьдесят невест, одну другой краше, выбрать из них Наталью Нарышкину, у Матвеевых высмотренную, а остальных с богатыми дарами и разочарованными сердцами отпустить по домам. Вспоминается царица, и еще более теплеет взгляд государя. Помолодело все в Теремном дворце с появлением новой хозяйки. То же все тут — и не то. На артамошкин лад переиначенное, тявкают враги Сергеича. Пусть их тявкают, коли дыбы попробовать захотелось. Царь не обращает внимания. Царю лишь бы тешиться благодарностью в агатовых царицыных глазах, когда челядь меняет в ее покоях скрипучие лавы на польские кресельцы иль когда шпалерники с Мещанской слободы обрывают со стен полное пыли сукно и набивают золоченые шкуры с тисненными зверями и цветами. И обычаи неслыханные потихоньку при дворе приживаются. Вот и этот их разговор — услыхав его, покойница, прежняя царица, перевернулась бы в гробу. Под осень, в прошлом году, позволил царь себе небывалое. На государевой усадьбе в Преображенском возведена была хоромина под названием комедийная, и в хоромине той подростки с Кукуя, пастором Грегори обученные, показали комедию про Есфирь, из библейской книги пастором писаную. Видеть юнцов-немчинов в облике особ старинного предания потешно было весьма. И история о том, как красавица Есфирь, жена персидского царя Артаксеркса, тайный умысел вельможи-злодея Амана пред мужем изобличила, Алексею Михайловичу с детства нравится. Жаль только, посокрушался государь Матвееву, — по-русски кукуйцы ни в зуб ногой. Глядишь на комедианта, а ухо тянешь к толмачу. Не удивительно, что вокруг кое-кто и позевывал. Дородный, плечистый, с гордо посаженной головой, Матвеев бороду квадратную, поседевшую вскинул, глазами цепкими в царя впился — словно только того сокрушения и ждал: — Сколько ж говорю тебе, государь, — пора в Москве нам своих, российских комедиантов иметь. Чтоб не хуже чужеземных выглядел твой двор. Чтоб не тебе на российский, а гостям закордонным с нашего языка на ихние толмачи комедийное действо переводили. Шапка тяжелая царева, золотом и мехом отделанная, укоризненно закачалась: — Это я, царь Алексей, комедиантов при дворе заведу? Понимает Матвеев, о чем государь речь ведет. Знает грозные царские грамоты, по городам и волостям разосланные, в коих сурово народу наказывалось души свои не губить, на зрелища срамные не сходиться, уборы скоморошьи не надевать, дьявольских игрищ на рождество не налаживать. Тех, кто ослушается, повелевали грамоты на первый и другой раз бить палками, на третий же — высылать в окраинные города. Но чует Матвеев носом — тонким, орлиным, с дыхалами живыми, нервными, — пробьет сейчас давний замысел, стронет неподвижное, замшелое с места, коли будет настойчив. — На посольском дворе, государь, таиться не буду, уши свои имею… Обидное ушам тем приходится слышать. Московия, мол, медвежью берлогу огромную напоминает — только спят, жрут да рычат ее обитатели с тоски. Синеватые уста царя сердито сжимаются. — Не толкай на дурное, окольничий. Чужеземному блуду потатчиком не буду. Матвеев улыбается, словно упрямому ребенку. — Азиатцами, дикарями нас считают в христианских державах, государь. Будто в язычестве все еще находимся. Слабо отмахивается, точно милости просит Алексей Михайлович. — Не могу, никак не могу. Да и не станет никто комедиантством заниматься на Руси — побоятся! Знает это и Матвеев — божьими карами немилосердными, отлучением от церкви за дьявольское лицедейство и смехотворство не раз и митрополиты угрожали в своих грамотах. А это — пострашнее даже, чем угрозы царские. Но — уже нет непреклонности в голосе царя, лишь просьба. Значит, надо нажимать. — Духовника своего вспомни, великий царь. Мудрости высокой он, протопоп Андрей. И никакого нарушения святых наших заповедей не узрел, что комедианты кукуйские в государевом дворце побывали. Ибо потеха сия не токмо что теперешними братьями твоими, христианскими государями, грехом не считается, а и в давние времена, еще в палатах православных византийских императоров уважалась. Почему же не может мудрость твоего духовника остальным божьим слугам примером стать? Плечом под кафтаном шевельнул Алексей Михайлович, реденькую выгнул бровь. Мол, кто-кто, а ты, Сергеич, знаешь — церковь это церковь… И — точно осенило умницу Матвеева. — Мыслю, государь, добрый есть выход. А что, если из Мещанской слободы, посольскому приказу подчиненной, юнцов в комедианты набрать? У белорусцев зрелища за дьявольские не считаются, сам в Могилеве да Полоцке на ярмарках комедийные кукольные потехи — бетлейками там называются — видел. А с языком никаких хлопот — близкая кровь, не немцы… Теперь уже не просто дружелюбно — умиленно глядит Алексей Михайлович. Ну Сергеич, ну светлая голова! Надо будет в ужин передать ему что вкусненькое. Скромно, как простолюдин, питается Великой и Малой и Белой России самодержец. Съесть побольше боится: и бог может разгневаться, и желудок взбунтоваться. Но готовится всякий раз для царской трапезы чуть не семьдесят блюд. Чтоб было что переслать или передать через стольников людям, которые особенно пришлись по душе, — в знак высокой к ним государевой милости.Счастливая звезда пастора Грегори
Школа, а в углу переднем, красном, нет даже маленькой иконки — только Христос-мученик из дерева резанный. Куземка, к порядку дома строго приученный, хотел было на него перекреститься, но Климка за рукав его дерг — может, грех это будет для нас, православных, в наших-то церквях такого не ставят. На печатном рисунке державы Московской буквы опять же не наши. Одно слово — Кукуй, лютеранское логово. Двадцать шесть пареньков, «под горшок» аккуратно стриженных, в чистых рубахах и портах полотняных, за столами на скамьях притихли, растерянно поглядывают. Учитель же — знакомый им со вчерашнего немец с бритым бабьим лицом и платком на шее — в добром настроении. Одного за другим подымает, выспрашивает. — Вот ты, гросс… большой, значит, — тычет пальцем в рослого, густобрового, с виду посмелее других. — Кто ест ду… ты, значит? Рослый из-за стола вылазит, благо, с самого краю сидит, в поклоне поясном, как положено перед дворянином, сгибается, копна волос надо лбом нависла. Выпрямляется, волосы отбрасывает, отвечает вроде даже задиристо: — Родька я, Иванов сын, герр учитель. Родион, верно, будет правильно. — Герр? Знаешь, это слово — герр? Говоришь по-немецки? — Где нам! Просто с отцом в кремлевских палатах ваш один работал, то так называть себя велел — герр. — С отцом работал… Интересно, весьма интересно это есть. По какому делу он умелец, твой отец? — Кафли цветные, ценину для печей выделывает, ценинник называется. — Интересно, весьма интересно это есть… Значит, Родька, Иванов сын, — и что-то в тетрадь, в черную клеенку забранную, записывает. А что там записывает, кто прочитает? Другого, третьего подымает, Куземкин черед настает. Тоже хотел вылезть из-за стола, в пояс поклониться. Да как тут вылезешь — на середине скамьи ведь устроился, или с одной, или с другой стороны выпихивать кого-то надо. Климку — он рядом сидит — Куземка толканул было под ребра, тот — следующего соседа. Но учитель морщинами на щеках пошевелил, нужное слово русское так не вспомнил, рукой только показал — стой, мол, на месте. Как зовут, да чем отец занимается, да обучен ли грамоте, расспросил, а садиться не велит. Приглядывается, как вчера, с улыбочкой. — Зинген… петь, значит… умеешь? В краску, в пот холодный бросило Куземку — еще не хватало! А вокруг — словно того лишь и ждали, посмеяться. Даже Климка и тот: — Умеет, еще как умеет! Учитель палец вверх — сидеть, мол, тихо. — Интересно, весьма интересно это есть. Попробуй. Ноги Куземку не держат, в глазах туман. От смущения и страха козликом неожиданно взял, тоненько, с дрожью — Михайло Тюка, Климкин батя, да и только:Кленовый листочек
Куда ветер гонит?
Домой под кленинку
Иль в луг на долинку?
Товит, Товий, Сарра
Вот и началось. Куземка — он уже и не Куземка вовсе те полдня, что муштрует их Грегори в школе. Он — Товий, молодой еврей, живущий со своим отцом Товитом в ассирийской неволе. И густобровый задиристый Родька — не Родька уже, Иванов сын, а этот самый боголюбивый Товит, — Товиев, Куземкин, значит, отец. Остальные — кто невольники, кто воины-ассирийцы, кто Товитовы родичи. Не повезло лишь Климке: он — Сарра, девушка, у которой демон убил семерых женихов и которую Товий, этого демона из ее горницы прогнав, берет в жены. Грегори, понятно, предупредил, чтобы над Климкой не смеялись. Грегори сказал, что всегда, когда затевается комедия, кому-то приходится представляться женщинами. Ибо не брать же в комедианты женщин — такого еще нигде никогда не бывало. Но Климку поначалу все равно донимали. Пока учителя нет, сидят они с Куземкой в школьном дворе, бормочут по бумажке слова, которые на память велено выучить, а оболтус Васька Мешалкин, которому слова говорить не надо, лишь бердыш ненастоящий носить, подойдет со скуки, с улыбкой сатанинской поглядит, — и Куземке: — Уж больно тоща у тебя Сарра, — гляди, не порченную ль берешь? Климка загорится, вскочит, кулачки худые сожмет, а Мешалкин по двору уже носится, горло дерет: — Ворота дегтем вымажу!.. Без приданого оставлю!.. Отдам за вдовца!.. Мальцам потеха, а Климка с красным носом и глазами сидит потом в школе. Грегори сердился. Не мог уразуметь, почему это Климка баран бараном, когда надо ему Саррой становиться, встречу ее с Товием показывать. — Кто ты, красавица? Какого отца почтенного дочь? Очи твои звездам подобны, а вижу в них скорбь и печаль, — нараспев и чувствительно, как учитель того требует, произносит слова Товия Куземка. И Грегори, довольный, прижмуривает веки, кивает. А Сарра устами Климки должна отвечать: — Несчастная дочь есмь несчастного отца. Оставь этот дом, незнакомый юноша, и товарищу скажи, пусть оставит… Только Климка, как знак Грегори подаст — мол, давай теперь ты, да как надо, — на скамью, где Мешалкин сидит, взгляд кинет, и слова у него поперек горла застревают. Какая там красавица из библейской легенды, — убогий монашек, перед митрополитом от страха одуревший! — Неужели ты медведей, от пчел убегающих, чаще, чем… как это… фройляйн… девиц в слободе своей видишь! — не может понять Грегори. Климка пунцовеет, глаза у него влажнеют, но про Мешалкина молчит, не рассказывает: доносчик — последняя мразь. Оболтус Васька выдал себя сам. Слишком хитро затеял Климку поддразнить. Бился, бился однажды Грегори — хотел увидеть, как Сарра предложение Товия стать его женой встретит, а Тюке маленькому все что то мешает, не может он ступить по-девичьи. Устал даже пастор, на спинку стула откинулся, на Сарру несмышленную с облупленным носом глядит укоризненно. Васька тут со скамьи и высунулся: — Порты нашей Сарре мешают, вот что… В портах — какая из него девка? Я дома был — расстарался, полегче может будет ему чуток? И швырнул Климке под ноги женскую телогрею, грязную, порванную, без застежек. На свалке, не иначе, подобранную. Затопали, зашаркали все со смеху лаптями. Сжался возле учителя Климка. А Грегори — тот сразу все понял. Сердито сверкнул глазами, останавливая смех, поиграл ехидно морщинами на бабьем своем лице, Мешалкину велел подойти. — Твой учитель есть… как это… думм… дурак, — постучал себя пальцем по лбу. — Разумеется, никакой не есть Тюка Сарра. Маленький, писклявый, бестолковый. А Сарра, она должна быть о! (пастор поднял руки вверх), о! (обвел перед грудью), о! (как можно шире вокруг бедер). Недаром засматривается на нее уже восьмой жених!.. Думаю, поищем сейчас новую Сарру. Какая надобна в комедию… Снимай, Мешалкин, порты, надевай вот это, — Грегори ткнул башмаком в телогрею. На Васькином лице — растерянная улыбка. С ноги на ногу переминается, за завязку на портах держится, тянет, не развязывает, — может, пошутил немчина, успокоится. Ан нет, глядит, аспид, неумолимо, зло. В угол Мешалкин забивается, женское платье, для Климки притащенное, на плечи натягивает. — А порты, порты! — не забывает Грегори. — Сам сказал — порты Сарре мешают. Угрюмо озирается Мешалкин, заголяет костлявые ноги. Хохот стоит — звенит в окнах стекло. И со всеми смеется Климка. — Интересно, весьма интересно это есть, — не шевельнется ни один мускул на лице у пастора. — Телогрея есть как раз тебе по росту. Привыкай к ней, не снимай. В дом мой, к фрау Грегори, так пойдешь. Бочку с пивом выкатишь из погреба. Убежишь или работать будешь плохо — Мордасов про то сразу будет знать. Попасть к Мордасову не дай бог никому. На всю Мещанскую слышно бедняг, попавших к нему на допрос или расправу. Потому не перечит, только голову опускает Мешалкин. Выходит, полу телогреи, где застежки, придерживая… Впрочем, к жене своей в помощники посылает Грегори не только за провинность. Дом и двор у небольшие, а все-таки хозяйство. Беседка, деревца молодые, цветы, как во всех дворах на Кукуе. Подвал просторный, чтобы пиву было где отстаиваться, строит, — старого маленького погреба уже мало, пиво пастор любит. Куда ни кинь, всюду надобны руки. Здоровые, мужские. Семья же у пастора — одни девки. Когда парней отец приводит, на весь двор переполоху и писка наделают, и — порх в дом, — только остренькими глазками сквозь кисейные занавески в окнах то одна, то другая глядь да глядь. Любопытно, вишь, им знать, кого пастор так необычно называет, хозяйственные отдавая приказы: — Товий и ангел Рафаил, пустые кади из погреба наверх и залить их водой… А ты, Товит, с обоими стражниками — за лопаты… Как зовут комедиантов по-настоящему, никак не усвоит Иоганн Готфрид Грегори. Родьку Иванова это злит. Когда вылазит из ямы с ящиком земли на плечах да сталкивается с Куземкой, — взмокшим, остатками бурды вонючей из кадей перепачканным, — отплевывается Родька и ворчит: — Холуев даровых, холопов себе заимел, еретик! То и холопа последнего именем человечьим, каким в храме нарекли, называют. А тут? На собачьи клички скоро заставит отзываться… Ночуют ребята в школе — на сене, укрывшись дерюжками. Едят — на кухне в трактире, аустерией у кукуйцев что зовется. Лишь иногда, к вечерне в свою кирху собираясь, пастор отпускает их до утра домой. Идут, конечно, пешком, потому как невеликие господа, чтобы нанимать каждый раз для них подводы. Дорога от Кукуя до Мещанской неблизкая, и всю дорогу Родька возмущается: — От доброты души, думаешь, пустил нас домой? Ищи у него душу, у антихриста! Пошли без ужина да позавтракав придем — денежки не проедим, они при нем и останутся. Не за свои же нас кормит — из казны ему дают. Отец от одного подъячего слыхал, по четыре полкопейки на день на каждого нашего брата. По четыре полкопейки! Это еда должна быть чуть ли не боярская! А тут как выйдешь из аустерии их поганой, так будто и не ел… Зато девки у него видал как наряжены — царевны! И строится опять же. Настрою ему, накопаю. Ей-богу, напишу вот челобитную. Про все. Самому государю!.. Правду золотую приятель говорит, а молчит, не поддакивает Куземка. Разве лишь невразумительно хмыкнет. Как хочешь, значит, так и понимай. Потому что как бы на него Родька поглядел, какие бы слова ему сказал, если бы Куземка признался, что и хуже бы кормил их немчина, больше заставлял бы работать, — все равно был бы рад Куземка, что попал к нему в руки. Что очень ему по по душе — быть комедиантом. Что не чувствует он себя оскорбленным, когда пастор зовет его Товием, — наоборот, ему даже нравится… Словно в сказку каждый раз погружается Куземка на комедийных занятиях в школе. В этой сказке хорошо ему, свободно. Будто и вправду, не Куземка Дубонос он из Мещанской слободы, — а юноша, жгучим солнцем южным опаленный, муками отца-горемыки опечаленный. Когда Родька, Товитом незрячим за стенки хватаясь, ковыляет и зовет его: «Сынок, сынок!» — у Куземки, стыдно в этом признаться, застревает горький комок в горле. Конечно же, не сразу у них стало получаться, у Родьки да Куземки. Недель сколько было: поставит их Грегори, они заученное по бумажке невпопад выкрикивают, друг на друга исподлобья глядят, пастора всякими словами, которые вслух произнести грешно, честят про себя. Но однажды он слушал их, слушал, морщины по лицу озабоченно гонял, а потом вдруг спрашивает: — Евреяне в слободе вашей жительство имеют? Куземка плечами пожал, удивился: — Какие же у нас евреяне? Откуда? Да со скамьи — почему-то ядовито — Мешалкин: — А Ивлев? А Иванов Степан с Елисеевым? А купчина Матвейка Григорьев? На оболтуса Ваську Куземка глядит: что за чушь он городит, не понимает. — Какие же это евреяне? То ж крещеные. В церковь вместе со всеми ходят… — А все равно евреяне, — будто подкусить чем-то хочет Мешалкин. — Все это знают. Что правда, то правда, разговоры такие и Куземка от отца своего с Тюкой хромым слыхал: когда их соседа, почтенного торгового человека Матвея Григорьева, отроком-пленником из Мстиславля в Москву перевезли, будто был он иной, не православной и вообще не христианской веры. — Замечали, как люди эти при народе держатся? Как почитают старших в своей семье? — тем временем все клонит куда-то Грегори. Замечали, разумеется, слава богу, не слепые. Григорьевы как вместе все к обедне ступают, то и слов никаких не надо, видно без слов — всегда помнят люди, что из чужаков презираемых в знатные выбились. И хоть этим по-глупому не бахвалятся, перед слобожанами беднейшими нос не задирают, но гордятся, принимают как знак божьего благоволения, что встречные в поклоне сгибаются, дорогу уступают. Особенно Григорьева старший, Самошка, ровесник Куземки, — за рукав отцовской шубы держится, шаг в шаг за ним старается ступить, а на лице — вот, мол, каков у меня тятя. Наверное, когда Товит был молод и богат, а Товий — в годах Самошки, так ассирийцы, среди которых они жили… Словно молния сверкнула в глазах Куземки. Понял подсказку учителя! — Давай попробуем, — договорился с Родькой, — будто Товит — это Матвей Григорьев состарившийся. А Товий, значит, — будто малец его, Самошка. Разгладились морщины у Грегори, когда смотрел и слушал их назавтра… В хлопотах и занятиях чудных — забава не забава, а и на серьезное не похоже — не заметили, лето промелькнуло. Зарей, как на улицу из школы выскакивают — от сена после ночи отряхнуться и глаза заскорузлые сполоснуть, — пятки подпекает заиндевелая трава. С паутинками бабьего лета в волосах приехали первый раз в Преображенское. Венценосного хозяина в усадьбе не было. Заспанная стрелецкая стража в помятых кафтанах резалась на солнышке в карты. Мордатые девки, словно на обычной слободской улице, с коромыслами на плечах плыли по воду и, сплевывая, лущили семечки. Видеть все это и интересно было, и почему-то страшно. Но подошли к комедийной хоромине, остановились, ожидая Грегори, на крыльце в свежей стружке, — пастору что-то толковал сзади чужеземец в запачканных краской штанах, — и просветлели у Куземки с Климкой лица: тоненькое, с дрожью, сквозь открытые двери строения слышалось веселое пение:Жук топориком махал,
Строить мушке помогал.
«Тятька, это же я, Куземка!..»
Первый мороз лег рано. Уже в последних днях октября землю оснежило, по Неглинке и Яузе пошла шуга. Снег сразу растаял, превратился на дорогах в месиво. Но через неделю приморозило вновь, большак на Преображенское подсушило, небо посветлело, дул свежий ветерок, дышалось легко. Ясным утром второго ноября, вскоре после того, как отзвонили, отголосили над Москвой колокола заутрени, торжественное шествие выступило через Спасские ворота из кремля. Стременной стрелецкий полк — один к одному молодцы звероподобного вида — шел впереди, и обычный подле кремля и подле храма Василия Блаженного люд — лоточники, менялы, богомольцы, нищие, юродивые — в испуге кинулся врассыпную: поняли — едет царь. Кто попроворнее, немедля в храм или еще куда подальше. Кто на ноги надеялся не очень, оттрусил чуть вбок, и — носом в оледеневшую брусчатку. Следом и правда двенадцать горячих коней несли золоченую карету. Кони ослепительно-белые, масть в масть, тонконогие, кожа лоснится, на пышногривых головах — султаны, на бархатных шлеях — кисти с жемчугом. Ближние бояре и чины двора прикрывали карету с боков. Ближе всех, конечно, Матвеев на сером в яблоках жеребце. Ограждением шла еще стража с пищалями наготове. Встречные сразу падали ниц, голову от земли никто не подымал. И все-таки разглядела Москва — на ковровых подушках кареты рядом с царем сидела царица. В горлатной лисьей шапке он, в треухе собольем с верхом веницейского атласа она. Хвостом за каретой шли бояре, дворяне, стольники — каждого так и распирает от спеси. Прогрохотали еще колымаги с царевичами и царевнами, с царевой и царицыной родней. За каждой тоже — бояре, дворяне, стольники. Дрожи, молись, чтоб пронесло, православный люд! Но свернуло шествие, исчезло за поворотом, — и словно уже бояться некого у стен кремля. Словно и не шныряют в толпе длинноухие соглядатаи из приказа тайных дел. — Конец света, ей-богу! Давеча чернец у храма тут недаром… — Тсс… На дыбу захотел? Иди ты с чернецом своим вместе… — Что ж это делается! Царица — и чтоб так вот в открытом возке!.. — А ты не приглядывайся! К бабе своей приглядывайся… — Шурин рассказывал: как первый раз царицей с иордани она ехала, так в карете окошко будто открывала, высовывалась на людей поглядеть. Божился, что видел это собственными глазами, что дивовался вместе с народом, а я все равно не верил… А тут… Вестимо — из матвеевского ежели дома… — Э, будь здоров!.. Что-то очень тут вертится пузатый этот, с пышками на лотке. — Хоть кто пущай вертится, на своем стоять буду. Не бывало такого на Руси, чтоб на царицу кто хошь зенки пялил. Басурманство сие и грех. Огнем меня пытайте, то же самое буду говорить! Не купчиха она замоскворецкая, не кукуйская бесстыдница!.. — Всё тебя слушаю краешком уха, человече, и спросить не осмелюсь. А куда их понесло, хоть знаешь? — В Преображенское, должно. Иль еще куда — откудова мне знать! — А пошто? — Не с ближним боярином разговариваешь, не с царицыным дворецким! — Позорище безбожное в Преображенском сегодня будет. Игрище такое, комедь называется. Для души — погибель! — Перекрестись хоть, грешные слова ведь говоришь! — Уж не то что крестился — перед Иверской колена преклонил. Свечку ей, заступнице, поставил. И не я один. — Бесы-кукуйцы опять? — Коли б только кукуйцы! Так и свои ведь, православные, тоже. С Мещанской… Вон одного из них прижали. Иванька это, ценинник. В Грановитой теперь работает. Малец у него с теми безбожниками в Преображенском… Кого-то высоченного — надо всеми видна была голова его впоярковом колпаке и с каменной пылью в густых бровях — и вправду окружили люди. В недобром гуле можно было разобрать, что и сам он, Иванька, не иначе как колдует: печи ставит такие — топятся со свистом. Что слобода эта Мещанская вторым Кукуем становится — и оттуда всяческое поветрие чужеземное идет на Москву. Что не помешало бы кой-кого из слобожан для устрашения остальных и в огонь… Едва выбрался, отбился тот поярковый колпак.Начали поздно, после ужина. Царского, понятно, ужина и всех, кто с царем приехал. Комедиантам было не до еды. От вечерних петухов дрожали на возвышении за брусом, отгороженном теперь от зрителей еще и суконной шпалерой. Толклись, бессмысленно друг на друга поглядывая и слова, четыре месяца ученные, в страхе — а вдруг в самый нужный момент забудутся! — себе под нос повторяя. В долгополых, наподобие риз, хламидах с блестками мишуры. В латах и шлемах белого железа. С приклеенными, а для большей уверенности, что не отвалятся, еще и привязанными к шапкам, бородами. Никто не шумел, не озорничал. Оболтус Мешалкин, увидев набеленного и нарумяненного Климку с пышными девичьими волосами, поднял было руку с угольком, чтобы намазюкать ему усы. Но Грегори заметил, взял у Родьки суковатую палку Товита и огрел Мешалкина по спине. Он сам волновался, Грегори, — морщины по лицу так и ходили. Когда за шпалерой послышались голоса и важное покашливание, когда задвигались там лавы, — заглянули в щели между сукном и стенками, сукном и брусом. Милостивый боже, сколько шитых золотом кафтанов и ферязей! Какие богатые шубы — за любую, должно быть, слободу их можно купить. Что за камни в перстнях — сверкают, отсвечивают, искрятся. Тут убежать бы, спрятаться, пока еще не сдвинулась эта шпалера. Пока еще пустое перед самым возвышением накрытое персидским ковром государево кресло. Но Грегори испуганно вдруг зашикал и быстренько замахал рукой, прогоняя всех с возвышения в задние покои. За шпалерой заскрипело, зашаркало — ферязи, кафтаны, шубы повставали с лавок. Комедианты поняли: в палату вошел царь. Минута, ожиданием которой жили столько времени, — наступила. С побелевшими губами, с красными пятнами на беспокойных своих морщинах Грегори подал знак чужеземцам, примостившимся за расписанными полотнами со скрипками, органом, рилами (кое-кто называет их по-новому, виолами), — и в темноту палаты — фонарщики потушили в ней свечи, оставили гореть лишь при входе, поплыла райская музыка. Куземка, тоже побледневший, отчаянно глянул на пастора — тот постарался успокаивающе улыбнуться, — перекрестился, вышел за шпалеру. Не разглядел во мраке — только знал: прямо перед ним в кресле сидит царь, а сбоку, за загородкой на полку́,— невидимая любопытным царица со старшими царевнами и с женой Артамона Матвеева. Было это тай ной, никто о сем Куземке или кому другому не говорил. Но давеча очень уж беспокоился Грегори и живописец в запачканных краской штанах, хорошо ли будет видно с полка́ сквозь щели в досках возвышение с комедиантами. А Михайло Тюка, которого послали с утра какую-то щель все-таки расширить, увидел там, за загородкой, не деревянные лавы, как для смотрельщиков внизу были поставлены, а кресла под сукном, причем одно точно такое, как приготовлено было для государя. Куземка и поклонился так, как сколько раз показывал Грегори, — сперва месту, где должен был сидеть царь, потом в сторону — полку́, потом — остальной палате. Звонким, ломким, дрожащим голосом перекрыл затихающую музыку:
Великий Алексей Михайлович, о царь,
Милостью божией наш государь,
Сколь могуч ты, то мир весь господний знает,
И твой скипетр везде христиан защищает.
А с боков возвышения, от знатных смотрельщиков складками шпалеры прикрытые, дивятся на комедиантов портные, цирюльники, плотники. Оставили их на случай неожиданной нужды — борода у кого вдруг отклеится иль в облачении случится непорядок. Оставили и велели сидеть не дыша в задних за возвышением покоях. Да разве там усидишь, когда рядом происходит небывалое! Повыползали, примостились и вот тоже глядят. Михайло Тюка, тот барином просто устроился — залез на лестницу, к стенке прислоненную, и видно ему лучше, чем кому иному в палате. Не то что оттесненному назад Дубоносу — кто ж Якуба пустит вперед, когда за плечами его медвежьими ничего не увидишь. Покуда Михайло и другие плотники управлялись менять полотно, — вновь ставить то, что стояло вначале, с лачугой из песчаника и чахлым деревцем, — Куземка в мантии Товия и Родька в халате Товита заглянули в заднюю комнату. Куземка счастлив, улыбается радостно, глаза блестят. Увидел отца, бросился… Но Якуб отпрянул, точно к нему кинулся оборотень. На сына глядит, как безумный, испуганно бормочет, крестится.

Куземка тоже пугается: — Тятька, это ж я, Куземка! Не узнал? Но губы у Якуба одеревенели. Пробует улыбнуться, что-то ответить, да получается нелепое: — А-бб-гсп… Куземка растерянно оглядывается на Родьку. Лицо у Родьки сжалось, потемнело.
Родька не приходит
Ах, везет Иоганну Готфриду Грегори! Ах, скрежещут зубами, готовы локти себе кусать его завистники. Опять, опять не по их все получилось! Конечно, только и разговоров было назавтра, и через неделю, и позже в Кукуе о том, как еще раз угодил он царю. И, конечно, только и разговоров было об этом у пастора в доме, когда собралось здесь по радостному случаю застолье. Пришли к нему кукуйцы — почетные прихожане, красномордые рейтарские начальники в париках и ботфортах, пришел кое-кто из россиян — среди них и Данила Мордасов в кафтане со стоячим воротником от уха до уха. Потому рассказывал Грегори по-русски: — И прибегает ко мне от окольничего Матвеева стольник. И говорит, значит, стольник, что государь посылал своего лекаря Стефана фон Гадена — Данилой Евлевичем вы, московиты, его зовете, — на галерею к царице. Чтоб спросил лекарь, как ее величество себя чувствует и хорошо ли ей видно и слышно. Интересно, думаю, весьма интересно это есть. Самому государю, верно, нравится, коли беспокоится, чтобы и государыне было как лучше. Ну, а государыня лекарю пожаловалась, что Товита на галерее иной раз не слыхать. И чтоб я, значит, комедианту о том сказал. Вот же, думаю, думкопф… как это… дурацкая башка сей Товит. Челобитные строчить, так мастак, — он же подавал на меня челобитную, будто ворую у комедиантов харч. А чтобы с толком перед августейшими особами произнести слова, не хватает, видишь, духу… Данила Мордасов его перебивает. Данила Мордасов на девиц Грегори поглядывает — порхают, щебечут они вокруг стола, глиняные кружки перед гостями меняя, — и подмывает его показаться молодцом: — Хочешь, магистр, отстегаю его в съезжей? У меня там есть Алфимка — с третьего удара мясо с костей, что рубаха с плечей… Щебетуньи охают, ручками, по локоть голенькими, хлопают, остренькие глазки, лишь Мордасов на них глянет, от страха становятся круглыми, — а Даниле и забава. Грегори соглашается: — Пожалуй, для порядка когда-нибудь придется. Чтобы всяческое непослушание искоренить. Ибо желание имею еще многие комедии учинить. Коли будет на то, конечно, государева воля… Про Юдифь, красавицу, сердцем отважную, интересное действо можно показать. Как принесла она соплеменникам победу над ассирийцами… Про мудрого Иосифа — история его такая бурная. Вспомнить хотя бы приключения в доме Потифара — не оторваться ведь, когда читаешь… Рейтары согласно кивают париками. Мол, истинно, об Иосифе — это весьма интересно. Особенно как полюбила его, служку-иудея, жена египетского вельможи. Во всем свете — и в Германии, и в датской земле, и где хочешь — смотреть сие любят. В кухне уши навострили — слушают болтовню Грегори и гостей его Куземка, Климка и Родька. Нанять на званый ужин людей из аустерии пастор не раскошелился, поставил помощниками к кухонной бабе комедиантов. И дешевле это — лишь за угощение, — и перед застольем можно похвалиться; — Ахтунг, господа… как это… внимание. Сейчас будем есть приготовленного по-баварски вепря. А к отрокам, которые принесут его из кухни, прошу приглядеться… Ставят парни блюдо широченное на стол, — кабан еще жиром кипящим пузырится, от запаха аж кружится голова, — а Грегори на каждого пальцем: — Видите перед собой Товия из комедии, государевым отмеченного удовольствием… Видите также — никто бы из высоких смотрельщиков не узнал! — его красавицу Сарру… Видите Товита, лентяя и строптивца, хотя дар комедийский и ему богом дан… Глазеют пьяные гости, точно хвост у тебя портками прикрыт. Мордасов с дурашливой осторожностью Куземку по спине и по боку похлопал. Дочкам Грегори озорно подмигнул, — все, кажись, человеческое, и ребра, и хребет. Краской Куземка запылал, выскользнул из рук Мордасова. Родька же, как давеча в Преображенском, потемнел лицом. Да и сами пасторские девки… На кухню как за вином забегают, то с опущенными глазками, бочком, бочком — и мимо! Словно в пост оскоромится которая, если заденет парня рукавчиком. На секунду лишь ресницы вскинет, и в испуганно-любопытном взгляде — будто видит, как в подклетьи съезжей палач Алфимка срывает с Родьки рубаху…Ночь переспав-передрожав в школе, подле холодной печи, утром на пасторской кухне немного согрелись, подкрепились — потопали домой. Густые брови у Родьки ощетинились ежиками. — Отец же осатанеет мой, как услышит, что еще не конец. Уж и так на меня волком смотрит. Из-за тебя, говорит, разорвут всех нас скоро. По городу, говорит, из-за тебя не пройти — точно вора, хватают. На нем ведь в тот день, как в Преображенском мы скоромошничали, зипун порвали, клок из бороды выдрали… Да и самому — в церковь слободскую в воскресенье заглянул, а люди шарахаются. Точно анафему с амвона только что мне кричали. Юродивый прицепился: «Дьявола вижу, дьявола…» Только и надежды было — ну, неделю еще, две, ну, месяц самое большее, — минует же все это наконец! Да оказывается — где там! Герр пастор только входит во вкус! Климка тоже брел хмурый, опечаленный: — Будто по своей мы охоте! Будто отталкивали нас, прогоняли, а мы — пищим, да лезем: возьми и возьми нас, немчина!.. Только Куземка снова молчуном. Потому что всю ночь, пока ежились в школе, грезилось ему возвышение в комедийной хоромине и на возвышении том он, Куземка. То уже привычным и понятным Товием, то воином в латах и шлеме, пред которым преклонила колени отважная Юдифь, то освобожденным из тюрьмы Иосифом, толкующим фараоновы сны. И в сладких грезах забывалось тревожащее. Что дома у него не легче, чем у Родьки. Что отец подавлен гнетущим страхом. Такого, как в Преображенском, дома, конечно, с отцом не случалось. Однако, глядел он на Куземку все равно с тоской, и губы при этом беззвучно шевелились, как шевелятся у людей, сидящих подле покойника. …Дня четыре не трогал их ретивый пастор. Уже понемногу и приходили в себя, привычными начали жить заботами: кто спозаранку с отцом на промысел помощником снаряжался, кто подался в школяры, — благо построили в слободе за лето школу. Осмелились забегать к ним в избы соседи, — порасспросить про царские палаты, да как там, в комедийной хоромине, все происходило. Хватались за головы, крестились, услышав, например, что оголец целовальника из приречного переулка представлялся самим божьим ангелом. Но постепенно слобода успокаивалась. Увидела: мальцы остались мальцами, правда, очень уж изнурились, оголодали… И все-таки через неделю, когда с вечера послал Мордасов десятских предупредить комедиантов, чтобы утречком все двадцать шесть собрались возле съезжей — вновь ехать в Кукуй, — Мещанская загудела, растревоженная. В сером рассвете не только те, кого позвали, — толклась возле съезжей сермяжная толпа. И когда подкатили подводы, когда комедиантов пересчитали, толпа увидела: одного среди них нет. Родьки, Иваньки ценинника сына. Подождали немного — так и не пришел. Побежал за ним разозленный десятский — мальца не было дома. Ночью пропал.
«Кленовый листочек куда ветер гонит?»
Лют во гневе окольничий Матвеев. Волосы поседевшие на гордо посаженной голове — дыбом. Крылья носа орлиного побелели, дрожат. В глазах — молнии. Вылитый пророк Исайя о карах божьих грешникам напоминает! Будто не сей вовсе человек у чужеземцев на посольском дворе самым рассудительным, обходительным из российских вельмож почитается. Будто не его неколебимое спокойствие царю Алексею опорой, когда сотрясает державу очередная смута. У Данилы Мордасова голова ушла в плечи, шея — что те сапожки сафьяновые, — красная. И в эту шею точно гвозди вбивает Матвеев: — Да понимаешь ты, пугало, лампадным маслом помазанное, что не о своей — о российской пользе пекусь! Комедийными действами глаза заскорузлые Москве обмываю, замшелый камень сдвинуть с места силюсь. Скоро пост великий начинается — в пост о них не помысли, о комедийных действах! Важно покудова до поста ни одного не сорвать. Важно, чтобы Москва с ними свыклась… По всем дорогам, что от Москвы расходятся, — на Великий Новгород, на Псков, на Калугу, на Брянск, на Смоленск, на Архангельск, — понеслись стрельцы с погонными грамотами. Именем государя повелевалось в грамотах беглеца-комедианта схватить, заковать в железы и с великим тщанием в Москву возвратить.— Пфуй, не имею уже сил… Думкопф… как это… дурная башка! Неужели этак трудно вспомнить, как Родька, разбойник тот и вор, говорил тут и стоял. За недобрые слова о Родьке Куземка на Грегори злится, — каждый раз, как их слышит, глядит на пастора с упреком. Однако и сочувствует тоже пастору: должен был тот взяться, по приказу Матвеева, за дело невозможное, бесплодное. Ну, правда, как это можно — за три неполных дня научить в комедию нового Товита? Прежнего муштровали все четыре месяца, — и то не обошлось во время действа без попрека… Да Матвеев возражений не пожелал и слушать. Вечер, когда комедия будет повторена, объявлен был заранее. Ни отменять, ни переносить ее норовистый Артамон Сергеевич не соглашался, — не хотел, чтобы змеи-недоброжелатели имели причину порадоваться. Грегори оставалось одно: молиться, чтобы за эти дни злоумышленника Родьку поймали. Ну, и на случай, если не поймают… — Как ты ходишь, божья мне кара! Твой же Товит слеп! Не видел, как ступают слепые? Нет, ничего он не видел, не получается у Васьки Мешалкина. Даром, что подходит, чтобы Товита показывать, и ростом, и голосом. Балда, он балдой остается повсюду. Рубаха вон на спине стала мокрой, желтовато-водянистые глаза осоловели — это ему, собаке, не Климку изводить! — а все равно никакого Товита и близко не видать! Пастор вспотел тоже. Заботными морщинами, казалось, покрылись даже уши. Однако он потратил на Ваську вчерашний день и вечер. Плюнуть сейчас на него, значит, другого комедианта уже не за три — за два неполных надо выучить на Товита. Откидывается без сил Грегори в кресле, закрывает глаза, просит Куземку: — Покажи… покажи ему, коню этому, как Товит говорит, благославляя сына в дорогу… Куземка показывает. Куземка усталости не знает, хотя мучается с Мешалкиным и он: в комедии же Товит почти с Товием одним и разговаривает. Грегори слушает, просветленно кивает, велит Ваське произнести слова, как Куземка. Набычившись, тайком от пастора, погрозив Куземке кулаком, Васька пробует, — ничего не выходит снова!..
Родьку привезли на следующее утро. Грегори всплеснул руками, когда вошел Мордасов и об этом сказал. Бросился на улицу с такой радостно, словно сидел в возке не бродяга, который столько принес неприятностей, а особа долгожданная, почтенная.
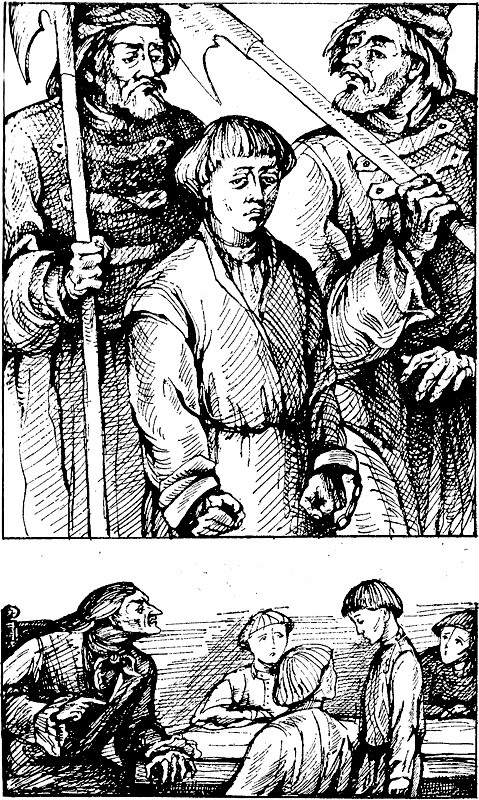
У Родьки заплыл глаз, на губах запеклась кровь, щека была разодрана, руки — в цепях. Грегори оглянулся на Мордасова, покачал головой. Мордасов немного смущенно почесал за ухом: — Правду скажу, магистр, стрельцы его везли, как в погонной грамоте было написано, в железах, но бережно. А я вот не выдержал… Лишь человек аз есмь, накипело!.. Ты его мукой присыпь, подбели как-нибудь, а железы мы сейчас снимем… Должно быть, отец родной не забегал бы так возле Родьки, как забегал спасенный от Васькиной глупости Грегори. Отвел к себе, велел кухонной бабе нагреть ушат воды, чтобы парень мог помыться, прилепил под глаз и на царапины мокрые тряпки, вкусно накормил, уложил на чистом спать. Кто там выдумывает, что он называл своего Товита разбойником и вором, что хотел, чтобы Мордасов поучил его в съезжей?! Но все равно — когда через несколько часов, немного оправившись, Родька пришел в школу, в глазах его была тоска. Может, еще и потому, что пришел не один, — со стрельцом, которому приказал Мордасов быть все время, неподалеку…
Он рассказал Куземке и Климке, что схватили его возле самого порубежного города Смоленского. Добрался туда за три дня и три ночи, — где на своих двоих, где с добрыми людьми на попутной подводе. Говорил им, что возвращается к барину, — в Москву будто пеньку с экономом отвозили, да там занемог был, вот один теперь назад и плетется. В байке этой путался, так что, может, и не слишком ему верили, однако — не выпытывали. На дорогах российских всякого встретишь, и закон тут испокон веку нерушимый: не удивляйся и не в свое не сунься… А в голове неотступное — словно райское видение; видит и видит себя на каком-то крутом берегу, и широкая, быстрая река накатывает на этот берег пенистые волны. Он не знает, Родька, что это за река. Может, Двина, отец дома всегда грустнеет, когда ее вспоминает. Может, Днепр, Неман, Вилия, — Климка с Куземкой сами слышали: в слободе их мужчины как сойдутся поговорить, так только и споров, какая из этих речек самая широкая, самая глубокая да самая рыбная… Хорошо Родьке, весело, вольготно. Чувствует — вот где его дом настоящий, желанный, хотя никогда тут не был. Вот где недоступен он ни лиходею Мордасову, ни лисице пастору, ни сарыни, что выдирает ни с того, ни с сего у невинного человека клок из бороды. Видит Родька казацкие струги, — разве не божился в Преображенском Михайло Тюка, что бунтующая запорожская голь подплывает к самому Могилеву? Слышит — да, да, словно наяву слышит! — как на стругах поют. Да не разбойничье, со сеймом и гиканьем, а то, что отцы их — и Куземкин с Климкиным, и его, Родькин, — частенько поют:
Кленовый листочек
Куда ветер гонит?
Домой под кленинку
Иль в луг на долинку?
Так оно и случилось, как Родька говорил. Еще в палате за шпалерой двигали лавами и обговаривали увиденное шитые золотом кафтаны; еще тут, за возвышением мальчишки снимали с плечей комедийские одеяния, чтобы отдать их Якубу Дубоносу; еще кровавили щеки оческами кудели, соскребая белила и румяна, — а Мордасов в куньей шубе на той же серебристой ферязи уже стоял подле Родьки и подгонял: — Трясешься уж очень, словно вправду состарился, пока старцем представлялся. Вишь, в штанину никак не попадет! Как убегать, так проворства хватало!.. После нескольких часов волнения окрыленный, счастливый Грегори — царь и в другой раз услаждался зрелищем, как в первый, — тихо попросил Мордасова: — Ты его там… как это… нихт штарк… не сильно. Отец его приходил… просил прощения… в ноги падал. Мордасов ответил со злобой: — Бесчестья, магистр, не прощаю никому. Он и ко мне приходил, ценинник. Печь, говорил, поставит мне доме небывалую, только бы я, значит, пожалел… Печь сложит и так, никуда не денется. А над сим беглецом душу отведу — наука будет и ему, и другим… Десятский с Мещанской и стрелец, целый день не сводивший глаз с Родьки, скрутили ему руки, толкнули к двери. В покоях стало тихо-тихо. Куземке почудилось, слышит, как стучит Климкино сердце. Или, может, его, Куземкино?
Окольничему Матвееву — дворянский сын Данила Мордасов
«…Еще спешу твоей милости сообщить весть зело неприятную. Касаема будет комедианта Родьки, в нетях злодейских изловленного. Как то твоя милость повелела, по окончании потехи комедь отвезла его стража стрелецкая из государевой хоромины, что в Преображенском, в слободу, в управление мне отданную. И был он заперт в подклетьи строения съезжего, а десятскому, при дверях там поставленному, наказано было стеречь весьма усердно. Намеревался я, слуга твоей милости, завтрашним днем беглеца того, Родьку, допросить, а буде установлю злодейский умысел — спины его холопской не жалеть. Токмо приехав следующего дня казенную службу служить, опечален был злодейством сызнова. Злоумышленники подлые и богу супротивные, еще как тьма ночная стояла, сообщника своего Родьку со съезжей свели. Аки лисы хитрые, сказали стражнику, будто прислал их за Родькой тем я. Будто дома у меня учиняется потеха, и захотел я поглядеть комедиантов. Ротозея-стражника допросил. Показал он, что злодеев было двое. Один, похоже, из чужеземцев, ибо говорил, как говорят на Кукуе, а по-нашему лишь сказал раза три: «Интересно, весьма интересно это есть». А второй, повыше, в стрелецким был колпаке, тулупе и у того чужеземца за толмача и помощника… Пытал стражника огнем — говорит то же самое… Учиняю теперь поиск в Кукуй-слободе… На том бью челом твоей милости.Данилка Мордасов…»
«…А после, господин мой, как у жителей кукуйских, с магнстром Грегором которые из них ворогуют, осторожно я выведал, не отъезжал ли который той ночью из дома, поелику намыслил магистр, что могли тот побег супротивники его учинить, дабы ему, магистру, оным вредом досадить, — с разговором тайным подстерег меня на улице по прозвищу Мешалкин по имени Васька комедиант. А разговор был у него, что из их комедиантской кумпании Куземка Дубонос и Климка Тюка ночевать со всеми в Кукуй-слободе по окончании потехи комедь не остались, а с ночевки, как улеглись все, скрылись. И он, Васька Мешалкин, то видел, как украдкой, будто до ветру, Куземка и Климка выходили, а назад на ночевку их больше не было. Сегодня поутру названных комедиантов разыскал и допросил. И то они, Куземка Дубонос и Климка Тюка, на себя признали, что в школе кукуйской, где ночевали и на комедийское умельство учились, тайно бороду и волос прикладной они взяли, а также платье комедийское, какое там было. В слободу Мещанскую из Кукуя через ночь опосля поспешив, подле съезжей украденным платьем и волосом с бородой обличья свои истинные утаили. А как потом дуралея, десятского стражника, обманули, тьмой ночной, опричь всего, воспользовавшись, — о том я писал тебе, благодетель, прошлый раз…»
«…Что пожаловался Грегори-кукуец, будто комедиантов его самых лучших изувечили, то это напраслина. Злодеям слободским наказание учинять по службе казенной слуга твоей милости обязан. А заплечному мастеру Алфимке говорилось, чтобы хлестал он комедиантов с остережением. Понеже исполнял бы работу без остережения, то… сам понимаешь, господин мой!.. А что харкают они сейчас кровью и что лекарь сказал, мол, на комедийское умельство никогда более пригодны не будут, то и самому магистру, окольничий, укажи, чтобы голодом комедиантов не морил и с поденного корма, царевой казной им отпущенного, в карман свой басурманский не клал. Ибо лекарь сказал, что от того они нутром и ослабли… А были бы нутром неослабшие, то Алфимкину работу бы выдержали… К Грегору я ездил и говорил то же самое. И он меня не бранил и ответил, что все равно на великий пост потех у государя не бывает. Пост сейчас в самом начале, и до мясоеда успеет он, магистр, комедиантов научить еще и лутших. А отроков со слободы смогу на это прислать ему, сколько пожелает. О беглом же Родьке известий не имею. Отца его допрашивал, ничего не знает и он… Висельник тот, Родька, от комедиантского своего звания уму непостижимо как в нети кидается, а вот портняжка поротый Куземка, который Товию молодого показывал, — сильно плачет в скорби нынче великой, что к комедиантству более пригоден не будет… На благодетеля и заступника милость твою полагаюсь как всегда.Данилка Мордасов».
ПОКЛОН СПИРИДОНУ СОБОЛЮ
ТРИ ВСТРЕЧИ С ПРАПРАДЕДОМ ТВОЕГО БУКВАРЯ
Встреча первая
Наше знакомство с человеком, о котором хочу рассказать, пускай произойдет в Киеве. «Матерью городов русских» назвали наши пращуры Киев. В те времена, куда мы направляемся, он в границы Русского государства не входит, которое столетье подвластен то Литве, то Польше. Но сердцами они все равно друг к другу тянутся, Москва и Киев. И толпами бредут сюда богомольцы из-под самого Белого моря, из Великого Новгорода — поклониться святыням на берегу Днепра. И едут из Киева в Москву ученые монахи — толмачами да учителями. И мужей, заслуживших уважение в Киеве, почитают и там, где по-волжски окают, и там, где по-немански чекают. Трех таких почтенных, именитых жителей Киева вижу вечером в лето одна тысяча шестьсот двадцать девятое за нелегким разговором. В поношенной шапочке-скуфейке и выцветшем подряснике, точно не митрополит он, не первый в округе святитель, а горемыка-дьячок захудалой часовенки, зябко поеживается в кресле Иов Борецкий. Среди людей православной веры в те времена он, наверное, из самых сведущих. На столах и полках в его доме в роскошных окладах с серебряными пряжками рукописные и печатные книги. Древняя латинская и греческая премудрость, новейшее французское, немецкое, польское, валашское письмо. На всех этих языках Иов говорит, как на родном, и на все эти языки переводилось написанное им. Не из гордыни, не по причине того, что низко ставит посетителей, принимает он гостей в домашнем. С недавних пор Иову нездоровится. Рдеет на широком блюде принесенный служкой инжир. В чашечках стынет заморское чудо — чай. А митрополиту ничто не мило. Исхудалый, с красными пятнами на впалых щеках, с желто-белой поредевшей бородой, он греет руки о чашечку, и коли кто из собеседников повышает голос, умоляюще глядит на него потухшими глазами. Впрочем, не сдерживается и то и дело повышает голос лишь один из собеседников — архимандрит, или, если попроще, начальник Киево-Печерской лавры Петр Могила. В седой старине, лет за полтысячу до дали, в которой мы с тобой, читатель, осваиваемся, в пещерах глинистой приднепровской кручи возле Киева стали прятаться от суеты и тщеты бренного мира отшельники. Молитвами жили и постом. Одни умирали, другие в их пещерные лежки селились. Природных нор не хватало, выкапывали их сами. Со временем выдолбили в глине целые подземные храмы. Со временем эти храмы — чем дальше, тем роскошнее — не в земле, а на земле, на прибрежной круче, солнышком обласканной, начали ставить. И вот уже у черноризников давнего приюта отшельников не звериные лежбища, а храмный городок — лавра. И вот уже пещерные основатели лавры провозглашены святыми, и почитается божьим даром увидеть их мрачные убежища. Мощным оплотом веры стоит для православных Киево-Печерская лавра с ее богатством и благолепием, с ее поместьями, мастерскими, друкарней. Грозным воеводой чувствует себя в этой крепости архимандрит. Тем более такой, как Петр Могила. У него точно высеченное из камня с крутыми скулами и лбом лицо воеводы. У него громогласное, на гулкое эхо рассчитанное, воеводское горло. Архимандритская шапка на голове — точно шлем на воеводе. Хоробрым воином еще недавно летал по степи на горячем скакуне молдавский царевич Петр Могила. Коня и меч сменил на библию и крест, а все равно остался воякой. Одержимым, непреклонным, безжалостным. Побаивается его кроткий Борецкий, хоть сан митрополита выше сана архимандрита. Не ровня Борецкий Могиле ни богатством, ни знатностью происхождения, ни теперь ко всему и здоровьем. А ума, известности, учености не занимать и Петру Могиле. Третий в зале не сидит — стоит. В новых чоботах, в новом кафтане. Все руки норовит втянуть в рукава, работной темноты их стыдится перед белорукими святыми отцами. Пересохшие губы облизнет, глазом серо-синим на квас перед архимандритом покосится, но попросить того квасу опять-таки стесняется. В зале не душно. Солнце уже на исходе, в окошко залетает ветерок с Днепра — митрополиту вон даже зябко. Душно же Спиридону Соболю — славному друкарю от того, что вот снова в который уже раз за годы, что живет он в Киеве, повторяется обидное. От митрополита прибегает к нему в друкарню лукавый служка, передает повеление предстать пред светлые очи владыки и, шмыгнув носом, на прощание будто ненароком роняет, что к владыке приехал сильно разгневанный печерский архимандрит. Спиридон оттирает от краски руки, забегает домой сменить платье, и, принаряженный, словно на пасху, но настроенный совсем не празднично — понимает, не на доброе зван, — предстает пред судилищем. Обвинитель на судилище воевода-архимандрит. Пальцами, унизанными камнями, за каждый из которых можно купить чуть не сотню таких, как на Соболе, кафтанов, тычет в друкаря, словно наводит на него пистоль. — Дивлюсь, владыка, твоему заступничеству. Иноки мои давеча резонно вопрошали. Мы, говорят, увидим у паломника в лавке книгу, «Лимонарь» называется, могилевцем Соболем отпечатанную, и укоряем паломника. Дескать, купил и читаешь безбожное. А паломник таращит глаза. В книге что на первой же странице написано? Что во дворе митрополита, опекуна могилевцева, печатана!.. Борецкий со всхлипом хватает воздух. — «Лимонарь» читаем был на вселенском соборе… Мудрейших христианских пастырей благословения удостоен! Патриарх Фотий, Иоанн Дамаскин о нем… Не договаривает, лишь слабо машет рукой. Понимает, — все, что сказал бы, архимандриту ведомо. Могила желваками каменными двигает, говорит митрополиту, а глазами жалит Спиридона. — То и тревожит, что на вселенском. Пригодно, значит, для чтения и у нас, и где хочешь… Вон что себе позволяет! Шпыняет не только беднягу друкаря — сам вселенский собор, всесветный съезд наивысших христианских духовников. Бурное и трудное это время. Государственная граница отделяет Украину и Беларусь от России. И жаждут варшавские магнаты, чтобы такая граница проходила и в душах. Чтобы и она отделила украинцев и белорусов от русских братьев. Всячески домогается польская шляхта, чтобы украинцы и белорусы исповедывались богу в островерхих католических костелах, а не в православных церквях, как было испокон веков. События ведь происходят три с половиной столетия назад — крест тогда мог совершить порой больше, чем меч. Петр Могила — воинствующий защитник веры православной. А вселенский собор, где собиралась прежде братия и православная, и католическая, давно уже на торжественные съезды свои — не частые, раз в сто лет, а то и реже, — созывает высоких участников только в католических сутанах. Оттого Могиле подозрительно все, что хоть когда-либо собором одобрено. Пусть даже одобрено в незапамятную пору. — Притчи книги «Лимонарь» людей от церкви отваживают, — трубно, точно он перед толпой в лавре, убеждает митрополита архимандрит. — Учат они, что к богу можно обращаться и дома. А проистекает из этого что? Что не такая и большая беда, коли папские воины храмы православные рушат. Что обойдемся и без храмов — грудью вставать на их защиту не стоит. Глотком остывшего чая Борецкий возвращает себе немного силы возразить: — С ног на голову все ставишь, архимандрит. — Из горла у него со словами вместе: хлюп, хлюп. — Достоинство, а не изъян книги «Лимонарь», что учит она, как перед гонителями веру сохранить. Ведь самое главное для нас, чтобы вера устояла. Веру сохраним — разрушенное отстроим!.. А Соболь молчит. Не по чину ему перед первыми в округе людьми, коли не спрашивают, высовываться. Да и не согласен сейчас друкарь ни со своим обвинителем, ни с защитником, хоть обоих высоко почитает. Не громкая слава Киева привела его сюда из родного Могилева. Там, дома, лихие стояли времена, когда, объезжая приписанные к его митрополитству города на Белой Руси, Борецкий услыхал о Спиридоне Соболе и пожелал с ним душевно побеседовать. Ни учить детей на родном языке, ни печатать книги кириллицей — буквами, которыми пользовалась ненавистная Речи Посполитой Москва, — не стало тогда в Могилеве никакой возможности. Именем папы сутанники душили все. Радеющий о людях, могущих распространять просвещение, Борецкий и предложил понравившемуся друкарю со всем его печатным хозяйством пристанище в своем дворе в Киеве. А Соболь предложение с благодарностью принял. Однако как он ни благодарен, обязан, послушен митрополиту, а имеет, начиная печатание новой книги, и задумку тайную. Затаенную в сердце даже от благодетеля. «Лимонарь» — одна из таких задумок-тайн. Архимандрит гневался не попусту. «Лимонарь» и вправду рассчитан был больше на чтение не церковное, с амвона, а на домашнее, семейное или наедине. Соответственные в книге настроения, молитвы, соответственные рассказываются истории. Соболь, разумеется, не безбожник, службы посещает исправно, молится усердно. Но ведомы ему нужды таких, как сам, простолюдинов и давно ему хотелось дать духовную пищу и им — не очень просвещенным, не шибко грамотным, не слишком удачливым. О книге «Лимонарь» Соболь наслышан был давно. Еще расстрига-монашек, у которого малолеткой учился он в Могилеве грамоте, хватив порой чарку, рассказывал ученикам в школе удивительные истории, будто бы произошедшие с его знакомыми… Натопырив уши, боясь пропустить хоть слово, внимали школяры рассказам. А когда подросли и Спиридон пришелся учителю по сердцу, тот признался, что неправда это, что ни с кем из знакомых у него таких чудес не случалось, а вычитал он про все в книге «Лимонарь» — переписывал ее некогда для богатого боярина. Позднее Спиридону и самому довелось держать в руках переписанное из «Лимонаря». Еще позднее дознался, что есть у книги и другое название — «Луг духовный» и что составил ее лет с тысячу назад ученый византиец Мосх. Однако всю прочел только здесь, в Киеве, — митрополиту прислали печатанный латынью «Лимонарь» из Парижа. Прочитал и почувствовал: вот оно то, что давно неосознанно ищет. Что очень легла бы эта книжка на душу работному, обездоленному, латыни необученному люду, если бы заговорила на родном ему языке. Ибо населена была не богатырями да угодниками, вызывающими боязливое почтение, но остающимися недосягаемо далекими. Жили на ее страницах обычные мужчины и женщины, замороченные понятными хлопотами, немного даже грешные. А то, что потом эти рыбаки, моряки, скоморохи, блудницы все-таки выходят в святые, — утешало, отзывалось в читателе и слушателе умилением. Загорелся — и вот год уже, как дорогим товаром считают «Лимонарь» оборотистые киевские и не только киевские купцы. Просят, покупают, читают книгу люди, благодарят Соболя. Благодарят, да не все. У архимандрита Могилы вон суждение о книге иное. — Как на исповеди скажу, владыка. Не для блага нашего общего обосновался у тебя во дворе могилевец. Одно у него на уме — худое сотворить чудотворной лавре. А у больного Борецкого силы иссякли. Все проходит, все прах и тлен, говорит его печальный взгляд. …Солнце зашло. Над Днепром, над крестами и колокольнями церквей, над соломенными, тростниковыми, лубяными кровлями пламенеет небо. Соболь бредет кривыми улочками Подола. Этот самый старый уголок Киева, где Соболь нашел пристанище, называется тут Нижним городом. И потому, что лежит в низине, и потому, что обитает во дворах за плетнями народ более низкого, чем в Верхнем городе, звания — кто мелкой торговлей, кто ремеслом перебивается. В ушах не затихает голос архимандрита, и хмурым взглядом Спиридон невольно высматривает вдали на круче золотые маковки церквей лавры. То, о чем не сказал, смолчал, вновь и вновь вертится на языке. То, чего из почтения к Петру Могиле Соболь долго не позволял себе и думать. Но убеждается: иной причиной, а не тем, что архимандрит говорит, объясняется его враждебность к Соболю. Не по нраву архимандриту, что есть в Киеве друкарня кроме той, что в лавре. Не желает он, чтобы печатное обращение к православной душе исходило в Киеве еще от кого-нибудь, не от одной лавры. Вот и цепляется, выживает из города Соболя. Только кому о том поведаешь? Кто поверит, что великий Могила — со слабостями земного грешного человека… Он заходит к себе в друкарню. Висит у двери на гвозде, ждет хозяина перепачканный краскою кожаный фартук. Ждут свинцовые брусочки с литерами на торцах — шрифт,горсть каждой буковки в отдельном ящичке. Ждут деревянные и медные дощечки с вырезанными рисунками. Ждет стан, печатающий эти рисунки и буковки на бумаге, когда соединены они в слова, выстроены в строки, оформлены в страницы. Кипами не сшитых еще, сегодня и вчера отпечатанных страниц завален стол. Уже много месяцев заботы и старания Соболя отданы новой книге — «Апостолу». «Апостол» по-гречески посланец. Отцы церкви которое столетие учат: было у Иисуса двенадцать самых верных ему учеников, коих послал он в мир со словами утешения и истины. Апостольские те проповеди считаются непревзойденными, из века в век в храмах читаются. Вот и Соболь своего «Апостола» задумал как духовную опору страждущим. Там, в родных местах, силой и хитростью заставляют людей отрекаться от завещанного отцами. Пусть же эта книга — посланец Соболя — тоже их поддерживает, учит. Только странно как-то складывается. Соболь готов согласиться: в «Лимонаре», может, и правду есть что-то, чем Петр Могила имеет право быть недовольным. Но «Апостол» — он ведь для службы, для чтения в храме. Страницы книги трубные, точно голос самого архимандрита. В «Апостоле» не сомневается даже осмотрительный чернец из лавры, который в тамошней друкарне режет рисунки. Чернец продал для «Апостола» старую самшитовую доску со святым Лукой — пять лет назад этот Лука был в книге, выпущенной лаврой. Чернецу и в голову не пришло, что ждать его может кара, когда «Апостол» выйдет и рисунок увидит и узнает Могила. А Соболь все равно не спокоен. Словно не в благословенном он православном Киеве, а в отчем Могилеве, где по нынешним порядкам за такого «Апостола» можно и без крыши над головой, а то и без самой головы остаться. Словно воистину не преданный он единомышленник, а недобрый соперник лавре. Он тревожно спит ночь и утром спешит не в друкарню, а в дом, где своей тревогой можно поделиться. В один из немногих богатых домов на Подоле. К своему могущественному покровителю Богдану Стеткевичу, земляку и родовитому шляхтичу, приобретшему двор в Киеве вдобавок к своим имениям на Белой Руси и в Литве. Стеткевич — дородный краснолицый здоровяк. Дома он в широкой отбеленного крестьянского полотна рубахе, — и не скажешь, что вельможа. Лукаво поглядывает из-под лохматых, сплошным коромыслом выгнутых бровей — и точно доволен тем, на что Соболь жалуется. — Вновь советую тебе, мастер, — возвращайся туда, откуда прибыл, — на родную землю. Не потерпит тебя в Киеве архимандрит. Чем лучшие будешь делать книги, тем большую заслужишь немилость. Всего лишь человек он, Могила, хоть и великий. А дома у нас вроде стало спокойнее. Монастырь вот в Кутеине открываю — славно бы наладить там друкарню. Поддержку обещаю, благодарность. Да и просто — дома это дома. Скорина наш что говорил? Что зверя к берлоге его, птаха к гнезду, а человека… Смолкает и глядит еще лукавей, ждет. Соболь вздыхает: — …а человека к земле, на которой родился, тянет отовсюду. Дитя уразумело бы: не желанием помочь — собственной выгодой руководствуется Стеткевич. А все равно предложение его как же заманчиво для Соболя!..Встреча вторая
Переберемся теперь вслед за нашим героем в Кутеинский монастырь под Оршей. На старинном гербе Орши — пять скрещенных стрел. Может, напоминание о том, что встарь поблизости находилась стоянка скифов, где свист стрел был таким же обыденным, как топот коней и грай воронья. А может, стрелы эти — пять дорог-путей, что сходятся-расходятся в Орше, соединяют ее с близкими и дальними землями. О давнем и недавнем прошлом здешних мест рассказывает Спиридону Иоиль Труцевич, отче почтенный, ученый и учтивый, кутеинский игумен. Открывает он друкарню и правду о монастыре. Оказывается, это только считается, что основали обитель Стеткевич и его жена, княжна Елена Соломерецкая. На их имена были выписаны в Варшаве государственные бумаги. Спасибо благодетелям, что на это согласились, — с кем иным варшавские гордецы не стали бы и разговаривать. Но если вправду, то все заложено и возведено здесь не на деньги Стеткевича. Собрали их, поделившись небогатым своим скарбом, простые могилевцы и оршанцы. Храмы православные и школы в городах были закрыты, вот и высмотрели горожане уголок в лесной глуши, где очаг их духовного единства не дразнил бы противника, не слишком был бы на виду, — и в то же время, чтобы легко было к нему добираться. Разный наведывается сюда люд, с разной нуждой. Кто приковыляет службу отстоять с монастырскими. Кто чадо принесет окрестить. Кто прикатывает к Иоилю — хочет исповедаться, чтобы снял у него почтенный старец камень с души. Но самая большая радость для Соболя, когда видит он спозаранку, выйдя из кельи или из трапезной вдохнуть перед работой морозной боровой свежести, как в синеватом рассвете по льду Днепра (тут он набирает только силы и величия, батюшка Днепр-Славутич!) спешит к монастырю веселая муравьиная вереница подростков. В Кутеине есть школа. После того как Соболь чуток обжился, игумен Труцевич попросил его: — Не принуждаю тебя, мастер… Забот у тебя, знаю, достаточно. Однако, если бы выкроил ты часок-другой еще и для школы, пошло бы то школярам нашим на пользу. Как тут откажешь? Тем более что и игумен считает своим долгом заниматься с детьми. Да и не в тягость уроки Соболю, а в радость. — Темпора мутантур эт нос мутамур ин илис, — торжественно произносит Соболь непривычные, загадочные для здешнего уха слова. Точно загадку бросает любопытным, притихшим огольцам. И загадка сразу отгадывается. Мальчишеский хор переводит латынь, словно поет: — Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Это на пятом месяце занятий. Смышленные, забодай их комар!
По одному, по двое, а то и целой ватагой заглядывают ученики и в друкарню. Растерянно, с опаской глазеют на Соболя и монахов-помощников. Как колдуют они над ящичками со шрифтом — буковку к буковке пристраивают, строку к строке. Как в боковушке, где сам воздух кажется раскаленным, ковшиками на длинных держалах разливают в формочки горячий свинец с сурьмою — свинец остынет и из формочек выпадут новые брусочки шрифта. Как накрывают железную раму с плотно сжатыми строками и узорчатыми плашками влажным листом бумаги. Как потом подсовывают раму под пресс печатного стана, — и вот уже мокрый лист, будто выстиранная простыня, сохнет на веревке. Из помощников своих Спиридон особенно ценит гравера. Резное искусство редкое — одним учением умения не приобретешь, природой должно быть подарено. Повезло — нашелся среди кутеинских послушников способный к такому искусству. Не хуже, а, может, и получше того, что в Киеве продал Соболю старую доску с апостолом Лукой. Инок Дионисий, которого кличут чаще Денисом — так звался он до пострижения в монахи. Просторечное имя подходит ему больше, ибо грешен он, Дионисий-Денис: случается, встречают его с городскими парнями под хмельком. Любого другого игумен давно бы расстриг. А тут лишь вздыхает и просит бога простить баламута: золотые у Дениса, нужные обители руки. Завороженные, застывают гости из школы возле гравера. Лобастый, толстогубый Денис сидит хмурый, морщится. Намедни вновь согрешил и, значит, снова жди попреков игумена. Но хоть сам и мрачен, рисунок на плашке с буквицей, — большой заглавной литерой, — набросал угольком веселый, светлый: солнышко, деревце, олененка. Не такими ль рисунками радовал детей, когда были у него жена и ребятишки? С тоски ведь подался Денис в монастырь — в холерный год остался один-одинешенек. В руке Дениса долотце. Тем острым долотцем он ловко с плашки счесывает и сковыривает лишнее. Оставляет лишь места, покрытые угольными линиями. Работает, кажись, легко, играючи. Но один малец — из тех, кому все надо самому потрогать, — поднимает с пола отрезанный от плашки уголок, шкрябает по нему что есть силы другим долотцем, благо их много на полочке у резчика, — и что же? Белеет лишь царапинка. Денис косит глазом, ворчит: — Груша. Вылежится, так твердая, что железо. Которое помягче дерево, на стане не выдержит. А Спиридон одобряет растерянного мальца: — Пробуй, не стесняйся. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Может, станешь мастером, вот как Денис. Только доля поласковее будет. Обняв мальчишку за худенькие плечи, подводит к шкафчику, где держит вещи самые ценные в друкарне. — Вот глянь — старая печатная плашка. Для того, кто не знает, — такая же, как остальные, ничем не отличная. А я перед ней шапку снимаю, точно перед игуменом нашим, да благословенным будет его век. Ибо плашка сия — из друкарни Ивана Федорова, книжных дел знаменитого мастера, великого мученика. В Остроге — город такой есть на Волыни — посчастливилось ее приметить. Федоров служил там в княжеском имении. Где только бедняге не доводилось искать пристанища!.. Раскрывается у мальца рот, глаза становятся круглыми. Осторожно дотрагивается он до вырезанных лепестков, словно пожелтевшая с несмываемыми черными пятнами краски плашка, которая столько лет уже не страшится давления печатного пресса, от прикосновения пальцев может рассыпаться. Франтишек Скоринин сын из Полоцка, Иван Федоров из Москвы, Петрок Тимофеев из недалекого Мстиславля — как часто и с каким уважением рассказывает Соболь в школе про этих славных зачинателей книгопечатания на родной земле. Тут, в Кутеине, он замышляет главную свою книгу. Главное дело жизни. Соболь-друкарь и Соболь-учитель счастливо в нем сольются. Вот я спрашиваю: — С чего, читатель, начался твой путь в державу знаний? Подумав, ты отвечаешь: — С букваря. Спрашиваешь потом ты: — А у вас, дядя автор, какой туда первый был пропуск, в ту волшебную державу? Отвечаю, как и ты: — Букварь. Миллионы и миллионы людей, если их спросить, ответят то же самое. Маршалы и агрономы, космонавты и врачи, писатели и зодчие, — все учились читать и писать по букварю. Как из малюсенького семечка вытягивается высокое пышное дерево, так из букваря вырастают и выигранные спустя десятилетия сражения, и построенные в пустыне города, и разгаданные тайны природы, и путешествия в межзвездные дали, и сложнейшие хирургические операции, и повести, над которыми плачут и смеются. Букварь — одно из великих творений человечества. К тому времени на языке, которым русские, украинцы и белорусы пользуются при письме, выпущено мало — по пальцам можно все перечесть — книжек, что должны давать «детем малым початок всякое доброе наукы, дорослым помножение в науце». Соболь все это вспоминает, когда делится замыслом со Стеткевичем и Труцевичем. Вспоминает приведенные слова Франтишка Скорины из книги его «Псалтырь». Вспоминает позднейшие книги на языке нашем с таким же предназначением — учить. Соболь доказывает: не по чем соотечественникам-единоверцам осваивать чудо грамоты, просто не по чем. «Псалтырь» Скорины уже мало где увидишь — сто с лишком лет прошло, как печатался. «Азбука» Федорова тоже не первому поколению служит — в школе какой или в семье у кого можно еще встретить, но потрепанную. Из книг для обучения, братьями Мамоничами в Вильне и там же в Вильне многоученым Лаврентием Зизанием изданных, несть числа сколько погибло в кострах — на Белой Руси кровожадные иезуиты полютовали больше, чем в землях иных. Вот и выходит — очень ко времени была бы теперь новая книжка с начатками грамоты. Высокий, высохший, платье на нем, как на жерди, Труцевич с горечью кивает. Правду молвит человек. Сам сколько раз видел, как хищники-иезуиты набрасывались на книги, печатанные кириллицей. Списки себе составили, какие из них опасными считать и безжалостно уничтожать. Однако выгребали из школьных, монастырских и частных книжных собраний по спискам и без списков. У кого сила и нахрапистость, докажи ему правду и закон! Труцевич и сам владеет пером, написанное им тоже печатается книжками, в том числе книжками для школ, — и он благословляет Соболя. Удачи тебе, мастер, угодное богу дело замыслил!.. Разговор идет под низким, закуренным потолком монастырской трапезной. Стеткевич здесь не дома. На нем не домашняя рубаха крестьянского полотна, а шитый золотом кунтуш. Но Кутеино — имение его, землю под монастырь дал он, и всем, что тут делается, он по-хозяйски интересуется. На Соболя он глядит из-под лохматых, сплошным коромыслом выгнутых бровей, как смотрел при встречах в Киеве, — с лукавой приветливостью. Нравится ему, как наладил могилевец печатню. Не знает и не может Стеткевич знать, какая замечательная ей уготована судьба. Что останется она в Кутеине и когда Соболь отсюда уедет, теперешние подмастерья сами вырастут в добрых мастеров. Что станет знаменитой. Что в войну между Польшей и Россией, спасая знаменитую белорусскую друкарню от военных невзгод, заберет ее оборудование и старых уже монахов-мастеров Иверский монастырь под Новгородом. Что немного позже очутится то оборудование в Воскресенском монастыре под Москвой. Что оттуда будет перевезено в Печатный двор — самую первую и главную Российской державы типографию. Не может того знать ни сам друкарь-скиталец, ни шляхетный его опекун. Одно видит Стеткевич: за добро ему платят добром. Вот и промысел свой Соболь наладил отменно, и благодетеля на весь свет, почитай, славит. В книге «Апостол», которую начал еще в Киеве, а доделывал уже тут, в Кутеине, вон какими видными и пригожими буквами сообщает, что «коштом и накладом пана Богдана Стеткевича, подкоморого Мстиславского» книга печатана. А новая, которую замыслил — ее ведь приобретет еще больше народу. Чтобы учить детей, не пожалеет ведь простолюдин последней копейки. И, выходит, фамилию Стеткевичей люди знать будут сызмала. Знать и почитать не за одно богатство, а за приверженность к просвещению, за благородное ему содействие. Стеткевич отхлебывает сладко-хмельного напитка, принесенного в трапезную келарем. Стеткевич ударяет лапищей о стол. — Так тому и быть. Берись, мастер, за новую «Азбуку». Соболь склоняется, как положено, в поклоне. Соболь говорит вдруг непонятное. — Не будет, господине мой, «Азбуки». С дозволения вельможного пана иначе будет книга называться. Стеткевич снова отхлебывает напитка. Стеткевич ждет объяснений. Словно перед тем, как нырнуть, друкарь набирает полную грудь воздуха. — Более истинное название осмеливаюсь, — поклон благодетелю шляхтичу, поклон благодетелю игумену, — высоким заступникам для книги предложить. Не сам его придумал, не сподобился. В Евьевской обители под Вильней вразумил господь счастливого. Тринадцать лет назад печатана там книга была для учения, какую мне сейчас хочется печатать. И названа была удивительно: «букварь». Буквы, мол, тот усвоит, кто книжку осилит. Начатки, самые первые шаги грамоты. А хватит сил на шаги первые, то, бог даст, пошагает дорогой учености дальше. Стеткевич слегка морщится: а приобретет книжку холоп? Холопа на дорогу учености выводить тоже? Однако Труцевич и сейчас в знак поддержки Соболю кивает. Мол, научится православный грамоте, значит, не устное только, а и писаное божье слово станет ему доступно. И крепче еще в душе станет вера отцов, труднее такого сбить с толку, перетянуть в католичество. А что касается необычного названия — «букварь», то Труцевич евьевскую книжку знает. Достойна подражания. И названием и содержанием. Облачко сомнения у Стеткевича рассеивается. Подливает себе напитка, который пришелся по вкусу (отменной ветчиной потчевали монастырские гостя-хозяина в обед: миновали времена, когда монахи-отшельники утоляли голод корой да мокрицами!), опять глядит на Соболя с лукавой приветливостью. — Делай, друкарь, как намыслил. Вырос ты разумный у отца сын, Миронович. Признак редчайшего почтения, чтобы магнат наподобие Стеткевича назвал по отчеству простолюдина!.. Может, и не так, может, иначе они договорились. Но случится тебе, читатель, побывать в старинном Львове, спроси в музее украинского искусства кутеинский букварь Спиридона Соболя. Ты увидишь воплощение, результат той договоренности: «Букваръ сиречъ начало ученья детем начинающим чтению извыкати». Прапрадеда букваря, который лежал у тебя в ранце, когда ты отправился в первый класс. Ты увидишь, что при значительной разнице в возрасте — три с половиной столетия, не шуточки! — между предком-букварем и букварем-потомком есть тем не менее сходство. Первокласснику во времена Соболя предлагалось сперва запомнить буквы. Потом он учился буквы соединять в слоги, а слоги — в слова. Потом приступал с учителем к предложениям — чем дальше, тем боле сложным. Постигал заодно и знаки препинания, которыми пользуемся и мы, — точку, запятую, тире, двоеточие. И во второй половине небольшого учебника уже должен был читать маленькие рассказы. Разумеется, рассказы в букваре Соболя не такие, что печатаются сейчас. Школы были при церквях, книгой книг являлась Библия. Так что читать прежде всего ученик должен был пересказанные на детский лад библейские легенды. Да и азбуку заучить, а правильней, зазубрить было тогда потяжелее. Букв она имела сорок четыре, а не тридцать три, как нынче. Были еще знаки «ижица», «фита» и другие, которые нам сегодня можно и не знать. И очень уж мудрено буквы назывались. Само слово «азбука» — наверное, ты это уже знаешь, — слагается из давних названий первых в нашем алфавите знаков «а» и «б» — «аз» и «буки». Не легче назывались и остальные буквы. То, что теперь у нас просто «в», было тогда «веди», то, что «г» — «глаголь», то, что «д» — «добро», то, что «ж» — «живете», то, что «з» — «земля»… Запомни в строгой последовательности сорок четыре таких названия, да так, чтоб без запинки!.. Потому Соболь напечатал азбуку в двух порядках: от начала в конец и от конца в начало, чтобы она прочнее откладывалась в голове. И напечатал еще хитрое стихотворение. В том стихотворении первая буква новой строки — это очередная буква азбуки. Запомнит ученик стишок — запомнит и азбуку! Но ученых людей, приезжающих во Львов познакомиться с букварем, меньше интересует, чем он от букварей позднейших отличается, больше — что у них общего. Ибо Соболь, составляя его, использовал все толковое — начиная от названия, — что найдено было раньше, в первых книжках для чтения, а составители букварей позднейших — и то уже, что придумано было Соболем. К примеру, славному просветителю Симеону Полоцкому — тоже рожденному на белорусской земле, — было поручено через пять десятилетий составить букварь для обучения малолетнего царевича, будущего царя Петра Великого. Так когда букварь Симеона Полоцкого листаешь, видишь — учтено в нем и то, что опробовано было сначала Соболем. Находка к находке, придумка к придумке — с годами букварь становился лучше и лучше. Мы благодарны всем его создателям. Однако тем первым, чьи едва различимые фигуры за дымкой веков встают в воображении в мерцании оплывших свечей, в копоти лучин, — благодарность особая… Букварь из Кутеина сохранился до нашего времени всего в одном-единственном экземпляре. Том самом, что во Львове. Каждый знает — чем лучше книга, тем короче ее век. Это плохой книге, которой люди мало интересуются, легче сохраниться. Сто лет может такая важно простоять на полке, а выглядеть будет, словно вчера из типографии. А книге интересной, разумной застояться не дадут. Очень скоро после выхода у нее и обложка, точно лоб мудреца, возьмется морщинами, и истончатся, расползутся от частого прикосновения рук страницы, и поблекнет, выцветет краска. Но книга такая может гордиться видом своим, будто славный воин боевыми ранами… Львовский экземпляр в одиночестве остался, потому что необходимым для людей стало создание Соболя. Пользовалось огромным спросом. И не стояло, попав в дом, нетронутым, а честно отрабатывало потраченные на него хозяевами деньги — человека за человеком приобщало к грамоте, из рук в руки переходило. Вот и нет у него братьев-близнецов — погибли на славном просветительском поприще. Шумят, переговариваются над речушкой-ручейком Кутеинкой вековые сосны. Бегут под ними у Соболя дни в хлопотах и заботах. А в мире происходят большие и малые события. Эхо их докатывается и сюда, находит отзвук и в его судьбе. В Киеве не стало Иова Борецкого. Молебен по нему отстоял Соболь вместе с монастырскими. Отстоял с искренней горестью — лишь добром мог он помянуть книжника-митрополита. Годом позже умер Сигизмунд III, король. Однако эта весть кого опечалила, а кого и обнадежила. На пышную костельную панихиду по покойнику и на поминальные застолья съехались магнаты со всей державы. Произносили слезные речи о том, каким великим да благородным был король Сигизмунд. Однако на землях, где слышалась чаще не польская, а белорусская и украинская речь, хотя считались они за польской короной, — на этих землях память об усопшем долго еще будет чернее тучи. Слишком мрачным по натуре был почивший в бозе венценосец, хмуро-подозрительным ко всему, что не католическое. Кровь и костры расправ — вот чем над Неманом, Двиной, Днепром, Припятью отмечены годы, что отсидел он на троне. И поскольку трон тогда в Польше не переходил по наследству, а король выбирался сеймом, то появилась надежда, что рвущийся к этому трону сын покойного, Владислав, дабы заполучить побольше сторонников в сейме, от отцовской нетерпимости откажется. Ведь в сейме рядом с католической имела голоса и православная шляхта. Да и пошел сын не в отца — был попокладистей и похитрее. С лицом, будто высеченным из камня, да и всей фигурой схожий с монументом, восстал перед сеймом архимандрит Могила. Бросил слова горькие и грозные. Бросил громогласно — загудело под сводами зала эхо. Вырвал все, что намеревался. Вернулся в Киев митрополитом и с вестью, что новоизбранный король пообещал замирение меж католическим и православным крестами. Вот и вышло, что кутеинский букварь появился еще и очень удачно по времени. Купцы стали смелей продавать, а здешние люди без прежней опаски покупать книжки, печатанные кириллицей. Перестали бояться, что в дом, где есть такая книжка, могут ворваться иезуиты. И как из пересохшей земли после теплого дождика дружно пробиваются ростки всходов, так вокруг стали возрождаться школы на родном языке. Настали для Соболя, пожалуй, лучшие годы жизни. Он покидает Кутеино, переезжает под Могилев в Буйничи — Стеткевич в подходящий момент и там основал монастырь, и там пожелал иметь друкарню, выпускающую книги и прославляющую его имя. Потом Соболь переезжает в самый Могилев — и здесь учит в школе, и здесь налаживает друкарню, среди прочих книг еще раз выпускает букварь. Он известный, уважаемый человек. И дома, и далеко вокруг. Даже в Москве. Он посылает туда книги. Он начинает переписку с Бурцевым, умельцем из Печатного двора, который тоже выпускает книги для обучения. Он мечтает и сам побывать в белокаменной столице Руси. Об эту пору о нем вспомнил, объезжая митрополитство, высокопреподобный Петр Могила. Друкарь и не знал, что Могила умеет глазами не только жалить, а и ласкать. Друкарь и не знал, что крутые скулы и лоб Могилы под сетью улыбчивых морщин смягчаются. — Благословить хочу тебя, мастер. Книги твои знаю. Такие люди, как ты, земле нашей вельми сейчас надобны. А Соболь этой встречи боялся! А у Соболя заныло сердце, когда узнал, что митрополит посетит Могилев! — Благодарствую, владыко!.. Он преклоняет колена и целует пальцы митрополита. Пальцы с перстнями, за любой из которых можно оборудовать печатню. Пальцы, которыми в Киеве Могила тыкал в него, будто наводил пистоль. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Петру Могиле прежнему, архимандриту, киевская друкарня Соболя была соперницей — тогда он заинтересован был, чтобы покупались книжки, печатанные только в лавре. Петру Могиле нынешнему, митрополиту, каждый, кто выпускает книги на языке его паствы, — соратник в борьбе против злокозненного, как он убежден, католичества. …А Соболь с той поры важно рекомендуется в письмах учеником и друкарем почтеннейшего из святителей митрополита Могилы.
Встреча третья
Опустим сколько-то зим и лет из жизни нашего героя. Встретимся с ним в апрельские дни 1639 года — через десяток лет после нашего знакомства с ним в Киеве. Встретимся в дни, принесшие ему… Впрочем, все в свое время — встретимся с ним в Вязьме. Порубежной заставой, сторожевым постом служила тогда Вязьма Российской державе на границе ее с Польшей. Пустят или не пустят иноземца на Русь, он узнавал здесь. И Соболя мы находим в съезжей рассказывающим о себе воеводе. Воеводой назывался боярин или дворянин, которому вручал царь власть над городом и окрестностями. А съезжей — строение, где воевода и его помощники отсиживали цареву службу. Воеводы, они повсюду спесивцы. Однако тот, что сидит сейчас в Вязьме, переплюнет всех. Из очень знатного он рода, из близких издавна царям князей Буйносовых-Ростовских. Да и Вязьма — с ней другим уделам не равняться. Застава ведь, сторожевой пост перед Москвой!.. От печи из цветной узорчатой кафли пышет горячим духом. Подъячие да писцы в канцелярии кафтаны по-расстегнули, волосы у них взмокрели, на лбах и шеях пот. А воевода не сбрасывает выдриной шубы. Чин у воеводы очень высокий, нельзя ему без шубы перед людьми, да еще при службе. Бороду ладонью сгреб, глядит на Соболя, слушает. Что думает — не угадаешь. Могут зеленоватые искорки в глазах его интерес и благожелательность означать, а могут — настороженность, неприязнь. Хапугам-канцеляристам кажется он скорее недовольным, сердитым. Перемигиваются, прикрывшись гусиными перьями да исписанными листами. Пентюх, мол, могилевец — покупает благосклонность воеводы книжками. Кто половчее, те трубки шелка кладут на ковер у его ног, да лоснящиеся бобровые шкурки, да нити жемчуга. Рысаков во двор приводят, кадушки сладкого вина прикатывают. А этот книжки в ларце поставил и на что-то еще, дурачина, надеется!.. Воевода словно услыхал бессловесные меж писаришками пересмешки — глянул в их сторону зеленым глазом. Крысы бумажные шеи свои потные испуганно в плечи повтягивали, перьями усердней заскребли, записывают, что Соболь рассказывает. Те записи до сей пори сохранились — читаем, и словно сами при беседе трехсотлетней с гаком давности сидим. Солидно и в то же время по-юношески приподнято ведет ее Соболь. Он тоже в шубе. Не столь, конечно, роскошной, как у воеводы, однако вполне завлекательной для лихого человека, если б такой остановил возок Соболя где-нибудь в лесу. Насчет лесных нежелательных встреч, что случаются они на приграничных дорогах, Соболя в Могилеве предупреждали. Мастер за предостережение благодарил, но, в возок садясь, все равно облачился в свое лучшее. Пусть видит Москва — приехал гость, которого надобно встречать с уважением. — Челом бьет тебе, княже, друкарь, у себя в отчизне и в твоей отчизне ведомый. А также ректор и надзиратель православных школ в Могилеве и Киеве, владыки достославного митрополита Могилы верный слуга, — взволнованно произносит, и верит в это мгновение сам, что и вправду не учителем обычным в школах служил, а был над скромными учителями начальством. Что и вправду никогда Могила не изгонял его, не жалил — всегда любил и жаловал. Не будем его за ложь упрекать. Очень уж грезится человеку Москва, вот и набивает себе цену. У воеводы же не угадаешь, к худому или доброму клонит. — Однако ж едешь ты, белорусец, не как друкарь, а как купец. Свои книжки небось везешь на продажу? Соболь настораживается: — В позапрошлом году в Москве уже бывал. И книги привозил тогда, и кое-что вправду продал. — Сие нам из бумаг твоих ведомо. И ведомо, что книжки твои видел тогда царь. И что одобрил и дозволил продавать. Только тогда приезжал ты не один, а с посланниками королевского величества. Крючкотворы варшавские прихватили тебя напоказ — гляди, Москва, как процветает русский книжник в польской державе. А нынче ты сам по себе, интерес короны за спиной не стоит. Зачем же пускать тебя на Русь? Чтоб обижались московские купцы? Чтобы стал ты их промыслу соперником? Холодок скользит у Соболя по спине, хотя на плечах шуба и от узорчатой печи пышет жаром. — Не о прибыли, княже, пекусь, просясь в Москву. — От волнения даже слезы навернулись на его серо-синие глаза. — Если думаешь, что укорять тебя будут купцы, то могу здесь письменно пообещать, что торговать на Руси не буду. Книжки не на продажу взял — поднести хочу в дар почтенным московским мужам. Более всего везу иноязычных. Намерен предложение сделать, чтобы выпустить их языком, каким мы с тобой говорим. На каком Русь великая, Украина, Беларусь смогут их читать. На Печатном дворе единомышленник у меня есть, по делу побратим. Бурцевым зовется Василием, слыхал о нем небось? Если возьмемся с ним рука об руку, много чего сможем пересказать из чужеземной премудрости. На добро православным сие будет: разумное перенимать — умнеть самим… На Москве я челобитную в прошлый приезд оставил. Милостивого согласия у царя просил, чтоб дозволил к вам совсем перебраться. Книжки переводил бы, печатал бы. Обучал бы школяров понимать чужеземное слово — латинское, греческое, польское. Ответа на челобитную не получил, вот и еду за ним сам. — Через два года… — вновь не понять, уважительно или с затаенной насмешкой говорит воевода. — Прежде все ждал, — Соболь глядит на него с надеждой. Писаришки вновь завертели головами. Ну и усердствует! Неужто проймет? Лицо у воеводы не светлеет, и писцы успокаиваются. Нет, брат, старайся не старайся, трубка шелка или нить жемчуга пробойнее, чем умные разговоры. Однако, на удивление, воевода рычит, точно велеречивому просителю все-таки удалось его пронять: — То, что подорожный сказал, изложить на бумаге. И бумагу послать в Москву немедля. А ты — жди… Но сверкает на Соболя зеленым глазом неприязненно. И тот не знает, радоваться услышанному или тужить, что убедить воеводу так и не сумел. Спросил бы об этом, сказал бы еще, как кажется ему, важное. Да звероподобный стрелец, стоящий у дверей, точно тисками сжимает плечо. Мол, всё, твои минуты кончились. Выметайся, в сенях заждался следующий проситель… Откуда он может знать, Соболь, что воеводе перед ним просто неловко. Что спесивый, страховидный, но умный и образованный князь Юрий Петрович Буйносов-Ростовский просто побаивается, как бы писцы не заметили, что он почувствовал к книжнику симпатию, — вот и рычит, будто разозленный медведь. Побаивается, ибо знает: не один из его канцеляристов — соглядатай и строчит доносы. А время такое, что даже вязсмскому воеводе при всей его родовитости обнаруживать симпатии следует с оглядкой. Вот Соболь с гордостью называет себя человеком Петра Могилы. А того не может и уразуметь, что не на пользу себе, а во вред называет. Ибо исподлобья, с недоверием приглядываются московские ризоносцы к громогласному киевскому первосвященнику. Горло дерет он за веру, конечно, православную. Однако слишком уж часто ссылается на писанное и говоренное разумниками западной, римской науки. Так не чужак ли он и сам, коль чужаков так почитает? Не папист ли, не тайный ли слуга Ватикана? Вот Соболь считает, что произошло недоразумение, только потому не получил он ответа на челобитную. Считает, что не мог царь отказаться от того, чтобы еще иметь сведущего подданного, умеющего с языков чужеземных снимать тайну. Как же рассказать ему, да еще при соглядатаях, что царь и ближние бояре противоположного держатся — чтоб чужеземное тайной за семью печатями для Руси оставалось всегда. Ох, погоняет сегодня князь канцелярскую плотву в съезжей, ох, погоняет дома челядь! Надо ведь на ком-то выместить развереженную Соболем злость… А для Соболя началась тоска ожидания. Он привык с утра до вечера быть занятым — делами друкарскими, школьными, переговорами с торговцами, которым отдает напечатанное. А здесь проснешься в каморке на заезжем дворе от утреннего крика, брани, печального конского ржанья за слюдяным окошком на улице, и думай: а сегодня на долгие часы, пока не стемнеет вновь, куда себя подеть-пристроить? Если б еще знать определенней сразу, на сколько надо набраться терпения — на неделю, на месяц, на лето? Так ведь никто не угадает, когда в посольском приказе в Москве дадут ход его делу. Там же так: захотят — на писанное о нем воеводе ответят быстро. Не захотят — отложат, пока хотенье появится. Или перешлют полученное в государевы палаты — сам пускай решает, желанен или не желанен Москве настырный могилевец. А ты броди, шатайся по надоевшей Вязьме. Или вертись возле съезжей то с нерастраченной еще надеждой, то во всем изуверившийся. Поглядывай издали, как в расписном возке подкатывает воевода, вновь и вновь перебирай в памяти говоренное, досказывай при той беседе недосказанное. И садит Спиридон Соболь в думах князя Юрия Петровича рядом. И тот ладонью бороду теребит, как в тот раз, когда Соболь перед ним стоял, но в глазах его зеленых — доброта. Терпеливо, благожелательно слушает. Что в Могилеве стало невмоготу. Что новый польский король, как и прежний, подлец. Не держит обещания, которое давал, садясь на трон. Ну не бросают ныне книжки в костры лишь за то, что не латиницей, а кириллицей, русскими буквами писаны. Однако и не очень ведь поощряют их печатать. Обижают-шпыняют и друкарей — сколько раз на своей шкуре это Соболь почувствовал! — и купцов, продающих книжки, и людей, их покупающих. Вот и нет Соболю покоя с той поры, как побывал в Москве. Не выходит она из головы и из сердца. Может, и правду молвил воевода, что прихватили королевские посланники Соболя напоказ. Но как там показался Соболь Москве, он не знает, а вот Москва ему неотвязно запала в душу. В сладких снах — и не хочется просыпаться, когда это снится, — ночь за ночью видит себя на Печатном дворе. Подле каждого здания там поначалу останавливается — высматривает, не выйдет ли из дверей высокий, невзгодами не согнутый Иван Федоров, великий мастер, чью плашку-концовку с нарезанными лепестками захватил из Могилева в числе самых дорогих вещей. Потом с болью вспоминает, что стоял некогда во Львове над могилой русского первопечатника, и, значит, не может теперь его встретить. Спохватывается, спешит за провожатым своим Василием Бурцевым. Шустрый, кругленький, колючий — не только барсучьей шубейкой и шапкой, но и волосьем гордо вскинутой бороды, и настороженными глазками, — Бурцев выполняет распоряжение посольского приказа, знакомит товарища по делу, заграничного гостя с уголком Московского царства, отданного книге во владение. Щекочут Соболю ноздри знакомые запахи горячего металла, красок, клея. Пальцы чувствуют на ощупь резьбу, когда касается он дощечек с рисунками. Занимает дух в прави́льной палате, так тут просторно, так удобно работать — сиди, грамотей, читай оттиск с набора, чтобы не было в нем ошибок, а за царем и казной твое тщание не пропадет. — Завидки берут, а? В Могилеве такого нет? — хвастливо, как и наяву было, когда катился он перед Соболем по Печатному двору, подкусывает Бурцев. Он вообще козырится, важничает, Бурцев. Видно, что не может опомниться от удачи — от того, что именно он, некогда безвестный друкарский подмастерье, стал таким именитым: составляет и выпускает книги малым и большим для чтения и покупают их лучше всех печатающихся в стольном граде Руси. Довольный собой, из терема в терем Печатного двора перекатывается, завистливые взгляды в спину чувствует, и кому из бывших сотоварищей в ответ на поклон кивнет, а кого и так, без кивка оставит. Соболь не обижается, что пренебрежительно о Могилеве говорится. Лишь вздыхает, глядя на столы и лавки, заваленные листами будущих книг: — А и нету… нету… И так становится ему тоскливо, так сжимает грустью сердце, что просыпается он и лежит до рассвета без сна, одной невеселой думой другую прогоняет… А бывает, преосвященного Иоасафа, патриарха Московского видит во сне. Как и было наяву, склоненного Соболя подводят к розовой, с пухлыми пальцами руке патриарха. И патриарх говорит, что напечатанному на бумаге высшей волей великая сила воздействия дана и что ему, патриарху, известно о деятельности книжника из Могилева, но он все-таки поручил своим помощникам пересмотреть напечатанное Соболем еще раз. Что, надеется, пересмотр этот и помощников, и самого Иоасафа не оскорбит. Иоасаф к злонамеренной ереси беспощаден — уничтожает многое даже из того, что прежними патриархами ересью не считалось. Но хочешь не хочешь, а и от этого сна просыпаешься, встаешь со скрипучего, полного клопов топчана. Не поспишь из-за шума-гама, который с рассвета поднимается под окном. С вечера подворье забивают впритык купеческие рыдваны, фуры, подводы с товаром — с Вязьмой либо через Вязьму торгуют сорок четыре дальних и ближних города. А утром, отправляясь домой или снова в путь, возницы не уступают друг другу очереди на выезд — бранятся, орут, хватаются за грудки. Не поспишь и оттого, что с самого рассвета до сумерек на соседних улицах стучат топоры, визжат пилы. Вязьма строится, ставит новые терема, храмы, домики на месте сожженных поляками. Поляки издавна на этот город зарятся и за последние десятилетия трижды сюда вторгались. Соболь — человек любознательный. На новое место приезжает, то сразу дознаться ему надобно, чем эта местность славна. Вот стоит, мрачно огородившись толстыми стенами, монастырь. Не поведают тебе, как он был заложен, так взгляд на него бросишь и забудешь. А с иноками или богомольцами поговоришь, и словно услышишь предание. Еще при дедах нынешних дедов не давала Вязьме покоя шайка отпетых разбойников разгульного боярина Овчины-Телепнева. Долго не удавалось ее утихомирить. А как удалось, то на память об этом и заложили вязьмичи монастырь… Или вот дом показали Соболю. С виду неприметный, дом как дом. А для здешнего люда на нем недоброе клеймо: в давние времена тут останавливался Лжедмитрий, проходимец Гришка Отрепьев. Не тревожила бы Соболя неопределенность положения, посчитал бы такое путешествие подарком судьбы. Ведь столько увидел — заслушались бы в Могилеве школяры, если бы к ним вернулся. Но то у Соболя и камнем на сердце, что не хочет он возвращаться домой, а хочет в Москву. А гостеприимная прежде Москва что-то теперь его принять не торопится… Город называется Вязьма, и река, по берегам которой он лепится, зовется так — Вязьма. Так в Вязьме-реке, пока Соболь томился в ожидании, вода стала по-летнему прозрачной. По-летнему же начало пригревать позеленевшую землю. Свою шубу Соболь уложил в дорожный сундук и ходил в кафтане. За полу этого кафтана и схватил его наконец возле Вязьмы-реки знакомый с гиду стрелец. — Спиридон Соболь? Чернокнижник из Могилева?! Ищи тебя по улицам! А ну-ка — в съезжую!.. Ну да, это тот самый — со съезжей. С мрачным лицом и руками-клещами. Стоял при дверях, когда Соболь говорил с воеводой. От обращения такого — «чернокнижник» — сердце екнуло в недобром предчувствии. …Князь Юрий Петрович Буйносов-Ростовский на Соболя не глядит — глядит в потолок. Князь Юрий Петрович, как и в прошлый раз, не говорит, а рычит. Неловко князю перед книжником. — Велено мне, чужеземец, передать тебе… — Какой я чужеземец, княже! — с горечью отзывается Соболь. Канцеляристы перья от бумаги поотрывали, переглянулись: воеводу перебивает, ишь наглец! — …передать тебе, чужеземец, приказом посольским поручено, — словно не слышит воевода, — что государева повеления пустить тебя в Москву не получено. Поручено передать также, что книжки, тобой печатанные, были читаны в подворье преосвященного Иоасафа, патриарха нашего, и найдены в них — в киевском «Лимонаре» и в других — ересь и непотребство. Канцеляристы выпучились: силы небесные, и эдакий еще царского воеводу пытался богопротивными своими книжками купить! — ….И Василей Бурцев, тобой названный, на расспросы в посольский приказ был позван. Также сказал, что в Москву пускать тебя не надобно. Что был бы от тебя один лишь вред. Что Могила твой, верной службой которому похваляешься, истинной веры обманщик и отступник, к Риму, к католичеству склоняется. Так что писано мне, чужеземец… Э, да зачем тебе писанное знать! Даю тебе срок до завтра, и возвращайся домой. Туда, откуда приехал. А чтоб дорогу не перепутал, до границы подвезут тебя стрельцы. Головы запрокинули, веники-бороды торчком повыставляли канцеляристы. Ну воевода, ну потешил! «Чтоб дорогу не перепутал…» Стражами, а не провожатыми поедут при тебе, петух Могилевский, стрельцы. Чтоб не надумал свернуть в Москву или в иной какой город на Руси забраться. Наперед будешь знать, как хвост прежде времени распускать, кукарекать-заливаться: ах, учить, ах, переводить, ах, печатать!.. Соболь злорадных тех морд не видит. Все перед глазами как в горячем тумане. «Лимонарь»? Через столько лет ему в грех незамолимый, в вину ставится «Лимонарь»? Книжка, которую когда-то выпустил для обездоленного, не очень в церковной учености сведущего люда? Вон как выходит — прежде за «Лимонарь» прогонял его из Киева митрополит Могила, а ныне не пускает в Москву патриарх, который считает Могилу врагом. Враги, враги, а как перед простолюдином, так и не враги — единомышленники! И митрополит с патриархом, и варшавский король с московским царем. Так, может, владыки и властелины книги просто страшатся? Может, просто не хотят, чтобы работные люди читали, умнели, светлели знанием? Самому становится страшно от того, что приходит в голову… И о Бурцеве вон что приходится слышать. А этот чего убоялся? Что на Печатном дворе не только на него начнут оглядываться, на кругленькую барсучью его фигуру, а и на ссутулившегося от невзгод Соболя? Так ведь мелко это, постыдно для человека, которому промыслом божьим даровано высокое, редкое искусство… Тычет Соболя в спину стрелец, дергает за кафтан, а он словно оцепенел, чудак-белорусец, не сдвинуть его с места…* * *
Свою жизнь он кончил монахом. Седого, исхудалого, надломленного, вижу его в сырой монастырской конуре. Тянет истончившиеся руки к дверцам растопленной печечки, переворачивает нетвердыми пальцами обложку напечатанного им некогда букваря. — «…В Кутейне изобразися… в типографии Спиридона Соболя… року 1631…» —бормочут сухие уста отпечатанное. Ослабевшие глаза отрываются от книжки, вперяются в иней за окном. Не в будущее ли вглядывается книжник? Не в наше ли с тобой время?ЕРЕТИК
Меня зовут Казимир Лыщинский. Я стою на эшафоте — позорном, из неструганных досок помосте. Вокруг, куда ни гляну, — люди. Море, океан людей. И взоры их пронзают меня, как пики. Какой сегодня в мире день? Какой сегодня в мире месяц? Во мраке тюремного подземелья дни и ночи для меня слились, и я давно потерял им счет. На плечах моих рубище, холод пробирает меня до костей, гнилая мокрота в горле затрудняет дыхание. Но когда в изболевшуюся грудь все-таки проникает воздух, я чувствую запах весны. Той ранней ее поры, когда из крестьянских изб еще не выветрился запах молозива, когда небо капризно хмурится, когда отец с легкой грустью замечает, как повзрослела, похорошела дочь. В такую пору даже самые прилежные из моих школяров в Бресте превращались в озорных зайчат. Я не гневался, вспоминая себя в их годы, — до чего же постыл мне был коллегиум в Вильне!.. Не помрачился ли мой рассудок во мраке подземелья? Ведь просто вычислить, что нынче за день! 30 марта 1689 года — вот какой сегодня день в календарях. Ибо приговор огласили мне в сейме марта 28-го дня — маршалок еще повторил торжественно это число, и глаза его были воздеты к небу, чтобы там, на небесах, число запомнили и при подсчете благодеяний маршалка учли. А духовник после того посещал меня дважды… Духовник приходил спасать мою заблудшую душу по утрам, после завтрака. Так я узнавал, что мир постарел еще на сутки. В трепетном багряном пламени свечи, которую приносил святой отец, я видел, как постно были поджаты его губы: мол, глубоко же ты погряз в болоте, Лыщинский, ни за что тебя оттуда не вытащить. Но когда склонялся он к свече, во взгляде его проскальзывало недоумение. Не мог, бедняга, уразуметь, к чему понадобилось богатому шляхтичу, с виду не глупцу и не безумцу, человеку семейному, при должности и при людском уважении, встревать неизвестно во что, если жить можно просто и легко, если мальвазия и курица на завтрак выше самой высокой премудрости. Всевышний, если ты все-таки есть, если я воистину ошибся, усомнившись в твоем существовании, как же ты берешь на службу, выбираешь себе в земные стражи никчемных и двуличных вроде этого духовника? Тебе ведомо все, ты всюду и во всем, а я червь дождевой, пылинка в твоем царстве, — отчего же я вижу ложь и обман, а ты будто незрячий? В те пятнадцать тетрадей рассуждений, которые украл у меня плохой человек и за которые я здесь, на эшафоте, стою, занес я сокровенное — вот такие свои дерзкие вопросы богу. Богу, чьим именем гасят свет разума. Богу, которого придумали проходимцы — слабым и доверчивым в утешение и во страх. По левую руку мою сейчас духовник с крестом, по правую — палач с топором. Пройдет минута, и голова моя упадет на доски помоста. Так что я могу уже не бояться своих еретических мыслей.
О боязнь расстаться с жизнью на эшафоте или в огне! Это она леденит нашу кровь, когда мы собираемся нечто сказать наперекор испокон веков заведенному. Я убежден: славный грек Протагор недоговаривал, хитрил, когда диктовал рабу-писцу, будто не знает о богах ни того, что они есть, ни того, что их нет; он знал определенно — нет! Я убежден: италиец Галилей не отрекся бы от слов своих, что земля вертится, — пламя аутодафе обжигало ему лицо, когда он отрекался. Да зачем тревожить тени великих — разве меня самого не заставил подлый страх преклонить перед королем колени и написать прошение о помиловании? Напрасно. Прошение не помогло. Я коснулся неприкосновенного и вот стою перед плахой, а палач нетерпеливо ждет. Сейчас он приступит. Сперва я в собственной руке сожгу те пятнадцать тетрадей — так написано в приговоре, — потом палач оголит мне шею, и… Люди, вас собралась вся Варшава. Какое Варшава — вся Речь Посполитая. Вон вижу я учеников из Бреста, однокашников из Вильни, знакомых из Городни. Вы все глядите на меня, но с высоты эшафота не видно, что в ваших глазах — лишь ужас и презрение или и боль сочувствия? Я был законником-судьею и, случалось, наказывал вас за распри и обман. Я был учителем и порой строго обходился с вашими детьми. Однако был я таким из любви к вам. И когда записывал сокровенное в те пятнадцать тетрадей, также желал вам добра. Человек, а не выдуманный обманщиками бог — властелин вселенной. Слышите это, люди? Я кладу голову на плаху. Я склоняю ее не перед химерой-богом — перед чело… Ох, проклятый палач! До чего же у тебя цепкая, как свинцом налитая, рука!..
* * *
Тряхани, тряхани его, палач! А то, вишь, зыркает — можно подумать, не на эшафоте стоит, а за судейским столом. Можно подумать, не его сейчас укоротят на голову, а он будет казнить и миловать. Хватит, покрасовался за судейскими столами да кафедрами. Отговорил свои красивые речи… Меня, случается, спрашивают, за что я его так возненавидел? Я, браславский стольник Ян Казимир Бржоска, некогда ему приятель, свой у него в доме. Кто напрямую спрашивает, вслух, кто молча, одними глазами. Я отвечаю издевательски, со шпилькой. Вы о чем, мол, почтенный пан, — о том, почему я на Лыщинского написал? А вы, ваша милость, как себя бы держали, если бы столкнулись с богоотступничеством? Утаили бы? Стали бы еретику сообщником?.. Словно сдувает любопытного господина. Потом встречаемся, так глупые вопросы уже не задает — угодливой собачкой крутится вокруг… Но господу нашему, отцу небесному, — ему то известно. Пусть же он в безмерном милосердии своем простит: не возмутился я, не воспылал благородным гневом, наткнувшись на писанину безбожника. Наоборот — возрадовался. Ну, голубчик, крышка тебе, конец, сказал я мысленно приятелю. Спишь в своей постели сном праведника, нахохотавшись за ужином с гостями. Видишь себя во сне на кафедре перед учениками, внимающими каждому твоему слову или перед барышнями-почитательницами. А на самом деле тебя уже нет. Ты сам уже химера, если повторить то, что пишешь ты о боге. В моих руках твои тетради, — пятнадцать звеньев цепи, которой ты, считай, уже скован. В моих руках ловушка, и в той ловушке — ты… Я чувствовал себя в те минуты, словно мне к язве приложили бальзам. Ведь только час-другой прошел, как Лыщинский затеял со мной разговор о деньгах, которые я должен был давно вернуть. Сказал, что обещаньям моим уже не верит и что если я вновь не сдержу слово, то не пощадит моей шляхетской чести и взыщет деньги через суд. А мы тогда налетели к нему в гости большой пьяной оравой. И у него с божьего благословения приняли еще — скаредой он не был, не хочу возводить напраслину. Засиделись, и он оставил всех ночевать. А поскольку места в покоях для гостей не хватило, то мне, своему человеку в доме, постелили в кабинете хозяина. И вот там зачесались у меня руки, захотелось влезть в стол. То ли заметил уголок бумаги и надумал сложить еще одно слезное прощение — не надо, мол, брат Лыщинский, в суд, получу с холопов по осени и тогда уж, на кресте готов поклясться, возвращу до медного гроша. То ли захотел поискать прежние свои подобные письма, дабы не было чем другу-кредитору меня донимать. И вдруг там, в ящике стола… Хмель как рукой сняло — словно и не пил. Только сердце — тук, тук. И сладкое облегчение, томление во всем теле. Кончился Лыщинский, больше не опасен. «Вера, которую считают священной, — лишь человеческая выдумка…» Разве мог я не тронуть тетради? Ведь он что, умник, сделал? Ведь он взял и подарил мне денежки, которые вчера еще так беспощадно взыскивал!.. Небось спросите: а если б не был я должен Лыщинскому — тоже бы за тетради ухватился? Тоже послал бы их в Вильню епископу? Как на духу скажу — послал бы. Думаете, не страдала моя гордость — стоит очутиться с ним рядом на людях, и все не к тебе — к нему. Думаете, не замечал я, что и сам он, хоть мы считаемся приятелями, ко мне не очень-то?.. Что для него был Бржоска? Самое большее — собутыльник, с которым не скучно в застолье. А оно повернулось вон как: я в расшитом золотом жупане рядом со свитой короля, и на меня почтительно, со страхом оглядываются, а он в смердящем рубище — на эшафоте. Исхудавший, сгорбившийся, седой. И сейчас его укоротят на голову… Богоотступникам так и надо! Вишь, замахнулся — бога, говорит, нет. Ах ты, люцифер! Ах, сатанинская отрыжка! Стой теперь, пока на деревянную подушку не положили. Это о таких, как ты, в писании: «Не будь слишком умным, дабы не оказаться глупцом». …Но зыркает, дьявол… В мою сторону голову повернул… Хм, не заметил. На короля поглядел. На послов святейшего папы… Меня не замечает опять. Не видит и вправду? Не узнает? Или делает вид, будто не узнает и не видит?.. Ну и глупости лезут в голову… Какая мне разница — не видит или притворяется, что не видит?!. Но все-таки — неужели и сейчас для него, сатаны, я нечто не достойное внимания?* * *
Ну, что вы заладили — Бржоска, Бржоска… Будто я не знаю ему цену. Будто очень долго следует присматриваться, чтобы увидеть, что человечек это мелкий, бессовестный, завистливый. И что пыл в его нападках на Лыщинского — из соображений совсем не высоких. И о Лыщинском тоже — что вы все начинаете, а договорить боитесь! Не надо бояться, я с вами согласен. Я знаю, что шляхтич он достойный уважения — за ум, образованность, за человечьи качества. Однако то, что я думаю, и то, что исполняю по велению долга, — вещи разные. Как частное лицо, я, Симон Курович, могу Лыщинского и жалеть, и даже уважать. Но как инстигатор, королевский прокурор, я обязан и буду искоренять огнем и мечом безбожие! Я выступал с обвинительной речью. Я сказал, что содеянное Лыщинским — страшнее самого страшного. Страшней, чем убийство матери, брата, собственного чада. Никакое преступление не сравнится с оскорблением бога! Если человек позволяет себе такое в мыслях, и то его надлежит казнить. Здесь же не мысль неизреченная и невидимая — слова. И слова, не оброненные в горячке или пьяной дури — слова написанные!.. На разных ретивых писак я гляжу порой с состраданием. Как на людей безрассудных, больных. Знают ведь хорошо, что перо загубило душ — несть им числа, что чернила не раз превращались в слезы, и что тот, кто колет пером, умирает нередко от меча, — а все равно пишут!.. Но опять-таки — то жалость Симона Куровича как персоны приватной. А в звании королевского прокурора я непримиримо требую Лыщинскому смерти. Ибо пятнадцать тетрадей его ереси — это пятнадцать выстрелов в бога. Выстрелов тем более ядовитых и подлых, что вид у них ученого трактата. И натуры неустойчивые, шаткие могут на ту ученость поддаться. Смотрите же на Лыщинского и зарубите себе на носу: все, что касается бога, можно только покорно, с благодарением чтить. Только! И никаких трактатов, никаких колебаний, никаких попыток убедиться самому — так или не так… Иначе что же будет, если позволить каждому, кому захочется, забираться в сферу, что считается разуму недоступной? Это же безвластие начнется, бунт! Ибо если можно иметь сомнения насчет царя небесного, то земные цари, они же тогда вроде и не цари! И порядок, существующий в мире, он создан, выходит, не высшим предначертанием, а нами, людьми, — и, значит, людьми же может быть переделан! Понимаете, к чему это призыв? Нет, Лыщинский, государству спокойней с такими, как Бржоска. О тебе же не останется и памяти. Тело твое мы сожжем, дом твой разрушим, имя твое проклянем в костелах… Когда потрясенным существом своим постиг я, сколь глубокое оскорбление нанесено было преступником господу, то в удивлении подумал: как же бог стерпел и негодяя не поглотила преисподняя? Да потом понял: великий страстотерпец не возжелал быть сам судьей в этом позорном деле. Он передал свой гнев в наши сердца и руки, нам поручил отмщение. Так исполним же волю господню. Еретик да погибнет. Аминь.* * *
Это хорошо, что вокруг никто меня не знает. Правильно, что не пошел я вместе с остальными иноземцами на возвышение, приготовленное для нас, а незаметно оторвался и скрылся в толпе. Разумеется, оттуда, с возвышения, и эшафот, и король с его свитой, и людское море видны как на ладони. Но и сами иноземцы там у всех на виду. И с них не спускают глаз соглядатаи. И, конечно же, они сразу бы увидели немца, который что-то записывает. Вряд ли потом я сумел бы закончить в Варшаве мои торговые дела. Вряд ли уберег бы в дорожном моем ларце эти записи… А так я затерялся среди скорняков, чеботарей, оружейников, каретников, серебряных дел мастеров и прочего мастерового люда. Никто на меня не обращает внимания, не спрашивает имени. Если же кто и спросит, то правды не узнает. Назовусь Гансом, Фридрихом, Куртом, Вильгельмом, только не так, как зовусь на самом деле. Здешние инквизиторы заскрежещут зубами, когда за границей появится книжка о Казимире Лыщинском. Начнут вести следствие, вынюхивать — кто же и где прошляпил. И задумают, возможно, опорочить издателя, очернить его доброе имя. Так пусть ищут то имя хоть в святцах! …Догорают в руке еретика богохульные записи. Стоят наготове молодцы в балахонах — они повезут за город голову и тело казненного, чтобы предать их огню. Я смотрю на все, что происходит, на сжатые уста людей, вглядываюсь в их глаза, — и кровь у меня в жилах стынет и кипит одновременно. Я присутствую при необычном событии — оно не должно быть забыто. Я расскажу о том, что вижу, потомкам…СТАРИННАЯ ГРАВЮРА
1
Словно на старинной гравюре, вижу Шклов конца восемнадцатого столетия. Вижу огромную — не во всяком и губернском городе есть такая — квадратную площадь с башнями гостиного двора. В одной башне — городская ратуша, в другой — купеческий склад. Тяжело груженные фуры — скрип-скрип — подъезжают от пристани к башне-складу, и тогда по всей площади и прилегающим улицам — ароматы заморских благ: винных ягод, фиников, лимонов, виноградного вина, уксуса, апельсинов. Крикливая курчавая детвора высыпает на ароматы из еврейской школы напротив, вертится у ног грузчиков — ну горсточку фиников, дяденька гой, одну только горсточку! — пока не подоспеет одетый в черное учитель и не станет загонять учеников назад в школу палкой. Из окон заезжего дома и с крыльца почты глазеют на потешное зрелище чужеземные гости. Тут и пропахшие табаком молчуны-баварцы в кожаных шляпах с перьями. И французы, любезные даже с мальчишками-посыльными в лавках. И юркие итальянцы, улыбчивый взгляд которых обжигает девчат. И осанистые греки. И щеголеватые пылкие сербы. И турки в красных фесках. И молдаване с кувшинами вина в мешках за плечами — подойди, молодица, угостись, не пожалеешь… Это в их карманах отзовутся звонкой монетой многопудовые лари, что сгружаются с фур. Почитай, двадцать лет, как знают Шклов торговые люди по всему белу свету. Его богатые ярмарки — летняя начинается на девятое воскресенье после пасхи, зимняя — на второе после великого поста; вот уж веселья, грому, вина тогда в городке!.. Его корабельную верфь, со стапелей которой сходят на волны Днепра и верткие байдаки, и величавые струги, и вместительные широкобокие галеры, и даже трехмачтовые красавцы-фрегаты… Его кожевенный завод, где под наблюдением шведского мастера выделываются замша и лайка, не хуже знаменитых мюнхенских… Его шелковую, парусную, винодельную фабрики… Вижу башни и над городскими воротами. Вижу аккуратные, под пирамидками, колодцы по сторонам от этих ворот. Тряские пролетки и тарантасы соседей-помещиков, сверкающие шарабаны родовитой офицерской молодежи из ближних полков, чиновничьи фаэтоны и ландо из губернского Могилева у тех колодцев не останавливаются. Останавливаются запряженные цугом закрытые рыдваны с пластом пыли на кожаном верхе да чужеземные фиакры, о дальности дороги которых говорят припухшие веки и небритые щеки кучеров. Потому что каждый, кого трясло в этих каретах по летним большакам и проселкам, не даст соврать: самый тяжелый в далеком путешествии последний отрезок пути. И кони тогда, кажется, еле тянут, и жажда мучает нестерпимо, и в голове чугунный гул. Как тут минуешь студеный колодец, хотя и близка уже, рукой подать, цель путешествия… Последние двадцать лет кого только ни принимает в своих стенах Шклов. Сановных петербургских вельмож, при имени которых обыватель переходит на шепот. Спесивых варшавских магнатов. Негоциантов, денежной власти которых побаиваются короли и великие герцоги. Звезд итальянской и французской опер. Загулявших гусар. Отставных ветеранов, которых никто и нигде не ждет. Бесприданниц-невест из малоимущих дворянских семей. Беглецов-фальшивомонетчиков. Карточных шулеров, которых разыскивает полиция всей Европы… Кого хочешь встретишь в городке. Недаром покойница Екатерина Великая, когда не удавалось сыскать какого-нибудь проходимца, повелевала посмотреть, нет ли его в Шклове… А приманка для всех — старинные хоромы, к которым ведет от площади широкая липовая аллея, И бесконечный в хоромах праздник — богатый стол для званых и незваных, роскошные балы, машкерады, концерты заезжих знаменитостей, военные эволюции воспитанников благородного училища, представления драматической и балетной трупп, катания на шлюпках, любительские спектакли, карточные игры, щедрые подарки, фантастическая иллюминация… Уже двадцать лет живет в хоромах Семен Гаврилович Зорич — хозяин Шклова и всего, что мы назвали и не назвали. Мальчиком Симоном Неранчичем переехал он из Сербии в Россию — к бездетному дяде, небогатому сербскому дворянину, приглашенному некогда императрицей Елизаветой в русское войско. Дядя племянника усыновил, переписал на свое имя, отдал на службу. А там уже крепыш, красавец и хват Семен Гаврилович пробивал себе дорогу сам. Отчаянным молодцом показал себя в баталиях с турками. Побывал у них в плену — не больно, правда, тяжким для него, потому что к отважному пленнику благосклонно отнесся султан. В Россию вернулся героем. Отрекомендован был Екатерине и… из холостяцкой подполковничьей квартиры переехал к ней во дворец, в покои флигель-адъютанта. За одиннадцать месяцев, прожитых там, стал генерал-майором, кавалергардом, владельцем богатых имений, кавалером самых высоких российских и иностранных орденов… Да женское чувство — разве можно на него полагаться! Даже если женщина — коронованная особа. Через одиннадцать месяцев сказка кончилась. И вот уже двадцать лет Семен Гаврилович — в Шклове.2
На портрете в фолианте минувшего века он такой, каким был во флигель-адъютантских покоях — женский баловень в кавалергардском мундире. Высокий, без единой морщинки лоб. Капризно приподнятые брови. Круглые, близко поставленные, со спелыми вишнями-зрачками глаза. Большеватый, с мужественной горбинкой нос. Под тонкими усами — маленький рот… А поскольку мы знаем еще, что Семен Гаврилович обращал на себя внимание молодцеватой выправкой и ростом, то нетрудно понять, почему лукавый царедворец Потемкин представил его Екатерине, когда враги Потемкина братья Орловы начали сильно влиять на императрицу через светловолосого малоросса Завадовского… Но в то июльское утро тысяча семьсот девяносто девятого года, когда мы переступаем в Шклове порог кабинета Зорича (ах, как щекочет ноздри запах французских духов и дорогого турецкого табака!), мы застаем тут человека, лишь немногими чертами напоминающего портрет в фолианте. Поседел, потучнел, обрюзг бывший первый при дворе любовник. Сутулятся широкие плечи под мягким пухом шлафрока. Лоб озабоченно наморщен, во взгляде — тоска. Это лишь нас, залетных птах в его имении и в его столетии, поражает все вокруг размахом и расцветом. А сам Зорич знает — все обман. Как за ломберным столом — сидишь, бывает, ни с чем, а делаешь вид, будто сорвешь сейчас банк. Канули в лету времена, когда он мог позволить себе расходы, почитай, царские. Никакие прибыли уже не могут покрыть его миллионных долгов. И зашевелились подлецы-кредиторы, одолевают, берут за горло. Зорич, конечно, держится Зоричем — по-прежнему налево-направо раскидывается векселями, посылает богатые подарки в Петербург и Москву, кормит-поит ораву гостей, выплачивает пенсионы. Но мнутся от его расписок торговцы, просят наличными. Доползло, докатилось, что имения Зорича, кроме шкловского, заложены-перезаложены; что его заботами и на его счет основанное благородное училище по причине полного финансового расстройства передано на казенное содержание; что и над самим его шкловским владычеством висит угроза — вновь, как было уже при Екатерине, встал вопрос о продаже имения с торгов. Да в те времена имел Семен Гаврилович могущественную покровительницу. А нынче… Дрожит подносик на полированном столике. Дрожит от того, что Зорич сердито швырнул на него трубку кальяна (ах, турецкий плен, ах, далекая молодость!). Серебряная насечка трубки стучит о фарфоровую чашку с табаком, и чашка жалобно динькает. Крепкая волосатая рука со слегка обтрепанной кружевной манжетой поспешно хватается за край подносика, чтобы тот не свалился. Это камердинер. Он стоит уже давно и ждет, пока его присутствие будет замечено. У него грустные, навыкате глаза, и глядит он на Зорича немного загадочно. Игнатий Живокини — таким у россиян стало трудное для их произношения итальянское имя Джиовакино делла Момма — смотрит так на всех и всегда. Зорич это знает и обычно не обращает внимания. Однако сейчас отчего-то злится. — Разносит вас, монсиньор, точно пузырь! — сердито тычет он в живот камердинера. — От новостей? Просто от макарон? Живокини делает напрасную попытку живот подтянуть. Беспомощно улыбается, прижимает широкую ладонь с короткими пальцами к груди. — Ах, эчеленца! У вашего пиита Хемницера есть басня. Помните, ее читали на журфиксе у Гаврилы Романовича. О том, что много было в обозе возов, да самый большой с какой был поклажей? С пузырями!.. Живокини позволено при хозяине шутить. Зорич любит его шутки, рассказывает о них гостям и угощает при этом слугу-шута шампанским или бросает золотой. Однако сейчас он сверкает глазами и передразнивает итальянца, растягивая на его манер слова: — Хе-ем-ницер! Жу-ур-фикс! С пуз-ырями!.. Ради этого, монсиньор, вы сюда и явились? Камердинер краснеет, на щеках его исчезают веснушки. Шута больше нету. Есть униженный, не очень молодой человек. — Не ради этого, эчеленца! Простите, эчеленца… Час назад сенатору Державину привезли пакет… С фельдъегерем… Я интересовался… От генерал-прокурора… Теперь уже жарко делается Зоричу. Рукавом шлафрока он вытирает лоб. Хороших манер Семену Гавриловичу недостает всю жизнь. А тем более, когда ему не по себе.3
Да, пакет был от генерал-прокурора. От Петра Васильевича Лопухина. Новоиспеченного светлейшего князя. Не слишком большого приятеля Державина. Молодой фельдъегерь, меняя на почтовых станциях рысаков, сам, должно быть, останавливался только для того, чтобы наспех перекусить. Был он серый от пыли, когда выпрыгнул из возка. Отсалютовав тайному советнику Державину палашом (ежедневные многочасовые экзерциции — первейшее к военным требование нового императора), он смог лишь засунуть в кожаную сумку расписку о вручении пакета, — повалился на кровать, даже не пригубив поднесенной чарки, напрасно старался Кондратий, камердинер Державина. Мог и не гнать так отчаянно. Ничего чрезвычайного в пакете не было. Ничего, что заставило бы сердце Державина затрепетать от неожиданной радости или, наоборот, заныть от оскорбления. Всего лишь венценосец вновь пожурил своего седого сановника и первого на российском Парнасе пиита. Будто не слишком разумный учитель — прости, господи, сравнение рабу твоему грешному! — нерадивого школяра. Бог свидетель, Гаврила Романович Державин принял сие высочайшее поручение не слишком пылко. Хорошо знал — ему, а не кому-нибудь другому выпало заниматься жалобами на Зорича не по причине особого к нему августейшего расположения. Просто генерал-прокурору и свату его, графу Кутайсову, Гаврила Романович был на некоторое время нежелателен в столице. В сенате ставилось на рассмотрение дело тамбовского купца-казнокрада, и Державин, недавний тамбовский губернатор, мог раскрыть в этом деле то, что Кутайсову и генерал-прокурору было бы совсем невыгодно. Да и просто Кутайсов давно уже на шкловское имение зарится. Это кусок, конечно, лакомый — Шклов. Особенно теперь, при Зориче. Какой он ни мот, Семен Гаврилович, а все-таки двадцать лет назад, когда Екатерина презентовала ему откупленное у польских магнатов Чарторыйских местечко, не было здесь ни нынешних фабрик, ни театра с залами для пиршеств и танцев, ни спрямленных по новому плану улиц, ни перестроенных по единому образцу домов обывателей. Чарторыйские почти тут не бывали. Шляхетный гонор держал их в заграничных столицах, подле аглицких, французских да австрияцких коронованных особ. А Зорич, он был смертельно обижен потерей благосклонности императрицы, когда переехал сюда. И тщеславно замыслил возвести столицу столиц тут, в Шклове. Державин хорошо помнит, как девятнадцать лет назад двор гудел и охал от невиданно пышной встречи, устроенной Зоричем в Шклове государыне во время путешествия ее в новообретенную Белоруссию. Как в будуарах и салонах подсчитывалось, во что могло все это обойтись, — винные фонтаны и столы для обывателей на улицах, пылающие по всему городку смоляные бочки и фейерверк в пятьдесят тысяч ракет, отличная выучка крепостных дансерок и семьдесят перемен декорации в пантомиме, фарфоровые сервизы, по специальному заказу сделанные в Саксонии, и обставленная для высокой гостьи точно такая, как в Зимнем дворце, спальня. Прикидывали, крутили головами, чмокали придворные всезнайки — ой, при таких расходах ненадолго хватит Зоричу щедрых екатерининских презентов! Так оно и случилось — хватило ненадолго… И все-таки Державину неприятно видеть и слышать, как по этому случаю радуются. Он брезгливо оттопыривает толстоватые губы, когда вспоминает намеки кутайсовских блюдолизов, что обер-шталмейстер граф Иван Павлович не против будет по сходной цене перекупить у Зорича Шклов. Граф Иван Павлович, — сойти с ума, ей-богу! Это ведь надо, чтобы пленный турецкий мальчонка, без роду, без племени, названный Кутайсовым только потому, что попал к русским у города Кутаиса, — чтобы мальчонка этот из игрушки царевича, челядника, холуя превратился в первую после самого помазанника божьего особу в империи. Вот уж воистину чудеса господни!.. С каменным лицом Гаврила Романович отвечал в Петербурге на эти намеки. Отвечал, что ничего не может обещать. Что имеет поручение взять под опеку и даже продать с торгов имение генерала Зорича только в случае, если жалобы шкловских обывателей окажутся резонными. А если окажутся нерезонными?.. Может, тон утреннего письма из Петербурга той несговорчивостью Гаврилы Романовича и объясняется? Ибо тон этот странный. Он, Державин, две недели назад написал императору и генерал-прокурору, что несколько смущен обстоятельствами, с которыми встретился в Шклове. Что, имея повеление рассмотреть жалобы на Зорича, не осмеливается все-таки принимать такие жалобы от крепостных — знает законы на сей счет Российской империи, А генерал-прокурор, ссылаясь на государево повеление, отвечает так, словно Державин писал как раз противоположное. Может, они, Лопухин и тот самый Кутайсов, и на высочайшем докладе реляцию Державина переиначили? Знают, что императору Павлу горячий нрав Гаврилы Романовича не по нутру, вот и наговаривают. Ибо почему вдруг его, точно масона какого или якобинца, предупреждают, чтобы не нарушал порядка и в отношении Зорича с подданными не встревал? Почему напоминают, что в противном случае среди крестьян могут вспыхнуть волнения? Знает все это, хорошо знает сенатор и тайный советник Державин. И в письме на государево имя о том как раз и уведомлял, что руководствуется законами империи, согласно которым крепостным не позволяется на господ своих жалобы подавать. Хоть было не по себе, когда писал. Ибо все-таки Гаврила Державин не только верный и искренний слуга законопорядка, а и просто живой человек. Человек, которому, при характере его, больно видеть, как в соседних со Шкловом деревнях обессиленные, опухшие от бесхлебицы крестьяне кормятся лишь щавелем, лебедой да кореньями. И насчет волнений не надо Державина предупреждать. Боится их сенатор Державин не меньше, чем вы, господин генерал-прокурор. Собственными глазами видел в былое время, не приведи господь еще раз, пугачевские виселицы с удушенными помещиками. Те виселицы — тьфу, тьфу, тьфу! — вспомнил назавтра же по приезде в Шклов. У гостиного двора его с воплями окружила толпа крестьян — совали челобитную. Он, разумеется, челобитной не взял. Он объяснил, что со всеми жалобами холопам надлежит обращаться к всевышнему да своему господину. Сотник, его сопровождавший, начал отталкивать людей, расчищая дорогу. И когда Державин продирался вслед за сотником, то на лицах вокруг была такая же ненависть, какую давным-давно молодым поручиком видел он на лицах крестьян в деревнях, отбитых у пугачевцев. Не помог тот разговор у гостиного двора. Не помогли предупреждения сотника по деревням. Все равно не дают покоя Державину холопы-челобитчики. Подстерегают на прогулках. Пробираются во флигель, отведенный Державину, через заслон гайдуков, поставленный Зоричем. Суют деньги и водку Кондратию, чтобы передал хозяину бумагу. Перехватывают карету с Державиным на дорогах. Вот вчера повалилась поперек тракта баба и хоть ты пускай на нее лошадей. Кучер — человек Зорича, не долго думая, поднял кнут. Да Кондратий, тот знает хозяина, схватил кучера за руку. За что, бедняга, и поплатился, — пока оттаскивал бабу на край дороги, она разодрала ему щеку. А главное, не по сердцу, стыдно это Державину — прятаться, гнать от себя людей. Пусть и холопского звания. Без веского повода, разумеется, не шли бы к нему, не посылали бы ходоков. Да как объяснить это царю или генерал-прокурору?.. Женский крик за окном прервал невеселые размышления. Гаврила Романович отодвинул бумаги, снял очки, подошел к окну. Шумный у Зорича двор, просто беда. Если писать что серьезное, то не очень и дадут. Ну что там случилось опять? Кого проняло? Режут тебя, душат — чего так кричать? Боже милостивый, да это ж… это та самая вчерашняя баба! Плачет, рвется к дверям, а гайдук и Кондратий ее отгоняют. Угодники святые, ну что у нее стряслось?! Добрая, тонкая натура, поэт, воспевающий прекрасные чувства, побеждает Державина другого — сенатора, тайного советника, вельможу, богатого помещика-крепостника. Резким движением Гаврила Романович откидывает рассохшуюся раму окна: — Кондратий! И ты… как тебя там… Впустите…4
С первого взгляда женщина казалась безумной. Грязные посконные лохмотья. Сбитый на затылок платок. Колючки в нечесаных волосах. Бескровные потрескавшиеся губы. Отчаяние, одержимость в глазах. Сорванным, скрипучим, точно у болотной птицы, голосом крикнула: — Отец родной, спаси! — и на большее сил не хватило: бухнулась Державину в ноги и по-птичьи же затряслась в рыданиях. Догадливый Кондратий, видя растерянность и даже беспомощность Гаврилы Романовича — женщина так вцепилась черными пальцами в его комнатные плисовые шлепанцы, что он не мог сдвинуться с места, — подбежал на помощь: с предосторожностью — как-никак на щеке еще краснела вчерашняя царапина — схватил женщину за костлявые руки, дал возможность хозяину отступить к столу. Потом бросил взгляд, на что бы ее посадить — от страха ее не держали ноги. Устремился было к скамеечке у дивана, на которой сам сидел, помогая Гавриле Романовичу обуваться, но решил, что для нее это будет много чести. Выбежал в черные сени и подхватил там чурбанчик, на котором глянцевал господскую обувь. И, не переставая, ворчал: — Старуха, вишь, а сраму никакого… Простоволосая, вишь, шляется. Барин тебя не гонит, слушает. Чего трястись?.. То обстоятельство, что сам барин стоял перед женщиной в халате, из-под которого белело исподнее, в ночном колпаке, ни ее, ни самого барина не смущало. Впрочем, женщину, должно быть, это как раз и успокоило. Грозное недосягаемое существо, присланное самим царем, чтобы покарать за грехи их шелопутного властелина, и этот вовсе не страшный с виду дедушка — в паутине морщинок у сострадательно смотрящих глаз, с толстыми добрыми губами, в подштанниках и шлепанцах, — никак не соединялись в ее воображении в одну особу. И вскоре уже певучей местной речью, достаточно складно и гладко, хоть время от времени и вздрагивая, выкладывает она свою горькую кривду. Сначала показалось — мелочь, о которой не стоит и думать. Ну, вправду, — разве сенаторского уровня это дело? Четыре лета назад пришла женщина в полдень на выпас подоить корову. На свою беду, чуток замешкалась. Пастушок не дождался, побрел берегом за стадом, сказал, чтобы догоняла. Но лишь отодвинула женщина подойник, как пригоняет нечистая военного, тот вытаскивает из штанов ремешок, набрасывает, ни слова не говоря, на рога худобе, и волочит ее, смиренницу, ко дворцу, где учили барчуков. (Слово «дворец» в отношении к трехэтажному каменному дому, построенному Зоричем для своего училища, слышал Державин и от людей поосведомленнее. Надо ж было месяц назад этому авантажному зданию по-глупому сгореть!) Женщина, понятно, в слезы. Женщина, понятно, в крик. Чуть не зубами вцепилась в грабителя — в кафтан, в панталоны. Пока не подбежали люди. Да толку с того, что подбежали. Узнали военного — и притихли. Не тать он был, не лесной бродяга. Эконом из того самого дворца, куда тянул ее коровку. Наемник из чужеземцев — не свой брат крепостной. Пожалуется барину — попробуешь на конюшне плетей. Да и объяснил он, что корову берет для училища — барчукам надо готовить обед, а не из чего. И написал женщине бумажку. Сказал, чтобы пошла на господский двор, в контору. Мол, бумажку там отдашь, и получишь за корову деньги. Еще полопотал, похлопал по плечу — такую красавицу купишь, матка, на эти деньги, весь городок будет завидовать. А вторую бумажку, которую написал, оставил у себя. Велел лишь поставить внизу крестик… Вот на троицу минуло как раз четыре года, как то все случилось. Как раз четыре года, как ходит и ходит женщина в контору. Уже эконома того нету в Шклове. Уже и бумажка та скоро расползется. А деньги так и не получила. Писаришки конторские только хохотали раньше, когда приходила. А нынче вовсе прогоняют. К барину же, как к господу богу, — не подойдешь и близко. Шмыгая носом, женщина осторожно вытаскивает из грязного лоскутка другой, почище, из того — еще осторожнее — аккуратно сложенный клочок бумаги. Кондратий разворачивает клочок, передает хозяину. Гаврила Романович одевает очки, читает… и в голову ему ударяет горячая волна. Составленная по-русски, но с немецким порядком слов, писулька свидетельствовала, что подданная его превосходительства, генерал-майора и кавалера, владельца имения Шклов Семена Гавриловича Зорича Матрена Янкевичева… получила от интенданта Шкловского благородного училища Гейнца Теодора Крузе семьдесят рублей ассигнациями за проданную ему корову…
Гаврила Романович сразу догадывается — обманул горемыку, подлец. Да эдак гнусно, эдак мерзко обманул. Даже стало почему-то стыдно. Впрочем, может, он ошибается, Державин? Ах, хорошо бы ошибиться! Строго переспрашивает: — Только бумажку дал? Правду говоришь? Или деньги дал тоже? Тут написано — семьдесят рублей… Женщина хлопает глазами — не понимает, о чем ее спрашивают. Потом просветленно кивает: — Вот-вот. И он сказал — семьдесят. Пойдешь, сказал, в контору, там и дадут. За бумажку. А писаришки только смеются. Морды наели, жеребцы, и только ржут, как прихожу. И прогоняют… Помоги, смилуйся, батюшка!.. И вновь бухается ниц. Хорошо, что Кондратий наготове… Потом рассказывает женщина про покойника мужа. Допился, бедовик, до того, что уж и работать не ходил — ни себе, ни на барщину, хоть и били за это плетьми. Последний гарнец ржи уносил из дома в шинок. Пьяный, и замерз в рождественские морозы… О дочке рассказала, тоже покойнице. Очень хороша была с лица. Так девчонкой еще забрали к барину во двор. Научили там говорить не по-нашенски, вытанцовывать в киатре. А потом приглянулась она одному из гостей барина, офицеру. Понесла от него, вернулась домой. А работать в поле да при доме разучилась — ручки стали белыми, нежными, возьмется чистить в хлеве и плачет. Сохнуть стала, почернела, бог ее и прибрал, как родила… Еще жалуется женщина на бурмистра. Знает, живодер, что нету у нее коровки, а все равно приходит с тиунами за маслом на оброк. У него да в конторе, говорит, числится, что коровка есть. А как же она есть, коли ее нету. Если б была — разве женщина мыкалась бы с сироткой-внучонком! Разве просила бы милостыню! В том и горе, что коровки четыре лета, как нету, а есть лишь бумажка. Так, может, хоть милостивец-батюшка заставит конторских жеребцов по этой бумажке расплатиться!.. Державин слушает ее и не слушает. Конечно, не сенаторского уровня это занятие. Конечно, не человеку государственному брать за мягкое место мелких воришек, пользующихся мужицкой темнотой и беззащитностью. Тут самое большее — вмешаться уездному исправнику. Так отчего же все-таки застилает горячим туманом Державину глаза, и в том тумане — женщина в лохмотьях и с колючками в нечесаных волосах? Точно безумная, сует она мордастым молодцам в приказчичьих армяках бумагу, а те за животики берутся от хохота и показывают ей на крестик — расписку неграмотного — в уголке этого самого клочка бумаги? Может, так на самом деле и не показывали. Скорее всего даже не показывали. Выплатили сукиному сыну, шельме, сволочи будто бы отданное за корову, подклеили к соответствующему счету припасенную им бумажку с крестиком — и не морочь голову, старая ведьма! Еще, должно быть, на конференции — утренней беседе с учителями и надзирателями училища — Зорич, как главный директор, поблагодарил расторопного интенданта. Вот, мол, образец преданности службе — не пожалел человек собственных денег, лишь бы не нарушался в училище порядок. Мог даже подкрепить свою благодарность щедрой наградой. Зорич, он таков — пусть в хозяйстве кавардак, что даже нечем кормить воспитанников в училище, а все равно будет держаться по-королевски — пировать, устраивать балы, раздавать подарки… Ах, Зорич, Зорич! Намылить бы тебе шею, снять бы штаны. За то, что легкомысленный павлин. За то, что привольно возле тебя проходимцам. Да накажи тебя — угодишь тоже проходимцу. Еще большему. Кутайсову… Все-таки первым движением было — немедленно увидеться с Зоричем. Напомнить ему, что помещик как-никак отец своим крестьянам. Строгий и справедливый. Что, наконец, существует старый закон, согласно которому за каждого крепостного, ставшего нищим, хозяин его платит штраф. Чтобы стало Зоричу стыдно. Чтобы в гневе позвал он конторских служащих. Чтобы… Гаврила Романович даже сел за стол — записать кое-что для беседы. Даже подвинул поближе перо, полез в ящик за тетрадью… И отодвинул перо на место, к чернильнице. И хмуро поднял на женщину вдруг потяжелевшие, вдруг ставшие азиатскими глаза (не оскудела в жилах российского вельможи и пиита Державина кровь далекого предка мурзы Абрагима!). Пакет фельдъегеря лежал в ящике на тетради. И он обжег Державину руку. Разговор с Семеном Гавриловичем представился вдруг в ином свете, чем минуту назад. Стало ясно — еще надвое бабушка гадала, устыдится ли, прогневается ли на конторщиков спесивый Зорич. Может, наоборот, прогневается на Державина. Что превышает свои полномочия. Что принял-таки жалобу от крепостной. Пусть не на самого помещика — на его доверенного. Все равно не позволено это крестьянам. Все равно не выслушивать надлежит того, кто жалуется, а отдавать хозяину. Чтобы наказал. Плетьми или каторгой — какая будет на то его, хозяина, воля… Еще мелькнуло в голове на какое-то мгновение: он поможет обиженной женщине, никакой жалобы от нее не принимая. Он просто даст ей денег на корову. Те самые семь червонцев. Что для него семь червонцев? Мелочь на свечи, не больше. А для нее? Да за нее саму вместе со внуком никто не заплатит семидесяти рублей! Даже при нынешних безбожных ценах. Сколько сейчас стоит крепостная женщина? Должно быть, ассигнациями рублей восемьдесят-девяносто. И какая женщина — молодая, крутобокая девка, не чета этой… И вновь потянулась рука к ящику. К иному, что пониже. Где заперт был кошель с деньгами. Вместительный, дорожный… Да снова встала перед глазами затейливая вязь генерал-прокурорского письма (ничего не скажешь — старательные у светлейшего князя Лопухина канцеляристы!). Представилось — дал он женщине деньги. Представилось — одуревшая от счастья, приводит она во двор — если есть у нее еще двор — корову. И представилось — не проходит и дня, как гудят об этой новости окрестные деревни, вся округа. Уже не только гайдуки Зорича — солдаты не смогут сдержать холопов, прущих с наболевшим к справедливому, доброму цареву посланнику. Начинается… Бр-р-р! Гаврилу Романовича точно передергивает… Сенатор, тайный советник, вельможа, богатый крепостник побеждает чуткого человека и поэта. С чем пришла женщина, с тем и уходит. Только с бумажным рублем в руке на гостинец внуку и сердечным советом — все-таки обратиться со своей обидой к барину. Каждый барин своим крестьянам — благодетель…
5
Однако ж Зорич обо всем об этом не знает. Ни о содержании полученного ревизором пакета. Ни о настроении Гаврилы Романовича. Ни об отношении его к царскому поручению вообще. Не успокаивало, что с Державиным они старинные добрые приятели. Что толстяк Живокини, выезжая с хозяйскими хлопотами в Петербург, прихватывал, по обыкновению, в сундуке с презентами близким Семену Гавриловичу петербуржцам то да се и для Гаврилы Романовича — рулон шелка, линобатиста, кисеи, замши, кож или чего другого из изделий шкловской экономии. Что и самого его по-дружески Гаврила Романович в свой дом на Фонтанке приглашал — и сколько раз обедал и ужинал в том доме Семен Гаврилович, слушал на журфиксах пиесы и самого хозяина, и литераторов, друзей его. Очень уж много доходило до Зорича слухов о служебном рвении Гаврилы Романовича. О том, как назначенный статс-секретарем императрицы, надоедал он покойнице — носил читать ей кипы скучных бумаг, вместо того чтобы ласкать ее слух высокой поэзией. О том, как словно в укоризну другим сенаторам, ездит в сенат и работает там даже в воскресенья и праздники. Доходило, конечно, и то, что между Державиным и Кутайсовым будто пробежала черная кошка. Кому другому этого было бы достаточно, чтобы кое-что почувствовать, понять, предвидеть. Кому другому, но не Семену Гавриловичу. Что тут поделаешь — всегда он был тугодумом. Во время оно по сей причине и фавор у венценосицы утратил. Приметила сама, да и соперники ревнивые подсказали, что, кроме высоченного роста, горячего взгляда да воинской отваги, никаких достоинств у Зорича нет. А Екатерине — был у нее такой бабий каприз! — нравились в мужчинах еще и ум, образованность, остроумие. Самое же главное, очень уж это гадко — стареть. Несколько лет назад и на большие неприятности Зорич не обращал внимания. Случился однажды в хоромах пожар. Ценностей сгорело — не счесть. Прискакал в Могилев с этой вестью курьер — Зорич пировал в тот момент у губернатора. Подбежал к Семену Гавриловичу в зале, где гости приседали в менуэте. Так только рассердился на него Зорич, что явился не вовремя. А сам как танцевал с губернаторской дочкой, так танцевать и продолжал. Ныне же словно другой в Шклове хозяин. Действительно переменился с годами? Или просто неуютно стало Зоричу на свете после того, как попал в немилость и к новому императору — Павлу? Ах, ваше величество, поклон вам низкий за то, что, оказавшись на престоле, вспомнили о шкловском изгнаннике — назначили шефом Изюмского полка, произвели в генерал-лейтенанты. Только всем известно — не может Семен Гаврилович отличить, где собственные деньги, а где казенные, когда попадают они в руки. Зачем же было так яростно на это гневаться? Прогнали назад в имение, в Шклов, и квиты!.. Гадко, не по себе Зоричу, однако ищет он компании Державина, виновато ловит его взгляд. Он — такой всемогущий прежде при дворе. Он, кто тщеславно называет свое имение графством, хотя графского титула не имеет. Он — долгие годы высокомерный даже с губернаторами и пока что ровня все-таки Державину, хотя и приехал тот в Шклов царским ревизором. И когда после завтрака, после короткого променада берегом Днепра, пришли они оба — Державин и Зорич — на репетицию в театр, балетмейстер Мариадини сразу догадался, что к чему. Ничего будто бы особенного не случилось — Зорич приводил гостей на занятия своего балета нередко. Как приводил их, бывало, в физический кабинет благородного училища, — любимой там потехой было запустить в электрическую машину ток, когда какой-нибудь ротозей из не очень важных начинал ее трогать. Однако длинноногому, поджарому, в сетке морщин на лице, с белой косынкой на желтоватой лысине синьору Мариадини достаточно было услышать, как звучит голос хозяина, чтобы сообразить, как ему, Мариадини, следует держаться. Взмахом руки он останавливает музыкантов, останавливает стайку дансерок на сцене, пронзительным фальцетом приказывает им «рипоза» — отдохнуть, и на смеси русского, итальянского, французского и немецкого языков приветствует высокого гостя своего уважаемого сюзерена. Слово «сюзерен» он произносит так, чтобы оно и не было принято всерьез, и в то же время польстило Зоричу. Он говорит, что чувствует себя счастливым от присутствия в стенах театра такой знаменитой особы. Что в некоторой степени они с господином Державиным коллеги, ибо он слышал, какие великолепные оперные спектакли ставил с любителями губернатор Державин в Тамбове. Что увидит сейчас почтенный Гаврила Романович («Румановитш» — звучит в его произношении) не только плоды его, Мариадини, фантазии, но немножко и его методу воспитания балетчиков. Потому что, хотя на сцене декорации, а исполнители в костюмах, будет сейчас не само представление, а только репетиция. Само же представление произойдет, как велено, — Мариадини отвешивает почтительный поклон в сторону Зорича, — в воскресение, когда имеет намерение его превосходительство граф Зорич дать бал в честь своего высокого… И спотыкается бедняга Мариадини. И, побледнев, на какое-то мгновение смолкает. Ибо по глазам хозяина догадывается — назвал его графом не ко времени. Назвал при человеке, который прекрасно знает, что никакой Зорич не граф и который может высмеять самозванца в Петербурге. Назвал весьма привычно — и дурак догадался бы, что не оговорка тут и не ошибка, а явление преобычное, натуральное для всех, кто живет или служит в имении. Державин, конечно, делает вид, что ничего не заметил. Державин окидывает взглядом партер, хоры, парадиз. Внимательно изучает декорацию — полотно с роскошным морем и розовым дворцом отмечено неплохим ощущением перспективы, интересным сочетанием цветов. Он открывает уже рот, чтобы сказать об этом вслух, но не говорит — боится, что не сдержится и захохочет. А ко всему еще лупоглазый Живокини, камердинер Зорича, — затаился, аспид, за спиной у хозяина, и такая потешно-торжественная мина у него на лице! Оглянись сейчас Зорич или Мариадини — вряд ли это кончилось бы для камердинера добром. На какое-то мгновение, чтобы заметил только Живокини, Державин хмурит на переносице брови — мол, смотри, толстый шут, дозубоскалишься! Живокини смешно подмаргивает, показывает кукиш в затылок Мариадини — видите, дескать, как затанцевал пескарик на сковородке! — потом мгновенно делается серьезным, прикладывает к устам короткий палец. Мол, благодарю, ваше превосходительство, понял. Прирожденный комедиант он, этот Живокини. Державин знает и любит его давно. В Петербурге, когда привозит он письмо или презент от хозяина, всегда беседует с ним, смеется над его выдумками, над потешной манерой растягивать слова, позволяет бывать на своих литературных журфиксах, — Живокини приткнется где-нибудь в уголке, и жадно, удивительно серьезно слушает… А Мариадини и вправду словно попал на сковородку. Чуть ли не вертится волчком — хочет исправить свою обидную промашку. Захлебываясь, говорит о том, какой замечательный балет у его превосходительства, генерал-лейтенанта и кавалера — на этих словах делается ударение — Семена Гавриловича («Габрилевитш»). О том, что этому балету мало найдется соперников в Европе — как в театрах приватных, так и при королевских дворах. О том, какой Зорич вообще многоученый, щедрый и заботливый меценат. Синьор Державин слыхал, разумеется, о маэстро Анджолини? Да, да, о том самом Доменико-Мария-Гаспаро Анджолини, что заслужил своими балетами почет и в Петербурге. Даже были знакомы?! О, это весьма приятно слышать. Так вот он, Мариадини, сторонник системы своего великого соотечественника. Нехитрой, однако мудрой системы, по которой балетчиков не одним антраша обучать — образовывать необходимо вообще. Ибо малограмотный артист — словно богач-невежда, приобретший бесценный манускрипт, но не могущий уразуметь, чем он бесценен. Только, святая мадонна, разве у каждого хозяина хватило бы, как у эчеленца Семена Габрилевитш, такой широты — приставить к крепостным девкам учителей письма, чтения, французского языка, арифметики?! Все это интересно, весьма любопытно. Если б только рассказывалось не отчаянно льстивым тоном. А то самому Зоричу — на что уж сластена! — и то надоело. Он обрывает балетмейстера, он велит начинать. Мариадини хлопает в ладоши… Видно по всему, этот сухой желтоголовый итальянец действительно почитает своего учителя Анджолини. Потому что и балет, который он показывает, — «Оставленная Дидона» — того же Анджолини. Точнее — переделанная балетмейстером и композитором Анджолини в короткий пантомимный балет опера-трагедия знаменитого Метастазио. Ах, маэстро Пьетро Метастазио, придворный пиит австрийского императора! Сколько уже десятилетий ваша легкокрылая муза покоряет человечьи сердца. Сколько почтительных поклонников имеете вы на белом свете, в том числе в России — Державина. Тридцать пять композиторов обращались к одной вашей «Оставленной Дидоне». И среди них — приглашенный из Вены в северную российскую столицу Анджолини. Державину не довелось видеть этот балет в Петербурге. Когда Анджолини его ставил, Гаврила Романович носил еще не очень подходящий, чтобы франтить в императорском театре, солдатский мундир. Тем с большим вниманием смотрит и слушает он сейчас. И как всегда, когда ощущает трепетное дыхание таланта, — волнуется. Ах, маститый Анджолини, Державин знает, что вы вольтерьянец и враг королевской власти, осуждает вас за этот грех, — однако как удачно сжали вы в полчаса фигурального действия чувства и события трагедии, рассчитанной в слове самое меньшее часа на три! Ах, удрученный и взволнованный Мариадини, — вы ведь, оказывается, только с виду робкий, угодливый и льстивый барский потешник, а в искусстве своем — гордый, требовательный, бескомпромиссный артист! Ах, легконогие карфагеняне из курных изб крепостных крестьян, — что вам, оторванным барской прихотью от сохи да веретен, любовные муки мифической царицы! Почему же застилает слезой глаза, когда стайка прозрачно-розовых нимф — подружек Дидоны — склоняет колени перед неумолимым Энеем, чтобы вернулся, не покидал ее воин, не откликался на зов Зсвеса? Отчего щемит сердце — будто нет на то иной, более существенной причины, — когда в отчаянии разлуки подстреленной птицей сникает на сцене властительница легендарного города, видя перед собой лишь голубую морскую даль, где исчезает корабль Энея? Она была особенно хороша, Дидона. Роковая богиня и царица с высоко поднятыми, перехваченными алмазным обручем волосами, в легком голубом наряде, облаком окутывавшим словно из мрамора высеченный стан, она прямо на глазах опускалась с небес на землю, превращалась в обыкновенную женщину, пламенно-прекрасную и униженно-слабую в своем неразделенном чувстве. В дуэте с Энеем, боже всемогущий, какой становилась она то неприступной, то манящей, всепрощающей. А лицо, как много выражало ее лицо — нежность, отчаяние, надежду, жажду мести, гнев, снова нежность и надежду… И все это — холопка, которая бы и сегодня крутила коровам хвосты, когда бы то ли самим Зоричем, то ли кем из его прихлебателей не была случайно замечена? Все это — девка, чей отец, может, знал или знает лишь дорогу в корчму, а мать не похожа ли на утреннюю горемычную визитерку Державина Матрену? Откуда, из какого родника столько богатства? И сколько таких неоткрытых Дидон среди девушек, чьи черные потрескавшиеся пятки не боятся ни колючего ржища, ни снега?.. В полутемной зале они только вчетвером — Державин, Зорич, Мариадини и Живокини. Державин — весь под впечатлением того, что видит, весь в раздумьях о загадочных, разуму недоступных, законам логики неподвластных явлениях высокого искусства. Зорич — удовлетворенный тем, что, кажется, угодил своему почетному, хоть на сей раз незваному гостю. Мариадини — возбужденный, нервно-приподнятый. То ли все еще от того, что неожиданно подложил хозяину свинью, то ли от обычного напряжения репетиции — его придирчивый взгляд замечает, конечно, больше, чем взгляд остальных в зале. Поэтому даже оркестровое фортиссиммо перекрывалось время от времени фальцетным его «Ритмо, ритмо!», «Пью эмоционе нелла данца! Маскера суля фачча!»[1] Последние два замечания адресовались чаще всего Дидоне. Услышав их, недовольно сопел Живокини — он примостился сзади, за несколько кресел от Зорича и Державина и глядел примолкнув, серьезно и ненасытно, как на державинских журфиксах. Когда стихли раскаты грома в финале, когда ниц распласталась карфагенская царица, лишившая себя в отчаянии жизни, когда запылали стены ее города, испепеленные гневом соперника Энея Ярба, когда в зале стало светло и сквозь открытые двери пробежал, пошевелив декорации, сквознячок, — Державин взволнованно пожал Мариадини руку. Балетмейстер благодарно улыбнулся, и сразу помолодело, похорошело его подвижное, обезьянье лицо. Он спросил, кто из артистов больше всех понравился Гавриле Романовичу, Державин ответил, что Дидона. О да, кивнул балетмейстер, Пелагея Азаревичева неплохая балетчица, весьма неплохая. Фактура, техника, эмоциональность. Беда лишь — эмоциональность эта бывает чрезмерной. Никак не поймет дансерка, что выступает не в плебейской драме иль комедии, а в патриции среди искусств — высоком балете. Высокий танец — самый красноречивый и самый трудный. Главное — чувство передается в нем только движением, чистым музыкальным движением. Лицо же балетчика закрыто маской. Непроницаемой маской — настоящей или воображаемой — все равно. А что выделывает с лицом Пелагея Азаревичева? Должно быть, придется-таки одеть на нее маску, вздыхает Мариадини… Державин пожимает плечами. Его как раз и взволновало то, что эта Пелагея Азаревичева чувства своей героини не просто показывала, а вся ими переполнялась, вся ими жила. Хотел об этом сказать, однако Мариадини в своем деле был более сведущ, чем Гаврила Романович. Мнение же людей знающих Гаврила Романович всегда уважает. Да у Мариадини зоркий глаз — замечает он неуверенность вельможного петербургского гостя. И сразу поспешно добавляет, что, вообще, конечно, Пелагея Азаревичева и ему нравится весьма. Что такую артистку, разумеется, не стыдно показать и на сцене императорской. Что эти Азаревичевы — вся семья удивительно интересная в смысле артистических способностей. Он, Мариадини, заметил, например, кузину Пелагеи. Даже не кузину, а как это… нипоте… дочку старшего брата, вот-вот племянницу. Так из той — вот где Мариадини нисколько не сомневается! — обязательно вырастет петербургская примадонна. Мариадини человек небогатый, а тут не пожалел своих денег — купил ее, Катерину Азаревичеву, у эчеленца Семена Гавриловича. Ибо уверен — вернет эти деньги с немалым барышом. Пока она еще девчонка, Катерина, Дидоной выпускать ее нельзя. Но Мариадини с ней занимается и пройдет год-другой… словом, пусть синьор Державин запомнит это имя — Екатерина Азаревичева. …Лупоглазый Живокини стоит немного поодаль за спиной хозяина и вновь виден одному Державину. Вновь замечает Гаврила Романович, как грустная улыбка его становится после слов Мариадини насмешливой и сердитой. Что он имеет к своему соотечественнику-балетмейстеру, этот добрый, забавный человек?..6
Бал в воскресенье, о котором вспомнил Мариадини, — впереди. Однако некое многолюдное застолье мы все-таки видим — недаром же и об эту пору доносят царю в Петербург, что у Зорича «всякий день комедия или бал». Не то нынче, конечно, что было когда-то. Ни грома прежнего, ни пышности. Была уже реляция в Петербург, что в имении генерала Зорича живут «без всякого дела разного рода чиновники, а также и иностранцы в немалом числе…», и было уже в ответ на реляцию сердитое царское «удалить!». За богатыми, как обычно в хоромах, столами не видно сегодня гостей, присутствие которых противоречило бы царскому приказу. Что в будний день тут все-таки столько народу, удивляться не надо — один за стол, тем более за вечерний, Семен Гаврилович по-прежнему не садится. Что слышна все-таки иноземная речь — тоже не пожива для соглядатая-сыщика. Это чужеземцы, которых за чужеземцев здесь никто и не считает: наш добрый знакомый Мариадини, директор благородного училища подполковник из датчан Фливерк, корабельщик грек Дерсакли, швед Ерих Гольц, которому поручен кожевенный завод, отец и сын Давид и Георг Фрезеры, англичане с канатной фабрики. Все они уже шкловские старожилы и новых залетных гостей не любят сами, — а вдруг кому из них придется уступить свое теплое местечко! Много за столом военных мундиров. Гостеприимный хозяин застолья в шефах Изюмского полка не удержался, в частности, и потому, что очень груб был с офицерами. А вот у себя в Шклове, стоит какому полку или батальону здесь очутиться, приглашает всех, сколько есть там офицеров, столоваться только в фольварке… Усердствует, звенит бокалами офицерская братва, громовым «виват!» отвечает на тосты, здоровым хохотом — на шутки Державина, на смешки, которые позволяет себе Живокини. О нет, не подумайте, что он с господами за одним столом с начала ужина. Видите, приходит позже, и приходит по неотложному делу — чуть не за горло взял конторщиков некий купчина, который сидит в Шклове едва ли не с ярмарки, это, почитай, четвертую неделю, а фольварк никак с ним не рассчитается. Разбушевался, взбунтовался, ждать дальше отказывается. Грозит немедленно обратиться в полицию, помчаться с самого утра в губернию, если деньги не получит сейчас же. И таки помчится, таки устроит кавардак, совсем ненужный ныне, когда в Шклове царский ревизор. Однако кто же из конторщиков отважится идти к хозяину, когда он пирует, да еще когда денег в конторе все равно никаких? Попросили Живокини, может, он подпишет у Семена Гавриловича вексель. Вексель Семен Гаврилович подмахивает, песку, чтобы присыпать свою подпись, не находит — как-никак не за письменным сидит столом, за банкетным, — тогда он тычет пальцы в солонку, присыпает чернила солью. — Му-у-дро, эчеленца, весьма мудро, — на всю притихшую залу невинно отзывается на это Живокини. — Векселю лежать долго, присолить, пожалуй, нелишне… Застывает, немеет застолье, — эдакая дерзость, что теперь будет! Но лишь на мгновение! Глаза у Державина делаются узкими, азиатскими, и он прыскает от смеха. Семен Гаврилович, подумав секунду, стоит или не стоит гневаться, шлепает камердинера по животу и тоже смеется. И вот уже хохочет, заливается все застолье. А Гаврила Романович хватает насмешника за камзол, толкает на кресло рядом и уже не отпускает от себя никуда, — вексель отсылается в контору с гайдуком… Тем временем на хорах берутся за работу музыканты и игривый контрданс словно выметает из-за стола молодых гостей. Ах, мундиры темно-голубого сукна при малиновых обшлагах и малиновых же с золотом аксельбантах! Ах, рукастые братцы-гренадеры! Если откровенно, то не все вы так уж умелы и ловки на навощенном паркете. Держал на себе паркет и более искусных в пируэте кавалеров. Да не обращайте внимания — танцуйте! Вашим партнершам это неумение по сердцу. Кто они, ваши дамы? Родственницы Семена Гавриловича, которых сползлось к богатому, доброму, неженатому дядюшке — не счесть. Жены его служащих — из тех, что посимпатичнее, посвежее. Соседские помещичьи дочки из домов, где на свои приемы не слишком разгоняются. С вами им милее и проще, чем с уверенными петербургскими искусниками. С теми же они и слово, бывает, стесняются сказать. А с вами, видите, как блестят их глаза! Слышите, как стучат их сердца! Неужели не слышите? Так это просто потому, что у вашей барышни, поручик, уже сердце не стучит — обмерло. От вашего же шумного дыхания. От сладкой надежды, что разогрето оно не только вином и музыкой. Хорошенькие невесты с мечтой о встрече-чуде, — обмирайте! Чиновные молодицы с мотыльковым желанием и одновременной боязнью подпалить свои крылышки на манящем огне, — флиртуйте! Однако если бы лишь ваши шаловливые личики светили мне сейчас… Вот эта словно в нежно-сиреневом лепестковом дыме цирцея с высокой, перехваченной алмазным обручем прической, с крупными алмазными же серьгами, с янтарным ожерельем на гордой, словно из мрамора высеченной шее, — почему ее не видно было раньше, за столом? Не заметил? Такую не заметить невозможно. Вон как на нее оглядываются — мужчины не тая восхищения, женщины с ядовитой злобой. Вон какой растерянный, глуповато-счастливый вид у танцующего с ней угреватого штабс-капитана. И пот струится по лбу. И повылазили из-под не слишком опрятного парика собственные белесые волосы. И спрашивает — вслушаемся в натужные, чувствуется, что из пересохшего горла, слова, — спрашивает он о том же: откуда она такая появилась, почему запоздала, где пряталась раньше? Подбрасывает слово-другое французское, пытается блеснуть комплиментом. Да где ему, сиволапому, из самарской иль пензенской глуши, наследнику какой-то полсотни душ перед эдакой принцессой! Смущается, краснеет, теряется. От непонятного ее молчания — то ли кокетливого, то ли издевательского — в ответ на расспросы. От равнодушно-холодного, хоть и вежливого «мерси, мсье, ву зет треземабль»[2] на его комплименты — какое безупречное, для него самого невообразимое произношение! От грустной окаменелости ее улыбки, когда в танце близко проходится с перепудренной супругой Фливерка Зорич и бросает хитрый, заговорщицкий взгляд. И все-таки пусть бы он никогда не кончался, контрданс. Пусть бы звучала и звучала, сама словно приятно разогретая шампанским, музыка. Пусть бы держал и держал штабс-капитан руку на легком стане принцессы. Посочувствуйте, не мучайте его долгим перерывом, музыканты. Видите же, не отходит он от загадочном чародейки. Видите же, взял ее за пальцы, неловко их целует, горячо что-то говорит. Договаривается о следующем танце? Спрашивает имя? Просит о встрече? Пусть, пусть себе говорит, что говорят при подобных обстоятельствах. Жаль только, что не замечает подозрительной вокруг тишины. Не замечает, как внезапно пунцовеет мраморная шея красавицы. А она — почему молчит, только кусает губы? Ей же видно, что их обоих окружают. Что Зорич и толпа его приживал приближаются осторожно, на цыпочках. Что лица у них насмешливо-напряженные, с разинутыми ртами, будто все они сдерживаются, чтобы не кашлянуть или не чихнуть. Почему же лишь вырывает она пальцы из цепких рук гренадера? А сама ни на шаг не отходит. И по-прежнему ничего не говорит. Взрыв хохота загадки не проясняет. Взрыв хохота и то, что Зорич шутовски преклонил пред ней колена. И произнес напыщенно-умоляюще, по-французски: — Ваша жестокость безгранична, мадемуазель! Неужели моему несчастному брату суждено от любви умереть? Смилуйтесь! Аж колышется, прыгает на свечках огонь — такой раздается в зале смех. Ухает, бухает мужской. Верещит, режет уши женский. Штабс-капитан хлопает глазами. Штабс-капитан понимает, что попал в розыгрыш. Однако в какой, еще не догадался. Может, танцевала с ним жена хозяина, и все потешаются над тем, что он слишком вольно с ней себя вел? Может, сестра? Дочь? Он же совсем тут, в Шклове, недавно, штабс-капитан. Он новичок в батальоне, к Зоричу пришел впервые. Он не знает ни здешних людей, ни здешних обычаев, и друзей среди офицеров, чтобы познакомили, еще не заимел. — Господа, господа, — смущенно улыбается он. Да где тут что скажешь или спросишь! Не утихает, не унимается, не добреет смех. Причем не только мужской, но и женский. Словно мстят прекрасной сопернице все эти из милости пригретые родственницы, эти перезревшие невесты-бесприданницы, эти не слишком избалованные мужским вниманием жены. За то, что самая заметная. За то, что все на нее оглядываются. В светлых глазах волшебницы слезы. Она закрывает руками лицо. Пробует вырваться из круга, убежать. Но Зорич наступает ей на шлейф, сжимает руку выше локтя: — Вы мне ничего не ответили, мадемуазель. Это не слишком любезно с вашей стороны. Вновь заходятся, чуть ли не берутся за животики вокруг. С фру Фливерк на рукав Зоричу осыпается пудра. И вдруг этого припудренного рукава, этого окаймленного золотом генеральского мундира касается широкая ладонь с обтрепанной манжетой над пальцами. И смех прерывает хриплый голос Живокини: — Эчеленца… простите, эчеленца… Маэстро Мариадини не осмеливается… Однако маэстро Мариадини просит все это остановить… Актриса… нельзя так с актрисой… Ей завтра танцевать… Штабс-капитан застывает. Актриса? Нежно-сиреневая алмазная принцесса с гордой мраморной осанкой — актриса? Может, даже — крепостная? Ну, да, конечно же, крепостная — вот откуда истерический, жуткий смех всей компании — он, офицер, дворянин, распинался перед крепостной!.. Боже всемогущий, что же теперь делать? Убегать? Исчезнуть из Шклова вовсе? Потребовать сатисфакции?.. Угреватое лицо штабс-капитана становится то белым, как его панталоны, то малиновым, как обшлага и аксельбант. Счастье, что внимание к себе привлекает испуганный фальцет Мариадини: — Это есть все неправда. Мариадини не делает замечаний на свой сюзерен. Мариадини так и сказал маледетто[3] камердинер! Он кричит откуда-то сзади, Мариадини. То ли не может пробраться к Зоричу сквозь толпу, то ли просто считает, что лучше находиться поодаль. На Зорича смотреть и вправду страшновато. Круглые, близко поставленные глаза белеют. Крылья большого носа шевелятся, ходят вверх-вниз. Это ведь один из самых излюбленных в его хоромах розыгрышей: пустить отменно наряженных и причесанных, в сиянии драгоценностей, в аромате дорогих духов, в обмане свободного французского произношения крепостных дансерок к гостям, — и чтоб кто-нибудь из них воспылал, распустил хвост, как павлин. То же самое, примерно, что творил он, бывало, с электрической машиной в училище — когда угощал незадачливого ротозея током. Так что же — собственный холуй эту потеху будет ему портить?! В гневе захлебывается Семен Гаврилович, переходит на зловещий полушепот: — Вы… монсиньор… кадушка с макаронами… — недобрый это знак, когда Зорич обращается к слуге на «вы». — Сей момент гайдуки отведут вас на конюшню… и при всем вашем почтенном иноземном подданстве… как спустят с ваших толстых ляжек штаны, как… И, пораженный, останавливается. Ибо таким, как сейчас, никогда Живокини не видел. Со сжатыми у горла кулаками. С закушенной нижней губой. Со слезами в печальных навыкате глазах, однако слезами не жалкими — гневными. Видно было — ни гайдуки, ни конюшня ему сейчас не угроза. Видно было — едва сдерживает себя кроткий, боязливый обычно шут-итальянец, чтобы не дать хозяину пощечины. Лицо Зорича мрачнеет, чернеет… И вдруг — точно освещает его молния: — Це-це, да он же… Удивленный, еще не совсем уверенный, что так оно и есть, Зорич спрашивает — не сразу скажешь у кого, у камердинера или у себя: — Тебе что — эта девка нравится? Пелагея Азаревичева? Аморе?[4] И по тому, как вянет, как на глазах обмякает Живокини, понимает — точно, угадал! И тут уже становится ему опять весело, тут уже хлопает он в ладоши, предвкушая новую, вот уж вправду нежданную потеху. — Господа, господа! Силенциум[5], господа!.. Я считал вместе с вами до сей поры, что имею в своем доме всего лишь слугу своего, Игнатия Живокини, и всего лишь балетчицу свою, Пелагею Азаревичеву. Но я ошибался, господа. И вы тоже. — Зорич прикладывает руку к сердцу, эффектно ее выбрасывает, с пафосом объявляет: — Пред вами рыцарь и его дама, Ромео и Юлия, Дидона и Эней! Компания вокруг еще не сообразила, какого жанра разыгрывается спектакль, — комедия или драма. Зорич, он таков, — поймешь его не сразу. В ответ слышен смешочек-другой, — и тонет в настороженной тишине. Зорича же распирает. С уже совсем обмякшего, внезапно постаревшего Живокини, с белого его лица, удивительно похожего в эту минуту на печальную маску арлекина в виденном некогда Зоричем представлении заезжей итальянской труппы, он переводит взгляд на пунцовую, сжавшуюся, с глазами, полными слез, с размазанными по щекам краской и пудрой, с опухшими, покусанными губами, и все-таки привлекательную балетчицу, — и точно кто его незаметно щекочет. — Монсиньор Ромео… иль как вас там… Эней… — смех подступает Зоричу к горлу и не дает ему говорить, — вот вам еще одно свидетельство моей к вам благосклонности… Разрешаю вам хоть сейчас… даже не хоть, а именно сейчас, потом будет поздно… взять вашу Дидону к себе… и… Будьте спокойны, велю ей не упираться… Вот теперь уже жанр спектакля публика определила. Теперь уже, как Зоричу того и хотелось, зал вновь содрогается от смеха. Как бы защищаясь от этого смеха, Живокини выставляет перед собой руки. Ладонями вперед. Лицо его уже не маска арлекина. На лице его — отчаяние. От оскаленных вокруг зубов. От похотливо заблестевших глаз. Он отступает к полуколонне сзади. Он прикрывает спиной Азаревичеву, которая судорожно к этой полуколонне прижимается и, точно в лихорадке, дрожит. — Так как — согласен? — гремит Зорич. Живокини отрицательно крутит головой. Отчаянно, испуганно. Нет, нет, разве можно, что вы! — Монсиньор отказывается? — паясничает Зорич. — Монсиньора интересует лишь единство душ? Монсиньор просто… на себя не надеется? Давно, давно он не был в таком настроении. Давно не хохотали так вокруг над его остротами. Так не разочарует же он сегодня гостей и дальше! — Господа, господа! Я прошу за всех вас у наших дам прощения. И прошу их покинуть мужскую компанию. Не надолго, мадам, весьма не надолго. — И он первый галантно целует у фру Фливерк руку. Пелагея Азаревичева намеревается отойти со всей хихикающей, потупившей глазки — ах, бесстыдники мужчины! — женской стайкой. — Нет, нет, — удерживает ее Зорич. — Без вас, мадемуазель, у нас ничего не получится. Он уже не гремит, говорит вполголоса — мол, мужской секрет. — Антр ну, господа, антр ну! Мой уважаемый камердинер… опозорил сейчас нашу мужскую честь. Честь нашу общую. Я считаю, что за нее необходимо вступиться. Кто желает? — Эчеленца, это же… Я прошу вас, эчеленца! Я не нахожу слов… — Смелей, господа, смелей, — отмахивается Зорич. — Не верю, что все вы… как Живокини. И наша царевна-недотрога не верит тоже. Не правда ли? Молчит, только вздрагивает пунцово-мраморное в нежно-сиреневом с алмазами создание. Однако гости глядят на нее и тоже молчат, словно оцепенев. Даже бывалые гренадеры-офицеры. Семен Гаврилович чувствует, что переборщил. Он вновь повышает голос. Теперь уже капризно: — Или вы тоже на себя не надеетесь? Не ожидал такого конфуза, ей-богу. Что ж, Дидона, — он паясничает уже как-то принужденно, сердито, — действительно, твоя участь — разочарование… Угреватый штабс-капитан — о нем как-то забыли — делает шаг к Зоричу, вытягивается, щелкает каблуками: — Если ваше превосходительство позволит, то… с превеликим удовольствием… Лицо его серьезно — можно подумать, просится храбрый воин в лазутчики к янычарам. И смех и шутки наконец слышатся вновь — над штабс-капитаном, явно исправляющим свой промах. Зорич тоже с облегчением смеется. Кивком подзывает гайдука. Говорит насчет комнаты для гостя, насчет балетчицы, насчет… Звенящий голос Державина прерывает Семена Гавриловича: — Семен Гаврилович, душа моя, не вспомнить ли нам с тобой молодость, — Гаврила Романович кивает в сторону ломберного столика. Окидывает взглядом людей вокруг Зорича и останавливается на штабс-капитане: — Вас тоже, сударь, приглашаю…7
Тут не надо было быть необыкновенно проницательным. Сидя подле итальянца, разве только слепой не заметил бы, как смягчаются, теплеют его грустные глаза, когда взгляд его хоть на мгновение встречается со светлым взглядом балетчицы. Разве только слепой не заметил бы, как передернуло лицо его болью, когда по знаку хозяина лихая компания на цыпочках окружила ее и штабс-капитана. Как побледнел он, услышав насмешки Зорича над ними. С какой отчаянной решимостью внезапно вскочил… Почему же не рассмеялся Гаврила Романович? Он, кто так остро ощущает забавное, кто не мог не заметить комического несоответствия крылышек амура возрасту, брюху, меланхолии шута-камердинера? Он, чьего безжалостного смеха так боятся в Петербурге? А потому просто, что было некогда такое и с ним. И он Живокини сочувствует. Был уже и он не юнец — имел, слава богу, под тридцать пять — когда, глядя из квартиры приятеля на крестный ход, увидел ее, свою Плениру, свою ласточку. Чтобы полюбить сразу и навсегда. Чтобы после третьего свидания трепетно открыться. Чтобы обезуметь от радости, услышав в ответ, что и он «не противен», как она сказала, ей, шестнадцатилетней. Хотя, между прочим, был тоже не Аполлон — губы, нос, пусть легкая, но шепелявость… Седьмой год уж нет с ним ласковой щебетуньи, незабвенного его колокольчика, Катеньки, Екатерины Яковлевны. А до сих пор, бывает, слушает за обедом разговор гостей, а сам черкает вилкой по тарелке все одни и те же дорогие сердцу буквы — Е. Я… Дарья Алексеевна, нынешняя жена, человек умный и рассудительный, а все равно не стерпит: «Ты что это, Ганечка, черкаешь?» — «Ничего, матушка, просто так»… Сочувствие, одно сочувствие руководит Державиным поначалу. При смутном представлении, зачем и для чего он так поступает. В картах, правда, он искусен и удачлив. Случаи и солдатской молодости, когда спустил он однажды в картежном загуле неприкосновенные материны деньги, полученные на приобретение имения, заставил тогда выучиться и этой науке — пускай не слишком уважаемом, однако не лишней, как всякая. И позже такого уже по случалось. Случалось наоборот — садился к столу зеленого сукна при какой-нибудь полсотне в кармане, а вставал — при сорока тысячах. Тем не менее уже много лот берет он карты в руки, лишь когда неудобно отказаться. Что перекидывается с домашними в дурака, как выпадет свободный вечерок, — не в счет. А тут приглашает сам. Да еще где — у Зорича в Шклове! Хорошо зная, что не похвалят, ой, не похвалят за это в Петербурге! Слишком громкая и скандальная по всей России слава про здешние картежные оргии. Слишком много подозрительного народа бросало тут тысячи, десятки тысяч в банк — хорошо, если настоящими, а то, случалось, и фальшивыми деньгами… Да гром, даже самый сильный, это всего лишь отголосок, эхо. Давно то минуло, о чем судачит молва — именитые картежники России и Европы, мильоны в банке. Зачем именитым Шклов нынешний, с его обедневшим, опальным к тому же владельцем? Зачем им шкловские сыщики и, значит, игра в запрещенные квинтич, банк, фаро с опаской и оглядкой — хорошо, как откупишься, коли попадешься, штрафом, а как в острог? На престоле ведь — Павел Петрович! Зорич и сам уже давно делает вид, что к картам остыл, пресытился. Прежний, настоящий размах уже не осилить. Играть же по-нищенски, «по маленькой» — не с его гонором. И чаще всего от приглашений он теперь отказывается — отговаривается нездоровьем. Однако ж сегодня пригласил — Державин!.. Странно ему лишь, что третьим в их компанию выбран такой недотепа. Чего он стоит, штабс-капитан, видно сразу. Разумеется, и играет плохо, и без денег. И если б еще вызывал хоть какой интерес — бывало, что и Зорич привечал таким образом невидного, но чем-то ему приятного человека, — так тоже незаметно… А вообще, черт с ним, со штабс-капитаном. Зачем перечить невинному, в сущности, капризу самого уважаемого из сегодняшних гостей. Всем известно, Зорич и сам с капризами — может стерпеть иногда и чужой… Штабс-капитан же словно после кислого хватанул сладкого, и зубы все равно ноют. Если откровенно, то в сей хитрый заморский ломбер ему и играть толком не приходилось. Так, считанные разы. По корчмам да в дыму холостяцких пирушек эдак высоко не залетал — аристократы вроде него обходятся более простыми пикетом, контрой, дамским фараоном. Однако разве он признается! Разве откажется от приглашения тайного советника, это значит, если по-военному, — у него занимает дух, — генерал-лейтенанта! Он уже представляет, как где-нибудь при случае, словно между прочим, рассказывает: «Сели мы, помню, втроем — Зорич, генерал-лейтенант, тот самый, тайный советник Державин, может, слыхали такого, из сочинителей, и ваш покорный слуга…» И в сладком воображении тает все остальное, разлетаются в пух и прах остатки осторожности. А тут еще при первом, втором, третьем круге — тьфу, тьфу, тьфу, — как будто и фартит. Взятка за взяткой, взятка за взяткой. Удивленное перешептывание за спиной — столик, разумеется, плотно окружен — приносит штабс-капитану наслаждение. Словно бокал горячего грога после тяжелого зимнего перехода. Словно одобрительная улыбка командира на параде. Он и сам не может сдержать улыбки, лишь прячет ее за картами. Он явно успокаивается — вытирает пот со лба и шеи, поправляет на ощупь парик… Бедняга, он не знает, что опытные Державин и Зорич самым простейшим способом его, новичка, заводят. Что хотя нет меж ними никакого уговора, они сейчас — заговорщики. Что это тот инстинктивный, подсознательный союз сильных против слабого, невольно возникающий в картах — и если бы только в картах! — даже если ощущают сильные соперники друг к другу неприязнь. Правда, скажи кто-нибудь сейчас Державину, что к Зоричу у него неприязнь, он вряд ли согласится. Скорей, насмешливо пожмет плечами — почему, откуда? Дескать, сочувствие камердинеру — это не обязательно неприязнь к его хозяину. Если уж на то пошло, так Державин и Зоричу сочувствует — спасает, как может, беспутного, не отдает его в пасть акуле Кутайсову. Да и что Семен Гаврилович неслыханного совершил? Обидел слугу? А сам Державин разве всегда со своими слугами ангел? То же и к штабс-капитану. Ну, закружилась непривычная к блеску голова. Ну, взыграл в крови бес при соблазнительном предложении Зорича. Так что? Нет, нет, одно теперь на уме у Гаврилы Романовича — карточный интерес. И ничего другого… Но это — если бы кто-нибудь спросил. Если бы сам у себя, наконец, спросил. Если же не перед людьми, перед богом, то — вот ведь наваждение! — стоит и стоит перед глазами Живокини. Такой, каким был он в мгновение, должно быть, самого тяжкого для него страдания. Когда крикнул не голосом — сердцем: «Я прошу вас, эчеленца! Я не нахожу слов…» И еще наваждение — точно безумные глаза балетчицы. Глаза, которыми смотрела она, когда щелкнул каблуками перед Зоричем штабс-капитан… Давно, ой давно не помнит себя Державин таким упорным и злым в игре. Будто не скромный случайный партнер — сама причина неприятности, муторности его сегодняшнего настроения сидит перед ним в гренадерском мундире. И он рад отомстить, поиздеваться. Вот так он некогда, просадив матушкины деньги, спешно нахватался у корчемных картежных королей заговоров, подборов, еще того-сего, что делает человека за картами не бараном, и без жалости, мстительно сам принялся ощипывать до последнего перышка желторотых. Правда, было это бог знает когда. И был он тогда не сановником, не пиитом с мировым именем, а не очень разумным сержантом. Да вот получается — сенатор и тайный советник не до конца с тем заводным сержантом распрощался… Довольно, сударь мой, пошутили, начинаем серьезную игру. Что вы скажете, уважаемый, если подбросим для начала валетика. Червонного, например. Он похож на вас, сей валетик. Он также глупеет и беспомощно хлопает глазами, когда увидит даму… Ах, валетик вас не пугает. Не боитесь, говорите, валетика. А мы все-таки еще одного подкинем. Скромного, пикового. Пиковое положение — слыхали такое выражение? Это о таком, в какое вы сейчас попали. Потому что сели вы, мой сударь, в лужу… Вылезете, конечно, отмоетесь. Еще не на одном балу будете гарцевать да облизываться на девиц. Но пока что — как там, в лужице?.. И что у вас за зубы, боже мой! Вот уж, наверное, мутило от них Азаревичеву, когда с вами танцевала!.. Гляди ты, отбился! И от пикового валета отбился. Семен Гаврилович, душа моя, предлагай, брат, что-нибудь теперь ты. Это не то же самое, конечно, что предлагать гостям своим дансерок, тут надо помозговать. Однако ж иной раз голова у тебя варит… Вот-вот, я и рассчитывал, что бубны у тебя. Как вы насчет бубен, господин штабс-капитан? Видите, как роскошно алеют? Гренадерский аксельбант! Глазки венценосца, когда разгневается! Коли наговорят на покорного слугу вашего обер-шталмейстср да генерал-прокурор. Разум ведь святые угодники, простите! — валетный, не тузовый. Сравнишь его в оде со львом, а сам будто верблюд отплевываешься… Э, нет, мой хороший, такая карта не спасет. Масть у нее подгуляла, масть. В картах, батюшка, масть — что сословье среди людей. Маститый — слово такое знаете? Отсюда оно, от «масть», это важное надутое слово. Когда я маститый, когда масть моя выше твоей, что тогда твои красота, ум, порядочность? Все равно могу над тобой издеваться, как Зорич над крепостной балетчицей иль как его канцеляристы над Матреной Янкевичевой. А челобитную никакой властелин, никакой Державин от тебя не примет… Уже не улыбается, уже сидит бледный, позеленевший штабс-капитан. Третий час хлопают, шмякают, скользят по сукну тугие глазетные пики, трефи, бубны, черви. Третий час фортуна смеется над ним гнусавыми, с шепелявинкой шпильками Державина. И чем дальше, тем страшнее глядеть ему на числа, которые гайдук в ливрее аккуратно записывает грифелем на дощечку. А Гаврила Романович на ту дощечку посматривает злорадно. Все еще не остывает. Все еще мстит. Не одному угреватому дураку-партнеру за прыткость там, где не надо. О нем как раз думается меньше. А больше… Страшно это произнести даже самому себе сенатору и тайному советнику Державину — о ком ему думается… На четвертом часе игра, наконец, заканчивается. Вид у штабс-капитана такой, что лучше к нему не подходить. Он сидит за столиком, беззвучно шевеля губами. Сидит один, — все, кто толпился вокруг, отошли с партнерами. Гайдук, коего Зорич посылал насчет комнаты, осторожно спрашивает, когда их благородию привести балетчицу — сейчас, немного попозже или вообще под утро? Бессмысленно поглядев на гайдука, штабс-капитан отвечает надрывной, визгливой, отборной казарменной бранью. И, обхватив голову руками, бежит к дверям. Державин глядит ему вслед. Глаза старчески сощурены. Удовлетворен он иль огорчен — не понять.8
А во флигеле, где обитают девушки-балетчицы — семнадцать, принадлежащих Зоричу, и Екатерина Азаревичева, выкупленная балетмейстером, — обычный будничный вечер. Неземных нимф, утром очаровавших Державина, тут не видно. На узких, жестких скамьях готовятся ко сну молоденькие крестьянки. Точно такие, как в других помещениях для дворни. Точно такие, как в тысячах изб окрест. Темновато. На всю немалую комнату курятся несколько свечек-огарков да потрескивает в камельке лучина. При бледном свете их одни из девушек слепятся над шитьем: сегодняшнее прозрачно-розовое убранство карфагенянок, наряды патрицианок древнего Рима, хитоны спартанок, словом, все, что так сказочно смотрится, когда неземными, музыкой рожденными существамивыпархивают они на сцену, — все это их же натруженными руками и шьется. Другие бормочут французские слова, — за неправильное произношение француженка-надсмотрщица, приставленная обучать холопок шарму, может и на конюшню под розги послать. Третьи, танцевавшие, подобно Пелагее Азаревичевой, с гостями хозяина, осторожно снимают сверкающие диадемы, бусы, серьги, перстни — с утра все это той же надсмотрщице надо вернуть, и, не дай бог, чтобы хоть одна шпилька сломалась или потерялась… Происшедшее за господским ужином невидалью для них не было. Зорич не додумался до того, чем приобретут печальную славу имения в Тульской и Рязанской губерниях лихого генерала Измайлова, — там каждому из сотен гостей будет предлагаться в качестве угощения и крестьянская девушка. Не додумался он и до «островов любви» с крепостными жрицами — соблазнительной приманки не одного помещичьего владения. Однако охочий до пикантных приключений сам — в доме здешнего аптекаря кальвиниста Матуша подрастает целый выводок детей, отданных сюда шкловскими и не только шкловскими дамами сердца Семена Гавриловича, и все они глядят на мир круглыми, близко поставленными глазами Зорича, — он и к гостям в этом отношении снисходителен, рад, если может услужить. Гостеприимный хозяин, он щедр не только в застолье. Армада экипажей с отменными лошадьми в оглоблях и кучерами, опухшими ото сна, на козлах стоит наготове подле хоромов с утра до ночи. Всего лишь на случай, если кому-нибудь понадобится — гостю, офицеру расквартированного в городке батальона, просто горожанину из благородных. Бери какую хочешь карету, езжай куда хочешь, — Зоричу достаточно в благодарность одного: чтоб ты помянул его добрым словом в молитве. Так и с дворовыми девками: понравилась какая — все равно кто, горничная, дансерка, коровница, — изволь, Зорич тебе проповеди о пользе воздержания читать не будет, чувствуй себя в его доме свободно. Для балетчиц это мука адская — когда велят им одеваться барышнями и идти в бальные залы, или наооборот — донага раздеваться и вставать «живыми скульптурами». Знают — на этот вечер они что-то вроде тех же карет: вздумается любому гостю — хозяин с удовольствием окажет ему услугу. Что за беда барину, если потом с еще одной актеркой случится то же, что и с дочкой горемычной Матрены. Пелагея сидит на своей скамье, не снимая нежно-сиреневого наряда и драгоценностей. Ей наказано быть готовой. Она дрожит при каждом шаге за дверями, при скрипе половицы на крыльце. Смотреть на нее без слез невозможно. И все-таки кое-кто во флигеле ей еще и завидует. Извечная актерская жажда премьерства давно вызывает к ней зависть. Унижением, насилием, бедой приобщены девушки к искусству. Глумление, надругательство, муки принесло оно им. А все равно трепещут у них сердца от радости, когда зала провожает их аплодисментами, когда надо выбегать на поклон. А все равно плачут они горькими слезами, когда что-то не ладится с ролью или когда она лучше получается у подруги. Пелагея в Шклове — из первых балетчиц. Сколько же она ощущает ревнивых взглядов, сколько слышит обидного и недоброго за дружное «фора» зрителей! И от кого — от бесправных, как сама, невольниц. Однако сегодня в этой зависти еще одно — заступничество за нее Живокини. Ибо то, как обошелся с ней Зорич, тут никого особенно не поразило. Знают девушки — не постигло, так постигнет подобное еще каждую. А вот поступок Живокини — это нечто неожиданное. Это взволновало, удивило всех. И тех, кто сами его видели, и тех, кто лишь жадно расспрашивает. Живет в девичьих сердцах мечта о воле. Затаенная, трепетная, тоскливая. Это она — источник их красоты на сцене, не понятой, оставшейся загадкой для Державина. Эту общую мечту свою, сами того не ведая, танцуют молодые крепостные белоруски, когда вельможи с умилением и сочувствием вздыхают в театре над страданиями античных героинь. Деревенели бы ноги у Пелагеи, если б Дидона была для нее лишь царицей и богиней. А рассказывает в танце про собственную униженную гордость, про свою высокую мечту, — и разводят непонимающе руками балетоманы из Петербурга и Варшавы. Мол, откуда, каким образом, из чего!.. Доползают до флигеля слухи, что такое кое-где случается, — талантом в театре добиваются крепостные воли. Доползают, словно легенда, словно светлая сказка, где побеждают чистота и справедливость. Девушки замирают, у них загораются глаза, когда слушают они о судьбе Прасковьи Жемчуговой. Крестьянка графа Шереметева, актриса его знаменитого подмосковного театра, да и не Жемчугова вовсе по казенным бумагам, а Параша Ковалева, дочь деревенского кузнеца, она сейчас — жена своего повелителя. Никто тут не знает, какой ценой оплачен этот удивительный взлет. Как оскорбляли Жемчугову прежние, до брака, отношения с графом. Как тяжело переносит она и нынешнее неравенство с мужем. Как мало ей, исстрадавшейся, осталось жить. Слыхали лишь, что не счесть на Параше бриллиантов, когда выходит она к гостям. Что самому царю представлял Шереметев жену — первую актрису своего театра… Так неужто ж, неужто и Пелагею не как доступную игрушку, а всерьез, по-настоящему полюбил свободный человек — человек, который, женившись на крепостной, и жену свою тем самым делает свободной! Должно быть, всерьез, если на такое, как сегодня, отважился. Должно быть, по-настоящему, если просил, умолял Пелагеи не трогать. Конечно, Живокини не граф, он не сможет одеть на свою жену бриллианты. Однако ж он свободный, вот что главное — свободный! А с самой нижней приступки, на которой девушки стоят, из тьмы их подневольной жизни они уже где-то совсем рядом — воля и возможность попасть на глаза царю. Почему же, почему ты, господь, неровно так делишь? Даже среди одинаково обездоленных!.. А Пелагея по-прежнему не отрывает испуганно-завороженного взгляда от дверей. И по-прежнему охватывает ее дрожь, когда скрипнет на крыльце половица иль послышатся со двора голоса. Племянница Катерина подбегает тогда к окну, вглядывается сквозь стекло в сине-серую дымку запоздалого июльского вечера и, успокоительно махнув, — ничего, мол, особенного, просто из кухни в подпитии ковыляют повара, — возвращается на скамью свою напротив Пелагеи. Походка у Катерины пружинистая, гибкой фигурой напоминает она зверька наподобие рыси, и разрез ее глаз, зло сейчас поблескивающих, тоже слегка рысиный. Рысиной этой грациозностью, редким, тем более среди неспешного, рассудительного здешнего люда, темпераментом Катерина и привлекла внимание Мариадини. Пока что от того ей лишь тяжелей, чем остальным балетчицам. Потому что итальянец занимается с ней еще особо, дополнительно, — после того, как погоняет два часа вместе со всеми возле специального станка и после репетиции. Занимается усердно, придирчиво, — он ведь за нее уплатил! У Катерины в конце дня, если нет вечером спектакля, ноги точно на подошвах из гвоздей, икры нестерпимо, жгуче ноют. Хорошо одно — старик не разрешает посылать ее к гостям Зорича. Вообще, зорко следит, чтобы мужчины к ней не подходили. Во флигеле шутят — бережет, должно быть, для себя. Услышав это, Катерина выгибается, точно рассерженная кошка. Катерина — берегись, насмешница! — может тебе выцарапать глаза. Однако, коли вправду, то и самой ей ой как невтерпеж иной раз дознаться, что там за мысли насчет нее под желтоватой лысиной Мариадини. Думает взять с собой на чужбину? Собирается, подучив, перепродать другому барину в театр? Готовит какому-нибудь турку в наложницы — говорят, нехристи большие деньги дают за светловолосых, светлоглазых россиянок. Темный лес для Катерины завтрашний день. Поневоле разозлишься, заскулишь, ощеришься зверьком… Откуда знать девушке, что ей как раз уготована судьба воистину завидная. Что сбудется предсказание Мариадини — Державин не раз вспомнит беседу с ним в Шклове, встречая ее имя в афишах императорского балета. Что зал первого театра страны будет долгие годы узнавать среди других ее гибкую рысиную фигуру и возгласами восхищения отвечать на ее пружинистые, стремительные антраша. Что отцом ее дочерей будет Аполлон Александрович Майков, бригадир и стихотворец, всемогущий директор императорских театров. Что ее дочерей тоже ждет известность, и белорусская фамилия Азаревичевы станет фамилией уважаемой на российском театре актерской династии… Откуда знать все это Катерине теперь? Опустив ноги в лохань с водою — чтобы хоть чуток отошли, утречком же вновь на каторгу в залу для занятий, — то сыплет она занозистым деревенским проклятьем-причитанием — полушепотом, конечно, потому что есть во флигеле и доносчицы, — то сухо, без слез, плачет. Жаль себя, загнанную и одинокую. Жаль, как затравленную сейчас Пелагею. Хоть Пелагея ей тетка, сызмала они словно сестры. Какая же это тетка, когда почти ровесница? Это отец Катерины, брат Пелагеи, бывший уже взрослым, когда Пелагея родилась, ей, Пелагее, и нынче как дядька. А с Катериной у них и куклы-самоделки были общие, и к прялке их посадили почти вместе, и на ярмарках покупать ленты им стали в одну пору. Не удивительно, что в фольварке их и считают сестрами, тем более что и фамилия у них одинаковая. Не удивительно, что племянница-сестра — наперсница красавицы Пелагеи в сердечных тайнах, с той поры, как тайны эти появились. Еще когда жила Катерина с отцом, и Пелагея, взятая в дансерки раньше, прибегала к ней на выгон, где пасла племянница гусей, она приносила туда иной раз угощение — пряник, конфету, горсть пахучей заморской диковинки, вроде фиников или халвы. Катерина изумлялась, — неужто вас в киатре эдак лакомят? Пелагея смеялась — где там! Черствыми объедками с господского стола, чем кормят балетчиц день за днем, не очень полакомишься. Это просто чудак один, чужеземец, разрисовывающий огромные сувои для сцены ненашенскими деревьями и морем-океаном, потчует Пелагею сластями. Забавный такой чужеземец — увидит, обязательно остановит. Расспросит, пошутит, нарисует что-нибудь смешное. Потом, когда высмотрели барину для балета и Катерину, Пелагеин чужеземец уже не разрисовывал в театре полотна декораций. Стал он человеком при хозяйской особе. Однако в театр и нынче заходит каждый день. И кому-кому, а Катерине видно, как Пелагея краснеет и смущается, едва покажется его потешная, переваливающаяся с боку на бок фигура. Оно и не удивительно, такой он приветливый, ласковый, смешливый с Пелагеей, так добро глядит на нее печальными, навыкате, глазами. Катерина сама бы полюбила человека, если бы так он на нее смотрел. Даже если бы имел он нескладную, как у Живокини, фигуру, немолодые, как у Живокини, лета… Когда бывает Живокини в долгом отъезде, то присылает Пелагее письма — всегда с забавными рисунками. А вернувшись, приглашает обеих, Пелагею и Катерину, к себе, угощает сладкой наливкой и приготовленными по-италийски макаронами, уморительно рассказывает о том, где был и что видел. Он добр и к Катерине, но, конечно, по-другому. Лишь не любит, что Мариадини хвалит ее чаще, чем Пелагею. Сердито говорит, что балетмейстер шельма и жила. Что за деньги, которые ему платят, должен со всеми дансерами и дансерками заниматься, как с Катериной… Что же станет со взаимной их симпатией нынче — Пелагеи и Живокини? Сможет ли он быть с ней прежним, если в Шклове будет только и разговоров, что о сегодняшнем происшествии в фольварке? Простит ли Пелагее подлеца-офицера, к которому ее сейчас поведут, — пускай по жестокому барскому капризу? Шепчет и шепчет Катерина отчаянное проклятье-причитание. Плачет и плачет сухим, без единой слезинки, плачем.
…Половица на крыльце скрипит особенно тяжело. Даже при тусклом свете огарков и лучины видно, как белеет, становится, как полотно, Пелагея. По-кошачьи изгибается, напрягается Катерина. Замирают все, кто был в комнате. Сейчас распахнется дверь и… Но нет, не распахивается. И не слышно за ней шагов. И даже стихла скрипучая половица. Пружинисто, осторожно Катерина подбегает к окну. Прижимается лбом к стеклу. С облегчением переводит дух, машет, чтобы все подошли. На крыльце сидит Живокини. Тяжелой мрачной тушей. Камнем, привалившемся к двери флигеля, чтобы никто ее не мог отворить.
Последние комментарии
4 часов 5 минут назад
5 часов 12 минут назад
6 часов 10 минут назад
6 часов 24 минут назад
15 часов 35 минут назад
15 часов 36 минут назад